Оглавление
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви
Предисловие автора
Важно, кто читатель — церковный человек или новичок. Даже если было бы желание написать книгу, интересную и тем, и другим — вряд ли получилось бы. Но под одной обложкой можно собрать материалы, интересные тем и другим, и разместить их в нескольких разных разделах. Например, жития святых. Одно житие может быть интересно священнику, но оставит совершенно равнодушным простого мирянина. Ну расскажи человеку, только что пришедшему в церковь, как и почему преподобный Исаак Сирин отказался от епископства — потому что два человека, братья, просили его поделить наследство. Это новоначальному не интересно: подумаешь, не захотел старик наследство делить! А ты расскажи такое, чтобы пробрало. Чтобы читатель мог почувствовать чудо, сопережить его. Например, как пленный владыка взмолился: «питоньки!», и дверь открылась, чтобы ему дойти до крана с водою — это уже чудо, это понятно. На самом деле было и то, про уход в пустыню и отказ от высокого сана, и другое, про дверь, которая сама собою открылась. И чудо ухода в пустыню, и чудо закрытой двери. И то, и другое — чудо. И в том, и в другом — Божественная благодать.
Люди ищут людей, человек ищет человека. Ищет — спутника, помощника, вожатого; сильнее себя, крепче, вдохновеннее. Но совершенно искренне считает, что ищет Бога. Христа. И совсем не понимает порой, что вектор Царства Небесного, его острие — не от человека ко Христу или святому, а от Христа — к человеку. Ищет Христа — находит человека. Человек человека — не удовлетворяет. Возникающие привязанности напоминают скорее саморазрушающиеся новостройки. Была — и вдруг: отчаяние, разочарование — нет. Выход из сети привязанностей — только через страдания. Их много и порой они почти неощутимы, если знать, что вина и причина всего — Бог. Что только Он немощное уврачует и недостающее восполнит. И еще очень трудно понять, что Бог страданий не посылает, наоборот — страдания человек носит в себе от рождения, потому и кричит, приходя в мир.
Чудо — это буквицы в посланиях Бога, когда необходимо выйти за пределы обычной бытовой грамоты. Значит, Христу именно здесь и так понадобилось изменить уже намеченный рисунок судеб. «Ты еси Бог, творяй чудеса». Чудо как способ говорения Бога с человеком, Его речь в действии. Встреча с Богом, кажется, должна вызвать радость, но порой вызывает ужас. Человек всегда не готов, да и не может быть готов к встрече с чудом. С чудом? Со Христом. Единственное настоящее чудо в жизни человека — это Христос.
Выйти из двери подъезда — и открывается мир, в котором Христа, кажется, быть не может. Откуда Он в этих осиных сотах, в этих потоках беспечного горя и легкомысленных бедствий? Если бы человек помнил все происшедшее с ним так же ясно, как тогда, когда это случилось, он или сошел бы с ума, или стал бы святым немедленно. Но память человеческая повреждена грехом. И потому катастрофы мало чему учат. Нет, никто не учится на ошибках. В 1945 году больная лучевой болезнью девочка Садако Сасаки начала делать тысячу бумажных журавликов, поверив, что если успеет сделать — то выживет. Она сделала чуть больше шестисот и умерла. О Садако Сасаки говорил весь мир, этот пример должен был бы отвратить от работы над новыми и более совершенными видами оружия. Так не случилось; оружие стало еще изощреннее и опаснее. После смерти Садако Сасаки было множество более страшных смертей, о которых тоже говорил весь мир, так недолго. Но и эти смерти забылись, как смерть японской девочки, а над новым оружием по-прежнему работают целые институты.
Во время аварии на Саяно-Шушенской ГЭС едва не залило расположенный в котловине город Минусинск. Что не залило — чудо. Но многие ли сейчас вспоминают о тогдашних событиях и благодарят за чудесное избавление? Во время землетрясения в Чили одну девочку придавило стволами деревьев так, что ее не смогли вытащить, а она была живая. Прожила еще несколько дней. Приносили есть и пить, она двигала губами, как будто пела песенку. И умерла — как уснула, тихо. Кажется, после всего этого человеку и в голову не должно прийти — ударить или оскорбить кого-то. Нет. Все то же: злоба, насилие, убийство. В этом мире, кажется, не может быть Чуда. Только маленькое чудо — унылое, циничное: и слава Богу, что жив… Жизнь, просто жизнь — уже чудо. Но постигается это не радостью, а болью. И все, что должно бы сверкать божественным светом — становится слишком человеческим, сухим и шероховатым. Кажется, что нет ни Бога, ни ангелов, ни святых — потому что если бы они были и могли, то…
Тем не менее, чудеса возникают, как свечи — то здесь, то там. Как память — о тех, кто страдал и страдает. Но все человеческие страдания вливаются в единое море — во Христа. Там уже не разобрать, чьи они. В христианстве есть — «носите тяжести друг друга». Именно это и спасает от тяжести бед. И это — «носите тяжести друг друга» — тоже чудо.
Но если чудо все, то и — ничего. Можно в раннее летнее утро восторгаться красотой творения и понимать, что все сотворенное Богом — чудо. Но перемена от веками обозначенного, естественного хода вещей — редкость. Святое Писание оставило нам свидетельства о таких изменениях. Иисус Навин остановил солнце молитвой. Гедеон собирал росу с высохшей шкуры овцы. Во время жертвоприношения Авраама внезапно в кустах закричал барашек — и Авраам опустил нож, уже занесенный над сыном. Вдова хоронила своего единственного сына, который был ее жизнью. Христос воскресил сына. Больные неизлечимой болезнью — прокаженные — просили Христа об исцелении. И они были исцелены. Слепорожденный, у которого вместо глаз были только два небольших образования, Христом будто был заново создан — у него открылись настоящие глаза.
Если относиться к этим описанным в Библии случаям как к легендам — то, кажется, Библию читать не стоит. В других древних книгах найдется множество сообщений и поинтереснее. Есть только один инструмент расшифровки этих посланий: вера. Где вера — там чудо. Вера неразлучна с надеждой, и им сопутствует любовь. Область веры огромна, и в ней немудрено потеряться. Бывает, что верующий уже идет по водам веры, но поднимается шторм — испытания — и он начинает утопать. Никто, кроме Христа, не сможет его спасти. Христос возникает «на водах», таинственно, внезапно, скрыто. Случайным или не случайным человеком, вещью, скажем — книгой, словом, жестом… Но это — Господь, и сердце человека узнает своего Помощника и Покровителя.
Чуда желать можно. Требовать его или искать — нельзя. Поиск чуда — попытка испытать Бога, искусить его своей человеческой гордыней: ты мне должен. Но все течение всего создания идет не от человека к Богу, а от Бога к человеку. Не человек просит Бога, а Бог желает помочь человеку. Человек просит постольку, поскольку Бог может исполнить его прошение. Поскольку знает человек, что Бог может ему дать просимое, и верит, и надеется, и ощущает себя в плену Христовой любви. Однажды меня спросили: неужели в твоей жизни не было чуда? Обыкновенного чуда, когда вдруг на столе оказывалась еда, а в карманах — деньги. И я ответила: нет. Хотя что-то подобное было у каждого. Чудо — это когда все привычное идет не прочь от тебя, как проходит день, а идет на тебя, как зверь или полк солдат, обратившись вспять. Но есть ли силы выдержать этот поток, идущий от руки Создателя? Человеческих, ограниченных сил не хватит. Но Бог может сообщить человеку силы выдержать чудо. Бог делает силы человека поистине неисчерпаемыми. И тогда сквозь человека проступает чудо, сообщаемое и другим людям.
В Великую пятницу вечером, на утреннем богослужении Великой Субботы, читается фрагмент книги пророка Иезекииля — о воскресении мертвых. Изображается поле, полное «сухих костей». Бог спрашивает Иезекииля о судьбе этих костей — и пророк, не сомневающийся в силе Бога пересоздать все и вся, не отвечает утвердительно, а как бы уклоняется от ответа: «Господи, Ты Сам знаешь, оживут ли эти кости». То же и с чудом. Если бы можно было просто, без трепета и сомнений, удержать в руке бабочку или птицу — но это возможно только иногда и ненадолго.
Когда искала материалы для книги, была почти в отчаянии. Была сильнейшая борьба, как будто пробиралась к центру циклона, в котором уже не будет швырять в разные стороны, а пока…
Было как в бурю на корабле. Пришла в библиотеку, другую, третью — нет того, что ищу. Написала одному, другому, третьему — почти все отказали. И тем более благодарю тех, кто согласился помочь в работе над книгой. Поиск, не моей уже волей, а, видимо, волей, которая намного сильнее моей, сузился до библиотеки, путешествующей со мной уже двенадцать лет, и замечательного альманаха «Альфа и Омега». Когда материал был, наконец, собран, подумала: а не отказаться ли от книги, потому что там почти нет описаний того, что со мной было и что связано с обретением веры. Получалось — от меня ждут свидетельства, а я прячусь за чужие свидетельства. Потом неожиданно успокоилась: ведь все материалы, которые я собирала несколько месяцев, обдумывая, но не решаясь удалить, и есть мои свидетельства о вере. О вере священника, который во время болезни приехал ко мне соборовать. О вере монахини, которую я лично не знала, но которая присутствует в моей жизни. Нет сомнений, что и сейчас есть люди, пришедшие к вере через откровение. Есть мученики, свидетельствовавшие о Христе. О них, уверена, напишут книги. Моя задача, как она виделась мне — показать разные стороны жизни человека в вере, а вера проникает во все сферы жизни человека и во все времена.
Книга по составу своему разнообразна. Она напоминает улей, где в каждой из сот — свое содержание. Или огромный шкаф, в котором уместилась вся домашняя утварь. Читатель найдет беседы со священниками, исторические очерки, прозу, даже сказки. В разделе «Церковное сегодня» — именно беседы, а не интервью. Беседы эти — плод довольно долгой переписки. Вопросы в основном о том, как жить христианину в современном мире с его новыми сетями. Что лучше — необходимая жесткость или милующее сердце? Щит или меч? Всегда ли уверенность в своей правоте есть признак православно настроенного сердца, да и что это такое — православное сердце? И наоборот, где мягкость и снисходительность превращаются в свою противоположность — бесчувствие, безразличие?
В разделе «Во все концы света» собраны очерки и рассказы о жизни православных людей в разных концах света: Африке, Соединенных Штатах. Особенное внимание уделяю очерку священника Константина Кравцова об освящении православного храма в Антарктиде, 2002 году. Читатель найдет описания пасхального богослужения в Иерусалиме, как будто смотря сразу с нескольких точек в одну — на внезапно вспыхнувший пук из тридцати трех свечей. Здесь же — рассказ о том, как в Великобритании возникла русская — Сурожская — епархия и как для нее был выкуплен храм. И рассказ о том, как прошедший школу харизматов американец стал… православным священником.
В разделе рассказов о святынях читатель узнает, сколько было у Христа братьев и как о них рассказывается в Евангелии. Также узнает о том, как молились христиане первенствующей церкви. Там же — рассказ о Туринской Плащанице, судьба которой волнует человечество более двух тысячелетий. Беседа о Благодатном Огне, или Святом Свете, как называют его греки, занимает отдельное место и будет несомненно интересна вдумчивому читателю.
В разделе «Из глубины» — повествования о лицах и событиях, найденные в опубликованных и не опубликованных документах, а я только пересказала, что смогла прочитать. Это священники-мученики, чьи имена сейчас известны немногим:
Василий Надеждин, Михаил Шик. Это действительно святые, которым дано было свидетельствовать о Христе так, как сам Христос говорил Апостолам: поведут вас на суд, и тогда Я научу вас, что говорить. Мне показалось очень важным, чтобы как можно больше людей узнало об этих святых и их подвигах.
В «Приходских повестях» — проза, основанная на приходских рассказах. На том, что слышала от знакомых, что видела сама и в чем довелось участвовать. Конечно, в реальности героинь и героев с такими именами и судьбами нет. Но есть характеры и ситуации, вокруг которых и сложились эти приходские рассказы, как вокруг кристалликов. Так что полностью назвать эти рассказы выдумкой нельзя.
Последний раздел — сказки, ведь сказки порой так нужны. Не только детям, но и взрослым. Но основная мысль всего, что есть в книге — чудо. Не то, которое — взмах палочкой — и получилось. Или — прочитал акафист, и все сошлось. А то, которое от Живого Бога — к живому человеку. И — уже во времени и пространствах — к новому живому человеку.
Предлагаю читателю собранные мною крины сельные. Надеюсь, чтение будет небесполезным.
I. Встреча со святынями
Здесь собраны рассказы о Благодатном Огне, Пасхе в Иерусалиме, как ее видели влюбленные в этот город самые обычные люди, о Туринской Плащанице и о многих других святынях. У святынь есть своя особенная, очень связанная с человеком, жизнь. Можно представить себе, как смотрит святыня на человека, но это вряд ли возможно. Встреча со святыней — это встреча с тайной. Это небольшое таинство. Встреча со святыней — отражение встречи с Богом. Но как же удивительно, что у каждой святыни — свой характер, своя судьба. Святыни очень живые — но святынями могут быть и люди.
О братьях Господних
(по мотивам работы Алексея Петровича Лебедева)
Христос присутствует в жизни человека всегда, но не всегда это присутствие — яркая вспышка, явление или видение. Все это, безусловно, есть, но это случаи исключительные. Участвующий в божественной литургии приобщается Христовых Тайн, но лицезреть Его в момент приобщения не может (если только это не святой и у Самого Христа нет намерения нечто сообщить человеку). Однако в человеке есть жажда прямого свидетельства. «Мне сказал Бог», «Мне указал Христос», «Это Его воля», «Мне сказала Богородица». Эти слова и верны, и не верны. Было бы странно, если бы верующая душа не отзывалась, не чувствовала на себе Божественного Взгляда. Но как принять и оценить явление Ангела или Христа во плоти? Или определить, кому принадлежит неведомый голос, который человек готов принять за Божественный зов? Часто эти явления — только свидетельство некоего духовного утомления. Что скорее болезненно, чем истинно.
Но христианин всегда ищет уверения в истинности своей веры — а прежде всего, веры в Богочеловека Иисуса Христа, и этот поиск остановить или запретить невозможно. Есть свидетельства мучеников, на крови которых основан христианский мир, есть и то, что происходит с каждым человеком. Личное чудо, обыкновенное чудо. Эти чудеса разнообразны. Внезапно изменившийся рисунок мыслей и настроений. Неожиданное изменение обстоятельств, не всегда радостное и благополучное с сугубо человеческой точки зрения, но открывающее духовную свободу. Чудеса могут быть связаны и с людьми, и с вещами, и с местами. Но часто в жажде личного свидетельства человек забывает о том, что у него, говоря современным языком, «все есть». Это Святое Евангелие. Это то самое горчичное зерно, из которого проросло Царство Небесное и которое является достоверным уверением в подлинности событий жизни Иисуса Христа. Его книга небесная, но и земная тоже. Она, как чудесная линза, позволяет рассмотреть суть того или иного явления.
Часто христианину задают вопрос: а что он может сказать о земной жизни Иисуса Христа? О роде занятий, о Его семье, об отношениях в ней. Ничего крамольного в этих вопросах нет, на первых порах. Но дальше начинаются неизбежные споры, причина которых — невнимательно прочитанное Евангелие. Земная жизнь Иисуса обросла таким количеством легенд и мнений, что вряд ли какой герой или древний бог может сравниться с Ним по количеству. Конечно, приятно представить Иисуса таким же, как мы, приписать Ему наши привычки и образ жизни, пусть с исторической скидкой. Но человек так поврежден грехопадением, что самые простые и очевидные вещи замечает с трудом и уж совсем не может верить в них, пока не настанет катастрофа. В любимых книгах о сыщиках есть та же мысль — истина почти всегда находится на поверхности, но ее до поры до времени никто не видит. Или не хочет видеть. Факты о земной жизни Иисуса Христа и о Его семье, об отношениях в ней в достаточном количестве содержатся в Евангелиях и вполне многочисленны, чтобы представить эту жизнь. Хотя в ней всегда останется тайна. Тайна Богочеловека. Но порой так хочется оказаться в домашнем кругу Иисуса…
Евангелие неоднократно упоминает родственников Христа — как мужчин, так и женщин.
В частности, тех, кого называет братьями — «ни братия Его вероваху в Него» (Ин. 7:5). Кто они, эти «братья Господни»? Что говорит о них Святое Евангелие? Как богословие объясняет это словосочетание? Где и у каких Евангелистов оно встречается?
Вот что говорит Матфей (12, 47): «И некто сказал Ему: вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою». Ему вторит Марк (3, 32): «Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, [вне] дома, спрашивают Тебя». Евангелист и Дееписатель Лука, написавший Евангелие намного позже, на основе уже имеющихся повествований, оставил это сведение почти без изменения (Лк. 8:20): «И дали знать Ему: Матерь и братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя». Евангелист Иоанн в седьмой главе дает диалог Иисуса с братьями накануне входа в Иерусалим: «Приближался праздник Иудейский — поставление кущей. Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру. Ибо и братья Его не веровали в Него. На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей; а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, остался в Галилее». Как видно, в семье Иисуса все иудейские обычаи соблюдались строго. Праздник поставления ку щей — суккот — один из важнейших Иудейских праздников.
Из Евангелий знаем, что за Христом во время его земного странствия следовали и его родственники. Некоторые верили в божественность Иисуса, некоторые — нет. Евангелие так и говорит: «и братья Его не веровали в Него». В то же время упоминаются не только эти «братья», но и сестры Его Пречистой Матери. Эти сестры и стали женами-мироносицами: «Иоанна, Мария Иаковля и Саломия».
Вот работа, которая так и называется — «Братья Господни». Написана в 1905 году замечательным ученым-богословом Алексеем Петровичем Лебедевым.
Алексей Петрович Лебедев (2 марта 1845 — 14 июля 1908) — русский историк церкви, занимался не только историей отечественной церкви, но и особенно — историей Византии, как родоначальницы русской церкви. Родился в селе Очаково Рузского уезда Московской губернии в семье священника. Образование получал в Перервинском духовном училище, Московской семинарии и Московской духовной академии в Сергиевом Посаде, которую закончил в 1870 году. По собственному рассказу Лебедева, после окончания курса руководством академии ему было предложено на выбор занять одну из пяти кафедр в alma mater, а также кафедру метафизики в Киевской духовной академии. Свой выбор и дальнейшую свою научную судьбу Лебедев связал с кафедрой церковной истории, на которой прослужил более 25 лет. В феврале 1875 года Священным Синодом он был утвержден в звании экстраординарного профессора.
Напряженно работая до последних дней жизни, по 14–15 часов в сутки, Лебедев в последние годы почти ослеп. В сентябре 1905 года, отпраздновав юбилей своей службы в Московской духовной академии, Лебедев перешел в Московский университет, рассчитывая на то, что там его нагрузка будет меньше. 14 июля 1908 года он неожиданно для всех скончался от непродолжительной, но тяжкой болезни. Похоронен на кладбище Спасо-Андроникова монастыря.
Для того чтобы ответить на вопрос о братьях Господних, отнюдь не нужно погружаться в исследования многочисленных древних источников, а достаточно только внимательно перечитать Евангелистов и сделать выписки, а потом их сопоставить. Алексей Петрович Лебедев, конечно, занимался этим вопросом гораздо серьезнее и глубже, но для читателя-христианина будет очень полезно проследить за ходом мысли ученого. Он не только отвечает на вопрос, но и показывает, почему самым полным и достоверным источником является Евангелие. Так что — «перечитаем хартию, письмена которой затерлись от небрежного употребления и которая сама едва ли не злонамеренной рукой засунута в очень дальний ящик».
Ни одно из Евангелий не говорит, что у Иосифа, называемого Обручником, были дети ДО Иисуса (если, например, он был вдовцом) и ПОСЛЕ, то есть, от Приснодевы Марии. Об Иисусе сказано, что он был первенцем («дондеже роди сына своего первенца» — «до тех пор, пока не родила сына своего первенца») и родился «от Духа Свята». Матфей и Лука единогласно свидетельствуют о том, что первенец, и что «от Духа Свята». Лука во второй главе прибавляет сведения о жертвоприношении Марией и Иосифом пары голубей, а этот иудейский обряд совершался только при рождении сына-первенца.
Вряд ли Евангелистам Иоанну, Матфею и Марку, близко знавшим родственников Иисуса, пришло бы в голову написать, что у него не было единоутробных братьев, если бы они были. Тогда вообще бессмысленно упоминание о братьях. Зачем, например, на Кресте Иисус вручает своего любимого ученика Своей Матери как единственного, если есть и другие дети? Он бы сказал: вот тебе и еще сын. Но Евангелисты много раз упоминают братьев — а эти братья могли быть сыновьями брата Иосифа Обручника, то есть, двоюродными братьями Иисусу Христу. Как увидим, упоминание об этом брате (Клеопе) в Евангелиях есть — и прямо, и косвенно. Мать этих двоюродных братьев приходилась Приснодеве невесткой, или, поскольку потомки Давида были немногочисленны, сестрой. Слово «сестра» в древности имело довольно общий смысл. «Сестрами» назывались почти все женщины одной семьи.
В Евангелии от Иоанна, гл. 19, говорится о Марии Клеоповой, «сестре Матери Иисуса» — «При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина». Эта «Мария Клеопова» — то есть, Мария, жена Клеопы — вместе с Богоматерью и Марией Магдалиной находилась недалеко от Креста Господня во время распятия. Но кто же ее супруг Клеопа? Евангелие упоминает только одного Клеопу, не давая пояснения, кто же он. Это упоминание находим в Евангелии от Луки, гл. 24, 18: «Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?». Этот Клеопа обращается к Господу дерзновенно и пылко, как еще Его не познавший. Но его обращение показывает любовь ко Христу и веру в Его божество. То, что Евангелие не дает разъяснений, скорее всего, говорит о том, что личность Клеопы была хорошо известна в апостольские времена. Вернее всего считать, что это был дядя Иисуса, брат Иосифа Обручника. Евангелист Матфей в гл. 27, 55–56 упоминает о «Марии, матери Иакова и Иосии» — «Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых». Евангелист Марк также называет стоящих у креста женщин по именам, и его сведения подтверждают сведения Матфея (15, 40–41): «Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим». Надо заметить, что Евангелие от Марка в богословской литературе иногда называется Петровым, так как Марк — «Иоанн, называемый Марком» — считался учеником Петра и записал Евангелие под его руководством. Но и сам Евангелист был свидетелем событий в Гефсиманском Саду. Именно он и был тем юношей, который тайно следовал за взятым под стражу Иисусом, «завернувшись в плащаницу». А когда стража заметила его, бросил плащаницу и убежал. Именно в Евангелии от Марка — или Петровом — наиболее тщательно записаны события отречения Петра — «прежде, чем дважды пропоет петух».
Евангелисты и Дееписатель Лука свидетельствуют, что Иаков — у Марка «Иаков меньшой», или Малый — назывался «братом Господним». Речь, несомненно, о нем. Иосия — надо полагать, средний брат.
Больше упоминаний о нем не встречается. Евангелие так же упоминает среди братьев Господних Иуду. Но Матфей его не называет. Возможно, во время распятия он был еще слишком молод.
Этот Иуда — автор небольшого соборного послания, вошедшего в корпус Нового Завета.
Иакова, старшего брата, первого епископа Иерусалима, можно встретить и на страницах Деяний. Из исторических источников известно, что его называли «Иаков малый», за невысокий рост, а после — «Праведный», за чистоту жизни и мудрость. Как видно, братья Господни все же уверовали в Него. И это уже не те, кто почти раздраженно и настойчиво говорил Иисусу: «Яви себя миру».
Вот что говорится об Иакове в работе А. П. Лебедева «Братья Господни»: «Нужно сказать, что Иаков имел удивительно много прозвищ, он назывался „праведным“, Овлием („стеной“), „назореем“, „пророком“, „учеником“, „священником“ и „братом Господним“, даже „первомучеником во епископах“. Но из всех этих прозвищ впоследствии за Иаковом осталось лишь одно. „Его звали не по имени, но имя ему было: праведник“, — говорит святой Епифаний. Имя „праведник“, таким образом, вытеснило все другие, и в том числе и более раннее его прозвище: „малый“».
А вот что находим у Евсевия Кесарийского в «Церковной истории» (вторая книга, со ссылкой на «Записки» Егезиппа): «(4) Брат Господень Иаков получил управление Церковью вместе с апостолами. Все — от времен Господа и доныне — называют его „Праведным“: имя Иакова носили ведь многие. Он был свят от чрева матери; (5) не пил ни вина, ни пива, не вкушал мясной пищи; бритва не касалась его головы, он не умащался елеем и не ходил в баню. (6) Ему одному было дозволено входить во Святая святых; одежду носил он не шерстяную, а льняную. Он входил в храм один, и его находили стоящим на коленях и молящихся о прощении всего народа; колени его стали мозолистыми, словно у верблюда, потому что он всегда молился на коленях и просил прощения народу. (7) За свою великую праведность он был прозван „Праведным“ и „Овлием“; слово это означает в переводе „ограда народа“ и „праведность“; так и говорили о нем пророки. (8) Некоторые из семи сект, существовавших в народе и выше мною упомянутых в „Записках“, спрашивали у Иакова: что такое „дверь Иисуса“? И он отвечал им, что Иисус есть Спаситель. (9) Некоторые из них уверовали, что Иисус есть Христос. А вышеназванные секты не верили ни в Воскресение Христа, ни в то, что Он придет воздать каждому по делам его; кто же поверил, тот обязан этим Иакову.
(10) Так как уверовали многие, даже из властей, то иудеи пришли в смятение: книжники и фарисеи стали говорить, что так, пожалуй, весь народ будет ожидать в Иисусе Христа. Все вместе пошли к Иакову и сказали ему: „Просим тебя, удержи народ: он заблуждается, думая, что Иисус и есть Христос. Просим тебя: вразуми всех, кто придет в день Пасхи, относительно Иисуса; тебе мы все доверяем. Мы и весь народ свидетельствуем о тебе, что ты праведен и не взираешь на лица. Убеди толпу: пусть не заблуждаются об Иисусе (11), и весь народ, и все мы послушаем тебя. Стань на крыло храма, чтобы тебя видели и чтобы слова твои хорошо слышал весь народ. Ведь на Пасху собираются все колена, а с ними и язычники“.
(12) Упомянутые книжники и фарисеи поставили Иакова на крыло храма и закричали: „Праведный! Мы все обязаны тебе доверять. Народ в заблуждении об Иисусе распятом; объяви нам, что это за „дверь Иисуса“. И ответил он громким голосом: „Что спрашиваете меня о Сыне Человеческом? Он восседает на небе одесную Великой Силы и придет на облаках небесных“. (14) Многие вполне убедились и прославили свидетельство Иакова, говоря: „Осанна Сыну Давидову“. Тогда книжники и фарисеи стали говорить друг другу: „Худо мы сделали, позволив дать такое свидетельство об Иисусе. Поднимемся и сбросим его, чтобы устрашились и не поверили ему“. (15) И они закричали: „О! И праведный в заблуждении!“ Они исполнили написанное у Исаии: „Уберем праведного, он для нас вреден; они вкусят плоды дел своих“. Они поднялись и сбросили праведника. (16) И говорили друг другу: „Побьем камнями Иакова Праведного“, и стали бросать в него камни, так как, сброшенный вниз, он не умер, но, повернувшись, стал на колени, говоря: „Господи Боже, Отче! Молю Тебя, отпусти им, ибо не знают, что делают“.
(17) Когда в него так бросали камнями, один из священников и сыновей Рехава, сына Рехавима, о ком свидетельствовал пророк Иеремия, закричал: „Остановитесь! Что вы делаете? Молится за вас праведник!“ (18) Кто-то из них, какой-то суконщик, ударил праведника по голове скалкой, употребляемой в его деле. Иаков мученически скончался. Его похоронили на том же месте возле храма; стела эта и доныне возле храма. Он правдиво засвидетельствовал и иудеям, и грекам, что Иисус есть Христос. Вскоре Веспасиан осадил их“.
(19) Вот рассказ Егезиппа, пространный и с Климентом согласный. Иаков был человеком настолько удивительным, и праведность его всем была так известна, что разумные люди из иудеев сочли дерзостное преступление, над ним совершенное, причиной осады Иерусалима, послед овавшей сразу после его мученической кончины. (20) Иосиф не усомнился письменно засвидетельствовать об этом; вот его подлинные слова:
„Это случилось с иудеями в наказание за Иакова Праведного, брата Иисуса, называемого Христом, ибо его, человека праведнейшего, иудеи убили“.
Как видим, старший двоюродный брат Иисуса вполне был готов разделить его судьбу и стал одним из первых мучеников, одним из столпов христианского мира. Апостол Павел так и говорит в послании к галатам: „и познавше благодать Божию данную ми, Иаков и Кифа и Иоанн, мнимии столпи быти, десницы даша мне и Варнаве общения (евхаристического), да мы во языки, они же во обрезание“ (Гал. 2:9)».
А вот что Евсевий Кесарийский говорит о потомках Давида в третьей книге «Церковной истории», ссылаясь на того же историка Егезиппа:
«19. Есть древнее сказание о том, что когда Домициан распорядился истребить всех из рода Давида, то кто-то из еретиков указал на потомков Иуды (он был братом Спасителя по плоти), как происходящих из рода Давида и считающихся родственниками Христа. Об этом так дословно повествует Егезипп: 20. „Еще оставались из рода Господня внуки Иуды, называемого по плоти братом Господним. На них указали как на потомков Давида. Эвокат привел их к кесарю Домициану: тот боялся, так же, как и Ирод, пришествия Христа. (2) Он спросил их, не из рода ли они Давидова; они сказали, что да. Тогда спросил, какое у них состояние и сколько денег у них в распоряжении. Они сказали, что у них, у обоих, имеется только девять тысяч динариев, из которых каждому причитается половина; они у них не в звонкой монете, а вложены в тридцать девять плетров земли. Они вносят с нее подати и живут, обрабатывая ее своими руками. (3) Затем они показали свои загрубелые руки в мозолях, свидетельствовавшие о тяжком труде и непрестанной работе. (4) На вопрос о Христе и Его Царстве, что это такое, где и когда оно явится, они ответили, что оно не от мира и будет не на земле, а на небе с ангелами и явится при свершении века, когда Христос, придя во славе, будет судить живых и мертвых и воздаст каждому за его жизнь. (5) Домициан, не найдя в них вины, презрительно посчитал их глупцами и отпустил на свободу, а гонение на Церковь прекратил указом. (6) Освобожденные стали во главе Церквей как мученики и как происходящие из рода Господня. Времена настали мирные, и они дожили до воцарения Траяна“. (7) Это пишет Егезипп; вспоминает о Домициане и Тертуллиан: „Попытался он делать то же самое, унаследовав нечто от Нероновой жестокости, но, думаю, имея долю здравого смысла, скоро остановился, возвратив и тех, кого изгнал“».
Как видим, по прошествии столетия страх, что Иисус освободит от римлян Иудею, сохранялся.
Конечно, быть со Христом — это быть в Царстве Небесном, так считали, как видим, и его родственники. Роднит с Богом чистая жизнь и вера, а отнюдь не кровное родство. Но все же есть, и он возник еще при земной жизни Христа, и основан Им Самим, — образ жизни, который так и называется по его имени — христианский.
В домашнем кругу первых христиан
Если бы какому-нибудь счастливцу удалось взглянуть, как начиналось утро в доме христианина первых веков, он был бы одновременно удивлен и восхищен. Его поразило бы то, что, оказывается, у христиан первенствующей церкви очень много общих черт с жизнью современного прихожанина, хотя вещи (одежда, утварь, ложе) очень отличаются от привычных ему вещей. Восхищен — потому что увидел бы совершенно другие, чистые и строгие, невозможные теперь отношения.
На «кухне» счастливый путешественник не увидел бы блестящих гусаков кухонных кранов, не нашел бы раздельного или смежного санузла, ни площадки, на которой гремит откидной лоток мусоропровода. Всего несколько глиняных сосудов, разного назначения, посыпанный песком пол, низкий свод. Нет привычного красного угла с иконами, с рушником, просфорами и святой водой нескольких видов. Вряд ли даже Распятие там есть. Возможно, есть изображение рыбы, вокруг которой расставлены таинственные буквы: Иисус Христос, Бог Спаситель.
Быт суровый и простой. Одежда и обувь грубые, значительно менее удобные, чем наши. Мужчины в холод носят накидки-хитоны и плащи. Плащ — довольно тяжелый большой кусок шерстяной ткани. Еще не взошло солнце, а хозяева дома уже встали. Надо учесть, что отдыхали они немного, часа три. А некоторые и вовсе не спали. Литургия совершалась ночью, почти тайно. Но никакой суеты или медлительности в лицах и движениях. Жителям дома незачем показывать другим и самим себе свое смирение.
«Христиане не различаются от прочих людей ни страной, ни языком, ни житейскими обычаями. Они не населяют где-либо особенных городов, не употребляют какого-либо необыкновенного наречия и ведут жизнь, ничем не отличную от других. Но обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, и следуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный образ жизни» — говорится в анонимном «Послании к Диогнету», рассказывающем о тех временах.
Присмотревшись повнимательнее к обстановке, путешественник понял бы, отчего этот дом кажется ему таким знакомым. В нем нет ничего, что бы напоминало о древности: языческой кумирни, наполненной странными статуэтками, которые кажутся игрушечными. Здесь не совершается возлияние ларам в начале трапезы, а поется псалом, славящий Спасителя.
В одежде жителей дома нет ничего, что отличало бы их от соседей. Хотя это на первый взгляд странно нашему воцерковленному современнику. Ведь надо одеваться православно, благо есть такая возможность! В облике хозяина и хозяйки не заметно ни неряшества, ни небрежности. Ни, наоборот, надменности. Мол, мы другие, мы — Божий народ и должны учить всех жизни. Возможно, есть некоторые секреты. Хозяйка, например, носит простую тунику и столу, а столу поддерживает кожаный пояс. Этот пояс не украшен позолотой и узорами, как у многих молодых женщин, и не является предметом похвальбы: ведь поверх такого золоченого узорного пояса можно надеть прозрачную накидку и показать фигуру.
Однако слишком много рассказов об одежде. Вот жители дома собрались к трапезе. Предстоит большой день, наполненный трудами. Позади ночь, полная опасностей. Но Бог миловал, Литургия была совершена, все причастились Святых Тайн. На лицах еще остался след торжественного сияния.
Василий Великий писал: «Непрестанно ты должен молиться, не на словах, но когда ты всем образом поведения стремишься соединиться с Богом, так что вся твоя жизнь есть постоянная молитва». В этом именно значении понимали отцы Церкви христианское требование о непрестанной молитве. Так, блаженный Августин на возражение: разве возможно постоянно, каждую минуту восхвалять Бога, отвечал: «Я укажу тебе средство, как можно хвалить Бога во всякое время, если только ты хочешь этого: что бы ты ни делал, делай справедливо, и ты уже хвалишь Бога». Тот же Августин еще говорит: «Звук голоса при молитве пусть временами прерывается, но должен слышаться голос внутренний». Беспрестанная молитва не исключала труда и деятельности.
Как известно, труд в поздней античности считался уделом рабов. Свободный человек не должен трудиться. Христиане поставили представление о человеке с ног на голову. Именно свободный человек трудится, потому что труд, как образ молитвы, дает человеку свободу во Христе. Свободен для христианина — значит, не раб страстей, а сын Отца Небесного, как сказал Господь на Тайной Вечере. Потому первые христиане настороженно относились к бездельникам.
В христианских общинах бытовало два мнения относительно молитвы. Первое: христианин должен жить только для молитвы, оставив все земные попечения. Второе: молитва не нужна. Христианин как сын Божий исполнен Духа Святого, ему незачем унижаться до прошений. Молитва считалась принадлежностью слабых. Но ведь оба эти мнения существуют и сейчас! Только немного изменились интонации. Одна крайность: «Бог у меня в душе, и так верую». И другая крайность: «Не взяла благословение на просмотр фильма». Но вот что говорят те, кто был во главе тогдашней Церкви и чье мнение действительно освящено Божественной Благодатью. Амвросий Медиоланский показывает необходимость молитвы образно, сравнивая молитву с трапезой, которая в христианской жизни как бы окружена молитвой: «Молитва есть пища души, через нее седалище порока превращается в святилище добродетели». «Древние христиане учение о непрестанной молитве понимали в некотором смысле даже буквально, потому что они все положения и действия в жизни освящали и сопровождали молитвой» — подтверждает богослов Алексей Петрович Лебедев. Вот что говорит Климент Александрийский, один из первых учителей первенствующей Церкви: «Вся жизнь гно стика (т. е. совершенного христианина) есть как бы беспрерывный праздничный день; у него чтение Священного Писания перед принятием пищи, псалмы и гимны во время пищи и перед отхождением ко сну, и ночью опять молитва. Через постоянное воспоминание о Боге, он соединяется с ликами святых. На всяком месте будет он молиться, но не открыто перед народом; в то время, когда он занимается, говорит, отдыхает или читает, он молится». Вот другое высказывание святителя Климента: «Он (гностик) во всю жизнь молится». Тертуллиан, пресвитер Карфагенский, считает преступником того, кто в продолжение целого дня оставался без молитвы. По внушению святого Киприана Карфагенского, каждый час дня нужно начинать молитвой. В особенности начало дня, утро, должно освящаться молитвой. Киприан говорит: «Рано утром мы должны молиться, чтобы через нашу молитву восхвалять воскресение Господа» (которое произошло утром). Василий Великий писал: «Что может быть блаженнее того, как встречать рассвет молитвой, благодарить и прославлять Творца, а потом, когда совсем рассветет, приниматься за работу?» Подобным же образом выражается Амвросий Медиоланский: «Разве ты не знаешь, человек, что начатки твоего сердца и твоего языка ежедневно ты обязан приносить Богу?»
Итак, вся семья собралась на трапезу. Это простая семья, в ней нет ни священников, ни диаконов, ни диаконис. Иногда они принимают на ночлег, а то и на несколько дней, путешествующего христианина. Так и сейчас. Вместе с хозяевами вышел к трапезе гость. Что важно: жители дома не молятся раздельно, каждый в своем углу. Они молятся обязательно вместе, а потом расходятся, возвращаясь каждый к своему занятию.
Началась утренняя молитва. Старшим считается хозяин. Именно он начинает молитвенное обращение к Богу. Мы не услышим наших обычных «Слава, и ныне», «Господи, помилуй», «От сна восстав». Что же читает хозяин? Знакомый по вечернему богослужению псалом 62: «Боже, Боже мой, к Тебе обращаюсь в это утро… Тебя возжаждала душа моя. Изнемогло тело мое, как если бы находилось оно в пустыне, земле пустой, непроходимой, безводной». Но вслушайтесь — он не читает, он поет. И ему подпевают все жители дома и гости. А вечером точно так же, с удивительным весельем, льется знакомое пение: «Господи, я к Тебе взываю, услышь меня». 140 псалом, который поется на каждом нашем вечернем богослужении.
Мне, вероятно, невыносимо было бы существовать в мире, где каждое дыхание плотно как ткань, и это дыхание — молитва. В этом мире невозможно: помолюсь после трапезы, а потом пойду к компьютеру дописывать статью и пить чай. Но этот мир притягателен, и там хотелось бы жить. И это желание… приводит к молитве.
Первые христиане молились не только утром, днем и вечером, но и ночью. Эта ночная молитва потом вошла в монашеский обиход и стала называться «бдением». Обильный сон считался если не позорным, то болезненным явлением. Христианину свойственна бодрость. Он «бодрствует» над собой.
Первые христианские общины вышли из иудейской, связь с нею была прямая. Христиане взяли у иудеев и обычай молиться в третий, шестой и девятый час дня. Но только эти моления имели значение уже новозаветное. В третий час Господь ниспослал своим апостолам Святого Духа. Святого Духа, как знаем из книги Деяний (гл. 9 и 10), получали не все христиане по Святом Крещении. Однако те, кто уверовал от всего сердца, сподоблялись принятия Святого Духа сразу по Крещении. В шестой час Господь Иисус Христос был пригвожден ко кресту. В девятый предал дух свой в руки Отца Небесного. Таким образом, в течение дня христианин совершал воспоминание о Крестных Страданиях, Воскресении Христа и Сошествии Святого Духа.
По каким же книгам молились древние христиане? Были ли у них молитвословы? Или же этой харизматической церкви не нужны были молитвенники? Нет, книги были, и они очень ценились. Наиболее часто употребляемой была, конечно, Псалтирь; это был молитвослов первенствующей церкви. Многие псалмы христиане знали наизусть. Если углубиться в чтение святых отцов того времени на предмет выяснения, какая же молитва не из Псалтири была наиболее почитаема, ответ такой: «Отче наш». Хотя о ней сравнительно немного упоминаний, эти упоминания проливают ясный свет на значение этой молитвы. Уже в первые века «Отче наш» называли «сокращенным Евангелием»; название это дал святитель и богослов Тертуллиан. В третьем и четвертом веках в молитвенный обиход входит молитва, составленная на основе Евангелия от Луки (1, 26–56). Нам она известна как «Богородице-Дево, радуйся!». Молитва эта знаменовала собою победу православия над несторианством, не признававшим Марию, Матерь Иисуса, Богородицей.
Молитвенное поэтическое творчество было в обыкновении. Считалось достойным и полезным занятием составить песнопение на основе Священного писания и петь его за агапой, трапезой любви, и даже иногда в церкви. Вот что говорит об этом Тертуллиан: «По совершении агап каждый приглашается петь хвалебные песни Богу, извлеченные из Святого Писания или кем-либо сочиненные». Однако творчество местных поэтов требовало и ограничений; молодая церковь выдерживала мощные нападки гностиков, чрезвычайно любивших словесное творчество. Для охраны корпуса песнопений от досужего вымысла и для различения духовного от недуховного Иппонским собором в Африке была издан указ: «Никто не должен употреблять самоизмышленных молитвословий, прежде чем посоветуется об этом с братьями, более просвещенными». Указ издан в 393 году.
Каким же образом молились первые христиане и что говорят по этому поводу святые отцы? Молитва обычно совершалась коленопреклоненно, с воздетыми к небу руками и головою. Мужчины голову не покрывали. Перед молитвой, согласно взятому у иудеев правилу, следовало ритуальное омовение рук. Если вспомним, Христос в Евангелии не раз терпел укоры за то, что молится с неумытыми руками. Тем не менее, традиция омовения рук сохранялась очень долго. В конце молитвы молящиеся вставали с колен. Считалось неприличным размахивать руками и вообще много двигаться на молитве. Так же считалось, что молитвы надо произносить вслух, но тихо, сосредоточенно, ни в коем случае не крича, но и не умолкая. Первые христиане довольно свободно относились к положению тела на молитве. Если человек болен и ему трудно стоять, молиться разрешалось сидя, с воздетыми руками и обращенным в небо глазами. Если же в час молитвы человек был занят делом (например, держал руль корабля или пахал землю) разрешалось молиться немного вслух, при этом не показывая вида молитвы. Как видим, все движения молящегося шли от желания молитвы, от жажды молитвы, которая никак не могла быть только формальностью. Молитва была для христианской души «хлебом насущным», который нужен «каждый день». Но, конечно, люди и тогда были самые разные. Так что обычный образ молитвы был — стоя, с воздетыми к небу руками и головою. Некоторые отцы церкви считают непозволительным сидеть во время молитвы. Иногда молящийся «падал ниц» или молился «с распростертыми руками», вспоминая Крестные Страдания Христа.
Женщинам предписывалось появляться на молитву с покрытой головою. Однако многие незамужние красавицы тех лет считали, что это к ним не относится и даже приводили выисканное у Апостола Павла высказывание о том, что только «жене» подобает молиться с покрытой головою, а девица может молиться и с непокрытой головой. На что святой Киприан Карфагенский отвечает, что под «женою» понимается и девица тоже, так как она женского пола.
Особый вид молитвы был у кающихся. Они часто делали поклоны, и именно поклоны считались выражением смирения, а также сознания собственного ничтожества перед Богом и людьми.
Крестное знамение было святыней. Христиане относились к нему очень бережно. Осеняли им двери дома, подаренные или купленные вещи, осеняли свое тело перед мытьем в бане. «Тертуллиан замечает, что хотя на крестное знамение нет указания в Библии, но зато важность его утверждает Предание. В одном из своих сочинений он убеждает свою жену, чтобы она в случае его смерти не выходила замуж за язычника, потому что тогда для этого последнего не было бы тайной, что она знаменует крестом и свое ложе, и свое тело. Следовательно, в это время было уже обыкновение ограждать крестом свою постель и тело, когда ложились спать и вставали». «Животворящим крестом пусть осеняются наши двери, наши очи, наши уста, наша грудь, все наши члены. Этот крест, вы, христиане, не оставляйте ни в какое время, ни в какой час; пусть он с вами будет во всех местах. Без креста ничего не предпринимайте: ложитесь ли вы спать или встаете, работаете или отдыхаете, едите или пьете, путешествуете на суше или плаваете по морю, постоянно украшайте все ваши члены этим живоносным крестом» — вторит Тертуллиану Ефрем Сирин, автор великопостной молитвы «Господи и Владыко живота моего».
Изображение креста в обиходе христиан встречаем уже в четвертом веке после Рождества Христова. Тогда же вошло в обычай носить нательный крест. Григорий Нисский говорит о своей сестре, что она носила нательный крест. Написала и вспомнила, с небольшой улыбкой, как моя знакомая рассказывала об одной детали, которую заметила у прихожан ее общины в самом начале девяностых: они любили носить большой нательный крест. Это была — вещь Бога и для Бога, послушание и небольшой личный подвиг.
Отцы первых веков не различали агап от простой трапезы. Простые трапезы христиан, так же, как и агапы, начинались с молитвы, проходили под пение псалмов или чтения из Священного Писания (узнается современный монастырский обычай). Изысканность в пище считалась проявлением нехристианского духа. Это противоречило понятию человека поздней античности о еде. Еда должна не только питать и поддерживать силы, она должна приносить удовольствие, и с избытком. Христиане ели скудно, для поддержания бодрости и для того, чтобы хватило сил помолиться ночью, но от чрезмерного количества пищи не произошло бы расслабления.
Вот описание образа принятие пищи и перечень продуктов от святителя Климента Александрийского: «Хорошо, чтобы христиане благопристойно касались предлагаемого, сохраняли не запачканными руки, бороду и занимаемое ими при столе место, соблюдали спокойствие в лице и чинно протягивали руку к кушаньям через известные промежутки». Не советует святитель и говорить за обедом. Тогда бывает, по нему, «и голос неприличный и не довольно выразительный, так как из наполненных щек несвободно выходит слово, и язык, сжимаемый пищей, затрудненный в естественном своем действовании, издает неясный и как бы сдавленный звук». Неприличным кажется Клименту и есть вместе, и пить: «это признак великого невоздержания — соединять вместе то, совместное употребление чего неудобно». Климент указывает и виды пищи, которые более всего полезно употреблять. Той пищи, которая способна возбуждать телесные страсти, нужно совершенно избегать. «Можно употреблять лук, маслины, овощи, молоко, сыр, и, если угодно, мясо вареное и жареное. Из яств, — говорит он, — самые удобные для употребления суть те, которые приготавливаются без помощи огня, потому что с ними менее хлопот; потом те, которые не обременительны для желудка и дешевы. Те же, которые составляют роскошь стола и бывают причиной болезней, носят в себе демона обжорства, которого я не колеблюсь назвать демоном чрева, злейшим и пагубнейшим из всех демонов». (цитата из «Церковноисторических преданий» А. П. Лебедева, изд-во Олега Обышко, 2004 г.). Вино у первых христиан считалось благородным напитком, обладающим лечебными свойствами. Святитель Климент, однако, советует воздерживаться от вина юношам и девушкам, а также молодым супругам: вино обладает сильными горячительными свойствами. Пристрастие к вину было таким же бичом первых христиан, как и в наше время. Бедняки заливали вином горе, богатые поливали радость. Христианская жизнь признавала утешение только в одном вине — в вине молитвы. Пьяницы не смогут войти в Царство Христово, сказал Апостол Павел в Первом Послании к Коринфянам (1Кор. 6:9).
Шумное веселье, громкая музыка и лихие танцы считались для христианского дома недопустимыми. Вообще к зрелищам, которые приобрели в поздней античности катастрофический характер, отцы церкви относятся отрицательно. Ведь именно на зрелищах и пиршествах убивали христиан. Знаменитая «римская свеча» — привязанный к столбу христианин, которого сжигали живьем — возжигалась как жертва языческим богам во время оргий.
«По тому узнают вас, что вы — Мои ученики, что вы любовь имеете между собою» — так можно пересказать слова Христа, сказанные Им на Тайной Вечере. Молитва и общая трапеза способствовали сохранению и умножению христианской любви. Зрелища, конечно, нет.
Если вернуться в тот дом, в котором побывали в начале рассказа, увидим, что его жители не пошли на скачки, а ведь туда собрался весь город.
Жена все еще занята домашним хозяйством, муж — своим ремеслом. Оба ждут ночи, чтобы пойти к Божественной литургии. Какая скучная жизнь! — можно сказать, глядя на них. Но если бы кто увидел, как жена омывает ноги мужу после Литургии и как они вместе поют красивое песнопение, он уверовал бы, что самая лучшая жизнь — христианская. Эти двое счастливы во всей полноте счастья. И пусть их угнетает физическая усталость — они, как мученики, царственно шествуют к своей кончине, заставляя мир считаться с их обычаями, а не принимая обычаи мира. Но кто знает, что ждет этих двоих завтра? Может быть, смерть.
Беседа о благодатном огне
Предлагаемая беседа — об одной из важнейших святынь христианства, о Благодатном Огне, Святом Свете, как называют его греки. Сама я в Иерусалиме не была, так сложилось. Но если бы Благодатный Огонь был только легендой, я бы в него все равно поверила. Надо видеть глаза тех, кто его видел. Это ясные и полные любви глаза, в которых навсегда отразился отблеск Огня. Или мне так только кажется? Но ведь уже тысячелетия жизнь христианства вращается, как вокруг оси, вокруг этой прекрасной росы, нисходящей в закупоренную душную Кувуклию. Или, скажем, в пятнадцатом веке вместо зажигалки использовали огниво? Святыня узнается по силе любви и ненависти к ней. Поговорим о святыне. Мой собеседник — отец Константин Кравцов.
Вопрос: Отец Константин, вас живо интересует все, что связано с одной из важнейших святынь христианского мира, Благодатным Огнем.
Именно поэтому решила побеседовать с вами. Что можете сказать о собранном вами материале — и историческом, и публицистическом? Вкратце, основные черты.
Ответ: Насчет главной святыни все-таки надо уточнить, что — как говорил в «Трех разговорах» В. Соловьева старец Иоанн, главная святыня для нас — Сам Христос. Но Благодатный Огонь символизирует (и реально являет) свет Воскресения. И неслучайно на Руси и сейчас в русских монастырях его называют Благодатью. Он благодатен не только по названию, но и по существу — по тому воздействию на людей, о которых мы читаем в письменных свидетельствах с IX века по сегодняшний день. Что касается собранного материала, то неоценимую помощь в этом оказала книга греческого архитектора Харлампоса Скарлакидиса «Святой Свет. Чудо в Святую Субботу на Гробе Христа», переведенная на русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, румынский и сербский языки. Автор проделал огромную работу, собирая исторические свидетельства о чуде с IX по XVII век в крупнейших библиотеках Европы. В следующей его книге, как он мне написал, их количество увеличится до 70. И это лишь до XVII века включительно. Думаю, за последующее время, включая наше, их наберется никак не меньше.
Вопрос: Значит, свидетельств очень много и у вас есть греческий союзник; это радует. Отец Константин, вы были на Пасху в Иерусалиме? Самому удалось искупаться в огне?
Ответ: Нет, но в каком-то смысле я пережил его схождение, слушая рассказ моей израильской знакомой, а потом работая над своей книгой.
Вопрос: А что можете сказать о тех, кто видел огонь и испытал его действие? Говорят, он разноцветный и сначала катится, как роса. Такое «обыкновенное чудо».
Ответ: Вот именно — «обыкновенное чудо». Именно так его воспринимают на Святой Земле. Обыкновенное, но при этом — чудо. Что касается его внешнего проявления, то оно различно и воспринимается в зависимости от веры. Одна моя знакомая даже выявила для себя связь между Огнем и молитвой. Об этих внешних проявлениях сказано достаточно много. В русской литературе такие рассказы начинаются с игумена Даниила, побывавшего в Иерусалиме в начале второго века прошлого тысячелетия. Сами собой загораются лампады то в одном, то в другом месте, вспыхивают сами собой свечи. Паломники говорят также о молниях, зарницах, водопадах света, омывающих Кувуклию, о искрах, огненных шариках, похожих на елочные и о многом другом. Также упоминаются — причем на протяжении веков — и облако, и роса.
Вопрос: Как случилось, что Огонь, не вызывавший сомнений у наших предков, стал «знамением пререкаемым» сейчас? С чего начался этот огненный разброд и шатание, или он был всегда?
Ответ: Сомнение вообще-то естественно в таком случае, оно имело место всегда. Но очевидцы убеждались — и в этом убеждало их, прежде всего, собственное сердце — что это действительно Благодать, а не «фокус». Были, конечно, и скептики, и насмешники, и по мере преобладания атеистических настроений их число увеличивалось, что также вполне понятно. Но в России «знамением пререкаемым» Святой Свет стал лишь в 2008 году. Разумеется, «разоблачения» были и до этого, например, записи в дневниках епископа Порфирия (Успенского) и доклад его однофамильца — профессора Ленинградской духовной академии — об обряде Святого Огня, сделанный в 1949 году. Но все это было неизвестно широкой публике до сенсационной записи отца Андрея Кураева на его сайте. Разумеется, не остались в стороне и атеисты, которые, впрочем, лишь повторяют сказанное «критиками со стороны РПЦ».
Вопрос: Греки — народ яркий, любящий представления. Но какая связь у святыни с театром? Воспоминания о Евангельских событиях, постепенно приобретшие форму ритуала, подчиненные строжайшему церемониальному распорядку — можно ли называть «представлением», театром, как часто приходится слышать не только от неверующих, но и от православных?
Ответ: «Представлением» если кто и называет священнодействие Святого Света, то происходит это из-за «трудностей перевода», на чем построена и интерпретация Кураевым слов Патриарха Феофила. Тот говорил по-английски, используя такие слова как «репрезентация» и «церемония». Адекватный перевод на русский — «образ», «обряд», каковым и является священнодействие, которое, кстати, Патриарх Кирилл в своем телевыступлении в Великую Субботу 2010 года называл таинством. Разумеется, с театром это связано не больше, чем любое богослужение, которое спектаклем, представлением, шоу можно назвать лишь в насмешку. Это древний богослужебный чин, в основе которого лежит воспоминание о Воскресении — о свете Воскресения, воссиявшем в Гробнице Христа, о чем говорит в своем 2‑м Слове на Воскресение святитель Григорий Нисский. И — Иоанн Дамаскин в церковной гимнографии, где речь идет об апостоле Петре, увидевшем в Гробнице Святой Свет и ужаснувшемся. Об этом же, кстати, говорил на прессконференции с российскими журналистами Патриарх Феофил.
Вопрос: Как связано почитание Благодатного Огня с любовью к христианскому богослужению, центром которого всегда является чтение Слова Божия? Слово Божие как Огонь — и Огонь как явление Духа и Силы?
Ответ: Да, это все взаимосвязано. Первоначально чином Святого Света начиналась пасхальная заутреня, совершаемая, как и сейчас, в полночь. Потом, из-за многолюдства, этот чин перенесли на вечер Великой Субботы, теперь он совершается после полудня. В том богослужебном времени, которое составляет промежуток между сошествием Христа во ад (тема Великой Субботы) и Воскресением. Первое Евангелие о Воскресении (последнее зачало от Матфея) читается, напомню, именно в Великую Субботу. Так что все логично.
Вопрос: Доказуема ли Божественность Огня или нет? В рассказах Патриарха о нисхождении Огня основная тема — не знаю почему, не знаю как, но это происходит. Почему спрашиваю про доказательства. Кто был и видел, тот в доказательствах не нуждается. Но многим не видевшим обязательно нужны доказательства.
Ответ: «Объективных доказательств» нет и не может быть. Как и Воскресению Христову. Не может потому, что Бог не насилует человеческую свободу выбора, а «объективное доказательство» такого выбора не оставляет. В то, что «объективно», уже невозможно не верить, так как это «научный факт». С другой стороны, коль скоро схождение Благодатного Огня происходит ежегодно, его можно научно изучать, что и попытался сделать в том же 2008 году кандидат физико-математических наук из Курчатовского центра Андрей Волков. Его осциллоскоп зафиксировал мощный электромагнитный импульс именно в момент схождения Огня. Но этот эксперимент — единичный, а потому, строго говоря, «научным фактом» не является. О чем говорит и сам физик. Есть также доклад другого кандидата физико-математических наук М. Шугаева, где он рассматривает этот феномен как физик. Говоря о том, что происходящее в Великую Субботу в храме Воскресения (или Гроба Господня, как он чаще называется) с научной точки зрения необъяснимо. О том же говорит и А. Волков. Это пока все, что может сказать наука, оставаясь в своих границах, т. е. не превращаясь из науки в идеологию, в антирелигиозный агитпроп, с которым ее путают с советских времен. Вообще же, что касается доказательств, то их достаточно для имеющих глаза и уши. Евангелие говорит в таких случаях: иди и посмотри. Если нет возможности, вспомни то же евангельское «дерево познается по плодам» и рассмотри свидетельства паломников: все они говорят и о величайшей радости, и о покаянии, и о любви Божьей и об ответной любви к Богу. Наконец, есть прямые свидетельства о чуде Иерусалимских Патриархов Кирилла и Дамиана в XIX веке, Диодора в ХХ и Иринея в XXI, свидетельства их наместников, возглавлявших священнодействие. Этого, на мой взгляд, вполне достаточно.
Вопрос: Посмотрим с другой точки зрения. Какие грехи как священник вы видите в «огнепоклонничестве»? Суеверие? Поклонение стихиям — точнее, стихии огня? Маловерие — тебе, мол, сказали, что есть то-то и там-то. Нет, ты еще знамений просишь. Можете развернуть этот список?
Ответ: У меня такое подозрение, что само «огнепоклонничество» существует не столько в действительности, сколько в головах пишущих о нем. По крайней мере, я с ним не сталкивался. Ни на Святой Земле, ни на Афоне, где говорил с очевидцами. Отношение спокойное, без ажиотажа, без какой бы то ни было экзальтации. Хотя не исключаю, что и это имеет место. Но, на мой взгляд, оно преувеличено авторами «разоблачений». Я не вижу здесь никакого поклонения «стихиям», так как Благодатный Огонь «стихией» можно назвать лишь с существенными оговорками. Это естественное и вместе с тем сверхъестественное явление в ответ на молитву Церкви в лице Иерусалимского Патриарха и всех верующих. Да, это чудо, но вся жизнь верующего состоит из больших и малых чудес, как и сама вера — чудо. Преувеличивать нечто необычайное, конечно, не нужно, но можно впасть и в другую крайность — в отрицание чудесности вообще. Никаких знамений, я считаю, называемые в «разоблачениях» «огнепоклонниками» и «огневерческим быдлом» не ищут. Это клевета. Да, человеческой природе свойственно тянуться к чему-то необычайному, но это в порядке вещей. Делать на этом основании вывод, что у собирающихся в Великую Субботу нет и не может быть христианской веры, что они — язычники, можно лишь не будучи знакомым с их свидетельствами. В них я не обнаружил никакого язычества — все пишут о радости. Детской радости, утраченной, похоже, навсегда их обвинителями. Повторюсь: наверняка есть какие-то перекосы, но я с ними не встречался.
Вопрос: Разделение на огнепоклонников и обличителей огня для церкви, да и для каждого верующего, момент болезненный. Представьте, что в одной семье отец верит в чудесное нисхождение Огня и его божественную природу, а мать — нет. Какая-то чудовищная картина.
Ответ: Важно, чтобы христианин верил во Христа. А насчет Огня — все становится ясно при добросовестном и непредвзятом анализе свидетельств о нем. Опасность — для Церкви — в другом. В подмене живой веры мертвой, чисто рассудочной. В новом книжничестве и фарисействе. В презрении к людям, свойственном «огнеборцам». В новом сектантстве, когда тусовка столичных книгочеев считает Церковью только себя, а остальных — быдлом. А именно такое отношение и видишь во всех без исключения публикациях «светоборцев».
Вопрос: Как вы восприняли высказывания отца Андрея Кураева на пресс-конференции 2008 года, посвященной Благодатному Огню? Чем характерно это высказывание, как известно, «разоблачающее» святыню? На это надо было решиться.
Ответ: Как когда заноза под кожу впивается. И потом нарывает. Потом с гноем выходит, что и произошло со мной в Иерусалиме, когда я слушал рассказ об Огне моей знакомой. В общем, отец Андрей меня ни в чем не убедил, но восприятие было примерно такое. Из ответа Патриарха на вопрос об Огне никак не следует, что он лично скептически относится к русским и их пониманию христианства, о чем уже не раз писали. Ну, а по поводу того, как на это можно было решиться — дело, думаю, в отсутствии благоговения, да и просто такта. Кураев, как мы знаем, вообще склонен к эпатажу. А ради красного словца не пожалеешь, как известно, и родного отца, что уж говорить об Иерусалимском Патриархе и всех Иерусалимских Патриархах вместе взятых. Да и о Церкви в целом. Главное — ляпнуть такое, чтобы одни зааплодировали, а других перекосило. Нисколько не думая о «малых сих».
Вопрос: Нет ли в «разоблачении» Огня старых политических ран — Российская Империя желала завоевать Константинополь, а Ближний Восток почитала своим едва ли не весь. Может быть, отец Андрей прав, когда говорит о ненависти греческой церкви к русской? Как складывались отношения греческой и русской церкви на Святой Земле?
Ответ: Нет никакой ненависти, в том числе и у Патриарха Феофила, как это видно из того же интервью, где он говорит о своем двухгодичном пребывании в России как о Божьем благословении, и о русской душе — как душе религиозной. Вся его «русофобия» выразилась в его неприятии деятельности епископа Порфирия (Успенского), основавшего по заданию российского правительства Русскую Духовную Миссию в Иерусалиме и настраивавшего арабов против греков, руководящих Иерусалимским Патриархатом. Патриарх вынужден был дать четкий ответ на вопрос с подковыркой, почему, мол, нет епископов из арабов в Иерусалимском Патриархате. Да, у Российской Империи были свои геополитические интересы, как у всякой страны, в том числе и на Ближнем Востоке, было и презрительное отношение к грекам, о чем говорил, кстати, митрополит Антоний (Храповицкий). Но в целом отношения между Иерусалимским Патриархатом и Московским всегда отличались стабильностью. Чего не скажешь об отношениях с Патриархатом Константинопольским. В общем, можно говорить о каких-то трениях между поместными церквями и народами, но не надо их преувеличивать. Что касается отношений между греками и русскими на Святой Земле, то они не могли быть враждебными хотя бы потому, что и те, и другие там — православные в исламском окружении. Потом, одно дело внешняя церковная и государственная политика (а она в разное время может быть разной), другое — отношения между людьми. Да и что такое Иерусалимский Патриархат? Горстка монахов. В случае победы России в Первой Мировой Константинополь, проливы, Ближний Восток могли бы действительно отойти к ней, а не к Англии, чего Святогробское братство, возможно, опасалось. Как и в случае сталинской политики. Но даже и в этом случае говорить о ненависти к русским, на мой взгляд, не приходится. Просто греков значительно меньше и как всякий малый народ они опасаются народа большого, да еще и с мощной государственностью, влиянием в мире и в том числе — церковном.
Вопрос: Нет ли в «разоблачении» Огня момента идеологического? Даже более — желания подправить учение и обычаи настолько, чтобы они соответствовали представлениям об идеологической основе? Христианство, как к нему не подходи — не идеология в точном смысле; оно много больше и совершенно по-другому устроено.
Ответ: Есть, разумеется. Это именно идеологическая диверсия, говоря языком СМИ. Собственно, тот же самый антирелигиозный агитпроп, но уже от имени «глубоко осмысленной веры», как говорят о своей вере светоборцы, декларативно заявляя о себе как о «верных чадах Русской православной церкви». Именно так подписано публичное, запущенное в сеть обращение к Патриарху, содержащее, по сути, требование прекратить доставку Огня в Россию и отчитаться перед «верными чадами» по поводу Благодатного Огня. Т. е. признать его «фокусом». Можно сказать так: в церковной среде тоже существует разделение на «правых» и «левых», «консерваторов» и «либералов». И у тех, и у других — своя идеология, выдаваемая за подлинное православие (или, как в случае «обновленцев», христианство; слово «православие» они не любят). И у тех, и у других — свои СМИ, которые и заказывают музыку в соответствии с той, какая заказана им. Есть заказ на дискредитацию традиционного православия, как и всего традиционного вообще. И возникает компания по «разоблачению» Благодатного Огня. Она началась еще до Кураева, но он придал ей «ускорение» своим авторитетом, по сути, оказался ее главным инициатором. И пошло-поехало. Дело не в развенчании «мифа» — это лишь одна из задач «демифологизации», начатой в свое время протестантами. Дело в замене традиционного христианства на модернизированное — без живой веры, без подвижничества. На христианство либеральное, стерильное, не имеющее ничего против гомосексуальных браков и женского священства, во всем следующее духу века сего, который выдается за подлинное христианство. И это, разумеется, тоже идеология, хотя на словах декларируется отказ от всякой идеологии.
Вопрос: Не возник ли этот «идеологический момент» православия (Огонь тут помешал, конечно) в связи с голодом на порядок в современном Российском обществе? Но вероятно ли, что идея «православной основы» сможет этот голод утолить?
Ответ: Все взаимосвязано; и те же разделения, что происходят в обществе, происходят, как я уже сказал, и в церковной среде. «Разоблачения» Благодатного Огня начались с возмущения его доставкой в Россию и телетрансляциями из Иерусалима. Благодатный Огонь и вера в чудо связывается, таким образом, с государственной политикой и церковным «фундаментализмом». И здесь возникает действительно непростая тема взаимодействия Московской Патриархии и государственной власти. Но она, насколько я понимаю, не связана непосредственно с темой нашего разговора. «Православная основа», собственно, означает ту традицию, следуя которой сохраняется идентичность и народа и отдельного человека здесь, в России. Но после советского и постсоветского времени, когда эта традиция была разрушена и извращена, неплохо бы задуматься, где традиция, а где — пародия на нее. Не говоря уже о том, что православие не может насаждаться насильно и уж тем более — как государственная идеология. Это было естественно для царской России, но мы живем не в ней, а в Российской Федерации, где с «порядком» все и правда проблематично. И есть реальная опасность подмены православия псевдо-православием. Как справа, так и слева.
Вопрос: Посмотрим, что скажут исторические документы. Как известно, греческая церковь возникла намного раньше русской, это «материнская» церковь для русской. Там сохранилась «греческая метафизика», по словам Патриарха Феофила, которой русские не понимают. Камнем преткновения был опять-таки Огонь и вообще «вера в чудеса»: явление Богородицы на Афоне, выступившее на иконах миро. Русская церковь, явившись на Святой земле, повела себя наступательно — это можно объяснить: имперские амбиции проявились полностью. Но наступление Владыки Порфирия (Успенского), олицетворяющего церковь, и тех из священнослужителей, кто разделял его мнение — на «веру в чудо», на то, что, согласно греческой метафизике, есть прямое действие Христа, Силою и Духом изменяющего Свое творение, — было, конечно, парадоксальным.
Ответ: Владыка Порфирий был, как это называлось тогда и иногда теперь, «либералом в рясе». Но дело не только в либерализме. Можно быть либералом и не глумиться ни над преданиями, ни над памятью новомучеников, пусть даже они и греки. Дело в чем-то более глубоком, чем мировоззрение. Последнее определяется тем, что в сердце. Кому оно отдано — Христу или Его антиподу. Теперь насчет метафизики, тем более — православной, святоотеческой: так ли уж был неправ Патриарх Феофил? Дело здесь не в русских и не в греках: дело в православии, которое действительно неизвестно современному миру, как о том пишет греческий богослов Христос Яннарас, называя его павшим в землю зерном. Наше православие (не знаю, как греческое) пронизано латинским влиянием, что и заставило русских православных богословов ХХ века говорить о «западном пленении». Вплоть до ХХ века все наше богословие было схоластическим, ориентированным на чисто западный образ мышления. То же и в среднестатистической приходской жизни. Россия, начиная с Петра, стала частью западной цивилизации, что имело и свои плюсы, и свои минусы. И — перестала быть православной страной, что доказывается торжеством в ней большевизма. А в советское время ни о какой святоотеческой метафизике, как и о метафизике вообще говорить уже не приходилось. Да и церковная жизнь была пропитана ядами советчины, дающими себя знать и сейчас. Так что дело не только в отношении к чуду, в которое никто не обязывает верить. Дело в знании собственной веры и в жизни согласно ей. Тогда и вопрос о чуде прояснится.
Вопрос: Считается, что вера в чудо — помолился и получил — развивает в человеке далеко не лучшие стороны. Человек начинает клянчить у Бога мелочь и в то же время думает, что ему все доступно и можно. Эти опасения идут от духовного опыта. Вера автоматизируется, изменяется смысл связи между Богом и человеком. Потому что это Бог видит человека и дает ему все, что посчитает нужным. А отнюдь не человек сам собою добился ответа от Бога. Но имеют ли эти мысли о чуде хоть какое-то отношение к святыне, Благодатному Огню?
Ответ: Прямого не имеют. Вообще, говоря о Благодатном Огне, нужно помнить, что он — составная часть богослужения. Иерусалимский Патриарх в Кувуклии не молится о схождении Огня — он просит просветить и освятить верующих тем светом, который непрестанно и присносветло горит на Гробе Христовом — светом Воскресения, светом Истины. Чудо здесь, если можно так выразиться, побочный эффект. Главное чудо — это чудо любви Христовой, схождение Огня этой любви в сердце, о чем и пишут паломники. Не во внешних эффектах, которые сами по себе — ничто. Ну, а что касается личных отношений с Богом, то понятно, что они не должны строиться на принципе «ты мне, я тебе». О себе в этом случае хорошо бы забыть вообще. Но мало кто на это способен.
Вопрос: В Израиль после распада СССР приехали очень многие люди, принявшие крещение в Святой Православной Церкви. Большинство из этих приезжих хотело оставаться православными. Эти люди устремились, конечно, в греческую церковь. Это насторожило греков. Церковная ситуация русских православных в Иерусалиме — отдельная трудная тема. Но неприязнь к русским стала сильнее. При том, что многие из приезжих веруют искренно. Они находятся как бы между двумя границами. Не нужны русской церкви — потому что уехали. И греческой — потому что русские. Не отразилась ли эта ситуация в спорах об Огне? Если отразилась, то как именно?
Ответ: Отчасти отразилась, если говорить о пресс-конференции в Иерусалимской Патриархии. Там был задан вопрос об окормлении православных из стран бывшего СССР, а с ним (окормлением) действительно проблематично по многим причинам. Во-первых, Иерусалимский Патриархат — это монашеское Святогробское братство. И ориентировалось оно всегда на окормление лишь паломников, а не на православных израильтян, появившихся совсем недавно. Потом и сами эти православные — большей частью неофиты — приехали, что называется, со своими тараканами. И поднабрались новых в Израиле. В общем, есть определенные трудности, хотя я не сказал бы, что Иерусалимский Патриархат дает всем от ворот поворот. Многие православные из России неплохо в нем себя чувствуют.
Хотя, повторюсь, миссионерская работа оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Некоторые окормляются в Русской Духовной Миссии, принадлежащих ей храмах и монастырях, но и Русская Миссия ориентирована прежде всего на паломников. Короче говоря, проблемы есть, но с Благодатным Огнем это напрямую не связано. Из моих православных знакомых в Израиле я не встречал никого, кто бы сомневался в его чудесности.
Вопрос: На пресс-конференции Патриарху Феофилу был задан такой вопрос: «Ваше Блаженство, Вы являетесь одним из реальных свидетелей величайшего чуда схождения Благодатного Огня. Непосредственно при этом присутствуете. Мне бы хотелось узнать, как это происходит, Ваше первое впечатление, когда Вы стали свидетелем этого чуда? Что происходит с человеком? И сам этот процесс опишите, пожалуйста». А вот ответ Патриарха: «Это церемония, которая является „representation“, как и все другие церемонии Страстной седмицы. Как некогда пасхальная весть от гроба воссияла и осветила весь мир, так и ныне мы в этой церемонии совершаем репрезентацию того, как весть о воскресении от Кувуклии разошлась по миру». Как будто и нет никакого Благодатного Огня. Неточности перевода?
Ответ: Это вырванная Кураевым из контекста цитата. Если рассмотреть ответ Патриарха полностью впечатление будет другое, почему Кураев и не приводит его ответ целиком. С другой стороны, Патриарх явно не из тех, кто перед светскими журналистами живописует ожидаемые ими чудеса, разглагольствует о своем глубоко личном, интимном опыте. Он просто перевел вопрос в другую плоскость, заговорив о нем не как о чуде, а как о церковном священнодействии. Что Кураев, а вслед за ним, с его подачи и многие другие, восприняли как «откровение» о том, что никакого чуда нет и быть не может. Кстати, говоря о своем личном опыте далее, в исключенной Кураевым части ответа, он сравнивает свой опыт — опыт того, что происходит в Кувуклии — с Евхаристией. Можно ли переживать то же самое, что при Евхаристии, в случае мошеннического зажигания Огня зажигалкой? Ответ, на мой взгляд, очевиден.
Вопрос: Об отце Андрее Кураеве. У него была превосходная книга «О нашем поражении». Были и другие, о самом тяжелом и трудном в церковной ситуации и повседневности. Он был — как в Писании — со всеми, чтобы кто-то остался и не ушел, а кто-то пришел. Но вот эта книга, «О нашем поражении», была прекрасным образцом критики изнутри. После нее позиция отца Андрея резко изменилась. Началось миссионерство, не очень православию свойственное. Словно река резко повернула и пробила себе другое русло. Тоже своего рода — чудо. Ведь не случайно именно отец Андрей Кураев оказался «разоблачителем». А ведь отец Андрей говорил за два года до своей зажигалки о схождении Огня как о подлинном чуде, комментируя телетрансляцию из Иерусалима.
Ответ: Да, людям свойственно меняться. Какие-то качества берут вверх над другими, меняются и мысли.
Вопрос: Патриарх Феофил так говорит о подготовке к «заключению» в Кувуклию: «Земля, на которой находится храм, принадлежит турецкой семье, ключарь храма — мусульманин. Крестный ход на Пасху вокруг часовни над Гробом Господним проходит в сопровождении кавасов — турок. С патриарха и представителя Иерусалимской Церкви снимают священническое облачение и осматривают. А часовню тщательно обыскивают израильские полицейские и мусульмане — нет ли где источника огня? Кроме того, представитель армян следит за всеми действиями и всегда готов вмешаться». Эти слова подтверждаются многими священниками и представителями власти. Но если так — места «зажигалке» быть не может. Огнеборцы предстают в невыгодном свете.
Ответ: Он говорит это в интервью, которое отец Андрей объявил фальшивкой, указав на «обилие ошибок». Фальшивка это или нет, на мой взгляд, вопрос спорный, хотя «Русский репортер» официально и не опроверг заявление отца Андрея. В общем-то, то, что зажигалка — вздор, понятно и без этого. Даже если допустить возможность сговора с представителем армян. Армяне, кстати, утверждают, что когда Иерусалимский Патриарх и армянский архимандрит входят в Кувуклию, лампада уже горит. Они не отрицают чуда, но, на их взгляд, оно происходит не всегда. Видимо, потому, что священнодействие возглавляют греки, а не армяне. Кстати, греческий богослов-протопресвитер Феодор Зисис пишет о том, что лампада в Кувуклии может и не загореться при полном неверии Патриарха, который может найти способ зажечь ее сам, но это ничего не меняет: Огонь все равно сходит к верующим, зажигая другие лампады и свечи. Об этом «самовозгорании» масса свидетельств.
Вопрос: Есть свидетельства наших современников — Иерусалимского Патриарха Диодора и его помощника, который два года вместо Патриарха присутствовал при схождении Святого Света, Христодула (Саридакиса). Расскажите о них. Если возможно, процитируйте, что удалось перевести.
Ответ: Есть еще и свидетельство Патриарха Иринея и свидетельства Патриархов Кирилла и Даминана, епископов Мисаила и Мелетия, возглавлявших чин Святого Огня в XIX веке.
Вот фрагмент из интервью Патриарха Диодора I:
«…Я пробираюсь сквозь темноту во внутреннее помещение и падаю там на колени. Здесь я возношу особые молитвы, что дошли до нас через столетия и, прочитав их, жду. Иногда я жду несколько минут, но обычно чудо происходит сразу же, как только я прочитаю молитвы. Из среды самого камня, на котором Иисус лежал, изливается неописуемый свет. Он обычно голубого оттенка, но цвет может изменяться и приобретать много разных оттенков. Его невозможно описать человеческими словами. Свет поднимается из камня, подобно тому, как туман поднимается из озера — выглядит почти так, как будто камень покрыт влажным облаком, но это свет. Этот свет каждый год ведет себя по-разному. Иногда он покрывает только камень, а иногда заполняет всю Кувуклию, так что если бы люди, стоящие снаружи, заглянули внутрь, то увидели бы ее наполненной светом. Свет не обжигает — я ни разу не обжег бороду за все шестнадцать лет, что я был Патриархом Иерусалимским и принимал Благодатный Огонь. Свет другой консистенции, чем обычный огонь, горящий в масляной лампе…
…В определенный момент свет поднимается и приобретает форму колонны, в которой огонь уже другой природы, так что я уже могу зажечь от него свечи. Когда таким образом я зажигаю огнем свечи, я выхожу и передаю огонь вначале Армянскому Патриарху, а потом Коптскому. Затем я передаю огонь всем людям, присутствующим в храме».
Вопрос: В вашей работе об Огне есть такая фраза: «Замечу, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл называет схождение Благодатного Огня таинством напрямую»… Я не цитирую вторую половину фразы, нарушая таким образом контекст — но эта часть фразы звучит как стихи: «таинством напрямую». Какое слово лучше подходит для определения Благодатного Огня, чем таинство? А вы как священник — что скажете?
Ответ: Да, в отличии от Патриарха Диодора, который говорит об этом не так уверенно: «почти таинство». И это, на мой взгляд, примечательно. Говорит о то, что Патриарх мыслит не схоластическими категориями, ограничивающими таинства числом 7, а святоотеческими. Собственно, таинством можно назвать любое соприкосновение души с Тайной. С Божественной энергией. Я при схождении Огня не присутствовал, но то, о чем пишут паломники, на мой взгляд, именно таинство — покаяния, благодарения… Словом — таинство веры.
Вопрос: Очень хочется на Пасху в Иерусалим. Помолитесь, отче, чтобы хоть когда-нибудь мое желание исполнилось.
Ответ: Бог благословит.
О Туринской Плащанице
Туринский кафедральный собор — Domino di Turino — похож на положенную на бок белую скрипку, до половины вросшую в землю, из которой как бы выступили вверх несколько ребер. И как воткнутое в землю копье чуть впереди него, слева, если стоять спиною ко входу, возвышается четырехстенная красноватая колокольня. Тема Страстей Христовых заложена в самой архитектуре собора. Построен Domino di Turino в последней трети пятнадцатого века. Именно там хранится одна из величайших святынь христианского мира — Плащаница Господа Иисуса Христа. Она так и называется — Туринская Плащаница.
Святыня находится в обитой белым шелком раке — четырехугольном ящике, отчасти напоминающем гроб. Посередине, поперек — обвернута алой лентой с надписью «Domine» — «Господь» — и распятием. Сверху вместо цветов лежит терновый венец — ветки терна. В напоминание о Страстях.
Небольшое древнее полотно было и остается знамением пререкаемым уже семьсот лет. Это желтоватого цвета ткань с коричневыми маслянистыми и бурыми отпечатками на ней. По ним можно восстановить внешность человека, который был завернут в это полотно. Мужчина с бородой и длинными волосами. Размеры полотна четко соответствуют размерам древнего еврейского погребального полотна — тахрихима. При исследовании состава ткани были обнаружены семена растений и масла, которые использовались при погребении. «Сосуды смирны и алоя, всего литров сто» (Ин. 19:39). А точнее: «После сего Иосиф из Аримафеи (ученик Иисуса, но тайный — из страха от Иудеев), просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим (приходивший прежде к Иисусу ночью) и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили Его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что гроб был близко».
Что это? Талантливейшая подделка, на века всколыхнувшая человеческое море? Или же — но это страшно подумать, какой бы радостной не была эта весть — знак со-пребывания с человеком Богочеловека Иисуса Христа. Здесь, в полуразрушенном техногенном мире. В мире, пережившем множество катастроф и войн. Вспоминается фраза из одного романа: «Громче зовите. Может быть, Он спит». И в ответ — евангельское: «Господь мой и Бог мой».
«Верую, Господи, помоги моему неверию». Воскресение Христа без Страстей и Погребения было бы невозможно. Но если бы были только Страсти, без Воскресения? Человек много думал над этим. И создал учения, в которых Иисус Христос называется только человеком. Вот полотно — свидетельство того, что человек, похожий на Того, Кто описан в Евангелии, был погребен. Но вера определенно высказывается за то, что Плащаница есть свидетельство Воскресения Христова. Но как так может быть? Мученикам, для уверения их мучителей в том, что есть Царство Небесное, ангелы приносили райские плоды перед казнью. Неужели же Бог, прошедший весь пусть человека, Создатель, знающий Свое творение как никто — не мог дать более ясного свидетельства, чем это полотно? Туринская Плащаница — не просто исторический факт. Это Евангелие. Иногда ее так и называют — Пятым Евангелием.
В Византии Плащаница была хорошо известна, и о ней сохранилось довольно много упоминаний. Плащаница путешествовала из Иерусалима в Константинополь, из Константинополя снова в Иерусалим, была почитаема верующими как величайшая святыня. Однако после разгрома крестоносцами Константинополя в 1204 Святую Плащаницу никто не видел. Робер де Клари, летописец крестовых походов, так описывает место, где хранилась святыня: «И среди других был монастырь, известный под именем Пресвятой Девы Марии Влахернской, где хранилась Плащаница, которой наш Господь был обернут. Каждую пятницу эта Плащаница была выносима и поднималась для поклонения так хорошо, что было возможно видеть Лик нашего Господа. И никто, будь то грек или франк, дальше не знал, что случилось с этой Плащаницей после разгрома и расхищения города»
Если описать путь Туринской Плащаницы из Иерусалима, получится увлекательнейший приключенческий роман — и удивительно, что писатели до сих пор не воспользовались этим материалом. Но ведь речь идет о святыне — неужели можно относиться к святыне как предмету для написания приключенческого романа? И однако пусть Святой Плащаницы в Турин из Иерусалима — один из самых загадочных и интересных в истории человечества.
Тени воинов, смуглых от южного солнца и запекшейся крови, красноватая пыль южных дорог, прохладные подземные помещения, чудом сохранившиеся после стольких лет войны за Святой Град… Здесь нет ничего надуманного. В Плащаницу веровали как в Евангелие, и она жила как Евангелие — таинственной жизнью, то возникая, то снова скрываясь, то вдруг являя свой удивительный свет. В Европе Плащаница возникла во второй половине четырнадцатого столетия, в парижском пригороде Лирей, в имении графа Жоффруа де Шарни.
Крестовые походы закончились, власть рыцарства сильно ослабела, хотя идеи еще жили и находили все новых последователей. Служение воина Богу предполагает строгую аскетику. Это могли выдержать отнюдь не все, но к этому надо было стремиться. После расправы над орденом тамплиеров закончился передел власти — король взял почти все, что было у ордена, хотя согласно многим легендам, он получил только малую часть.
Тамплиеры были одним из первых воинских орденов, появившихся на Святой Земле, и одним из лучших орденов. В их обязанности входило охранять группы паломников и торговцев на Святой Земле. С течением времени орден оброс многочисленными слухами, часто мрачными и пугающими, зато приобрел сильную власть. Тамплиеры были богаты, очень богаты. А устав их был выстроен так, что орден напоминал государство в государстве. Во второй половине четырнадцатого столетия от ордена не осталось почти ничего. Хотя кто знал, что такое тамплиеры, не поверил бы этому.
Граф Жоффруа де Шарни приходился королю дальним родственником, а его дядя был тамплиером. Его дед со стороны матери, Жан де Жуанвиль, был близким другом Людовика Девятого Святого и даже автором биографии этого короля. Сам Жоффруа был верен идеям рыцарства не только на словах. Он был изрядный воин и талантливый писатель. Его перу принадлежат по крайней мере три работы о рыцарстве. Он же в ноябре 1351 года стал основателем Ордена Звезды, одной из самых почетных наград Франции. Его называли истинным совершенным рыцарем, и он был знаменосцем священной Орифламмы. Жоффруа де Шарни погиб в трагической для Франции битве при Пуатье. Так появление Плащаницы в Европе промыслительно было скрыто тайной.
Супруга графа, Жанна де Вержи, до самой смерти хранила молчание о появлении святыни у де Шарни. В 1375 году Плащаница выставлена была в местной церкви как святая реликвия. Множество паломников посетило этот храм, но тогда же возникли сомнения и в подлинности Плащаницы. Епископ Анри де Пуатье, как говорит хроника, порицал настоятеля церкви за то, что Плащаница была выставлена как Плащаница Христова, к соблазну верующих «малых сих». Преемник Анри де Пуатье, Пьер Д’Арси, получил разрешение от папы Климента Седьмого выставить реликвию, но как обычную икону, а не как погребальную пелену Самого Христа. Средневековье богато на разные истории, связанные с реликвиями — подлинными и подложными. Появилось множество поддельных плащаниц. Они выставлялись напоказ в разных городах. Но что удивительно: только Плащаница, принадлежавшая де Шарни, народом воспринималась как подлинная. Ее подлинность многажды проверяли. Стирали в щелочи, варили в масле. Изображения смыть не удалось. О любви верующих к святыне говорит хотя бы тот факт, что гениальный Альбрехт Дюрер написал с Плащаницы копию (1516 г.). При этом один из углов полотна оказался испачкан краской.
Вдова де Шарни умерла, Плащаница перешла к ее наследникам. Одна из наследниц подарила реликвию герцогине Савойской. Впоследствии Савойская династия воцарилась в Италии. Герцог Савойский Людовик Первый выстроил в Шамбери храм для реликвии — это было прекрасное здание. Во время завоевания Италии Бонапартом храм в Шамбери был разрушен. Но Господь нашел для своей реликвии место задолго до бурных событий.
В 1578 году Миланский епископ Карл Борромеро (он был уже стариком) возжелал поклониться святыне и зимою решился на трудный путь из Милана в Шамбери. Чтобы престарелому епископу не идти пешком через горы, народ вынес плащаницу ему навстречу. Шествие с Плащаницей и паломник встретились в Турине, где, по благословению Владыки, святыня пребывает до сего дня. Карл Борромеро причислен католической церковью к лику святых. Завоевание Италии Бонапартом не коснулось Турина. Собор остался нетронут, Плащаница сохранилась.
До конца девятнадцатого столетия Плащаница пребывала в Турине, почиталась реликвией, но не более того. Всплеск интереса пришелся на самый конец девятнадцатого столетия. В 1898 году в Париже прошла выставка религиозного искусства. Решено было представить Святую Плащаницу как художественное произведение древних ближневосточных художников. Считалось, что это плохо сохранившаяся картина. Ее разместили высоко над аркой, чтобы каждый мог видеть изображение человека на полотне. Перед закрытием выставки Плащаницу сфотографировали. 28 мая 1898 года археолог и фотограф Секондо Пиа сделал два снимка. Один негатив был испорчен. Другой, размером 60×50, после того, как его опустили в проявитель — дал почти точное фотографическое изображение Иисуса Христа. На темном фоне будто нарисованный светом сиял «Лик неземной красоты и благородства». Фотограф, пораженный открытием, всю ночь просидел, глядя на снимок.
«Святая Плащаница Христова, — размышлял он, — сама каким-то невообразимым образом представляет собою фотографически точный негатив; да еще с огромным духовным содержанием! Этой Святой Плащанице, этому удивительному в человеческий рост негативу гораздо больше тысячи лет. А ведь нашей-то новоизобретенной фотографии всего лишь 69 лет!.. Тут, в этих коричневых отпечатках из Гроба Господня, кроется необъяснимое чудо. Христос пришел к нам в дом».
Так положено было начало исследованиям Туринской Плащаницы. Возникла целая наука — синдология. Полотно снимали просвечивали рентгеном, снимали в инфракрасном свете, проверяли ультразвуком. Не нашлось ничего, что опровергало бы Евангельскую историю о Страстях и Воскресении. Плащаница считается нерукотворной — то есть, изображение на ней подлинное, а не сделано художником. Многие ученые уверовали после того, как познакомились с этой святыней во время исследований. Профессор анатомии Барбье, атеист, убедился, что Христос вышел из Плащаницы, не развернув ее. И это доказывает, что по Воскресении Он смог войти в запертые двери. Свидетельство смерти — погребальное полотно — стало свидетельством преодоления смерти. Однако исследования только начались. В 1988 получено было сенсационное известие: по данным радиоуглеродного анализа возраст Плащаницы составляет около 700 лет, и ее появление смело можно отнести к четырнадцатому столетию, как раз ко времени первых о ней сведений. Миф рассеялся! Даже в советской прессе были статьи на эту тему. А красноватые изображения снимков с Плащаницы в научных журналах — «Химия и жизнь», «За рубежом» — по мнению редакторов выражали поражение мифологического сознания и раскрытие мистификации. Но оставались факты, которые с идеей мистификации никак не могли быть связаны. Подробности анатомии погребенного человека, запечатленные Плащаницей, в средние века известны не были. Следов краски, кроме оставленных Дюрером, на ткани нет и не было.
Очень интересна сама ткань Плащаницы. Ее называют «дамаск», так как производилась она в Сирии, в самом начале нашей эры, из особой выделки льна, с добавлением хлопчатника, растущего только в Передней Азии, и стоила очень дорого. Позже второго столетия от Рождества Христова такие ткани уже не встречаются. Нити идут зигзагом, три к одному. Еще это называется — «саржевое» плетение. Оно получит распространение в средние века. Но в начале эры такая ткань была редкостью. Только богатый человек мог позволить тахрихим из дамаска. Что соответствует Евангелию. Иосиф Аримафейский, приготовивший погребальные принадлежности для Иисуса, был членом совета и человек богатый.
Плащаница хранит отпечатки монет, наложенных на глаза покойного. Это не что иное, как «лепта Пилата». Именно так называют ее археологи. Это редкая и очень ценимая нумизматами монета — их не более десятка во всем мире. Расположение пятен на Плащанице свидетельствует, что погребенный был казнен через распятие на кресте (положение тела, как бы сломанного — окоченение наступило быстро). Все детали Евангелия подтверждены. Ткань, род казни, «лепта Пилата», тщательное соблюдение обряда еврейского погребения. Вряд ли мошенникам средних веков, даже если они обладали бы всеми необходимыми материалами (что маловероятно) и знали бы все тонкости положения тела после снятия с креста и форму (а также и материал) гвоздей, удалось бы полностью сымитировать такую погребальную пелену. Группа итальянских исследователей-агностиков в 2009 повторила средневековый эксперимент. Доброволец обворачивался в ткань, покрытый мазями и краской — чтобы получить изображение. Вид полученного изображения очень напоминал изображение на Святой Плащанице, но все же оказался намного менее четким и стойким — хотя, кажется, все условия получения изображения были соблюдены.
В 1989 году Британским советом по науке и технике была проведена проверка точности радиоуглеродного метода исследования. Задействовано было 38 лабораторий. Лишь в семи результат оказался приемлемым. Примерно в это же время была высказана гипотеза, что большое содержание радиоуглерода С14 в ткани Плащаницы есть следствие радиоактивных процессов, происходивших в момент Воскресения Христова. То есть, в результате радиоуглеродного анализа получено свидетельство о ярчайшей, сильнейшей вспышке света!
Комплексные исследования профессора Падуанской Академии Джулио Фанти, проведенные в 2013 г., были направлены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть данные радиоуглеродного анализа 80‑х. Вот что сообщается об этих исследованиях: «В исследованиях применялись методы инфракрасной и рамановской спектроскопии, а также химического и многопараметрического механического анализа. Все эти анализы проводились на образцах оригинальной Плащаницы после определения относительной шкалы с помощью ряда образцов, восходящих к периоду от 3000 года до нашей эры и по наши дни. По его данным вероятным возрастом Плащаницы — с вероятностью 95 процентов — является 33 г. до н. э., плюс-минус 250 лет — то есть практически охватывает эпоху, в которую жил Иисус Христос».
В древней мозарабской литургии, восходящей, по преданию, к святому апостолу Иакову, брату Господню, говорится: «Петр и Иоанн поспешили вместе ко гробу и увидели на пеленах ясные следы, оставленные Тем, Кто умер и воскрес».
Журнал «Химия и жизнь» с красноватым изображением Лика на Плащанице я помню. Спрашивала: «Мама, кто это?». Мама, инженер-химик, отвечала несколько смущенно: «Наташа, это Бог». Бог, распятый и поруганный людьми, но воскресший. И вот Его изображение. Так я впервые встретилась с Плащаницей… Сретенский монастырь — тоже, как и собор в Турине, белый-белый. Когда впервые увидела там стеклянную витрину с изображением Плащаницы, с подсветкой — изумилась. Вот новое православие, моно и стерео. Но фосфорические оттенки стекла и красок не могли полностью уничтожить достоверности пятен — я будто бы их узнала. И с тех пор, как прихожу в Сретенский, иду к этой витрине с изображением Плащаницы и прикладываюсь к ней.
О рождественской ели
Есть вещи, которые чуть-чуть — и станут святынями. Моя знакомая трогательно называет такие «немножко освященными». Изобилие икон, журналов, масел несколько смещает оптику — начинаешь привязываться к вещам. Глаза разбегаются, и восприятие притупляется. Помню, как радовалась, как девчонка, когда впервые увидела на Афонском подворье пакетик с пластиковым крестом и высохшим листочком от оливы, растущей в Свято-Пантелеимоновом монастыре. То была не просто человеческая радость, как, скажем, от подаренного украшения. А нечто совсем другое. Крест цел (сколько я их потом передарила!), листок тоже.
Святыни очень разные. Есть и такие, которые на первый взгляд и не похожи на святыни. Но дух в их присутствии оживляется, веет небесной свежестью, и вообще становится светлее, как будто они на самом деле излучают свет. Одна из таких неявных святынь для меня… рождественская ель.
Декабрь — месяц, когда почти во всех домах появляется нарядное хвойное дерево — будь то лиственница, пихта или сосна (что удается купить на елочном базаре). Но чаще всего это, конечно, ель, и многие выбирают именно ель. Эта неистребимая любовь к рождественской ели идет из глубины столетий. Две недели заботливо выбранная и тщательно лелеемая лесная красавица, под лапами которой прячутся подарки — в шерстяных мешках в виде сапожка, в красивых пакетах или нарядной бумаге с бантами, или просто лежащие на хвое — радует глаз, а потом ее тихо выносят на свалку. Остаются фотографии, воспоминания и подарки, которые это дерево скрывало. Некоторые любители новогодней ели устраивают свою питомицу так, что она стоит целый месяц, а то и больше. Уже прошло Богоявление, а ель все красуется в емкости с сырым песком или водой. Случается, что даже пускает корни. Живая, привезенная из чащи леса елочка — лучший подарок на праздник Рождества Христова. Ее аромат преображает потускневшее жилое пространство. Елочка становится центром небольшой домашней вселенной.
Но откуда взялся сам обычай? Почему именно ель стала любимицей человека и его верной подругой в новогодних праздниках? И отчего христианство, отказавшееся от многих языческих обычаев, так тщательно сохраняет это рождественское древо, имеющее, кажется, прямое родство с языческим майским?
Сначала — две красивых легенды. Согласно первой, в рождественскую ночь все деревья отправились на поклонение Божественному Младенцу-Христу. Скорее всех прибыли высокие пальмы. За ними потянулись платаны, буки, липы и березы. Отправилась на поклонение и маленькая ель. Деревьев было так много и они были такими высокими, что ель среди них не было видно. К тому же всем хотелось поскорее увидеть Богомладенца — ель просто отталкивали от вертепа. И тогда ель сказала: «Господи! Как же я хочу Тебя увидеть! Но если не получится — знай, что я здесь, что я пришла к Тебе!». И тогда на небе произошло движение. Ангелы услышали голосок ели, услышал его и Божественный Младенец. Ангелы сняли с неба звезды и украсили ими ветви ели. Она засияла так, что перед нею расступились деревья, и она смогла увидеть своего Господа. И была назначена Рождественским древом.
Согласно другой легенде, Ангелы в ночь Рождества решили украсить скромный вертеп, в котором родился Господь, и пошли в лес, чтобы выбрать дерево. Дуб поразил их своей мощью и красотой. Но один Ангел сказал, что древесина дуба мягкая и хрупкая. К тому же из нее будут делать кресты на могилах. Стройная липа также не подошла — ее листва рано увядает, а цвет древесины слишком мрачный. Прекрасную березу отвергли за то, что ее гибкие ветви используют как орудие для наказаний — розги. Отказали иве, буку, вязу и многим другим деревьям. Наконец, Ангелы вошли в северные страны и увидели симметричное, вечнозеленое дерево, источавшее приятный смолистый аромат. «Ну конечно, ель!» — единогласно воскликнули Ангелы и украсили ее звездами, светляками, цветами и плодами. И отнесли к вертепу.
Может быть, обе эти легенды — лишь красивые истории, которые так приятно рассказывать в рождественские дни. Но в них есть общее и действительно глубокое, почти богословское понятие о мировом древе, о центре мира. Украшенная руками человека ель прообразует… и крест Господень, расцветший в Горнем Иерусалиме, и Древо Жизни, возраставшее в Эдеме. Кстати, в некоторых странах Европы есть обычай — ухаживать за молодым плодовым деревцем так, чтобы к Рождеству оно было покрыто цветами. Апостол говорит о «древе крестном» и о славе Животворящего Креста Господня. Что лучше может выразить Славу, чем плоды и цветы?
Ель входит в пантеон священных деревьев как у кельтов, так и у германцев. Она символизирует вечность и щедрость. Германцы видели в ели символ мирового дерева. Ель по праву считалась царицей германских лесов. Накануне торжеств выбиралось подходящее дерево, и к нему в день праздника отправлялась процессия со жрецом во главе. Дерево украшалось, и вокруг него совершался ритуал поклонения.
Со временем дерево стали украшать свечами. Крещеные святым Ульфиллой германцы не хотели расставаться с любимым деревом, и ель вполне органично стала символом вертепа, скрывающего ясли с Богомладенцем от воинов Ирода. Волхвы шли вслед за необычной звездою — ель стали украшать свечами, а маковку — особенным крупным украшением, в знак Вифлеемской звезды. Еще позже — выбранное дерево стали переносить в дом. Первая рождественская елка появилась предположительно в Эльзасе, на границе Франции и Германии, в шестнадцатом столетии. Есть достоверные сведения, что Мартин Лютер — основатель и глава протестантизма в Германии — всячески приветствовал использование ели в рождественские праздники, предполагая, что такие торжества могут послужить к обращению заблудших душ.
В Россию обычай украшать хвойными ветвями и елью дом в преддверии Нового Года пытался ввести Петр Первый, но этот обычай долго не приживался. Ни у Пушкина, ни у Гоголя не найдем упоминаний о новогодней ели. Но во второй половине девятнадцатого столетия этот обычай почти вдруг и очень широко распространяется. И не просто распространяется, а укореняется так глубоко, что советской власти ничего другого не оставалось делать, после нескольких лет борьбы с «пережитком», как заменить рождественскую ель — новогодней елкой.
Что всколыхнуло чувства человека? Что пробудила зимняя лесная красавица? Вот как размышляет на эту тему священник Алексий Тимаков на страницах журнала «Альфа и Омега» — в опусе «Апология рождественской ели» (№ 1 за 2006 г.).
«Для уяснения этой проблемы необходимо погрузиться в систему мышления мифологического, которое, хотим мы того или не хотим, но присутствует в глубинах нашего сознания и пронизывает все народное творчество. Поэтому, если миф есть попытка прочтения человеком Божьего замысля об истории и судьбе человека, то и запись этого Божественного текста издревле искали в сферах горнего бытия, то есть на небе. Ведь для человека, мыслящего мифологическими категориями, ничего случайного в мире и жизни быть не может, и расположение звезд на небе должно рассказывать о многом. Вспомним, хотя бы, к примеру, халдейских мудрецов, которые, узрев необычайное свечение на небе, пошли на его зов и нашли Вифлеемские Ясли (см. Мф. 2:1-12).
Очень полезным для меня оказалось посещение с моими детьми Московского Планетария в конце 80‑х годов, где читалась лекция с явным неоязыческим подтекстом „Небо в русских сказках“. Там, на примере „Гусей-Лебедей“, разбиралась символика всей сказочной атрибутики и показывалось, как человек поверял свою жизнь небесными знаками, внимательно вглядываясь в расположения звезд. Довольно аргументировано доказывалось, что наш древний предок усмотрел коварных гусей в очертаниях созвездия Лебедь, а защитниками бедолаг Машеньки и Ивашки от происков Бабы-Яги и этих страшно шипящих пернатых явились Млечный Путь — „Молочная речка, кисельные берега“ и звездное небо — „Яблонька“, где звезды являются собственно яблоками. Действительно, астрофизики утверждают, что по форме наша спиралевидная галактика представляет из себя вид обоюдовыпуклой тарелки, где расстояние между противоположными краями этой тарелки значительно превышает расстояние между ее куполами. Таким образом, если находиться где-то ближе к центру этой галактики, то при взгляде в сторону купола будут видны отдельные звезды, вполне ассоциирующиеся с яблоками на ярком ночном небе, а если смотреть в сторону края, то великое количество звезд на огромном расстоянии, проекционно сливаясь друг с другом, образуют видимость туманного пути. Если учесть, что вся наша галактика носит название этого самого пути, который виден с нашей планеты туманной дорогой, являющейся периферией этой звездной системы, а видимое звездное небо — ее куполами, то понятно, что речь идет обо всей вселенной, читай — природе, которая отвечает человеку добром на его внимание и доброделание. Ведь Машенька очень внимательно отнеслась к просьбам этих своих будущих покровителей, несмотря на явную нехватку времени и опасность. И те на обратном пути благосклонно прятали ее и брата от происков коварных птиц.
Таким образом, все видимое нами звездное небо отождествляется в этой русской сказке с яблоней, деревом. Но известно, что древнееврейское словосочетание „добро-и-зло“ являлось идиоматическим и означало „все-на-свете“. То есть древо познания добра и зла, которое росло в райском саду и с которого запрещено было человеку вкушать плод, чтобы не быть причастным злу, является образом всей вселенной. Посреди Эдема росло два дерева, и второе называлось древом жизни, что вполне соотносится с двумя куполами галактики и показывает, что не сама природа является источником зла, а исключительно потребительское отношение к ней „царя природы“. Интересно, что само Священное Писание никак не называет это древо, но уже в наше сознание, воспитанное на основах христианской культуры, прочно вошло соотнесение этого дерева с яблоней. И здесь мы наблюдаем, как две не связанные друг с другом мифологические системы находят общую точку соприкосновения, ибо по нашему разумению исходят из одного корня.
И теперь мне бы хотелось обратить внимание еще на одну иллюстрацию, связанную со спасительной функцией этого дерева. В балете Чайковского „Щелкунчик“, поставленного по либретто Мариуса Петипа, есть существенное добавление, отсутствующее в самой сказке Гофмана. Основой декорации второй и третьей картин балета является елка. Это очень хорошо подмечено также и в мультипликационном фильме, поставленном на музыку великого русского композитора. После победы над крысиным королем, являющимся образом зла, преисподней, Щелкунчик и Маша садятся в лодку в виде полумесяца (а луна и корабль издревле являются христианскими символами Церкви) и плывут (считайте — по Молочной речке, кисельные берега) к вершине — заветной звезде, где исполняются все детские желания. Только путем небесного восхождения на церковном корабле можно достичь этой звезды. И все радостные танцы этого произведения ассоциируются с детским представлением о сладости рая».
А вот прямое свидетельство из тридцатых годов дочери новомученика, священника Михаила Шика, опубликованное в № 1 за 1997 г (номер по счету 12) «АиО»: «Вообще детство не только не было „ущербным“ из-за неодинаковости со сверстниками, — оно было радостным, полнокровным. Вспоминается, как папа в редкие свободные вечера читал нам, собравшимся в „большой“ комнате за круглым столом под керосиновой лампой „Молния“ или Слово Божие, или что-то из художественной литературы (так была прочитана вся трилогия А. К. Толстого „Иван Грозный“, „Царь Федор Иоаннович“, „Борис Годунов“), а мы рукодельничали, или клеили украшения для елки (тогда елки преследовались как „дореволюционный пережиток“ и игрушки не продавались), или готовили костюмы для очередного домашнего спектакля (я целую зиму вышивала бисером кокошник для царевны Ксении Годуновой, когда мы в 1936 г. в преддверии Пушкинского юбилея ставили „сцену с детьми“ из „Бориса Годунова“. Я вытерпела много насмешек за возню с кокошником, но получила вознаграждение, когда брат Дима, игравший царевича Димитрия, после спектакля сказал: „Я посмотрел — а ты как настоящая царевна“).
В этих делах, как и в домашних богослужениях, участвовала и еще одна семья — священника отца Николая Бруни, в то время уже находившегося в концлагере. Там было шестеро детей, и каждому из нас, пятерых, были сверстники».
Ель не зацветает по весне, как вишня или яблоня — дерево, особенное и для кельтов, и для славян. Ель не приносит плодов, как та же яблоня. У нее ничего нет, кроме вечнозеленой хвои и несъедобных шишек. Но, украшенная Славой Господней посредством рук человека, ель превозмогает свое природное естество: она зацветает и плодоносит. Она становится напоминанием — живым напоминанием! — о райском древе. И о расцветшем с Воскресением Христовым Древе Крестном. Певга — одно из названий ели. Певга входила в состав Лотова дерева, состоявшего из трех деревьев, из которого, по велению Первосвященника, был сделан крест для Господа.
Украшая ель к празднику, христианин не участвует в языческой мистерии. Он совершает нечто подобное молитве, свидетельствуя веру в Боговоплощение и Воскресение из мертвых Богочеловека.
II. Во все концы света
Как живут православные в Америке или в Африке? Есть ли храмы на Северном и Южном полюсах? Много ли мы знаем о тех, кто исповедует Христа, но живет на другом континенте? С какими трудностями сталкиваются они, как молятся Богу? Ряд вопросов так велик, что стремится к бесконечности. Некоторые моменты жизни попыталась передать в рассказах этой книги. Старалась писать только о тех, кого знаю и о тех событиях, которые действительно достойны, чтобы их описать. Мне кажется невозможным описывать только то, в чем участвовала — на охоту за сведениями ушла бы жизнь. Но прочитанное и пережитое в такой же мере, как и живые люди, обладает моим временем и моими силами.
В Иерусалиме
На Иерусалимском рынке, утром, в жару, мои знакомые решили купить поесть.
— Сегодня я сумасшедший, бери все за один шекель, — меланхолично говорит смуглый торговец, указывая на несметные плоды местной земли — аскетичной и вместе с тем благодатной. О, за этот шекель можно купить пищи на неделю. Об Иерусалиме знаю только по рассказам близких людей, видеосъемкам и фотографиям. И ничуть не жалею, что пока — так. Мне думалось, что страстное стремление побывать в Иерусалиме всегда двоится, и двоиться будет всегда. В этом стремлении есть что-то неживое, гордое, надменное, канцелярское: надо побывать, это важно — побывать в Иерусалиме, обязательно. Есть и другое — нежное, очень сильное, как тяга в печи. Оглянулась, и среди любимой улицы — Он, Город Городов, священник городов.
Иерусалим — не совсем город. Он — стихия, как огонь или воздух. Иерусалим — везде. Надо уметь его увидеть. Но научиться этому умению нельзя. Этот город сам, рано или поздно, находит тебя. Время от времени, когда наблюдаю полет птиц в весеннем небе, приходит не проштампованная почтой весть — ваше прошение побывать в городе городов удовлетворено, ждите сообщения о времени посещения. Жду. А пока не торопясь собираю чужие рассказы и снимки.
А у стены плача трое хасидов пускают мыльные пузыри. Невдалеке — небольшая группа, по виду местные, но в них есть нечто родное. Оказалось — православные. Одинокие православные, живущие на Святой Земле. Сияющие глаза, приветливая речь. Некоторые и родились здесь. Кто в Иерусалиме, кто в Тель-Авиве. Но все по субботам (воскресенье в Иерусалиме — рабочий день) собираются для молитвы за Божественной литургией. А там… не была, не знаю. Но говорят, как одно солнце, без разделения на лучи. Свет Христов на Христовой Земле Ольга очень любит Иерусалим и порой говорит строго: это слишком важная и личная тема — что и как пережила в Иерусалиме, так что пока не готова рассказывать подробно. Но у нее есть одно трогательное рождественское воспоминание. Вот оно.
«Несколько лет назад в конце декабря дни я сподобилась быть в Иерусалиме. В чудесном доме моих друзей, с балконом, выходящим на Вифлеем. В нескольких метрах — стена, отделяющая арабский мир, а за ней — дорога на Вифлеем, по которой и пешком можно дойти. Или нанять нелегала-таксиста, араба, что умеет давать деньги на блокпостах. Но я не хотела подводить людей, пригласивших меня и взявших ответственность за нашу безопасность. Дала обещание „не нарушать границу“, и после мучительных искушений отказалась присоединиться к тем, кто решился на это авантюрное паломничество. Вечером 24-го мы сидели за праздничным столом, непрерывно переключая каналы — искали хоть что-то подходящее настроению и празднику. Израиль был занят своими делами — политика, спорт, боевики; русские каналы тоже демонстрировали свою непричастность католическому календарю. Наконец, какой-то крохотный египетский канал показал документальный фильм — почти любительскую съемку тех мест, о которых мы воздыхали, и что были так близки и недоступны. Досмотрев, вышли на балкон. В холодной ночи тускло светился купол огромной мечети Омара, проглядывали еще несколько силуэтов самых высоких монастырских строений, в высоком черном небе над Вифлеемом — несколько ослепительных точек. Которая из них? Из-за темноты и слез почти ничего не различить. Кажется, я молилась, обратив лицо к телебашне. Но ведь это совсем не важно, правда?»
Побывать на пасху в Иерусалиме — что-то из области сверхценных идей. Это предел — если не мечтаний, то жизненной программы. Это венец судьбы. Почувствовать радостный огонь, который греки называют Святым Светом, может быть, даже искупаться в нем, как уже искупались многие свидетели этого Чуда. Поговорить со святыней. Но разве святыни говорят? Разве они могут слышать. Да, могут, и говорить и слышать. Снова вспоминается хасидское: об ушах Бога и стреле молитвы. Святыни и есть такие уши Бога. По-еврейски звучит, но что делать, тут государство Израиль. Довольно ортодоксальное государство. Да, когда думаю об Иерусалиме, ловлю себя на том, что строй речи отражает структуры какого-то библейского языка, отражением которого являются идиш и иврит.
Но есть и другой Иерусалим. Собранный по частям, за небольшое время. Государство до государства. Горненский монастырь, Камень Миропомазания. Русский Иерусалим. Собранный и растраченный. Но живой, как выводок птенцов, что многие, кто побывал там, подтвердят. Иногда все это чудо так и хочется взять в руки.
Однако вернусь к пасхе. Вот православная монахиня — под верхней одеждой темные арабские шаровары — карабкается на плоскую крышу мусульманского строения и помогает забраться паломницам, которые следуют за нею, как утята за мамкой. Апостольник развевается как знамя, а за ним — пестрые платки. Суббота, небо ясно, только чуть вдалеке — облако. Ждут схождения Благодатного Огня. Монахиня самозабвенно улыбается, видно издалека. От нее исходит великая радость, что даже на таком расстоянии, с которого монахиня кажется не больше воробья, эта радость — без усталости и уныния — пронизывает насквозь.
Андрей продолжает рассказ о Великой Субботе и Воскресении: «Часам к десяти вечера вошли по ошибке в коптский придел церкви, т. е. попытались войти. Копты как дети — маленькие, коричневые, вертлявые, веселые. Но их были тысячи, если не десятки тысяч. Говорили, что недавно через египетскую границу перешло тысяч сорок коптских беженцев, правительство приняло всех, пыталось всучить каждому по паре тысяч долларов в случае, если решат покинуть Израиль. Но никто не спешил заработать.
Казалось, что все сорок тысяч пришли на Праздник. Улочки узкие, арки и проходы крохотные, площадь перед вратами маленькая, коптов неисчислимо. И все пританцовывают и напевают. Мы уже не чаяли остаться в живых, развернуться в обратный путь невозможно. На наше счастье навстречу двинулась процессия священников и служек в зеленом — с барабанами и хоругвями. Пристроившись в хвост, удалось выбраться.
Перевели дух и пошли искать греческий, основной придел. Он ниже. И нашли. Людей, возможно, было и не меньше, чем наверху, но пространства там большие. Вошли, пробрались поближе к Кувуклии, ряду в десятом встали, все видно более-менее. И места для каждого было достаточно, чтобы плечами не прикасаться друг к другу и дышать свободно. То греческие, то армянские священники ходили по различным приделам, пели молитвы, служили. Впереди каждой группы из двух попов — турок или араб в темно-красной феске и с посохом. По старинной традиции. Но раза два-три доносились крики, иностранная ругань — это греки с армянами лаялись. Может быть, тоже для традиции, чтобы соблюсти, а не по зову сердца скандалить. Я не знаю точно.
Рядом стояли и молились всякие — и украинцы, и русские, и румыны, и греки. И еще, чьих языков не удалось распознать. Совсем рядом стояла группа паломниц из русской провинции, с одним мужчиной. Тот — то ли староста, то ли поп в цивильном — все время, часа полтора, говорил. Объяснял ритуалы, рассказывал своими словами, с цитатами, Священное Писание, строил планы — как они все после окончания Пасхальной службы пойдут причаститься в какой-то придел, тут же в храме. Вошла процессия во главе то ли с иерусалимским, то ли с греческим патриархом (или с обоими?), много церковных высокопоставленных особ, несколько раз обошли с хоругвями и высокими свечами Кувуклию, с пением и каждением.
И наконец послышалось: „Христос анести!“ Мы все воскликнули: „Алифос анести!“ (Я один раз встречал Пасху в Греции. Все как у нас, но после осенения себя крестом потом ладонь к сердцу прикладывают. Мне это понравилось, я тоже так стараюсь.) Потом в церкви стали то же восклицать на самых разных языках. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! И по-всякому, по-молдавски и по другому. Стало очень хорошо, все улыбаются радостно друг другу, можно дальше жить стало.
Через полчаса выбрались на улицу и пошли домой в темноте».
Меня очень интересует вопрос, что вернее: счастье — в истине или истина — в счастье. Человек не может без счастья. Это необходимо для его жизни, ведь счастье дает чувство безгрешности, райское чувство. Счастье и безгрешность — почти синонимы. Бог именно и дал человеку чувство счастья, чтобы тот имел свидетельство своего избранничества, свидетельство божественного достоинства. Но все чаще мысль возвращается к тому, что счастье — не то, что может стать истиной. Когда хорошо тебе — хорошо только тебе, и не факт, что хорошо твоим близким и тем, кто рядом с тобой. Можно приложить усилия и попытаться сделать их счастливыми своим счастьем… Но что же это будет? Насильно сделать счастливыми? А если не хотят, боятся, не готовы… Усилия следуют за усилиями. Если бы истина была в счастье, истина умирала бы, как только достигнута. Это как взять в руку бабочку или облако. Счастье может окружить, одеть, украсить и наполнить, но слишком слабо, чтобы существовать само по себе. Прилив, отлив, и потом — опустошение, тягучее ожидание нового прилива счастья. Но если поверить, что истина все же есть, что истина нужна и что она способна удержать это тающее счастье, то истина может стать сосудом для счастья — поверить и ощутить. Тогда счастье будет — как пламя, которое не сжигает и от которого воспламеняются все, кто рядом. Так счастливая улыбка одного может породить тысячи улыбок. Но тут начинается самое трудное. В Иерусалиме, как нигде, понимаешь, что истина одна, и это — Христос. Немного боюсь поездки в Иерусалим. Это как переплыть Стикс у древних. Это уже — за чертой. Мне кажется, поездка в Иерусалим не может стать привычной.
…Пожилые русские эмигранты пьют чай на своих балконах и ждут с работы детей. Перед их усталыми глазами — прошлая жизнь, а в нее иногда так хочется возвратиться. Москва или Ленинград, весенний снег, ночная темень, площадка перед храмом, небольшой страх, что заберут в милицию. Ведь сегодня православные отмечают пасху! Как же не пойти в храм — на пасху. А где-то в груди вьется огоньком рассказ однокашника-монаха о том, как тот был на пасху в Иерусалиме. Святая земля, родина родин…
— Иерусалим, Иерусалим.
Как там, в Америке?
Американцы для русских не то чтобы антиподы — а соседи с той стороны. Их страна такая же огромная, в ней есть вечные льды и жгучие пустыни. Так же как Русь, Американские Штаты в основе своей — христианская страна. И что бы там ни было, остаются христианской страной. Хотя это христианство — не православие и порой, особенно в глубине Штатов, приобретает странные причудливые формы. «Доктор богословия», читающий лекции на тему «материальное благополучие — такой же дар Божий» или «сексуальность — один из даров Божиих». Декаданс протестантизма? Неоязычество? Настораживает, пугает и смешит. Непонятно, что больше. Энергичные, предприимчивые люди, разъезжающие по всему свету, проповедующие Бога, зарабатывающие деньги, иногда очень большие деньги… и совершенно уверенные, что Христос их одобрил бы. Но кроме них есть и настоящие подвижники, обращение которых ко Христу совершилось — как в Евангельские времена.
Почти все американцы, особенно в провинции, ходят по воскресеньям в церковь. Церковь — это то место, куда можно прийти, когда личный врач и известный психотерапевт опустили руки. Есть действительно верующие люди, выросшие в верующих семьях. Есть и такие, для которых церковь — место малопонятного культа, и понятие о ней — почти языческое. Туда идут за силой, здоровьем и благополучием. В Советском Союзе очень немного было сведений о том, как и чем жили христиане в Штатах, а это ведь чрезвычайно интересно. Тем более интересно, что многие обратились в православие. Почему это произошло? Яркие, эмоциональные лекции «докторов богословия», во время которых происходили и «изгнания бесов» и «чудеса», похожие на ярмарочные представления, должны бы производить такое сильное впечатление, после которого сень православного храма покажется ущербной и скучной. Но происходило ровно наоборот. Люди выбирали православие, побыв сначала в евангелическом кружке, затем побывав у католиков — словом, оглядев все возможные в современности христианские церкви.
Для примера возьму опубликованные в «Альфе и Омеге» воспоминания священника Антония Хьюза, американца. Они относятся к семидесятым годам двадцатого века. И чтобы оттенить, приведу воспоминания одной моей знакомой, живущей в Штатах, православной.
Штат Охлакома, городок Тулса. Семидесятые годы двадцатого века. Молодые люди, недавно поступившие в Университет Орала Робертса. Тогда это было новое и очень необычное учебное заведение: там учили вере в Бога. Орал Робертс — один из пионеров харизматического движения. В 17 лет получил полное исцеление от тяжелой формы туберкулеза, что посчитал прямым действием Христа и сразу же обратился. Уверял, что ему было напрямую открыто, что надо делать. Путь создания университета был непростым. Но благодаря воле и энергичности создателей — прежде всего, конечно, самому доктору Оралу Робертсу, университет состоялся. Робертс сумел найти струны, вызвавшие к жизни, как весеннюю траву, христианский дух американца. Ведь именно это — «In God We Trust» — «Мы верны Богу» — позже написанное на долларе, стало девизом первых поселенцев Северного Континента.
Многие в стенах университета обрели веру в Бога, многие, у кого вера едва тлела — утвердились, многие выбрали другие конфессии… А некоторые перешли в Православие. Это было самым удивительным.
Из воспоминаний священника Антония Хьюза: «Конечно, обращения в нашем университете не были чем-то необычным. Здесь люди все время „рождались свыше“. Но — обращение в святое Православие? Не правда ли, это не совсем то, что вы ожидали бы встретить в крупном харизматическом центре? Тем не менее в конце 70‑х — начале 80‑х небольшое, но все же значимое число студентов открыло для себя святую, соборную и апостольскую Церковь. Они оставили все, чтобы вступить в нее. Одним из них был я. Замкнутые в нашем укромном мирке в городке Тулса (Оклахома), мы, перешедшие в православие, не представляли себе, какой это произведет шум. Когда в конце концов я поступил на годичные курсы в Свято-Владимировскую Семинарию, профессор из Франции встретил меня словами: „О, вы один из этих! Мы в Париже слышали о вас“. Это было по меньшей мере через семь лет после того, как я окончил университет. Излишне упоминать, что наше обращение обернулось неожиданностью для администрации университета и факультета и для студентов. Этого они от нас не ожидали».
Шок? Да, это было шоком. Как будто была пробита шахта по центральному меридиану и харизматы с изумлением обнаружили, что на обратной стороне земли тоже совершается христианское богослужение. Но совершенно другое. Никто ничего вокруг о православии не знал. Для харизматов церковь была — место общего сбора, где в процессе слушания лекции рождалось нечто. Но что? Считалось, что каждое такое собрание посещает Сам Христос.
Вводный курс системного богословия был составлен сжато, однако исчерпывающе. Когда дошло до православия, студенты изумились. Это был совершенно незнакомый мир, принципиально иные, чем в харизматической церкви, отношения со Христом. Православие американцам казалось духовной экзотикой.
Из воспоминаний священника Антония Хьюза: «Начать с того, что и перекрестился он странным образом. Потом последовало несколько обращений к Пресвятой Троице. Повторяющиеся несколько раз „Господи, помилуй“ и „Слава Отцу и Сыну…“ привели нас на более знакомую почву молитвы Господней, но и в ней окончание было странным. Еще необычней был конец молитв с упоминанием кого-то, названного „Богородицей“. Кто это? И вообще, кто этот профессор, как он сюда попал и что нам с ним делать? Когда мы сели, надеясь хоть на какие-нибудь объяснения и молясь об этом, наш неустрашимый профессор пустился в чтение одной из книг, предусмотренных программой. А выбрал он не что иное, как житие блудницы Пелагии из „Житий отцов-пустынников“ Элен Ваддел. Нашу пеструю компанию, состоящую из пятидесятников, консервативных протестантов-фундаменталистов, евангелистов, харизматиков и прибившихся католиков такая широта православной духовности повергла в шок. Некоторые разозлились, в то время как другие, включая меня, были заинтригованы, чтобы не сказать „совершенно сбиты с толку“».
Православие в Америке — экзотика и сейчас. Русские эмигранты, чтобы пустить корни на новой земле, начинают осваивать английский язык, в его американском варианте, перенимают культурный код страны: манеру общения, привычки и прочее. Часто дети эмигрантов знают английский лучше, чем русский — который им уже как бы и не родной. О внуках и говорить не приходится. Единственное, что остается русским — Православие.
Женщина, назову ее Мария, приехала в Америку вслед за мужем, специалистом по компьютерным программам. Материально жизнь оказалась вполне приличной. Разговорный английский Мария, по образованию — лингвист, освоила быстро. Но вот к местным богослужениям поначалу привыкнуть не могла — по причине двуязычия. Казалось, это совсем другое богослужение! Пение, настроение — все другое. Только Крайст — Христос — оставался тем же. Приехав, Мария стремилась побывать в Сан-Франциско. Еще в Москве прочитала труды архиепископа Иоанна (Шаховского), и почувствовала, что многое в христианстве ей стало яснее и ближе. Храм, недалеко от места где жила Мария, был совсем новый. Поначалу не было даже алтарника, и муж Марии, когда позволяло время и по великим праздникам, помогал священнику в службе, а после службы убирал храм. Мария причащалась, молилась, немного сторонясь и принявших крещение американцев, и русских эмигрантов. Удивительно, но с принявшими крещение американцами у нее оказалось больше общего — так она чувствовала и так рассказывала мне. Мария приходила в храм, как окунаются в прорубь, как будто ей хотелось заткнуть глаза и уши, чтобы не видеть ничего непривычного и непонятного. Приходила к Богу, ко Христу. Но службы вскоре стали родными, хотя часть шла на английском. По-русски пели утешительное «Богородице-Дево» и слезное «Господи, помилуй». Душа, с трудом переносящая перемену обстановки, благодаря храму смогла угнездиться, на время, на чужой земле. Дом и друзья Марии по-прежнему в Москве. Хоть раз в году, но обязательно — приехать в Москву, позвонить, поговорить… Посетить любимый храм. Может быть, даже выбраться в Оптину Пустынь.
Американец из штата Охлакома, будущий священник, сквозь время как бы движется навстречу русской женщине. Их встреча — православие. Они, может быть, никогда не увидят друг друга, но рассказывают — об одном и том же. О необычности православия и о действии веры. Они на самом деле молятся в одном храме — православном.
…Храм, в который можно прийти и открыть Богу все самое сокровенное. Не обращая внимания на приходские дрязги и двуязычие, в буквальном смысле. Русский священник, живущий в Нью-Йорке, организовал приют для бомжей. Прихожане, как и полагается, вместе трапезничают после литургии: нау, гоу ту трапеза… И, в целом, какая разница, где ты: в Старом или Новом Свете. Вот храм, там — Распятие, и — Христос.
Не сразу будущий священник, отец Антоний, понял, что именно и как в православном богослужении. Был довольно долгий период испытания. Конечно, это не американец испытывал православие — а Христос вел своего священника, как бы показывая ему разные помещения Своего Дома.
Из воспоминаний священника Антония Хьюза: «Сидя мальчиком в церкви Южных баптистов города Эрвина, штат Теннесси, я и не представлял, что до нашей церкви было что-нибудь еще. Я не мог даже назвать проповедника, бывшего до пастора Фолкнера, тем более кого-то из святых или отцов Церкви (за исключением Билли Грэма и Лотти Мун). Поворотом стало то, что Церковь, оказывается, исторически восходит к Христу и Апостолам. Некоторые в моей церкви буквально верили, что святой Иоанн Креститель (John the Baptist — англ.) был основателем Конгрегации южных баптистов, а сразу вслед за ним пришел Роджер Вильямс. От древней Палестины до колонии Род-Айленд — ничего себе прыжок! Другим поворотным пунктом стало открытие литургии в древней Церкви. Литургическая традиция притягивала меня еще со школы, но тогда я руководствовался только любовью к эстетике христианства и растущим уважением к ритуалу. Теперь для моего интереса появились иные основания, иной смысл помог ввести мой интерес в новое русло. Оказывается, Новый Завет не был написан внецерковными евангелистами! На самом деле Церковь существовала до Нового Завета, и именно из Церкви исходили Евангелия и Послания. После нашего обращения мы поместили в университетской газете объявление, адресованное нашему местному приходу, которое гласило: „Ищешь Церковь, основанную на Писании? А может быть, тебе нужна Церковь, Которая дала тебе Писание?“ Такой более реалистический (и на деле целостный) взгляд на Библию вкупе с замечательной православной традицией толкования (экзегезой) настолько оживили для нас Библию, что мы и не думали, что такое возможно. Все это, помимо многого другого, способствовало укреплению моего собственного решения обратиться. Я не сомневаюсь, что это повлияло и на других. Во время Великого поста 1979 г. мы узнали о семинаре, который будет проходить в г. Вичита, штат Канзас. Вести его должен был не кто иной, как о. Александр Шмеман. Собрав группу, мы отправились туда. Я и доныне не могу вспомнить ни предмета беседы, ни чего-либо из слов отца Александра. Помню только, что и слова его и служба меня поразили. Но поразило меня и еще нечто. Присутствующие производили впечатление людей, приверженных Церкви и глубоко сведущих в вере, но при этом оставались просто церковным народом, мирянами. Честно говоря, некоторые из нашей группы сомневались в том, что православные христиане, при всей их преданности литургии и традиции, способны хранить верность собственно Христу. Но мы узнали, что православное благочестие трезвенно, рассудительно и не доверяет эмоциям, составляющим важнейшую часть той религиозной практики, от которой мы постепенно отходили. И это совсем не означало, что православная духовность менее личностна. Именно в Вичите я решился на то, что сердце говорило мне с первого моего дня в классе систематического богословия. Я знал, что для того, чтобы остаться честным перед самим собой, я должен буду принять православие. Конечно, было еще всякое. Проведя год в университете, я вступил в Епископальную (Англиканскую) церковь, полагая, что она может стать неплохим местом для того, чтобы выждать время. Однако, чтобы не оставаться лежачим камнем, я посещал три церкви. Сначала шел на англиканскую службу в 9.00 к Святому Андрею, потом мчался к 11.00 на православную Божественную литургию в Церковь преподобного Антония, а воскресными вечерами получал личные духовные наставления у доброго бенедиктинского священника в местном римско католическом приходе. И так — в течение 5 месяцев. Когда мое сознание стало меняться, туман евангелизационного и харизматического движения остался позади. Я знал, что в университете есть и другие люди, которые движутся в том же направлении».
Они примерно ровесники — американец, отец Антоний, принявший православие, и москвичка Мария, волею судеб оказавшаяся в Америке. Пока что они — по разные стороны стекла, бронированного, пуленепробиваемого. Их разделяет отношение к английскому языку: для одного он родной, для другой — необходимость. У них совершенно разный образ мыслей и жизни. Но у них есть то, что сильнее и прочнее пуленепробиваемого стекла. И есть Божественная Литургия. Это слово понятно обоим. В вере и любви к человеку открывается относительность языка и менталитета. Мария последовала за мужем, оставив все самое дорогое, как жены-мироносицы следовали за Христом. Отец Антоний отказался знакомой с детства традиции, вступил на совершенно новую землю — и это оттого, что ему открылась Любовь Христова. Человек не имеет рода и племени. Об этом страшно и подумать, это — «вне нашего разумения». Новый человек. Не выведенный искусственно, путем изменения социальный структур и законов. А рожденный свыше — через опыт веры… и страданий. Но и через опыт любви. Христовой Любви.
Что там, в Африке?
Как выглядит православный храм в Тропической Африке, скажем, в Кении или Танзании? Где-нибудь на берегу огромного озера Виктория, этого африканского внутреннего моря, полного опасной живности, и не только крокодилов. Возможно, это совсем простое небольшое здание с каменными стенами, а может быть — белое-белое сооружение-мазанка, в стенах которого — тростник и дерево. Служит ли в таком храме священник, как часто служит, и на каком языке идет служба? Много ли африканцев — православных и как часто они причащаются. И — главное — очень ли отличается уклад их жизни от нашего. Что едят в пост, чем угощают гостей? Все это не просто вопросы любопытного человека — это интерес к истории Церкви.
Миссия — православная миссия — не просто здание, где находятся несколько человек, из которых некоторые облечены духовным саном. Миссия — прежде всего отношения, приводящие ко Христу, к свидетельству о Нем. Как бы ни были скудны материальные ресурсы миссии, основное ее сокровище — духовное. Это Евангелие, а Евангелие неисчерпаемо. В Африке все именно так и есть. Чрезвычайно много народов — языков, по-церковнославянски. Да и по-русски тоже можно сказать: множество языков; в каждой африканской стране бытует минимум два-три языка, а часто и более. Везде — на Западе, на Востоке, на Юге — чрезвычайная скудость быта. Например, если москвичу, незнакомому с африканской культурой, предложить африканской крупяной лепешки — кенийской угали — вряд ли он станет восторгаться вкусом угощения. Вот что говорит справочник об африканском блюде угали: «Угали — основное блюдо рациона африканской этнической группы Календжин. Представляет собой туго сваренную кашу или пюре на основе кукурузной муки. Угали является богатейшим источником энергии. Угали едят руками: формируют небольшой шарик и делают в нем углубление, чтобы получилось что-то вроде съедобной ложки. Затем можно наполнить углубление рагу, мясом или соусом». Выглядит непривычно. Слишком экзотично.
Тем не менее, когда читаешь о православии в Тропической Африке, невольно возникают перед мысленным взором картины апостольской древности. Случается, что в деревне, где есть здание, в котором можно молиться, для совершения Божественной Литургии священника ждут несколько месяцев, а то и год. Провести целый год в молитве и ожидании? Представляю, как чувствовала бы себя в этой ситуации, и какие бы мной овладели мысли. Забыли! Покинули! В городе — через две-три остановки метро — храм, где Литургия совершается каждый день. Сегодня не пошла — пойду завтра, всегда успею. Куда она денется, эта Литургия… Опоздала, покаялась… И через некоторое время — снова опоздала. Нет, такую расслабленность в момент не преодолеть. Так что африканская деревня по силе и чистоте веры, возможно, впереди иной столицы.
Но идеализировать не стоит. Побывать в Африке, тем более — в Тропической Африке, мне не довелось. Но есть в журнале «Альфа и Омега» текст православного священника, отца Стефана Хейза, переведенный с английского оригинала, напечатанного в середине девяностых (весна 1996 года) в журнале «Евангелион», а этот журнал является вестником православного Общества во имя святителя Николая Японского. Вот что говорит сам отец Стефан о православии в Тропической Африке: «Из бесед со студентами и с другими людьми я узнал многое о Православной миссии не только в Кении, но также и в других частях Африки. Эта информация была интересна сама по себе, так как в Тропической Африке переплетаются, наверное, все пути православной миссии, когда-либо и где-либо существовавшие в истории Церкви».
Для рассказа возьму из этого текста основные факты современной церковной истории Африки. Африку, как Ирландию и Россию, крестили греки. До сих пор в разных частях огромного черного континента много священников-греков, а в немногочисленных африканских семинариях есть преподаватели-греки. Значительное число церковных иерархов — тоже греки. Однако состав церкви исключительно многонациональный, так что никакая другая церковь не может сравниться с Африканской по числу народностей. Африканская церковь относится к Александрийскому Патриархату. Это как бы смуглая внучка древней Эфиопской Церкви.
Быт африканцев очень разнообразен. Житель Западной Африки будет изумлен одеждой и пищей жителя Восточной Африки, но южанин, чернокожий житель ЮАР, скорее поймет восточного соседа. В северной и западной Африке сильно арабское влияние. Это земли древних вандалов, в пятом веке по Рождестве Христовом принявших арианство, но сохранявших черты «восточной роскоши», мысль о которой возникает у моего соотечественника при слове «арабы». На самом деле быт западных африканцев, как и быт арабов, довольно аскетичен и под силу только очень выносливому человеку. Это атлантические страны, колыбели цивилизаций Египта и Финикии, в которых еще можно найти черты уже исчезнувшего мира. Восточная и Южная Африка — пространства земледельческие. Но земледелие в Африке очень отличается от того, которое известно европейцу или азиату. Тут и возникает рифма: крестьянин — христианин. Крестьянин в Африке? На континенте, известном бывшей советской школьнице по сказкам про Айболита? Не ходите, дети, в Африку гулять. А говорят, с побережья христианнейшей Испании видно западное побережье Черного Континента.
В детстве у меня было много книжек со сказками разных африканских народностей. Сказки экваториальной Африки — «Как храбрый Мокеле добыл для людей солнце». Сказки Танзании, сказки Кикуйю. Потертые тканевые обложки глинистых цветов с черными фигурами. Это был заманчивый странный и по-своему очень чистый и честный мир. Дела до угнетенных африканцев из советской прессы тогдашней девочке не было. А вот в жителях Африки, которых доводилось видеть в Москве ежедневно, возникавших как чернокожие вестники иного бытия, была некая тайна, вызывавшая в сердце образы из книг. Даже названия блюд: тапиока — звучали таинственно. Ну могла ли я поверить, что это крупа, из которой варится каша! И знала ли, что слово «хлеб» обозначало в древности не кирпичик «Бородинского» и не нарезной батон, а именно жидкую пшеничную кашу. Потому что пищу «хлебали».
Вот сюжет известной сказки народа кикуйю. Эта сказка так и называется: «Зло приносит несчастье». Алчная мать не хотела, чтобы ее сын женился. Но сын посмел жениться. Тогда мать решила отравить сноху и обратилась к колдуну. Колдун у африканцев — тот же врач, и не только телесных недугов. Он дал женщине яд. Случилось, что едва мать ушла, к колдуну пришла ее сноха вместе со своим отцом и с просьбой помочь: ведь свекровь собиралась отравить молодую женщину. Колдун выдал тайну яда и научил угостить отравленной пищей отравительницу. Отравительница приняла пищу и умерла. Сын не знал причины внезапной смерти матери, он смог забыть все плохое, что видел от нее в жизни. Мудрая, глубокая сказка. Но сколько в ней грусти! Зло наказано, добро покрыло своим крылом оставленные злом шрамы. Но и зло, и добро идут от человека! Вот о чем эта, вполне христианская по сути, сказка.
К концу первой трети двадцатого века христианских миссий в Африке было множество, но почти все — западные. Христианская миссия, волей или неволей, становилась в Африке и центром гуманитарной помощи, и центром медицинской помощи, и образовательным центром. Людей, работавших в миссии, было немного; часто вновь прибывшие стремились скорее уехать. Ритм жизни и нагрузки были очень тяжелыми. Те, кто оставался и работал, могут называться святыми — в широком понимании, как труженики и свидетели веры. Среди принявших православие африканцев было очень много женщин. В Африканских странах пожилые женщины обладают значительной властью. Наиболее активной была кенийская народность кикуйю. В 1929 году Церковь Шотландской Миссии, про просьбе большинства входивших в нее миссионерских организаций, составила документ, заверявший отрицательное отношение к женской активности в африканских церковных делах и к центральной ассоциации кикуйю.
Документ подписали далеко не все учителя миссий, и таким образом единая центральная ассоциация разделилась на две. Одна часть стала называться Независимой Школьной Ассоциацией, другая — Ассоциацией Образования Кикуйю Каринга. Каринга в переводе с языка кикуйю — «чистый», православный.
Правящий епископ православной русской церкви, епископ Даниил Александр в 1935 году, вняв прошению лидеров Школьной Ассоциации, создал в Кении православную семинарию. Поначалу там было всего 8 студентов. Семеро — из Школьной Ассоциации, один — из Кикуйю Каринга. Владыка Даниил перед отъездом выбрал четырех человек, двух из которых рукоположил во священники, двух — в диаконский чин. Так возникла Кенийская семинария в городе Найроби, так появились православные священники-кенийцы. Оставалось разделение между ассоциациями, а из него возникли две церкви. Школьная ассоциация утвердила Независимую пятидесятническую церковь, а ассоциация Кикуйю Каринга — африканскую православную церковь. Африканцы не знали, что церковь епископа Даниила Александра — неканоническая. Об образовании церквей было объявлено в газетах. В Кении судьба православной церкви очень тесно связана с борьбой за независимость, так что каждое церковное событие воспринимается как событие национальное. Православный Патриархат в Уганде узнал об образовании православной церкви из газет, немедленно связался с лидерами Кикуйю Каринга и призвал их к общению с Александрийским Патриархатом. Африканцами было составлено прошение на имя Патриарха Мелетия, но тот внезапно скончался, не успев сделать необходимые распоряжения. Было составлено новое прошение, на имя нового Патриарха — Христофора. В 1942 году, во время войны, митрополит Николай Аксумский побывал в Восточной Африке, а в 1946 году, уже после войны, Александрийский Патриархат принял в общение православные церкви в Уганде и Кении. Однако в 1952 году обе ассоциации, Школьная и Каринга, были запрещены. Произошло это после введения чрезвычайного положения в Кении — тогда была партизанская война. Школы и храмы сожжены, священники отправлены в лагеря, так как подозревались в помощи партизанам мау-мау. Мау-мау убивали не только белых, но и негров, работавших на белых. Они жгли дома и поля крестьян, разоряли общественные здания. Только в 1970 году кипрский епископ Макариос, некогда отправленный в ссылку своим правительством, смог оживить церковную жизнь Кении. Тысячи африканцев приняли святое крещение в реке Кагере. Православные храмы существовали ранее только на границе с Угандой. А теперь они стали строиться по всей Кении.
Кения — страна многонациональная. Тексты утрени, Божественной Литургии, панихиды и молебнов переведены на одиннадцать языков. В середине девяностых переводы были сверены, и это сильно помогло церковному общению. Семинария считается одним из главных образовательных центров Кении. Вспоминается притча о Сеятеле и семени.
Случаев обращения африканцев в православие множество. Вот только один из них, рассказанный священником Стефаном Хейзом. Одна семья из племени кикуйю обосновалась в районе Лугари, среди племени туркана. Один из членов этой семьи учился в семинарии, закончил в 1982 году и приехал к своей семье в Лугари вместе с группой студентов. Через год святое крещение приняло 165 человек. Одни исцелены чудесным образом от страшной болезни, другие были очищены от злых духов, кто-то сподобился истинного видения. Однако отец Стефан Хейз называет африканскую землю «бедной»: «В Африке маленькое зернышко падает в бедную землю. На самом деле почва плодородна, и где только брошено зерно, всходят ростки христианских общин. Но все же существует опасность, что плодородный слой окажется неглубоким». Семейный уклад африканской жизни располагает к принятию именно православия с его неторопливыми богослужениями и истовостью, но в то же время православию в Африке трудно укорениться: почти все организации новые, монастырей крайне мало, монахов в миссиях почти нет. А монашество «дает глубину» христианской жизни, уверяет отец Стефан.
Найроби, где находится семинария, считается православной столицей Кении. Тот, кто готовится стать священником, по субботам и воскресеньям посещает храмы окрестных общин. Вокруг Найроби их довольно много. Путешествовать приходится по разухабистым дорогам много часов, и то хорошо, если автомобиль не застрянет колесами в пыли или размокшей от тропических ливней глине. Окрестности исчерчены границами небольших земельных участков. Между ними приходится лавировать. На участках располагаются культовые здания и порой удивительно наблюдать эти пустые строения. Многие из зданий — православные.
Указом правительства Кении прежде безземельным крестьянам даны были земельные наделы. Многие крестьяне получили возможность кормиться от земли. Так возникли сельские общины. Одна из них — Кваньанджара. Православные христиане общины и их лидер, Сэмюэл Гхуру Куриа, стали совершать богослужения в здании детского сада. Священника пока не было. Кваньанджара — место от городов удаленное, добраться туда сложно. С последнего посещения священника и служения Божественной Литургии прошло около года. За это время выстроена была африканцами небольшая церковь-мазанка. Она была освящена по нужному чину, а потом там совершена была Божественная Литургия и несколько человек приняли Святое Крещение. Отец Стефан Хейз, который участвовал в освящении этой церкви, отметил, что африканцы хорошо знают песнопения утренней и с удовольствием их поют. Но песнопения Божественной Литургии знают намного хуже. После Литургии Сэмюэл Гхуру Куриа пригласил священников на трапезу: маисовая каша, бобы и сладкий чай. Это обычная пища в этих районах Африки.
Отец Стефан Хейз вспоминает о и том, как был на африканских похоронах. Умер отец одного священника. Похороны проходили на ферме покойного, находящейся в горах Рифт Вэлли. Был устроен брезентовый навес, под которым стояло тело покойного. Присутствовали родственники и много священников, знавших сына покойного и самого покойного. Уже приготовлена была могила, в стороне, на краю поля. После панихиды была устроена поминальная трапеза для всех присутствовавших.
Православие в Африке напоминает множество дождевых потоков, питающих иссушенную землю после засухи. Но Африка — континент огромный, от церкви до церкви приходится ехать сутки, а то и больше. По сути, православие на Черном Континенте еще очень молодое. И очень связано с борьбой за независимость, с растущим национальным самосознанием. Сердце православной Африки располагается у озера Виктория, в Кении, Уганде и Танзании. Именно в этих странах больше всего православных храмов и общин.
Как удивительно думать, что мир, знакомый по сказкам об антилопах и черепахах, не чужд христианской жизни. Что среди жарких гор и саванн есть белые церкви-мазанки, в которых чернокожие люди в белых одеждах поют на своем языке «Благослови, душе моя, Господа!».
Интернет предоставляет безграничные возможности для поиска, но его результаты могут и огорчить. По запросу «православие в Африке» на русском языке материалов не так много. Зато очень трогательные. Например, сайт Православной Церкви Адыгеи опубликовал путевые записки Екатерины Степановой о путешествии по Кенийской столице и беседу с православным священником, отцом Филиппом Гатари. Замечено, что африканские прихожане очень внимательно слушают проповедь. А во время проповеди сидят, совсем как в России. Ценят проповедь потому, что многочисленные протестантские общества как бы соревновались между собою в искусстве говорения. А африканцы выбирали, кто лучше говорит. Но многие выбрали именно православную церковь. Сообщение Екатерины Степановой полно красочных и вместе ужасных (как и все в Африке) подробностей: «Во время службы мужчины и женщины молятся в разных половинах храма. На колонне объявление — просьба выключать мобильные телефоны, которые прихожане специально приносят в храм… чтобы их зарядить, так как у 80 % населения страны нет электричества в домах».
Весной 2013 года, отслеживая публикации в «Православном мире», была изумлена историей палестинца, православного священника Павла Аль-Алам и его жены, матушки Марии. Мне кажется совершенно необходимым сейчас вспомнить этот материал, чтобы он ожил в книге, а не ушел в интернет-архивы и не распылился по многочисленным сетевым дневникам. Некоторое время матушка Мария выполняла послушание в православном приходе в Йоханнесбурге, ЮАР.
Эта Африка стала почти сказочным испытанием для двоих, назначенных Богом в супружество.
Вот как вспоминает матушка Мария первую встречу: «Познакомились мы на праздник Успения Божией Матери. Я была первоклассницей регентского отделения, мы должны были убираться в семинарии к началу учебного года. Так мы и встретились — я со шваброй и рабочем халате, он в выглаженном смокинге. Павел уже год проучился в России и неплохо говорил по-русски. Я, увидев его, подумала: „Кто только здесь ни учится!“ — а он, как потом говорил: „Эта девушка будет моей женой!“ Так и вышло, но до нашей свадьбы прошло семь лет». Вот как вспоминает матушка Мария о работе в Южной Африке: «Изначально нашими прихожанами были русские эмигранты, но благодаря трудам отца Филарета стали приходить и буры (традиционно они протестанты), участвовать в богослужении. Одна женщина, ее звали Эрика, даже участвовала в покупке общинной земли для храма. Вообще там живут очень верующие люди — некоторые телевизионные каналы по воскресеньям транслируют только псалмы».
Наверно, это плохо, когда слишком живое воображение, с духовной точки зрения — плохо. Но если прислушаться, станет слышно, как тексты псалмов, которые читаются в России и в Кении звучат одной прекраснейшей мелодией: «всякое дыхание да хвалит Господа» — «пою Богу моему, дондеже есмь».
Как покупали храм
(случай из жизни митрополита Антония Сурожского)
Митрополит Антоний был удивительно смелым человеком. По образованию — врач. Владыка видел души людей. Это была не просто человеческая решимость сделать то-то или то-то. У него словно был невидимый посох — конечно, веры! — на который он опирался на самых сложных отрезках жизненного пути. Вера неразлучна с чудом; но чудеса бывают — разные. Прежде всего — Владыка Антоний был чрезвычайно внимательным к своей душе. В воспоминаниях о юности есть такой момент. Однажды, будучи еще молодым человеком, он почувствовал внутренний холод; ему не хотелось молиться, Таинства казались ничего не значащими ритуалами. А он уже готовился к принятию священства. Приближалась Пасха. И вот, в Великую Субботу будущий Владыка стал на колени у Святой Плащаницы… Поначалу все раздражало, казалось пустыми декорациями. Но вдруг изнутри пошел как будто пучок света, невидимо и необъяснимо. И слезы — удивительно горячие слезы — сами пошли из глаз. Вера вернулась. Для него это было — настоящее чудо. Это было действительно воскресение — свидетельство воскресения Христова.
Многим кажется странным, отчего Владыку Антония называют Сурожским. Ведь Сурожье (теперь — Судак) — это древняя Сугдея, византийская колония, в средние века — один из первых в Крыму христианских городов. Почему именно Сурожский? История такая. Когда Владыка Антоний был назначен правящим архиепископом в Великобританию, титул выбрали — епископ Великобритании и Ирландии. Но у англикан уже был свой Лондонский архиепископ, и такой пышный титул для русского пришельца вызвал бы неприязнь островной Церкви. Владыка Антоний обратился к архиепископу Кентерберийскому Михаилу Рамзею, своему другу, за советом. Тот как бы подтвердил мысли Владыки Антония: лучше, чтобы титул был русским. Так впервые возникло Сурожье. Ведь взять имя исчезнувшей епархии — как бы восстановить ее. Но была и еще одна причина, по которой Владыка Антоний выбрал русский титул. Он считал себя человеком русской культуры, а Россию считал своей родиной. Владыка говорил преимущественно на русском, хотя во время служения выучил несколько языков. Ему очень хотелось иметь русский титул. Владыка обратился с просьбой в Патриархию, просьба была удовлетворена. Так архиепископ Великобритании и Ирландии стал Сурожским.
Вот что сам Владыка Антоний говорит по этому поводу: «В Русской Церкви принято, когда создается новая зарубежная епархия, давать титул по епархии, которая существовала в древности и вымерла. Ввиду этого мне и дали титул Сурожского. Мне было отрадно иметь титул чисто русской, древней, но, кроме того, миссионерской епархии, потому что я рассматривал нашу роль на Западе как миссионерскую. Не в том смысле, чтобы я думал об обращении всех англикан в православную веру: это, во-первых, немыслимо, и, во-вторых, я бы сказал, нежелательно, потому что такой быстрый переход из одной веры к другой обыкновенно не держится. Миссию я, а теперь и мои сотрудники понимаем так: мы здесь голос Православной Церкви русской традиции. Мы не обязательно должны обращать людей в православие, но должны дать людям знание о Православии, любовь к Православию и должны передать верующим различных вероисповеданий те частицы, осколки православной истины, которые они сейчас могут впитать, понять и пережить».
К началу шестидесятых служение Владыки Антония в Англии было сопряжено с огромными бытовыми трудностями (на остров он приехал в конце сороковых). Не было храма, который бы считался «русским» — но удалось добиться специально предназначенного помещения для того, чтобы совершать Литургию. Это был старый англиканский храм святого Филиппа, за аренду которого надо было выплачивать немалую сумму. Приходилось заниматься сбором средств, ремонтом, выяснением административных отношений. Порой приходилось проповедовать и на улицах. Владыка Антоний любил говорить проповеди на улицах — это напоминало ему об апостольских временах. Часто среди слушателей оказывались аутсайдеры — хиппи. В воспоминаниях есть рассказ о юноше с огромной собакой, который пришел послушать Владыку. Этот пес, черный ньюфаундленд, буквально бросился к Владыке, как только его увидел. Слушатели были поражены. Животное сидело и слушало вместе с людьми — как будто и впрямь понимало, что говорит Владыка.
Случаев из жизни Владыки Антония, когда улыбка Христова освещала самый мрачный день, — множество. При желании их можно найти в его дневниках. Но особенно значительным мне видится «покупка храма». Обретение места. Этот остров на острове — Россия в центре Лондона — существует до сих пор.
Поначалу в Сурожской епархии было всего два прихода: лондонский и оксфордский. Лондонский рос быстрее. Самой старой прихожанкой была женщина, которой было 104 года. «Ну что за возраст — 104 года, — шутил Владыка, — давайте праздновать 105». «Ах, нет, отец Антоний, — отвечала старушка, — боюсь до 105 не дожить; чувствую, как постарела за последние месяцы». Владыка Антоний подумал, что она еще поживет… Умерла в 107 лет.
Особенную симпатию Владыка питал к старикам-эмигрантам. Они виделись ему свечами прежней России, которые неумолимо таяли. Действительно, стариков становилось все меньше. А с ними уходила память о дореволюционном укладе, языке — часть страны и истории, не на бумаге написанная, а явленная в живых людях. Есть ли им смена, будет ли? Владыка обратил внимание на такую деталь: в храм приходили старики и дети, младше 14 лет. Те, кто старше 14 лет, в храм почти не ходили. Владыка начал изучать английский — без английского не смог бы служить и разговаривать с прихожанами. Затем ввел особенный распорядок богослужений: часть — на английском, часть — на славянском, часть — смешанные, или, как он выражался, «пестрые». Тогда в храм потянулись дети стариков-эмигрантов, порядком забывшие русский. Владыка Антоний приехал в Великобританию в 1948 г. и 11 лет был единственным священником на два острова.
1956 г. Англиканская церковь продала небольшую территорию городским властям. Для улучшения дорожного движения власти собирались строить автобусную остановку. На территории располагался старый, почти разрушенный храм Святого Филиппа. Зарубежной Церкви предложили купить этот храм. Патриархии, то есть — ее представителю Владыке Антонию — предложили маленькую часовню в центре Лондона. Часовня не устраивала. Тогда церковные власти предложили Владыке разделить храм с зарубежниками, на что Владыка согласился. Спросили согласия зарубежников, вызвали настоятеля. Русская Зарубежная Церковь была очень враждебно настроена к Патриархии. Настоятель зарубежной церкви отказался делить храм. Власти вынесли соломоново решение: отдали храм той общине, которая с их точки зрения проявила истинно христианское отношение. Храм Святого Филиппа был отдан Патриархии.
Условием, что община получает храм, был его ремонт — полностью. Ремонт должен был осуществляться на деньги общины и под надзором англиканского епархиального архитектора. Но это было все же дешевле, чем аренда. Долгие годы община на свои средства восстанавливала этот храм. Прошло 20 лет. Внезапно все переменилось. Разбогатевший китайский ресторан предложил деньги властям за это здание. Что должно было быть в этом ресторане? Танцпол, кабинеты, кухня и прочее. Владыку Антония вызвало англиканское начальство и поставило условие. Либо храм выкупит община, либо его отдадут китайцам. Владыка «обомлел», как пишет в своих воспоминаниях. Но твердо ответил, что храм он «покупает». Англикане тоже «обомлели»: «Помилуйте, мы же вам не сказали — за сколько!». Денег у Владыки не было, и он не стал это скрывать. Но повторил, что покупает, и деньги будут. Власти согласились на сделку.
Владыка Антоний собрал прихожан и сказал: «В этом храме мы молимся уже 23 или 24 года. В этом храме мы хоронили своих родителей (я свою маму и бабушку здесь хоронил), мы венчали вас, мы крестили вас, мы ваших детей крестили, многие из вас стали православными здесь. Неужели мы этот храм отдадим под ресторан и танцульку?» Конечно, храм необходимо выкупить. Но Владыка, понимая все тонкости дела, сказал: храм будем покупать на свои деньги, добытые своим трудом. Никаких спонсоров, никаких благодетелей. Потому что благодетель может предъявить права на это место, и тогда все труды погибнут. Начался сбор денег. И что удивительно, небольшая община довольно скоро смогла собрать значительную сумму. Одна старушка написала Историю Русской Церкви в Англии. В книге было больше вымысла, чем фактов, но написана была живо. Удалось продать и выручить триста фунтов. За полтора года собрано было 50 000 фунтов. Это была почти половина суммы.
Патриархия была в курсе покупки храма. Из Москвы сообщили, что могут помочь деньгами. На что Владыка Антоний, рискуя испортить отношения, ответил решительным отказом. Если бы Патриархия помогла деньгами общине, она вошла бы в долю собственника и получила бы права на землю и здание. Они стали бы частью Советского Союза. Это было невозможно — выйти за грань, за которой начиналась геополитика. Владыка считал, что у советского государства и православной церкви разные задачи. Он очень рисковал, отказывая Москве.
Англичане решили провести новую проверку с оценкой стоимости храма: а вдруг он стоит не сто тысяч, а больше? Пригласили архитектора для проведения экспертизы. Новая цена оказалась меньше на 20 тысяч — всего нужно собрать 80, так что собрано больше половины требуемой суммы. Но силы общины были истощены, каждая сотня фунтов давалась огромными усилиями. Начались сомнения. Вдова профессора Франка так и сказала Владыке Антонию: «Отец Антоний, я всегда знала, что вы сумасшедший, но не предполагала, что вы можете быть сумасшедшим в такой мере! Как мы можем содержать этот храм? Для чего? Мы же умирающая община в двести человек…» На что Владыка ответил, что храм будет, хоть на костях, а православие нужно тысячам людей.
Слухи о героической общине расходились по всему Лондону кругами. О событиях у Святого Филиппа узнала одна журналистка из «Таймс», авторитетнейшей центральной газеты, и написала статью, в которой сравнивала апатичные англиканские приходы с живой и развивающейся русской общиной. Вроде бы никто не должен был обратить внимания на эту заметку. Но произошло чудо.
В адрес храма стали приходить деньги. В основном это были небольшие, по два-три фунта, пожертвования от англичан и русских. Один старик-англичанин, католик, послал Владыке Антонию три фунта, и сказал, что это все, что у него есть. Он отослал даже свое обручальное кольцо, приложив его к письму и трем фунтам. Кольцо это стало обручальным для молодой пары, которая была еще очень бедна, чтобы купить кольцо. Книги Владыки Антония помогали старику не унывать в доме престарелых, поддерживали в нем веру и бодрость. Он, не сомневаясь, сделал такое ценное пожертвование. Русский, Владимир, прошедший концлагерь и едва не лишившийся рук (гангрена) принес все свои сбережения, много — целая тысяча фунтов. Рассказал, как ему хотели отрезать руки, а он взмолился Божией Матери и Она исцелила его. На богослужении Владимир вдруг заново увидел облупленный потолок храма… и в нем — свои руки, какими они были в лагере. Матерь Божия научила его, как поступить. Так человек почувствовал храм как свое тело, а свое тело — как храм. И это тоже было чудо. Владыка Антоний записывал свои проповеди на кассеты. Некоторые из этих кассет попали к одной старушке, живущей в Швейцарии. Она пожертвовала храму свои золотые зубы. К 1979 году 80 тысяч фунтов было собрано и выплачено. Храм остался за общиной. А ведь не было никакой вероятности, что деньги будут…
Этот храм, как и многие другие, вырос из людей. Касаясь стен храма, порой кажется, что касаешься… тела другого человека. Отец, мать, брат, сестра… И все — единое Тело Христово.
Антарктида
Антарктида! Таинственное слово, страна «за гранью». Огромный материк, покрытый льдом, с ни на что не похожей жизнью. Когда узнала, что там есть православный храм, подумала: наверно, там есть и батюшка-полярник и прихожане-полярники. Все полярники рано или поздно возвращаются на свой полюс. Не пингвинам же Литургию служить. Отец Константин Кравцов принимал участие в освящении храма Святой Мученицы Татианы. Рассказывал, какое впечатление произвела на него эта земля. А через некоторое время оказалось, что у него есть замечательные путевые записки. Вот они.
Путевые записки. От автора
Десять лет назад мне довелось стать участником закладки первого православного храма в Антарктиде — деревянной церквушки из алтайской лиственницы, красующейся на одном из антарктических холмов и видимой издалека плывущими по проливу Дрейка судами. При этом Антарктида не перестает быть тревожной загадкой, размышлением над которой (без надежды ее разгадать) и стал предлагаемый читателю текст — изменившийся до неузнаваемости очерк, написанный в том давнем 2002‑м.
Патагония
Снег заполярья, апрельская пустыня его слепящих зеркал, где так легко представить во главе идущих облачный столп днем, и огненный — ночью; огненный столп и звезды — Птичий, он же Млечный Путь, Дорога Мертвых, Дорога Живых. Ты видишь их в иллюминатор. Большая часть пассажиров спит, и тебе тоже бы не мешало вздремнуть, но стоит закрыть глаза, как в мозгу вспыхивает шельф, скалы, золото горящего на солнце ила.
Восход над Атлантикой, а на закате — того первого дня в южном полушарии — коричневые, как спрессованный кофе, Кордильеры.
Москва, Париж, Буэнос-Айрес, Сантьяго-де-Чили и, наконец, Пунта Аренас на берегу Магелланова пролива. И те же, что над тундрой твоего детства (отец Константин родился в Салехарде, это Заполярье — прим. ред.), облака, плывущие, касаясь крыш, те же, что во времена «холодной войны», машины; тот же виа-стиль в забегаловках, но на испанском…
Большую часть времени мы провели в воздухе. В Антарктиду летели на С‑130 — транспортно-десантном, с богатой историей: вьетнамские джунгли, «запах напалма по утрам»…
Пунта-Аренас — самый южный чилийский «пункт». Много пограничников в знакомой по фотографиям 1973-го (год государственного переворота) форме. Страна небогатая, но опрятная. Стриженные туевые деревья шарообразной и цилиндрической формы, на каждом шагу — памятники, католические храмы, называемые у нас костелами. В абсиде кафедрального собора — мозаика: Спас Вседержитель на фоне айсбергов со стайками пингвинов на них.
У сидящего на паперти бомжа звонит мобильник. Торговец в пончо, когда мы подходим к его лотку, щелкает по лбу стоящего на лотке деревянного божка, верхняя часть туловища подпрыгивает, и местный приап демонстрирует нам свою мужскую красу.
Слоняемся по городу. Ни в одной книжной лавке не завалялось портрета Пиночета — сплошные Че Гевары. Итальянцы по этой части практичней: на развалах глянцевой макулатуры и сувениров в центре Рима рядом с гламурным Че найдется и фотография улыбающегося Муссолини.
Патагония. Так можно назвать книгу стихов. Патос (страсть), гон (оленей? облаков?), агон (состязание), и — огонь, агония…
Набегающие на пустынный песчаный пляж волны пролива, среди которого легко представить паруса Магеллана, на горизонте — Огненная Земля.
За стеклом городского музея — пожелтевшие снимки индейцев с миссионерами, а по совместительству — археологами, биологами, палеонтологами. Ученое монашество: францисканцы, доминиканцы, бенедиктинцы.
Ужинаем. Выжимаем разрезанные надвое зеленые лимоны на «гадов морских», есть которые категорически отказывается игумен Георгий, ссылаясь на библейский запрет. Да, что-то такое было, но где? В книге Левит? Во Второзаконии?
Утром микроавтобус везет нас к уже знакомому С‑130. Его передняя часть напоминает валенок.
Думаю об очерке: с чего начать?
Справа по курсу — залитый по краю восходом, отбрасывающий глубокую тень небольшой «Боинг» Красноярской авиакомпании, доставляющий в Антарктику туристов: сейчас, в январе, здесь лето, пора отпусков. Не соотечественники ли околачиваются возле него? Подойти, спросить: мужики, куда это меня занесло? Это что, часом не Бирюлево?
Так и начнем. Главное — без елея, без комсомольской риторики об очередном «торжестве православия». Дальше — о проекте. Например: главное действующее лицо в этой истории — Петр Задиров, владелец небольшой авиакомпании «Артекс-Полюс», занимающейся в Сибири арктическими перевозками, в прошлом — «испытатель парашютных систем» и участник нескольких спасательных экспедиций в Арктике и Антарктике.
Передам его вчерашний рассказ. Как-то раз перед очередным прыжком ему приснилось, что система дает сбой — парашют не раскрывается, запаска тоже. Он видит мать, держащую «оренбургский пуховый платок», как Богородица над перепуганными нашествием варваров (наших «далеких предков») византийцами во Влахернской церкви, и падает в его пух. На следующий день при испытании парашюта на предельно малой высоте — 800 метров, — испытании, стоившем жизни его другу, виденное во сне происходит наяву: отказ основного парашюта, возня с оледеневшими замками, невозможность его отстегнуть, чтобы раскрыть запасной. Замки надо отогреть, что непросто — летя камнем к земле. Наконец, запаска раскрывается, но не успевает наполниться воздухом. Внизу — взлетная полоса, снег, сгребенный бульдозером. Надо исхитриться и угодить именно в него, маневрируя в воздушном потоке. Медицинское заключение — ссадины и ушибы при падении с высоты 800 метров. Рассказчик волновался: как прикажете это понимать? Случайное совпадение, никак не связанное с молитвами матери? Как дальше жить — не задумываясь, как все?
О своем пути к Богу Задиров не особо распространялся. Но достаточно и такой информации: в память о матери и подобных старушках, не отказавшихся от опиума для народа и в большинстве своем сидевших, он построил в своем оренбургском селе Новоникольском новую церковь на месте разрушенного в 30‑х Казанского собора. На освящение Петр Иванович пригласил друзей-полярников. Тогда-то и пришла одному из них — Валерию Лукину, начальнику Российской антарктической экспедиции — идея воздвигнуть в Антарктиде часовню в память о погибших там полярниках: пилоты перевернутых ураганами самолетов, водители ушедших под лед вездеходов — за полвека 68 человек не вернулось оттуда на большую землю. Их тела не перевозились на родину, как тела полярников из «капиталистического лагеря»: то ли проблемы с перевозкой, то ли характерное для державы, за которую всегда обидно, пренебрежение к человеку.
Часовня, напоминающая о вечной жизни, о Боге не мертвых, но живых, была бы лучшим памятником этим верующим и неверующим, крещеным и некрещеным «романтикам», знаменитым не менее, чем вскоре появившиеся и затмившие их славу космонавты. Собственно, Антарктида — тот же космос. Полупрозрачная дымка облаков, окутывающая вершины, как бы намекала на начинающиеся за ними бескрайние просторы, на затаенный и непостижимый мир вечной Смерти — «далекий, пустынный и скорбный».
Местом установки часовни была выбрана территория станции Беллинсгаузен на одном из Новых Шетландских островов — острове Кинг-Джордж, открытом экспедицией Лазарева-Беллинсгаузена. Его русское название, помещаемое в скобках следом за «Кинг-Джордж» — Ватерлоо. Похоже на звук колокола в тумане, затянувшем берег. Звук или иллюзия звука, слуховая галлюцинация?
Ударное «а», — имя воды, как утверждает Гастон Башляр, — аннигилируется в «о» — тоже ударное. И это двоящееся, отражающееся одно в другом «о» уводит в какую-то зябкую, синюю запредельность. Ватерлиния исчезает в точке разлома (и она же — точка невозврата), в точке, где «р» обращается в «л» — своего астрального двойника. Попутно отметим, что Лоо с ударным «о» посередине — совсем не то же самое, что местечко Лоо на черноморском побережье, а его антипод.
«Смутная реальность» Антарктиды с ее айсбергами, облаками, чернеющими среди льда горными хребтами, открыта нашими соотечественниками. Большинство из них были ветеранами войны 1812-го года, почему и названия открываемым землям давались по местам памятных сражений: Бородино, Березина, Ватерлоо…
Итак, часовня. Идея нашла поддержку у Патриарха Московского и всея Руси Алексия, предложившего соорудить не часовню, а храм. Получив благословление, бывший испытатель парашютов обратился через интернет к российским предпринимателям с предложением о сотрудничестве: финансировать проект авиакомпании Задирова было не по силам. Из бизнесменов откликнулся только один — генеральный директор группы компаний «Руян» Александр Кравцов, брат пишущего эти строки. И тогда, и сейчас в публикациях о храме в Антарктиде его имя не упоминается, поэтому надо сказать несколько слов и о нем.
Родившийся в год «Пражской весны» в Салехарде, Саша с шести лет каждой весной, сразу после того, как по Оби проходил лед, отправлялся с отцом на охоту. Она стала его «одной, но пламенной страстью», предопределившей его занятия. Приятели-бизнесмены, слыша о строительстве храма в Антарктиде, крутят пальцами у виска. Храм в Антарктиде? Для пингвинов, что ли? А кстати, почему бы и нет? Проповедовал же Франциск Ассизский птицам во исполнение заповеди «проповедайте Евангелие всей твари».
Есть многое на свете, друг Горацио.
Пунта-Аренас — Ватерлоо
Миновали Мыс Горн, вот уже позади — Огненная Земля, начинается шельфовый ледник, затем — еще один, и вдруг все затягивает солнечная белизна. Облака здесь особые, да и все — другое.
«Снег Антарктиды не похож на обычный северный, он почти не блестит, вода из него получается совсем безвкусная, он безрадостен, как и сама Антарктида», — писал в своих дневниках Рауль Амундсен.
Путь из Пунта-Аренаса до острова Кинг-Джордж (Ватерлоо) занимает приблизительно два часа. Сегодня — 25 января 2002 года, Татьянин день, и вторая попытка долететь до острова (вчера помешала погода — вернулись назад с полпути), кажется, удается: креол в оливковой форме чилийских ВВС делает знак пристегнуть ремни. Молитвословы с читавшимся в воздухе правилом перед причащением откладываются, мы послушно защелкиваем замки и оборачиваемся к иллюминаторам. Мы — это Задиров и архитектор Анисифоров, тоже Петр, трио из хора Троице-Сергиевой Лавры, ходящий в надвинутой на глаза черной скуфье игумен Георгий, что и возглавит первую в Антарктиде Литургию и чин закладки храма, журналисты программы «Время», представитель компании «Руян» и — автор этих строк, простой иерей.
Разорвав клочья тянувшейся за бортом солнечной ваты, самолет проваливается в поистине потустороннее пространство: торчащие из воды черные обломки причудливой формы напоминают стертый бомбежкой, затопленный город. Летя на небольшой высоте, мы стремительно снижаемся. Набегающие друг на друга хмурые волны, припорошенные снегом странного вида горы, мрачные долины, где никакой растительности, снова вода, снова «хребты безумия», между которыми мы лавируем. Фильм Хичкока, сон, от которого холодеют внутренности. Холодеют и обрываются при крутом, по-военному, вираже, боевом развороте, или как там это у них называется? Пике? Говорят, кто на море не тонул, тот Богу не маливался. Чилийские пилоты, заходя на посадку, предоставили нам редкую возможность помолиться именно таким образом.
Удар шасси об угольно-черный гравий — и мы мчимся к обрыву, к морю; разворот у самой воды, мимо проносится красный авиационный ангар, еще разворот и вот, наконец, остановка. Приходим в себя. Лопасти пропеллеров застревают в воздухе, и дверь возле кабины проваливается в матовый дневной свет — не похожий ни на какой другой: свет Антарктиды.
Выходим, обозреваем окрестности. Что сказать о них? «Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Божий Дух носился над водою». И надо заметить: эта «невидимая и неустроенная» (согласно церковнославянскому переводу) земля — вовсе не та, о сотворении которой говорится в первом стихе Бытия. Косвенное указание на это можно найти у пророка Исайи: «Бог, образовавший землю и создавший ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства». Если для жительства, то почему, откуда эта безвидность и пустота, и тьма над бездной? «Хаотическое состояние мира, — пишет, комментируя первые строки Библии отец Александр Мень, — проистекало не от Творца, но было уже нарушением Его воли. Нечто таинственное исказило гармонию творения».
Опустошенность. Тянущиеся по горизонту, по серой водной глади, «ледяные горы», как называли айсберги русские моряки…
Вообще, читая об этих краях, трудно не вспомнить «зону» из «Сталкера». Совершенно непонятно, почему при такой недоброй репутации шестого континента, «древнего и абсолютного чужого мира», находятся те, кто жертвует ради него всем, включая собственные семьи. Редко кто из полярников, как я узнал, сохраняет брачные узы — они для них именно узы, узилище. Как и «цивилизация». Возможно, схожим образом воспринимали «мир» отцы-пустынники, предпочитавшие всем «радостям жизни» пустыню, облюбованную на безлюдье пещерку, где можно питаться маслинами с растущего рядом дерева и запивать их водой из ближайшего ручья, не отвлекаясь от молитвы. Но здесь, среди этих инопланетных ландшафтов, нет даже таких «утешений», здесь большую часть года — тьма полярной ночи, шестидесятиградусные, почти как на Марсе, морозы и снежные бури, при которых фонари на станциях начинают светиться, раскачиваясь, жутковатым зеленым огнем.
Говорят, что зимовать здесь не проще, чем провести полгода на околоземной орбите. Некоторые не выдерживают: психические расстройства, бывают и самоубийства. Так что же влечет сюда? Понятно, не деньги. Тем более — в 90‑е, вообще державшие экспедиции на полуголодном пайке. Благо, соседи-чилийцы подкармливали консервами, когда у тех заканчивался срок годности. Не деньги и не почести: безумству храбрых давно не поем мы песни в нашем отечестве. Может быть, одержимость наукой или азарт исследователя? Но наукой можно заниматься и в менее экстремальных условиях. Так что же? Ясно, что нечто такое, чего нет, не может быть на «большой земле». Что-то принципиально иное. Запредельное. И невыразимое.
Символично, что Антарктиду открыли именно русские. В навигационных атласах просвещенного XVIII века она отсутствовала. Хотя на Востоке уже тогда были карты, на которых отмечены были неисследованные земли. Так, в 1520 году адмиралом флота Оттоманской Империи Мухиддином Пири был опубликован атлас «Бах-рийе», включавший карту Антарктиды, найденную у одного из участвовавших в экспедициях Христофора Колумба испанца, взятого в плен в морском бою турецким офицером Кемалем. В своих заметках адмирал утверждает, что именно таким картам Колумб обязан своим открытием Нового Света.
Считается, что карты испанцев, попавшие к туркам, были начерчены в 1498 году, но сам Мухиддин Пири написал турецкой вязью, что при их составлении использовались источники времен Александра Македонского. Однако то, что Антарктида и Гренландия на картах не имели ледяного покрова, говорило о куда более глубокой древности даже позднесредневековой картографии, запечатлевшей Землю четырех-пятитысячелетней давности. И еще: анализ трофея доктором Афетинаном Тарихом Куруму (см. «Древнейшая карта Америки» — Анкара, 1954) и экспертиза, проведенная американским Институтом морской гидрокартографии, обнаружили невероятную точность этих карт, изображающих лишь недавно открытые геологами горные хребты Антарктиды и Гренландии. А помимо всего прочего, такая точность, по признанию экспертов, может быть получена исключительно путем аэрофотосъемки.
Станция «Беллинсгаузен»
Путь на вездеходе до одной из немногих не закрытых при Ельцине российских станций занял минут десять. Черные холмы, похожие на разрушенные зиккураты, каша причудливо изрытого ручьями гравия, среди которого мы замечаем хребет ископаемого чудовища — наполовину всосанную в антарктический грунт ржавую гусеницу вездехода, и вот — красные, цвета советского флага, жилые кирпичики на курьих ножках.
Сразу по прибытии стали готовиться к богослужению — времени терять нельзя, Литургия должна служиться не позднее трех часов пополудни. Расставляем в холле на обычном, как в советских столовых, столе богослужебные сосуды. Этот стол будет жертвенником, тот — престолом. Ставлю на него рублевскую «Троицу» — небольшую икону, купленную в католической лавке Пунта-Аренаса. И это оказывается «пророчеством в действии». Построенный храм планировалось освятить в честь святителя Николая — покровителя моряков. Освящен же он был наместником Троице-Сергиевой Лавры епископом Феогностом во имя Живоначальной Троицы. Присутствовавшие рассказывают — и их рассказ подтверждается отснятым тогда материалом — что во время службы из окутавших остров туч протянулись три широких солнечных луча. С того времени здесь без малого 10 лет, сменяя друг друга, постоянно служат иеромонахи Лавры. И нет, кроме них, никаких других священников на «бескрайнем материке, полном неразгаданных тайн и несущем печать векового проклятья пустынных просторов, в которых нет ничего человеческого» (Г. Лавкрафт).
Облачаемся в льняные подризники, читая скороговоркой «Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения». Епитрахиль, набедренник, он же меч, пояс, поручи, фелонь, прообраз которой — воинский плащ.
— Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков!
Первая в миллионолетней истории этого континента Литургия: «Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе поклонятися на всяком месте владычествия Твоего…».
Белые святочные облачения и тот же, что за бортом С‑130, матово-белый свет в окне, чем-то — но чем? — отличающийся от обычного света солнца, неплотно затянутого облаками. «И преобразился перед ними, — пишут евангелисты. — Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить»… Белый, сияющий хитон и белый же — саван. Саван огромной человеческой фигуры, представшей в Антарктиде Артуру Гордону Пиму. «Ее кожа отличалась абсолютной белизной снега, а вокруг летали гигантские, мертвенно-белые птицы и кричали „текели ли“, „текели ли“».
Атлантида?
Вспомним карту турецкого адмирала, руководствуясь которой, по его словам, испанцы, плывшие под парусами с красными, как на плащах тамплиеров, крестами в Индию, открыли Америку. Кто составил ее — не сами ли «антаркты», наслаждавшиеся теплым климатом, пока 10–12 тысяч лет назад Земля не столкнулась, как предполагают некоторые изыскатели, то ли с кометой, то ли с огромным метеоритом? Кстати, напомню: встреча с таким небесным телом, угрожающим всему живому на нашей матушке-земле, ожидается, согласно астрономическим наблюдениям, в 2036 году.
Так вот, об Атлантиде. Во-первых, ее размеры, составляющие, по Платону, 30 000×20 000 стадий (1 стадия — 185 метров) примерно совпадают с размерами Шестого Континента. Во-вторых, Антарктида расположена одновременно в Тихом, Индийском и Атлантическом океане, как и Атлантида Платона, согласно которому атланты контролировали берега трех континентов. А если так, то не они ли вершили судьбы цивилизации? И не с них ли она началась во время оно — до известной как «всемирный потоп» катастрофы, допустим, того столкновения с кометой, сдвига земной оси и «переворачивания полюсов», после чего Антарктида превратилась из Северного материка в Южный? И не они ли, атланты (антаркты), — «боги-просветители», приходящие всегда откуда-то из-за моря? Что интересно: некоторые из них приплывают с затонувших островов, и все — в один и тот же исторический период.
Причем, если мы прочертим их маршруты от конечной цели их путешествия до исходной точки, то последней окажется — правильно! — Антарктида. Так, Маке-Маке, великий бог-просветитель острова Пасхи, прибыл в Океанию с запада, с канувшего в морскую пучину острова Моту-Марио-Хива. Напротив, первый инка Манго Калак и мексиканский Кетцалькоатль приплывают с востока, а Оаннесс, которому обязаны своей культурой шумеры, приходит из-за южного моря, как и добравшийся до земли тамилов Тамалахам.
Если же вернуться во времена, предшествовавшие катастрофе, из-за которой Север и Юг поменялись местами, то Атлантида, она же Антарктида, окажется «крайней землей» — «ультима туле», концом географии греков и римлян, самой северной из известных античности территорий, возможно, Гренландией или Исландией. Или мрачной Гипербореей, где, согласно Геродоту, воздух наполнен гигантскими летающими перьями, мешающими проникнуть в те области, и где у спуска в Аид Одиссей расспрашивал тень Тиресия о своих перспективах возвращения на Итаку. Или Арктогеей, куда вел тевтонских рыцарей великий магистр Ульрих фон Юнтинген. Или Гелиодеей из «Парсифаля» Робера де Борона — материком под сине-золотой звездой Арктур, под которой «корабль останавливается посреди океана, и даже ураган не в силах сдвинуть его», а «сушу образуют застывшие сапфировые волны — там растут прозрачные деревья, плоды коих нет нужды срывать, ибо аромат утоляет жажду и насыщает».
Кто, однако, живя в так называемом реальном мире, не проецирует себя, более или менее, в мир воображаемый? «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Воображение? «Примитивные народы», например, прекрасно знали, что воображение, как и знание (а что такое знание, как не то же воображение?) — реальная сила. Подкрадываясь к оленю, охотник-эскимос затыкал себе рот пучком травы, чтобы возникший в его голове образ убитого оленя не вылетел через рот и, смутив оленью душу, не спугнул добычу.
Вообразить — значит, придать образ тому, что его не имело. Претворить хаос в космос. И сам человек, говорит книга Бытия, не что иное, как образ — образ и подобие Создателя образов. Творца, на место Которого претендует Денница, сын зари, Люцифер-светоносец, чей свет не животворит, а «просвещая» — помрачает. Ложный свет, заметил архиепископ Иоанн (Шаховской), страшнее тьмы.
Берег пролива Дрейка
Вспышки фотоаппаратов, брызги крещенской воды, только что воздвигнутый и укрепленный валунами на холме с видом на пролив Дрейка, крест, лютующий ветер и на фоне серого марева — бледно-лимонный пуховик испанки Кармен.
Согласно одному из преданий, когда Христос сошел во ад, некоторые из неплохо чувствовавших себя «во тьме кромешной» убежали в глубины преисподней, «возлюбив тьму более, нежели свет». Таким взломанным, с рухнувшими сводами, адом без людей (попрятавшиеся не выдают своего присутствия) и предстал мне на следующее утро остров Ватерлоо, по холмам и долинам которого мы гуляли, сопровождаемые полярниками.
Перламутр полярного дня, облака — те вытянулись над горизонтом с курсирующими по нему редкими айсбергами, а те плывут косыми дымными парусами. Солнце заливает низины золотой ртутью ила, особенно яркой на фоне слепящего льда, стоящего стеной по ту сторону пролива шельфового ледника.
«Где ты был, когда Я полагал основания земли? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» И молчит Иов. «Входил ли ты в хранилища снега и видел ли сокровищницы града, которые берегу Я на время смутное, на день битвы и войны?»
Дистиллированная антарктическая вода в высокой каменной чаше, кромка отвесно обрывающегося к проливу берега, где храпят пятнистые морские слоны. А вон морской котик. Обосновавшись на каменной лежанке, он проворно, как острием штрихующего карандаша, чешет кончиком задней ласты шею, пока мы не попадаем в поле его зрения. Чуть поодаль — другой. Тоже насторожился.
— Осторожней, они агрессивны! — предупреждают наш гид.
Спускаемся к воде. Пингвины, топыря крылья, прыгают в воду. Среди водорослей то и дело попадаются гипсово-белые обломки костей и черепов, должно быть, ящеров и динозавров. Я чуть не наступаю на еще не выбеленные временем, наполовину затянутые мокрой крупой желтоватые ребра какого-то левиафана.
— Над вами только что птеродактиль кружил, а вы и не видели, — сообщает, подойдя к нам, наш провожатый, имея в виду альбатроса.
«Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?»
Снова грузимся в вездеход вместе с встречающими и провожающими нас в полном составе полярниками. И последним, что видим, оказывается пришлепавший к опустевшей станции пингвин.
— Попрощаться пришел, — замечает кто-то.
«Текеле ли», «текеле ли», — кричат «гигантские, мертвенно-белые птицы». Но это не та белизна, которой отличается восставшая из бездны фигура, это живая белизна, один взгляд на которую преисполняет жизненных сил.
Все, кто бывал, а тем более жил на Крайнем Севере, знают, что такое «заболеть Севером». И знают, что болезнь эта неизлечима. Объяснений ей нет. Не тяга ли это к «абсолютной смерти» как к тому, во что необходимо погрузиться, через что мы должны пройти, «смертью смерть поправ»? А иначе — о каком величии духа, равно как и величии замысла, может идти речь?
Что влекло русских сквозь «ледяной ад» туда, где по уверению Джеймса Кука, нет никакого материка, а если вдруг и есть — на кой ляд он нужен? В 1775 году, после открытия им на юге от Новой Зеландии нескольких островов, он писал в своем дневнике: «Это земли, обреченные природой на вечную стужу, лишенные теплоты солнечных лучей; у меня нет слов для описания их ужасного и дикого вида. Таковы земли, которые мы открыли, но каковы же должны быть страны, расположенные еще дальше к югу! Я с полным основанием предполагаю, что мы видели лучшие из них, самые северные и теплые. Если кто-либо обнаружит решимость и упорство, чтобы разрешить этот вопрос и проникнуть дальше меня на юг, я не буду завидовать славе его открытий. Но должен сказать, что миру его открытия принесут немного пользы».
Сегодняшнему миру есть что возразить Куку: метеорологи, океанологи — кто только не делает здесь своих замеров. Но никто не может понять назначение сложенной из кубов льда 23-метровой башни, вдруг вырастающей посреди ледяной пустыни, ни того, кто были ее строители.
Лопасти четырех пропеллеров оживают, С‑130, дрогнув, разбегается, отрывается от чернеющего, как антрацит, гравия, и мы готовим себя к тому же убийственному маневру, но происходит другое: самолет раскачивается вверх-вниз, делая круг над поселком. Это — обряд прощания. Покачав полярникам крыльями, летим на север. И снова — Мыс Горн, Огненная Земля…
III. Из глубины
О конце света
В словах «конец света» есть невыразимо притягательная сила. На них волей или неволей приходится реагировать. Хочешь или не хочешь, но реагируешь. Эта реакция очень похожа на «надо» — надо, например, чистить зубы два раза в день. Слышу «конец света» — и считаю нужным высказаться по этому поводу. Хотя бы и так: «Уж сколько этих концов света было объявлено!». Или: «Последние времена настали». Но почему должно реагировать на эти слова, почему они касаются всех и каждого? Вопрос — есть, а ответа, возможно — нет. В этих словах кроется тайна, и эта тайна останется нераскрытой… до самого конца, до того, как небо совьется как свиток.
Во втором послании к солунянам Апостол Павел упоминает о конце света и о раскрытии «тайны беззакония», антихристовой тайны, которая этому концу света предшествует. Уже тогда, в первом веке, было напряженное ожидание конца света. Со временем напряжение ослабло, но в истории несколько раз тревожными отголосками этого ожидания возникали даты: тысячный год, две тысячи двенадцатый год… Первые века христианства отчасти и были этим концом света — концом мира, существовавшего до пришествия Богочеловека Иисуса Христа «в конце времен». Каждый день жившего тогда — даже не казался, а был последним его днем. Нормы поведения и общественные отношения менялись, как наскакивают друг на друга льдины при ледоходе. Может быть, нам, живущим в подобном хаосе, можно — хотя бы только отчасти — представить, что было тогда. Не за что держаться: власть, семья, религия — все в движении. Надо было научиться жить без поддержки — как и теперь. Нет никаких норм и критериев, нет морали. Плотская любовь, имевшая глубоко сакральное значение в древнем мире, лишена сакральности. Родственные связи уже не имеют некогда присущего им духовного значения. Есть огромное «друзья», еще неопределенное и далекое. Как печально и смешно было смотреть современникам на защитников старых античных институций, однако, вызывавших уважение — так нашему современнику смешны попытки реставрации уже растаявших во времени человеческих ценностей. На свет выходит основа, поверх которой строилась уходящая цивилизация. А основа эта — Слово Божие. Действительно страшно остаться без всего: без родителей, семьи, без церкви, без религии. Наедине с Богом. Нет, лучше пусть будут и церковь, и религия, и семья, и брак… Но уже сказано было Тайновидцем: «Приди же скорее, Господь Иисус!».
В Евангелии Христос говорит так: пусть имеющие богатство будут как не имеющие такового; пусть имеющие жен будут как не имеющие жен. Что это? Запреты, смысл которых человеком никогда не будет принят, и потому они человеком не исполнимы, или же — картина мира перед концом света? Ничего, невесомость слов и отношений, опустошенность, сизифов труд… Но может быть — начало обучения той самой будущей жизни, в которой денег, мужей и жен не будет?
Евангелие и Послания Апостолов стали прекрасными инструментами подготовки к концу света. Проще — подготовки к смерти. Смерти всех и всего на земле. Согласно Евангелию, смерть уже не казалась конечным пунктом назначения земного бытия, она в свете Евангелия стала почти прозрачной. Появились свидетельства реальности «будущей жизни», следующей после «конца света». Оказалось, что эта будущая жизнь возможна без конца света, но конец света все равно будет. «Не все умрем, но все изменимся» — говорит Апостол Павел. Конец света как фатальное изменение всех и вся, катастрофа, невероятная по масштабам катастрофа. И она точно будет. Но ее отражения возникают то тут, то там. Они тревожат, они напоминают.
Мне в детстве и отрочестве очень нравилось, что небо совьется как свиток, и будет новое небо и новая земля. Вот бы все это увидеть. Не казалось, что будет страшно, например, что будет тяжелый запах боли, от которого тяжело дышать. А — небо совьется как свиток. И уже не нужно будет по мелочам доказывать, что — не верблюд, что в мыслях не было… Не будет ни обвинений, ни оправданий, а всяческая и во всем — Христос. То есть, Свет. Получается, что будет конец малого света и начало Большого Света. Этому же радоваться надо! Но чем старше становилась, тем яснее понимала, что все отнюдь не так просто… Множество людей, каждый — со своей тревогой и надеждой. Множество гор, морей и животных. А мне — вынь да положь райскую обитель, поскорей. Пока сама, в конце восьмидесятых, не оказалась в мире, который стал свиваться как свиток. И вот тогда — хотя я не богослов, а только поэт — стала задумываться, что же на самом деле — эсхатология.
Обращусь к чтению, как если бы закинула невод в бурную реку. Что принесет он? Выбирая материалы, остановилась вот на чем. 1925 год, февраль. Русская Православная Церковь переживает тяжелейшее время. Советское правительство вплотную интересуется церковным имуществом, вокруг церкви — множество раскольных организаций, так же называющих себя церквями. Представляю простого верующего, никогда особенно не задававшегося богословскими вопросами. Возможно, главное, что он ощущал — страх. Непонятно, в какой храм идти. Призрак обмана настолько силен, что окружает собою человеческую душу и сдавливает ее в своем ледяном кольце.
И в это время священник Александр, наблюдая происходящее, живо заинтересовался вопросом об истинно-христианском понимании конца света. Отец Александр пишет владыке Вениамину (Федченкову) и задает этот вопрос. Приведу несколько выдержек из переписки, в основном, из ответов владыки Вениамина.
«Глубокочтимый батюшка отец Александр! Благословен Бог наш, „Имже живем, и движемся, и есмы“ (Деян. 17:28).
Вы спрашиваете меня по поводу занятий вопросом о близости и сроке конца мира. Я не буду отвечать на это прямо. А только напишу: как реагирует на это мое сердце и сознание религиозное?… Господи, благослови!
1. Мне такими вопросами не хочется заниматься, ибо я считаю себя бессильным решить их окончательно в ту или иную сторону. А что касается вопроса о сроке, то я даже религиозно страшусь приступать к нему: помилуй меня Господь от этой дерзости!
2. Для меня очевидно до болезненной осязательности, что моя главнейшая задача — спасение, в частности выражающаяся в необходимости беспрерывной борьбы со грехами, молитвы, исполнения ближайшего долга и целого ряда других, важных для меня и ближних дел. Поэтому занятие подобными вопросами (о сроках в особенности) мне представлялось бы подобным тому, как если бы больной, забросивший заботу о своем лечении, стал бы изучать: когда он помрет? И что будет с ним после этого?
Может быть, есть те, кто умеет сочетать и „изучение“, и лечение? Не знаю. Но сомневаюсь… Впрочем, я пишу о себе: для меня — не до этого! Даже больно подумать сейчас, если бы я бросился в эти вопросы. О Боже! Будь милостив ко мне окаянному, многогрешному, пустому („Чертог Твой вижду, Спасе Мой, украшенный, а одежды не имею — войти в него!“).
Люди же ныне, подобно Еве, отметая нужнейшее, вдаются в непосильное и ненужное: одни в спиритизм, другие (и это психологически „правые“, „монархисты“? Не так ли у Вас в П.?) в „ultra-православное“ — о конце мира… И непременно с исчислениями. Болезнь одна, лишь две формы; оба теченья отклоняются от главнейшего. „Не велико видеть Ангелов, — говорил святой Антоний Великий, — велико видеть собственные грехи“.
3. Что касается существенного ответа на вопрос о конце мира, то у меня, убогого, сложилось следующее мнение: а) Может быть, мы переживаем предпоследний этап мировой истории (Филадельфийской, Отк. 3 гл.[2]); б) а может быть — и нет; ибо могут обратиться еще японцы, китайцы, индусы (700 млн.); в) не знаю. Однако мысль нередко беспокоит о приближающемся конце и побуждает острее напрягать слабые стремления ко спасению.
4. Что касается до „1000 л.“ (тысячелетнего) царствования, то считаю это мечтой, происходящей от религиозного оскудения, а вследствие этого — от прилепления к чувственному пониманию вещей: религиозному православному сознанию совершенно очевидно, что Царствие Божие есть внутренняя благодатная жизнь, как говорил преподобный Серафим и как раскрыто в слове Божием.
А это Царствие Божие с самого пришествия Господа Иисуса Христа „пришло в силе“, то есть в полноте…
Вон в России спасаются иначе: крестом, страданиями.
Получены здесь два письма, одно мною: гонения… Старшая сестра Ц. сестричества в П. церкви в Севастополе была посажена в чрезвычайку, потом выслана в Вологду, а затем в Красноярск… Из Севастополя…
Вот это — спасение себя и России. А мы! о — словесники! (интеллигенты, умствующие… книжники…). Горе, горе нам!
В Симферополе — храмы были полны. Служили и утреню и литургию ночью; ибо большевики приказали в 10 ч. у. быть на службе в учреждениях… „Я едва протискалась в Церковь“ (пишет быв. либеральная барышня); „выходя из храма, вспоминали о первых христианах, которые тоже молились по ночам в катакомбах“… А мы?… Нам ли спасать Россию?»
Что же, из 1925 года вернемся в наше время — катастрофы, войны, тотальный кризис, неприятие человека человеком. Ничего нового не увидим, но вокруг — совершенно другие вещи. Только слепой не заметит этого. Можно отказаться от пользования интернетом. Можно сколько угодно порицать занятия искусством как рассеивающие внимание и не христианские. Можно сколько угодно порицать факультативное христианство, по будням, воскресеньям и праздникам. При этом возможно, что душа будет чисто и ясно гореть лучшими стремлениями и чувствами. Но не получится уйти от своего личного конца света. И от смерти — не получится. В катастрофах гибли как талантливые и тонкие, так и грубые пошлые люди. В тринадцатой главе от Луки Христос рассказывает о крушении Силоамского столпа и гибели людей под его обломками. Спрашивает: думаете, погибли одни только никчемные люди? И Сам отвечает: нет. Иногда мне думается, что так же можно сказать о конце света.
…Когда я смотрела последние кадры «Меланхолии» Ларса фон Триера, меня не оставляло чувство неловкости. Может быть, для кого-то это сильный образ — красивая страшная планета грозит всему живому на земле. Но я уверена была, что эти кадры сняты для того, чтобы было хоть какое-то завершение фильма. Потому что фильм начинает распадаться, как множество шариков из нечаянно разжавшейся руки. А ведь в этом фильме есть христианская мысль: каждый встречает свой личный конец света в преддверии общего, каждый готовится. Но этот шалашик, кокетливое надгробие в духе Жан-Жака Руссо, доверчивые руки героев — показались неубедительными. А вот в «Апокалипсисе» Копполы было нечто настоящее. Сбежавший от цивилизации сумасшедший фотограф говорит: «Мы думали, что будет гром, а все закончилось пшиком». В этой фразе мне всегда слышалась констатация моей собственной вялой беспомощности и нервной расслабленности. Не вижу причин показывать себя сильнее, чем есть. Но мне думается, готовность к последней огненной Встрече (и к смерти тоже) начинается с осознания собственной разрушенности грехом. Вот, например, утренние молитвы желательно читать стоя, а не строить шалаш из прутьев в ожидании грома.
Священномученик Василий Московский (Надеждин)
Очень люблю север Москвы. Здесь есть несколько мест, вокруг которых завивается моя судьба. Одно из них — храм Святителя Николая, любимая местными жителями «Соломенная Сторожка». В памяти возникают образы сказок, причем о животных — избушка лубяная, избушка ледяная… Такое теплое, любовное название дано храму Святителя Николая давно, и удивительно, как долго оно живет. Впрочем, конечно, ни в судьбе храма, ни в трагических изломах судьбы Тимирязевской Академии, недалеко от которой находится храм — ничего сказочного и забавного нет. Есть величественное, высокое — это как смотреть в небо, отчаянно запрокинув голову. Шея может сломаться от резкого движения. По мне, так просто приехать и увидеть эти стены и парк — намного лучше, чем лгать себе и другим, что, мол, вполне понимаем значение событий, развивавшихся в этих местах.
А места настолько хороши, что уходить отсюда не хочется. Это городок в городе. Зелено круглый год, пруды. Даже трамвайные линии переживаются здесь как нечто новое, что было до мегаполиса. Здесь живет мой духовник. Здесь служил священномученик Василий Московский (Надеждин).
Темно-красного цвета брошюра попала ко мне из рук моей подруги. Открылась в метро как раз на последнем письме. И это было — как впустить на ночь глядя гостя, который остался на все оставшееся мне время. Одна из многочисленных судеб, но отчего-то имеющая лично ко мне прямое отношение. Почему? Чем доказать? Доказать нечем — кроме того, что иногда смотрю на места, где он служил, почти его глазами. Получается так: не только святой что-то значит в моей судьбе. Но и я — в его. Именно это — и я в его судьбе — есть уверение в собственной худости и малости. Не человек видит или хочет видеть Бога. Бог видит человека. А святые — это Его очи.
Вот рассказ о храме и человеке — потому что это лучшие темы для любого рассказа. Зачем составлялось? Ради красоты — очищенной от прелести. Эту красоту человеку трудно вынести, она ослепляет. У одного из отцов-каппадокийцев было такое сравнение. Христос — как будто темное стекло, человеческой природой затеняющее смертельный свет природы божественной. Благодаря тому, что Бог стал человеком, мы может быть с Богом. То же и со святыми — они делают солнце-Христа доступным человеку. За переложение мне не стыдно — и было бы странно, если бы вдруг ни с того и не с сего предоставила бы новые фото и новые сведения о том, что совершалось очень задолго до того, как появилась на свет. Но я точно могу пропустить через себя ту мелодию, которую тогда, вдруг — услышала в этом совершенном и пронзительном последнем письме отца Василия. Я верю, что многое в моей жизни совершается его молитвами.
На севере Москвы до наших дней сохранилось не так много храмов, и расположены они весьма далеко друг от друга. Самой древней и знаменитой считается часовня Михаила Архангела. Петровский парк, разбитый возле селения Петровское, известен с 17 столетия. В нем любили бывать цари еще допетровской эпохи. Один их ранних документов о Петровском парке относится как раз ко времени восшествия на престол династии Романовых, то есть, к 1613 году.
В последней трети XIX столетия рядом с парком была открыта Академия. В 1917 году Петровско-Разумовское, к тому времени уже изрядно обжитое, вошло в состав Москвы. Одним из храмов, расположенных на его территории, был храм Святителя Николая.
Храм Святителя Николая в Петровско-Разумовском, прозванный Соломенной Сторожкой, известен давно. Построен он в начале XX столетия, во время Первой мировой войны, и принадлежал сначала храму во имя Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла при Сельскохозяйственном Институте. Теперь это изысканное небольшое строение находится в глубине жилых кварталов, среди дворов, несколько в стороне от Ленинградского проспекта и Кронштадтского бульвара.
В конце 10‑х — начале 20‑х годов XX столетия в стенах Соломенной Сторожки служил замечательный священник, теперь прославленный как священномученик, иерей Василий Надеждин. Прожил он всего 35 лет (1895–1930), но его по праву можно назвать старцем. Передо мной — рассказ об одной из самых пронзительных судеб. Среди материалов будут и фрагменты писем Священномученика. Именно письма отца Василия и хочется сделать центром повествования.
Василий Надеждин родился 12 января 1895 года в семье служащего дворцового управления Федора Алексеевича Надеждина и его супруги Софии Павловны. Василий был пятым ребенком в семье. Он родился на святках и был наречен в честь Василия Великого. То был его Ангел. Василий Надеждин смолоду мечтал быть священником; будто предчувствовал, какую ценность приобретет священство в недалеком будущем.
Согласно семейному преданию, отрок Василий проводил до дома старого больного священника, который, благословив мальчика иконой Святителя Николая, предсказал ему будущее служение. Предсказание впоследствии исполнилось. Последний храм, в котором служил иерей Василий, был Святителя Николая, Соломенная Сторожка.
Об отношениях в семье, а особенно об отношении детей к родителям — свидетельствует следующее письмо из архива. Федор Алексеевич пишет своей невестке Елене Сергеевне, матушке отца Василия: «В старину я слышал изречение: „Дети — благословение Божие“. Оглядываясь на прожитое мною долголетие и припоминая виденное мною в течение этого долголетия, конечно, я непререкаемо убедился в великой правде этого изречения. И меня лично не раз спасало от многих житейских искривлений сознание о моем долге и обязанностях перед детьми, в чем и видел благословение Божие». Федор Алексеевич был старостой Покровской церкви в Малом Левшинском переулке. Кончина старосты пришлась на Покров 1935 года. Отец на пять лет пережил своего сына.
В 1910 году Василий Федорович закончил Заиконоспасское духовное училище и поступил в Московскую Духовную семинарию. С 14 лет он пел в церковном хоре Покровского храма, а впоследствии даже регентовал, организовав хор из прихожан.
Василий был довольно высокого роста, тонок и даже худощав, с большим лбом, плавных и мягких очертаний, с сильно вьющимися волосами и всегда будто восхищенным выражением лица.
Зрение слабое; Василий носил круглые очки, делавшие его похожим одновременно и на молодого ученого, и на художника. Одевался всегда очень опрятно, даже несколько чопорно. Движения порывистые и вместе суховато-вежливые. От него словно бы исходили неисчислимые потоки жизненной силы, сострадания и… страдания тоже.
Россия находилась на пороге великой войны. Войну многие предчувствовали, но в целом общество думать о войне не желало. Жизнь государства нехотя катилась по привычной колее, но уже заметны были роковые сбои и общий разлад. Именно в такое время, на пороге войны, в преддверии почти полной неизвестности, Василий Надеждин пытался определить свое призвание. А ведь он был тогда молодым человеком. Душа его была полна намерений нечто в обществе изменить.
Большое участие в жизни Василия принимал родственник по отцу архиепископ Анастасий (Грибановский). Василий в течение многих лет поддерживал отношения с Владыкой Анастасием. Писал письма, засыпал Владыку вопросами, пускался в многочасовые беседы о том или ином церковном правиле. Василий следовал указаниям Владыки со старательной точностью и трудов не боялся. Как узнаем впоследствии, Владыку несколько раз переводили с одной кафедры на другую. И Василий, когда позволяли обстоятельства, отправлялся в очередное путешествие: навестить Владыку. Владыку Анастасия, кажется, можно назвать духовным учителем Василия. Их отношения всегда носили отпечаток полной открытости, особенного внимания — с одной, и благодушного доверия, которое поддерживалось строгостью и опытом — с другой.
В мае 1914 Владыка Анастасий получил назначение на Холмскую кафедру. По его приглашению Василий Федорович приехал в Холм. Май следующего, 1915, года Василий снова провел в Холмской епархии. Вместе с Владыкой Анастасием Василий посетил Леснинский Богородицкий мужской монастырь. Тогда же, в мае 1915 года, Василий посетил и Яблочинский Онуфриевский мужской монастырь и прожил там несколько дней. С дороги Василий писал родителям письма, делился впечатлениями. Вот одно из писем, в сокращении: «Я теперь очень подружился с архимандритом Сергием (Королевым). Мы с ним ходили пешком в их Белозерский скит, и я пришел в восторг, когда увидел Белое Озеро. Мы переплыли его на лодке… Обратно ехали на лошадях. Это было в субботу. Всенощная в монастыре продолжалась с шести до десяти с половиной часов, но она была настолько хороша и благолепна, что я выстоял ее всю без особого утомления. Был за монастырской трапезой. Едят здесь очень скромно. Я все любовался, как отец Сергий превращается в торжественного архимандрита в трапезе и в церкви. Я ему сказал это; он рассмеялся. „А то как же! А вы думаете, мы только босиком умеем ходить!..“ Он шел лесом в скит босиком. Мы с ним много говорили об идеальном пастырстве».
В 1916 году Василий Федорович окончил семинарию. Он жаждал продолжить образование и собирался поступать на философское отделение историко-филологического факультета Московского Университета. В то время жизнь виделась Василию на много лет вперед: он собирался окончить Университет и потом поступать в Московскую Духовную Академию. Василий продолжает поддерживать отношения с Владыкой Анастасием, несмотря на то, что оба разделены почти тысячей километров. Василий в одном из писем к Владыке открывает свое сокровенное желание: «…Я хочу окончить Духовную Академию и быть священником. Это решение подсказывает мне моя душа, которую привлекает пастырская деятельность. Я знаю (и бесспорно), что чем солиднее, обширнее и значительнее будет мое образование, тем ценнее для дела Церкви и интереснее для меня самого будет моя деятельность как пастыря»
Василий принял решение после окончания семинарии идти сразу же в Академию. Видимо, так благословил Владыка. К тому времени преосвященный Анастасий был переведен с севера на юг, из Холма в Молдавию, на Кишиневскую кафедру. В начале июня 1916 года Василий, по просьбе Владыки, выехал в Кишинев. Владыка часто приглашал Василия сопровождать его в поездках по епархии. К экзаменам в Духовную Академию Василию пришлось готовиться на новом месте, в промежутках между поездками.
Вот отрывки из писем той поры. Они похожи на путевые заметки.
«7 июля 1916 года. Рано утром я уехал с отцом игуменом Парамоном в Гиржавский монастырь. Замечательно красивые места, прямо Швейцария! Горы и долины с прудами; темный буковый лес, монастырь под горой, с которой мы насилу съехали на тормозах».
«Пошел с книгой по опушке леса. Направо темный лес, а налево долина и скат, покрытый виноградником, хлебом, лесом».
«Я тут совсем пустынником заделался: одичал и оброс, целые дни провожу в одиночестве и в молчании, брожу по опушке леса с книгами».
Василий поступил в Московскую Духовную Академию и с первого курса записался в группу, изучающую историю и западные религиозные течения. В нем было сильное воодушевление, он буквально бросался на книги, стремился полностью уйти «в интересную и серьезную работу».
Мировая война окончательно подточила силы страны. Учебные заведения буквально таяли на глазах. Осенний семестр 1916 года закончился неожиданно рано, 1 ноября. Весенний начался 20 февраля.
В конце ноября 1916 года Василий Федорович был приглашен семейством графа Медема в его имение, хутор «Александрия», которое находилось в Хвалынском уезде. Василий Федорович должен был преподавать детям графа, Федору и Софии, Закон Божий. Молодой учитель, сам буквально пламенеющий жаждой знаний, смог затеплить и в детях интерес к предмету, который казался в то время большинству находившихся за школьной партой чем-то необязательным. У Василия была и своя выгода: как будущий священник, он пробовал свои силы, много наблюдал за детьми и взрослыми.
Вот отрывок из письма того периода к Елене Сергеевне Борисоглебской:
«Мы медленно, но верно сближаемся. Во-первых, конечно, с Федей, который очень охотно приходит ко мне и помимо уроков. Мешает заниматься, извиняется и спешит уходить, а мне жалко прогонять его. Особенно горячо беседуем с ним на уроках Закона Божия. Сегодня немного поколебались: как нам быть с седьмою заповедью… пропустить или учить? Я решил, что надо ее пройти, и стал ему объяснять. Он внимательно слушал, но сидел ко мне почти спиной, хороший! Софинька тоже ко мне привыкла, так много задает вопросов на уроке, что я хорошо устаю после двух уроков подряд…»
Сохранилось свидетельство, что в конце Рождественского Поста и в самый день праздника Василий Федорович много читал и пел с певчими в усадебной церкви, и сказал маленькую проповедь за Божественной Литургией. Он говорил о том, что, несмотря на переживаемые Россией потери, православные русские люди должны иметь радость во Христе, ибо защитники Отечества приняли на себя иго Христа и исполняют его Заповедь: любить до смерти. Так вышло, что это небольшое слово можно отнести и нему самому.
В конце февраля 1917 года Василий Федорович вернулся в Москву и продолжил обучение в Духовной Академии. Приближалась революция. Известие об отречении Императора Николая Второго было встречено многими студентами с ликованием, в ожидании будущих перемен к лучшему. Василий Федорович тоже надеялся на перемены, но настроен был более трезво: «Бог даст, республики не будет, она нам мало к лицу».
После окончания весеннего семестра Василий уехал в имение графа Медема и возобновил занятия с Софьей и Федором. В праздник Первоверховных Апостолов Петра и Павла Василий Федорович произнес за обедней в сельской усадьбе проповедь. Говорил, что многие не в состоянии оценить подвиги Апостолов, узнать внутреннюю историю их подвижничества. Что все происходящее: неповиновение властям, грабежи, захваты имуществ, убийства-самосуды и успехи антихристианской проповеди свидетельствуют о том, что большая часть русского народа совершенно не просвещена христианством. Василий Федорович говорил и о приближении к последним временам, как их описывает Апостол Павел. За смелое высказывание Василию пришлось пережить нападение. Молодежь села Аграфеновки, разделявшая революционные взгляды, подкараулила Василия и Федора, когда те возвращались из села Черный Затон в Александрию, и угрожала расправой «над попами и помещиками».
К началу нового учебного года Василий Федорович возвратился в Сергиев Посад. В Академии было «холодно, голодно и неуютно». Условия содержания студентов ухудшились до предела, сократилось число лекций и зачетов. Однако была введена новая программа, а лекции по Новому Завету читал архимандрит Илларион (Троицкий).
До священнического сана оставалось совсем немного. Василий уже задумывался, уже примеривался, будто ему подул попутный ветер. В ноябре 1917, при содействии Владыки Анастасия посетил несколько совещаний Поместного собора в Епархиальном доме. Он смотрел во все глаза, слушал, запоминал и делился наблюдениями с близкими. Василий Федорович уже подумывал о месте псаломщика в одном из московских храмов и советовался о том с Владыкой Анастасием.
В начале 1918 года, на святках, Василий Федорович был помолвлен с Еленой Сергеевной Борисоглебской, дочерью певца Большого театра Сергея Александровича Борисоглебского. Елена Сергеевна была довольно высокого роста, статная, с приятным круглым лицом, с котором было что-то восточное, и большими светлыми глазами, смотревшими, кажется, в самое сердце собеседника.
Вот отрывки из писем Василия Федоровича к Елене Сергеевне:
«С одной стороны для меня невыразимо приятно сознавать, что у меня нет и не может быть никакой иной любви и привязанности, как только к тебе. С другой стороны, я вполне сознаю, что недостоин тебя, и не стою тебя, и не знаю, когда установится между нами равновесие. Кажется мне, что ты больше обогатила меня своим „невестием“, чем я тебя своим „жениховством“».
«Как грустно мне слышать твой тихий, усталый голос и подозревать за ним непраздничное настроение. Надеюсь, что не будет этого в Светлые дни Пасхи. Что бы ни было — они должны быть для нас всегда светлыми, всегда радостными. Сегодня Плащаница возвратила мне Христа моего, Которого я так боюсь всегда терять из сердца, из души, а последнее теперь так часто угрожает… Теряется и губится душа в житейской суматохе; если бы ты знала, как это я теперь почувствовал на своем горьком опыте. Блажени воистину, я же избрал и приял еси, Господи, и, конечно, память их в род и род, а не с шумом мимо идет.»
Русская Церковь снова обрела древнее Патриаршество. Но начались гонения. В августе 1918 года Василий пришел ко всенощной в свой приходской храм и увидел, что на клиросе поет один псаломщик. Василий Федорович тоже встал на клирос, читал и пел. В самый день праздника Преображения, 19 августа 1918 года, вечером, он поехал в Политехнический музей, где шел диспут на тему «Советская власть и Церковь». В диспуте принимали участие нарком просвещения Луначарский, член Поместного Собора протоиерей Константин Агеев и последователь учения Льва Толстого, профессор Петроградского университета Поссе. Аудитория была полна, были заняты все проходы, собравшиеся поддерживали атеистов. Из Политехнического музея Василий ушел с тяжелым чувством, «разбитый не умом, а сердцем». «Мне больно и жутко не за себя, не за тебя, а за многих русских людей, губящих свои души, — писал он Елене Сергеевне. — „Борьба за душу человеческую“, — сказал Луначарский. Нет, не борьба, но только стихийное антихристово душегубительство — и несть изымаяй».
Занятия в Академии возобновились после Успенского Поста 1918 года. Василий Федорович обрадовался, он снова стал чувствовать себя «как рыба в воде». В первый академический день нового учебного года Василий Федорович с тремя сокурсниками отправился к отцу Павлу Флоренскому, которого глубоко уважал, чтобы поздравить его с десятилетием первой лекции в Академии. В гостях у отца Павла говорили о современных событиях. Флоренский прочитал предсказания о будущем России преподобного Серафима Саровского. Влияние отца Павла Флоренского на тогдашнюю верующую молодежь трудно переоценить. Можно представить, что Василий Федорович ловил каждое слово.
Весной 1919 года, на пятой седмице Великого Поста, Московская Духовная Академия была закрыта. Царили голод и эпидемия сыпного тифа.
Сестра Василия Федоровича Екатерина в то время овдовела, оставшись с малолетними детьми на руках. Василий снова собрался в дорогу: в село Никольский Поим Пензенской губернии. Там жил его друг, священник Иоанн Козлов. Василия приняли в местную гимназию учителем математики.
Начались новые гонения. В Никольском Поиме в дни Великого Поста было получено известие о поругании святых мощей в Воронеже. 23 марта на Божественной Литургии отец Иоанн Козлов сказал проповедь, обличающую действия безбожной власти по отношению к святыне. В тот же день за вечерней Василий Федорович сказал слово о Кресте Христовом. Вечерня вышла очень торжественная. Народу собралось много, молодежь и интеллигенция. Церковные песнопения пел добровольно собравшийся хор. Три служащих священника читали после вечерни Акафист Божественным Страстям Христовым.
В апреле 1919 года Василий возвратился в Москву. На Пасху, в Фомину неделю, обвенчался с Еленой Сергеевной. На фотографии тех лет милое лицо Елены Сергеевны, с ямочками на щеках и чуть заостренным подбородком кажется будто заплаканным. В руках — большой букет цветущей сирени. После венчания Василий Федорович увез жену в Никольский Поим. Там молодая семья прожила до 1921 года. Василий Федорович так же преподавал в гимназии. Однако, намерения быть священником, несмотря на множество препятствий, он не оставил. Будущий пастырь усердно помогал близким, разделял как мог их тяготы и созревал духом для будущего служения. В нем, наверное, стало меньше юной горячности, но зато появился опыт и твердость. Семейная жизнь для Василия Федоровича стала как бы трамплином к его будущей семье — его пастве. Кроме сестры Екатерины и ее детей на попечении Василия находилась и тяжело больная родная сестра Анна. Болезнь Анны завершилась трагически: она скоропостижно скончалась. Отец, Федор Алексеевич, вполне понимая трудности, свалившиеся на его любимого сына, писал, утешая Василия: «Бедный наш мальчик, как много жизненных осложнений свалилось на твою милую головку! Утешаюсь мыслью, что, может быть, Господь Бог испытует Своего избранника. А все-таки, несмотря ни на какие личные невзгоды и напасти, следует спешить делать добро».
В июле 1920 года Василий Федорович вернулся в Москву, сдать выпускные экзамены в Академию. Выпускники для сдачи экзаменов приходили на квартиру к отцу Владимиру Страхову. Еще после смерти сестры Анны Василий Федорович принял решение перебраться поближе к Москве, а теперь представилась возможность. В начале 1921 года Василий Федорович устроился счетоводом в Построечном управлении узкоколейки города Орехово-Зуево. Состоялся переезд в Петровско-Разумовское, к тестю Василия Федоровича, отцу Елены Сергеевны, Сергею Андреевичу Борисоглебскому.
3 июля 1921 года Василий Федорович был рукоположен Святейшим Патриархом Тихоном во диакона, а уже 7 июля, в праздник Рождества Иоанна Предтечи — во иерея. Приписан к церкви во имя святителя и Чудотворца Николая у Соломенной Сторожки.
Храм Святителя Николая у Соломенной Сторожки — единственное место священнического служения отца Василия до самого дня его ареста в 1929 году. Храм был построен усердием офицеров 675 пешей тульской дружины, расквартированной в Петровско-Разумовском. Автор проекта — Федор Шехтель. Храм освящал Можайский епископ Димитрий (Добросердов) в 1916 году. Церковь была построена на земле Сельскохозяйственного Института и приписана к Институтской Петропавловской церкви. Институтский храм, как и все храмы при учебных заведениях, после революции был закрыт, а его прихожане стали посещать Никольскую церковь. К 1924 году в южной части летнего неотапливаемого храма был устроен теплый придел.
Прихожане Никольского храма в начале двадцатых годов были, в основном, из научной интеллигенции, служившей при Сельхозинституте. Новый священник всем пришелся по душе, и вскоре группа профессоров Института — после того, как институтский храм был закрыт, — обратилась к отцу Василию с просьбой заняться христианским просвещением их детей. Отец Василий словно бы ждал этого предложения. Ведь он готовил себя именно к этой деятельности! Вскоре в храме появился большой прекрасный хор, составленный из приходской молодежи. Отец Василий очень много времени проводил с детьми, и, кажется, просто не мог от них устать. Вел с ними долгие беседы об основах христианского нравственного учения и отвечал на бесконечные вопросы. Вместе с подопечными посещал порой концерты классической музыки, разбирал литературные произведения. Помогали члены приходской общины.
В январе 1927 года матушка Елена Сергеевна родила сына Сергея. К тому времени у Надеждиных подрастал помощник — сын Даниил. Матушка ожидала прихода отца Василия в клинику, но вместо батюшки пришел Сергей Алексеевич Никитин и принес такую записку: «Я не могу никому позволить вмешиваться в мою пастырскую деятельность, она всегда будет у меня на первом плане. Ты это знаешь и понимаешь меня, а потому и не будешь осуждать меня или сердиться на меня как жена моя».
Именно на этот день назначен доклад Николая Степановича Педашенко о первых веках христианства, и отцу Василию необходимо было на нем присутствовать.
Эту записку можно посчитать небрежностью.
Знаком невнимания к близким. Но если вспомнить, сколько оставалось отцу Василию жить и служить — записка выглядит почти пророческой. Он, конечно, в точности не знал — сколько жить и служить. Но Господь готовил его к кончине.
Стараниями отца Василия в 20‑е годы в доме Клушанцевых была устроена своего рода начальная школа для небольшой группы детей прихожан Никольского храма. Сам отец Василий преподавал в ней Закон Божий и общеобразовательные предметы. Радость о Господе, которая, кажется, никогда и не покидала его, мгновенно сообщалась окружающим: и на богослужении, и помимо него. Черта эта необыкновенно становилась заметной в день Святой Пасхи. Порой голос батюшки просто тонул в мощном хоре собравшихся к заутрене.
Весной 1928 года у отца Василия было обострение туберкулеза, и ему пришлось летом уехать в Башкирию на лечение кумысом. В отсутствие отца Василия в Никольском храме служил вместо него отец Владимир Амбарцумов, недавно прославленный в сонме священномучеников. В Башкирии батюшка молился за богослужением в местной церкви. Его интересовало все: как долго служат, что поют и читают, какие особенности приходской жизни можно усвоить. «Служат здесь хорошо, — писал отец Василий из Башкирии, — уставнее нашего. Это очень приятно, когда священство на высоте. Местный Архиерей обязал священников всякое Таинство предварять объяснительным поучением. Вот это правильно, а мы еще не додумались до этого. Стоял и вспоминал мою церковку. Как-то у вас там все?». Письма отца Василия к духовным чадам прочитывались вслух, в кругу его духовной семьи, которая никогда не оставалась без его духовной заботы. Чтение писем батюшки напоминало то, как в древности читались послания Апостола Павла.
Паства отца Василия состояла из людей «старого толка» и из молодежи — старый да малый. Однако слаженность и взаимопонимание в ней царили истинно христианские, и все ее члены, каждый на свой лад, были немножко воинами Христовыми.
28 октября 1929 года отец Василий был арестован и помещен в Бутырскую тюрьму. С обыском нагрянули внезапно, но батюшка сумел передать Елене Сергеевне письмо, обнаружение которого могло повлечь за собою арест одного из его духовных чад.
1 ноября состоялся первый допрос. Следствие вел старший оперуполномоченный шестого отделения Секретного отдела ОГПУ А. В. Казанский.
Вот несколько фрагментов из протоколов допроса. По ним можно заметить, что отец Василий отвечает на вопросы следователя, сохраняя внешнее спокойствие и при том очень внимательно, стараясь сохранять ровный тон общения и даже некоторое благодушие. Батюшка не старается отрицать очевидные факты, но придает им видимость обыденных для него дел, как бы смягчая их. Влияние первых дней в заключении (а отцу Василию уже, наверно, ясно было, что оно закончится очень не скоро) будто не сказывается. Будто на вопросы отвечает не голодный и невыспавшийся человек, а знакомый следователя.
«Что касается степени моей политической грамотности, то я совершенно теряюсь при политике в жизни. Я, например, разбирал в свое время трактат Данте „О монархии“. Я принимаю, или, вернее, мог бы принять его стройную систему: помазанника Божия на престоле, возглавляющего нацию, и так далее. Но практика монархизма меня отталкивает.
У меня, действительно, был текст доклада профессора Лосева „Об имени Божием“, на чтении которого были Педашенко (сейчас, кажется, безработный историк), Шенрок (библиотекарь 1‑го МГУ), Возможно, что Некрасова Лидия Ивановна с дочерью; в общем, было человек до десяти. Бывал у меня Новоселов два раза, в последнее время, перед арестом. То, что он скрывался и конспирировался, я знал, но вовсе не представлял себе действительные причины этой необходимости скрываться.
Чтобы Новоселов был по убеждениям, как я представляю, каким-нибудь особым революционером, это вряд ли. Его критика распутинщины касалась, главным образом, влияния Распутина на церковную жизнь. Как я себе представляю, Новоселов хотел просто „почистить“ самодержавие. Сам я с ним на эти темы не беседовал. Флоренский был у меня один раз. Новоселов также считал себя имяславцем.
О близкой ко мне молодежи могу сказать следующее: пришла ко мне она сама. Все лица, впоследствии бывавшие у меня, были связаны между собой еще школой, где они вместе учились. Вероятно, поэтому они также всей группой и перешли ко мне. У меня в церкви эта молодежь пела в хоре. Собираясь у меня на квартире, молодежь обыкновенно пела из опер под аккомпанемент моей жены. Церковные спевки происходили в церкви. У меня на квартире духовного пели мало.
Делал доклад о впечатлениях от моей поездки в Саровскую пустынь, о тех сказаниях, которые связаны с Дивеевским монастырем и Преподобным Серафимом Саровским. Между прочим, рассказывал им о том, как во исполнение приказания Серафима умерла Елена Мантурова (в послушание, как мы говорим).
Были у меня беседы, посвященные юбилею Первого Вселенского Собора, Григория Богослова и Василия Великого. Собственно, проповедь в церкви была по этим вопросам, а дома молодежи я читал только некоторые документы той эпохи.
Специальных вопросов по поводу существующего социального порядка и по поводу отдельных моментов взаимоотношения Церкви и государства, равно и чисто политических вопросов, мы никогда не обсуждали. Последние, то есть политические вопросы, иногда только, и то вскользь, в обывательском разрезе, трактовались у нас. Говорили, например, что жестока политика власти по отношению детей лишенцев и к лишенцам вообще. Специально вопросов о лишенцах не разбирали.
В вопросах об арестах церковников я придерживаюсь той точки зрения, что трудно провести грань между церковным и антисоветским, и что поэтому со стороны власти возможны перегибы. Только в таком разрезе я и касался этого вопроса в беседах с молодежью, не ставя, конечно, этот вопрос темой для беседы. Молодежь у меня принимает участие в церковных делах с 1921 года. Всего у меня не больше десяти человек. Пять девочек: две дочери Мерцалова (профессора Института). Одна из них, по имени Мария, учится в 1‑м МГУ; другая, Надежда, еще не держала экзамен. Две дочери бывшего торговца, теперь совслужащего, Целиева Василия Ивановича, Татьяна и Клавдия (они собираются готовиться в вуз). Елизавета Обыдова (учится на курсах иностранных языков). Кроме того, есть младшие девочки, учащиеся петь в хоре: Калошина, Борисова, Целиева. Из мужской молодежи: Иван Барановский (служащие Тимирязевской Академии), Петр Столыпин (сын бывшего священника), сезонник в совхозе около Хлебникова, Виталий Некрасов (студент Тимирязевской Академии). Остальные — более случайного порядка. Игорь Фортунатов, сын профессора Фортунатова, бывает редко.
Когда у нас затрагивался вопрос об исповедничестве, то есть о возможности примирения верующих с окружающими условиями, то здесь я проводил такую точку зрения: есть пределы (для каждого различные), в которых христианин может примиряться с окружающей его нехристианской действительностью; при нарушении этих пределов он должен уже примиряться с возможностью и неприятных для него лично изменений условий его жизни, иначе он не христианин. Христианином надо быть не только по имени…»
В Бутырской тюрьме Отец Василий встретился с отцом Сергием Мечевым, которого хорошо знал. Их беседа продолжалась несколько часов и была очень значительной для обоих. Отец Сергий засвидетельствовал впоследствии, что отец Василий был уже готов предстать пред Господом.
Отец Василий был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения, но ввиду того, что навигация была уже закрыта, оставлен до весны в Кеми. В декабре 1929 года отец Василий заболел тифом, и его перевели в лагерный лазарет.
В санчасти, после неудачной инъекции, у отца Василия началась еще и гангрена.
Матушке Елене Сергеевне разрешили приехать к умирающему мужу. Она писала родным:
«Хожу утром и вечером вдоль деревянного забора с проволокой наверху и дохожу до лазарета, где лежит мое кроткое угасающее солнышко. Вижу верхнюю часть замерзшего окна, посылаю привет и молюсь. В три часа делаю передачу молока, бульона (кур здесь достать можно), получаю его расписку, написанную слабым почерком. Вот и все… Каждый раз, как отворяется дверь нашей квартиры, я смотрю, не пришли ли сказать роковую весть. Его остригли, изменился он сильно и исхудал. Говорят, перевязки мучительны для него. Прошу отца Владимира помолиться; на Маросейку и на Дмитровку передайте.»
Перед своей кончиной 19 февраля 1930 года отец Василий сподобился принятия Святых Христовых Тайн. Последние слова его были: «Господи, спаси благочестивыя и услыши ны». Начальник лагеря разрешил матушке Елене Сергеевне молиться ночью рядом с умершим мужем и предать его тело погребению.
Закончить рассказ об отце Василии хочется его же словами. Словами его последнего письма. Оно лучше всяких надгробных слов.
«Господи, помоги мне сделать это хорошо.
Сегодня, в День Ангела моего старшего сынка, моего Додика, мне пришла мысль грустная, но, кажется мне, правильная, что я должен написать прощальное письмо на случай моей смерти. Ибо, если я заболею тифом, то писать уже не смогу, никого из близких не увижу и не услышу, не смогу ничего передать им, кроме этого письма, если оно будет написано заранее и… если Господь устроит так, что оно дойдет до моих близких. Это письмо должно заменить меня, прощание со мною, участие в моих похоронах, которые произойдут здесь, без участия моих близких, без их молитвы и слез… Пишу все это спокойно и благодушно, ибо в душе живет неистребимая „надеждинская“ надежда, что я вовсе не умру здесь, что я уеду из этого проклятого места и увижу еще всех моих дорогих. Но это будет дело особой милости Божией, которой я, может быть, и не заслужил. А потому пишу это письмо.
Первое слово к тебе, моя дорогая, любимая, единственная Элинька, моя Ленуся! Прежде всего, благословляю тебя за твою верную любовь, за твою дружбу, за твою преданность мне, за твою неисчерпаемую нежность, неувядающую свежесть любовных отношений, за твою умную чуткость ко всему моему, за твои подвиги и труды, связанные с пятикратным материнством, за все лишения, связанные с твоим замужеством, наконец, за все эти последние слезы разлуки после моего ареста. Да воздаст тебе Господь за все, да вознаградит тебя любовь наших детей, любовь моих печальных родителей (если они переживут меня), моих братьев и сестер, всех моих друзей. Увы, я так мало любил тебя за последние годы, так мало принадлежал тебе духовно; благодарю тебя за наши последние встречи в Ильинском, на Сенеже; благодарю тебя за то, что ты удержала меня при себе и просила не торопиться переезжать в новую квартиру. Как хорошо нам было вместе в нашей кают-компании! Как ярко вспоминаю я наш уют, наш светлый мир, наше семейное счастье, тобою созданное и украшенное! Десять лет безоблачного счастья! Есть что вспомнить! Есть за что горячо благодарить Бога. И мы с тобой должны это сделать. Во всяком случае. И в том, если ты уже меня не увидишь на этом свете… Да будет воля Божия! Мы дождемся радостного свидания в светлом царстве любви и радости, где уже никто не сможет разлучить нас. И ты расскажешь мне о том, как прожила ты жизнь без меня, как ты сумела по-христиански воспитать наших детей, как ты сумела внушить им ужас и отвращение к мрачному безбожному мировоззрению и запечатлеть в их сердцах светлый образ Христа. Прошу тебя, не унывай; я буду с тобой силою моей любви, которая „никогда не отпадает“. Мое желание: воспитай детей церковно и сделай их образованными по-европейски и по-русски; пусть мои дети сумеют понять и полюбить книги своего отца и воспринять ту высокую культуру, которой он дышал и жил. Приобщи их к духовному опыту и к искусству, какому угодно, лишь бы подлинному. Кто-то из моих сыновей должен быть священником, чтобы продолжать служение отца и возносить за него молитвы. Ведь я так мало успел сделать и так много хотел! Элинька, милая моя! Если бы ты знала, если бы знали люди, как мне легко было любить, и как я был счастлив чувствовать себя в центре любви, излучающейся от меня и ко мне возвращающейся! Как мне сладко было быть священником! Да простит мне Господь мои слабости и грехи по вашим святым молитвам! Благодарю тебя за твою музыку, за музыку души твоей, которую я услышал. Прости, родная! Мир тебе. Люблю тебя навсегда, вечно.»
Письмо это было получено в Москве в день кончины отца Василия, 19 февраля.
Крест из фанеры
(из воспоминаний Е. Шик об отце, священнике Михаиле Шике)
Крестное древо уже на земле.
Слава страстям Твоим, Господи!
Жгучий венец на Пречистом Челе.
Слава страстям Твоим, Господи!
Благо тому, кто на страсти грядет!
Агнец избранный заклания,
Тебе сораспятый с Тобою умрет
И воскреснет в Тебе по Писанию.
Это первое из стихотворений «В Страстную Седмицу». Гимническое, напевное. Будто созданное для хора. Написал его один из бесчисленных мучеников страшной поры гонений — священник Михаил Шик. В журнале «Альфа и Омега» опубликованы воспоминания его дочери, по большей части написанные со слов матери. Читать их порою невозможно — так скупо и просто описывается ежедневный… труд? ад? существования. Возвращаясь от чтения в свою комнату к обычным вещам, думаешь — нет более непохожих миров, чем тот и другой, в котором нахожусь. В одной стране, почти в одном городе…
И все же есть нечто, роднящее эти воспоминания с современностью. Запредельное напряжение сил. Близость внезапной гибели. Цинизм и гнусность лжи, ставшей обыденностью. Кажется, что это было всегда. Но чтобы — так просто, как говорят, «на голубом глазу»! Это очень важно понять. Человек бывает ненавидим не за то, что он сделал. А за то, что он не делает, делать не хочет и не будет. С точки зрения лжи, уничтожать надо слабых. Слабым, с точки зрения лжи, является тот, кто не убивает того, кто на него нападает. Есть или нет принципы — неважно. Верен или нет им — неважно. Какие принципы — тем более неважно. Важно вот что: в отношении того или другого человека я могу себе позволить вести себя как хозяин. Это ободряет. Это создает иллюзию собственной значительности и силы.
На этапах в те страшные времена верховодили уголовники. Они, не сомневаясь, обирали неуголовников, потому что те стояли на ступень ниже в лагерной иерархии. Священник, попавший в одно помещение с уголовниками, мог ожидать любого с собой обращения. И никакая охрана за него не заступилась бы. Наоборот, священникам часто приписывали сотрудничество с властью (которую уголовники, конечно, не любили), распускали слухи. Уголовники могли и убить «стукача». Иногда священников нарочно размещали в одном помещении с уголовниками.
Отец Михаил Шик шел по этапу в Самарканд как раз с уголовниками. Но сначала — о том, кто этот священник и как рос в судьбе его этот крест… из фанеры, но истинно Христов.
В роду отца Михаила были раввины. Учился он в одной из самых престижных московских гимназий, его однокашниками были сыновья ученого Вернадского и художника Поленова. Евангелие и строй православных богослужений привлекали его, но решение принять Святое Крещение принято было только годы спустя. В Первую Мировую Михаил служил в хозяйственных частях. Крещение принял в 31-летнем возрасте, в Киеве. Святое имя было выбрано Михаил — в честь князя Михаила Черниговского, одного из первых русских святых. «Почему же не в честь Архистратига Михаила?» — недоумевала подруга жены. Михаил ответил, что чувствует как бы родство и сходство судеб с Черниговским князем. Кончина Михаила Черниговского была мученической. В дореволюционные годы на мученичество в судьбе Михаила Шика ничто не указывало.
Один из собеседников обратил внимание на высказывание Шика: «Не гордыня ли — притязать непременно на мученический венец». М. <…> усмехнулся и <…> сказал: «До венца тому, кого пошлют туда, куда Макар телят не гонял, еще очень далеко. И венец там получить трудно, потому что жизнь там нелегкая. И так ее вынести, чтобы попасть в ряд святых мучеников — удел немногих. Ведет сюда обыкновенных, грешных людей — логика первого решения <…> и логика исторического момента». Надеть крест — значит, быть готовым собой пожертвовать. Принять священство — все равно что отдать себя на растерзание. Но к жертве почти невозможно быть готовым. Боль, утомление, голод, смерть. Это можно предвидеть, но не реагировать на это невозможно.
Дальше события развивались с ужасающей простотой и ясностью. Некоторое время относительного семейного благополучия, и потом — началось. Бутырка, болезни, унижение. Все не передать. Но мне запомнился один случай, который перескажу. 1926 год, Самарканд. Изложение событий, описанных в небольшой весточке к жене.
Отец Михаил следует к месту ссылки, в Чарджуй (Чарджоу) по этапу. Арестантов немного, так что «буржуи» — политические — находятся в одном помещении с уголовниками, «шпаной». Шпана, применив нехитрые методы, запугала «буржуев» и обложила их поборами. Деньги, курево, продукты, вещи — шпане нужно все, и она без особенного труда это получает. Наряду с поборами «ребятки» практикуются в известном им мастерстве — воруют. Иногда устраивают, ради развлечения, шутки. Опасные шутки — но такова атмосфера лагеря. Никакой героики. Никакой романтики. Весь пафос — в том, что взял чужую вещь. На этапе это очень несложно. Других развлечений нет, и не предвидится.
Вместе с группой заключенных, в которой находился отец Михаил, прибыла другая группа. В ней — бывшие начальствующие лица с острова в Аральском море, называемом остров Возрождения. Змея пожирала свой хвост — прибывшие были такими же чекистами. А стали врагами народа. Как скупо записал отец Михаил, «шпана порывалась свести счеты с этой компанией». Конечно, для уголовников это были такие же менты, из-за которых многим «ребяткам» пришлось теперь ехать в Чарджоу. Возможно, желание «разобраться» подогревалось и охранниками. Но атмосфера точно стала грозовая. Однажды отец Михаил вышел в туалет без подрясника — эта одежда говорила о его сане и служила как бы опознавательным знаком. Тут же подвалили двое молодцов, «на эмоциях». И стали допрашивать, не он ли начальник «острова», как прозвали группу бывших начальствующих лиц. Отец Михаил сказал, что нет. В доказательство показал свою косицу: мол, я по другой части, я духовного звания. Молодцы, секунду подумав, отошли в сторону и стали шептаться. Вернулись, в глазах — сомнение: «А крест носишь?» Исповедь, что ты будешь делать.
Тогда отец Михаил достал вырезанный в Бутырках крест, из фанеры. Фанерному кресту молодцы не поверили. «Почему фанерный?». «Потому что в ГПУ кресты снимают», — ответил отец Михаил. Молодцы переглянулись.
— Точно. Они же против религии идут.
Как могли эти молодцы сочувствовать религии? Что для них была вера? Этого уже никогда не узнать. Но Христос не зря сказал покаявшемуся разбойнику: нынче со Мною будешь в раю. Самодельный фанерный крест оградил священника от нападения и побоев. Фанерный крест, вырезанный в скорбных думах о себе, о семье… и о Кресте Христовом. Не освященный в церкви, носимый так, чтобы не очень было заметно. Но без креста никак нельзя. Христианин держится за крест — и Крест держит его. Даже такой, фанерный.
Младший помощник
(будущий патриарх Сергий (Страгородский) в Японии)
В одном из разговоров о судьбе православия в экзотических странах, да и вообще о других странах, мой знакомый Кирилл сказал: — Знаю только два народа, у которых есть врожденная тяга к тому, что могу назвать «орднунг», порядок. Немцы и японцы. Не зря Япония была на стороне Гитлера во время Второй мировой войны.
Мысль запала; поначалу я согласилась только для виду, а потом поняла, что именно виду имел Кирилл. В то время, двадцать лет назад, мы увлекались дальневосточными культурами (я, в основном, поэзией, Кирилл — рисунком и боевыми искусствами, хотя и относился довольно критически). Эта тяга к порядку имеет в основе очень трепетное чувство. Небольшие, довольно скудные, пространства, трудные для земледелия. Потому в современной Японии каждое дерево в городе кажется посаженным в специальный огромный сосуд, а полы подъездов в немецких домах моют особым составом. Внешне чрезвычайная аккуратность выглядит почти нелепо. Что изменится от того, если вымыть дорожку перед домом с шампунем или же поменять песок возле клумбы? Оказывается, и я очень поняла, что многое изменится. Ведь в православном мире так же: или ты читаешь молитвы кое-как, в кресле с поджатыми ногами, или стоишь. С поджатыми ногами, конечно, доверительнее. Кажется, что так свидетельствуешь свою немощь. Но это не совсем молитва, а что-то вроде необязательной беседы, хотя в чрезвычайных ситуациях, может, и простительно. А если болит спина, и все равно стоишь — вот тут уже можно поговорить о том, как молишься и как сознаешь свою немощь. Кирилл выразился «орднунг», порядок, следование системным командам. Но в основе — любовь к идеальному, тяга… к лучшей жизни. И… нематериальной жизни. Японец любит свои иероглифы, которые нельзя взять в руки, которые даже не слова, а фрагменты увиденного, он отличает одну свою азбуку от другой, хирокану от катаканы. Немец-слесарь обращается к хозяйке, вызвавшей его — «Гуте фрау», «добрая женщина», как говорили в пятнадцатом веке. Почти аскетика. Здесь нет места дурной слабости. Но есть место любви.
Когда в конце девяностых приобрела в книжной лавке Афонского подворья в Москве книгу «Николай-До», записки Апостола Японии, святителя Николая (Касаткина), не очень понимала, что именно я приобрела вместе с этой книгой. Начала читать, и некоторое время, пока читала, находилась в состоянии духовного головокружения. Мир, открывавшийся на страницах этой книги, настолько не походил на тот, который я знала, что эти подлинные сведения казались чем-то вроде фэнтези. И, тем не менее, были поразительно узнаваемы люди. Конец девятнадцатого века, а характеры — как у нас. Не в самом, конечно, лучшем — страхи, суеверия, неглубокость, самооправдания. Но в лучшем — непосредственность, чистота, желание верить. Многие мои церковные знакомые верили по нужде. Сначала было «надо», которое на кодекс бушидо отнюдь не походило, а потом уже — Христос. Святитель Николай пишет о людях, японцах, у которых в начале веры был Христос, а потом — их японский христианский бушидо. Хотя многие из уверовавших во Христа японцев были простыми крестьянами, а отнюдь не знатными людьми. Такой вот Куросава. Впрочем, надо жить, где тебя как растение посадили — и это хорошо, что я живу в своих времени и стране.
Книга «Николай-До» легла сразу куда-то на дно, как нечто очень важное. Вскоре головокружение прекратилось, но порой из памяти, как островки в Желтом море, выплывали фрагменты: просторная, с низким сводом, чистенькая комнатка, тишина, бесшумные, в широких цветных одеждах, люди, беспрестанно кланяющиеся, с желтолицыми улыбками. Эти люди то порхают как бабочки, нося доски и камни, и, кажется, в этих строительных материалах нет никакого веса. То пятятся назад, невесть что подумав, плотно упаковав свои мысли в рисовую улыбку, и исчезают. Так же бесшумно, как и появились. А светлые комнаты с низкими сводами и диковинными цветами все так же светлы и полны тишины. Когда рассматривала фотографии икон иконостаса Николай-До, была поражена изображением Божией Матери на деисусе: так у нас не рисуют. Лицо почти в профиль… даже совсем в профиль. И льются длинные смиренные линии. Святитель один, смотрит на закат и… делает записи в дневник. Приближается вечерня.
«В церкви было гораздо больше русских матросов, чем японских христиан. И свечей же наставили! Всех и расставить не могли — места не хватило; оставшиеся будут поставлены при дальнейших богослужениях — так и матросикам объяснено. После Литургии многие из них пожелали отслужить молебен Спасителю. Я спросил:
— Есть ли между вами могущие петь молебен?
— Нет, — ответили.
— В таком случае и священник, и пение будут японские.
— Для нас это — все равно, Господь Бог не положил различие в языке для молитвы.
Да наградит Господь Своею Благодатью такое истинно православное суждение!» (Из дневников святителя)
Много лет спустя, готовясь к написанию книги, сбившись с ног и отчаявшись найти нужный материал, вдруг обнаружила статью Александра Дворкина о японском периоде служения Патриарха Сергия (Страгородского). И ушедшие на дно японские воспоминания снова вышли на поверхность. Снова вспомнились трогательные и отчего-то беззащитные, но излучающие ярчайший свет старые фото. Вот фрагмент работы Дворкина. Взят, конечно, из любимой «Альфы и Омеги»: «В назначенное время „Кострома“ вышла на рейд, где и простояла целый день к величайшему разочарованию и досаде пассажиров, нетерпеливо ожидавших начала путешествия. Молодой священник был одним из самых нетерпеливых. Несколько раз он справлялся у членов команды о времени отправления и сокрушенно разводил руками, когда ему повторяли, что пароход отдаст якоря не раньше двенадцати ночи. Нетерпеливого пассажира можно было видеть на палубе до самого вечера, но отплытия он так и не дождался: когда в полночь „Кострома“ вышла в открытое море, священник крепко спал в своей каюте — накопившаяся за предотъездные дни усталость дала себя знать. Священника звали иеромонахом Сергием. Он направлялся на миссионерскую работу в Японию по путевке Санкт-Петербургской Духовной Академии… Отец Сергий пробыл в Японии около двух с половиной лет, из которых почти полгода он заменял судового священника на военном крейсере „Память Азова“. Весной 1893 г. ему был вручен указ о переводе в Россию».
Этот образ — яркий, юный, порывистый — никак не вязался с образом Патриарха Сергия, фигуры неоднозначной, человека волевого, не особенно придававшего значение чужим мнениям, что, вероятно, и сыграло свою роль в отношении к нему церковной общественности и верующих. Но я могу ошибиться; в очерке это допустимо. Не пытаюсь дать оценки; моя задача — показать небольшую картинку из жизни японских христиан начала двадцатого века, всем нам родного, чтобы лучше (прежде всего мне самой) можно было бы ценить то, что здесь и сейчас — возможность каждое воскресенье ходить в храм, часто причащаться, знать, что есть духовник. Вероятно, эта духовная близорукость есть у всех, и была всегда — то, что рядом, что досталось легко, по рождению — неценно. Ценно то, во что вложен труд. Хотя как знать. Пирог с капустой в трапезной стоит что-то около тридцати рублей, а у меня от него — изжога. Но эти тридцать рублей надо заработать; пирог с изжогой — своего рода православная роскошь. И он бывает необходим.
Из дневников Святителя Николая Японского: «Утром английский путешественник явился с рекомендательным письмом от епископа.
— Думаете ли вы, что Япония сделается христианской?
— Без всякого сомнения! Сто лет не пройдет, как Япония вообще станет христианской страной. Смотрите, с какою легкостью распространяются здесь самые нелепые секты вроде „Тенрикео“; значит… японская душа в религиозном отношении пуста — ничто не наполняет ее, — изверились старые веры, — открыто место для новых верований. „Тенрикео“ и т. п. удобно распространяются [потому], что слишком легко принять их. простые, неглубокие. слишком мало содержания в них; не так легко принять Христианство, требующее усвоение его всеми силами души; но зато „Тенрикео“ скоро и исчезнет, а Христианство, мало-помалу проникая в душу Японии, водворится навсегда. А что японский народ способен к глубокой религиозности, на то существуют неопровержимые доказательства в лице многих достойных христиан из японцев. <…>»
Но что на самом деле стояло за этой бодрой записью? Пока будущий Патриарх едет на «Костроме» в Японию, ожидая едва ли не чуда, Святитель Николай изнемогает в отнюдь не чудесных буднях. В которых — то тут, то там — Богом оставлены ценнейшие жемчуга.
«Симеон Мацубара описывает жизнь и смерть одного христианина, по имени Исайя Кондо; точно страница из житий святых. Исайя сам был беден, жил тем, что днем продавал по улицам „сою“, а вечером „соба“, но всем, кому только нужно было, говорил о христианской вере; любимым чтением его было Священное Писание и Жития Святых; самым любимым занятием — молитва. В субботу после полдня он, обыкновенно, прекращал свою разносную торговлю и начинал духовные занятия, в которых и проводил все время до конца воскресенья; в другие праздники поступал так же. Когда священник посещал Аомори, он всегда говел и причащался. В церкви Аомори он, несмотря на свою бедность, всеми был уважаем и избран был в старосты, каковую должность и исполнял со всем усердием. Но особенно отличительною чертою его было милосердие. Катехизатор пишет, что он знает 27 случаев, когда он выручал бедных из самой крайней беды; из них 4–5 он приводит в письме; вот, например, один: ходя с „соей“, наткнулся он в одном доме на такое бедное семейство, что старуха-мать только что померла от голода; другие члены семьи были близки к этому и плакали около трупа, не имея средств похоронить его. Исайя, бросив свою „сою“, прибежал к Мацубара, занял у него иену, заказал кадку для покойницы; потом сам обмыл труп, сам вырыл могилу — уже ночью, с фонарем; сам, с помощью бондаря, снес кадку-гроб на кладбище и похоронил, читая и распевая христианские молитвы, которыми он всегда сопровождал и языческих покойников. Вот другой случай: набрел он на нищего, обессилевшего от голода и упавшего на дороге старика; принес к себе, питал, служил ему и, наконец, отправил к родным, в далекий город. Вообще питался сам скудно, все, что добывал своим промыслом, он раздавал нищим и бедным. Своими делами милосердия он приобрел себе немалую известность в городе, так что местные газеты выставляли его в пример подражания. Умер он от тифа, простудившись. Предсмертные слова, которыми он утешал свою плачущую бабку, до того трогательны, что нельзя читать без слез: смерти нет для него — только жизнь, — здесь ли, там ли, ибо живет он во Христе. Похоронен он великолепно; отец Борис прибыл, несколько окрестных катехизаторов собралось, местные христиане не пожалели ничего. Язычников также множество провожало». (Из дневников Святителя)
Молодой иеромонах Сергий (Страгородский) оставил ценнейшие «Письма миссионера», открывающие полную картину человеческого и духовного опыта нахождения в совершенно чужой стране. Вот одно из первых писем; впечатления от природы Японии еще очень яркие и свежие. Но отец Сергий пишет о красоте почти с иронией: «…постоянная роскошь делалась приторной. Хотелось чего-нибудь покислее, погрубее, чего-нибудь вроде нашего квасу или черного хлеба. Здесь уже слишком все было жирно, сладко, сдобно. Мы вспоминали здесь нашу березку. Куда скромнее она, как-то целомудреннее, скромнее и здоровее здешней, распустившейся, намащеной, одуряющей своим благоуханием, разряженной природы. Конечно, это поражает. Но она слишком роскошна, чтобы ее полюбить, чтобы успокоиться среди нее. Она душит, а не успокаивает… Да и фрукты здешние хороши только, когда они редкость, привыкнешь к ним, и тогда все эти бананы, ананасы и пр. не дадут вам забыть нашего яблока. Где им до него? Не сравняются никогда».
Молодой иеромонах полон надежд и сил. Он настроен преобразовать Японию. Святитель Николай уже утомлен трудами, хотя эта усталость особенного значения для него не имеет. То, что говорил Святитель о японской церкви англичанину, правда. Японская церковь есть, и она останется, хотя для этого не так много предпосылок. Как святитель узнал? Это настоящая тайна. Но он знал. И он любил эту фарфоровую страну, ее трудолюбивых людей, будто бы выкованных из стали или сделанных из каменной керамики. И это — любовь к стране, в которой находишься и трудишься — («радосте и венче мой») — возможно самый тяжелый камень в труде миссионера.
«Япония — золотая середина. Трудно японцу воспарить вверх, пробив толстую кору самомнения. Послушав иностранных учителей и инструкторов по разным частям, атеистов, что-де вера отошла, а коли держать что по этой части, так свое, они возобновили синтоизм, хранимый теперь Двором во всей его точности; послушав некоторых недоверов-иностранцев, что буддизм выше христианства, и посмотрев, хоть с усмешкой, как сии иностранцы кланяются порогам буддизма, они вообразили, что христианство им совсем не нужно, неприлично. И ныне плавают в водах самодовольства, особенно мелководных, благодаря победам над китайцами (три победы одержали), и нет границ их самохвальству! Интересную коллекцию можно составить из… статей ныне, доказывающих как дважды два, что японцы — первый народ в мире по нравственности. <…> Нахлобучили, вероятно, не на малое время на себя шапку европейского и американского учителя по предмету атеизма и вражды к христианству. Тоже — золотая середина! Она еще большее препятствие к истинному просвещению в высоком значении, чем в низменном! Что может быть хуже, прелестнее и вреднее гордости! А она — синоним пошлого самодовольства». (Из дневников святителя).
Через некоторое время отец Сергий напишет, уже умудренный опытом: «Перед мысленным взором воскресает тысячелетняя история буддизма, история подвигов ума, перед которыми детский лепет вся европейская философия, — история железных усилий воли, во имя учения сковывавших плотскую природу человека. И все эти богатырские старания, все это ничем не утолимое стремление разрешить загадку жизни, должны были кончиться вот здесь под плитой (могнльной — А. Дворкин), должны открыть человеку только нирвану, то есть ничто. Бедный человек! Жалкое бытие без смысла, без цели, с загадкой в начале и бесследным уничтожением в конце! К чему страдать, к чему насиловать свою природу, если ей придется пропасть в море чуждой ей и нелюбящей жизни? А человек хочет истины, хочет проникнуть выше и дальше, хочет жить истинно человеческой жизнью. Так и вспоминается Будда с его страдающей улыбкой. Горе тебе, человек, если будешь жить без Бога!»
Возникает резонанс в наше время. Увлечение японской культурой, плоды японской научно-технической революции (а страна почти весь двадцатый век была очень бедная) встречаются так же часто, как деревянные крашенки на пасху. Рукава кимоно, разные виды гимнастики — все из страны восходящего солнца. Тот процесс, начало которого описал Святитель Николай Японский, развивается и, возможно, будет развиваться. Но не мне судить; я с симпатией отношусь к японской культуре и не так хорошо ее знаю, чтобы делать выводы и сравнения. Книга «Николай-До» куда-то исчезла во время многочисленных переездов. Так что сейчас не могу открыть ее и процитировать те короткие (всегда — короткие) записи, в которых люди в простых кимоно, сияя улыбками, убирают собор к храму тщательно подобранными свежими цветами, а японская рисовальщица-христианка пишет Образ Пречистой. Но все так и было. Приходили, разговаривали, жаловались на бонз, возвращались пешком в свое село. И эта жизнь поразительно напоминала жизнь, возникающую при чтении страниц Деяний.
Было что-то в молодом монахе Сергии, что заставляло Святителя прислушиваться к его словам и доверять его мнению. Он будто видел его трагическое и большое будущее. «<…> Пришла благая мысль. Дай, Господи, ей осуществиться! Монастырь здесь нужен. Отец Сергий Страгородский писал о сем в своих письмах; я думал о том еще раньше, выписывая сюда с Афона неудачного отца Георгия. Если бы ныне вследствие моей просьбы, которая пойдет с отчетами, был прислан сюда добрый иеромонах, который бы сделался моим преемником, положим, через 10–15 лет, то я удалился бы в горы… и стал бы собирать желающих жизни монашеской — а такие нашлись бы, — и образовался бы монастырь. Я в то же время имел бы возможность там продолжить перевод богослужения. — Пошли, Господи, достойного делателя на ниву Твою! О нем ныне моя… дума и всегдашняя молитва!».
Но Господь рассудил иначе. Иеромонах Сергий, прожив в Японии два с половиной года, а после того многажды писавший Святителю, был отделен для работы на другой ниве. Его ждали испытания не менее трудные, чем Святителя, но, возможно, гораздо более мучительные. Потому что все, что он видел, и что стало многолетним кошмаром, адом на земле — происходило в его стране и у него на глазах. Патриарх Сергий вполне понял, что значит: ни эллина, ни иудея. А ведь он воспитан был пылким патриотом, и у него едва не слезы восторга вызывали новые кресты на новых храмах.
«Пришлось глубоко пожалеть, что мы еще не доросли до того, чтобы иметь здесь свою миссию, мы еще замыкаемся в рамках узкого национализма. Заботимся только о своих, забывая, что Господь пришел ко всем без различия и послал апостолов ко всем народам земного шара. Чем наши достойнее, например, хотя бы этих индусов? Скажут, что у нас народа нет. Совершенная неправда. Было бы только желание, народ, то есть церковные деятели, на ниве Господней всегда найдется. Ведь идут же из Духовных Академий во всевозможные ведомства. Нашли же необходимым сократить штаты Академий. Очевидно, мы страдаем не недостатком народа, а избытком его, перепроизводством. Отчего бы не отделить сюда хотя бы двоих? Эти двое, может быть, успели бы что-нибудь начать, может быть, успели бы образовать продолжателей из самих индусов, как, например, теперь в Японии. Скажут, у нас средств нет. Правда, мы беднее каких-нибудь американцев. Но пусть и миссия наша начнется с малого. Бог поможет, потом дойдем и до большего. Ведь тратится же у нас миллион рублей, по самому минимальному счислению, на одни церковные облачения. Вот, хотя бы одну сотую или несколько сотых из этой суммы отделить сюда. Этого было бы на первый раз более чем достаточно. Нет, должно быть не скудость средств и людей тут причиной, а холодность к вере, привязанность только к личному благополучию. Да, еще много нужно нам жить и делать, чтобы вырасти до православной миссии…» (Из писем иеромонаха Сергия (Страгородского).
Перед катастрофой бывают периоды мира и утешения, а они помогают внимательному уму и любящему сердцу вполне понять, чего же в данное время хочет Бог… лично от меня. Если бы писала картину со Святителем Николаем и японцами, я бы изобразила в тихой, чуть тронутой сиреневым, лазури — как будто бы фарфоровых людей в желтоватых кимоно, идущих стройно, мирной цепочкой, через горный перевал, заваленный сухостоем, с поклажей на спинах, утомленных. Еще нет поездов, чтобы доехать в миссию, а лошадей, небольших смешных лошадок, можно найти только в ближайшем городе. Эти люди не кажутся людьми. Это как птицы, не знающие утомления и печали, парящие в бытии, нечто ангелоподобное. Они идут день, вечером садятся и поют. Старательно, как поют монахи, долго и протяжно. Но это песнопения православной вечерни. Святитель Николай держит в руках только что переведенную на японский язык страницу из Деяний. Он ждет этих людей.
Накануне самой ужасной за всю историю Российской Империи войны, во время жуткого красного рева голодных улиц и гибнущего золота монархии иеромонах Сергий, еще не знающий о ждущем его жребии, запишет: «Православие — не „русская религия“, но универсальная и всеобщая Церковь, чье откровение обращено ко всем народам без исключения. Это то, о чем постоянно проповедовал святой Николай (Японский). От этого Христа происходит и учение, нами теперь проповедуемое. Нельзя назвать его русским или еще каким-нибудь, оно Божие, пришедшее свыше и принадлежащее всем людям без различия страны и народа».
Монахиня
(рассказ основан на биографии монахини Ермогены, Веры Сергеевны Заломовой.
Публикация биографических материалов в журнале «Альфа и Омега» М. Большаковой)
Вера, одна из младших дочерей, плохо спала. Проснется на темнозорьке, невесть почему, а глазки грустные. Родители очень беспокоились: предполагали болезнь. Однажды мать подсмотрела ночное пробуждение: дитя встало, вскинуло ручки… а потом село и стало играть, тихо, то смеясь, то всхлипывая. Молится младенчик, что ли…
— Какая интересная растет! — с тревожным чувством вздыхала мать. — Что-то из нее выйдет?..
Был 1907 год, еще живо было в памяти пламя японского поражения. Верочка родилась в 1905, так что огневая изнанка ее младенческих снов, идущих еще из вышней глубины, кажется, вполне была бы понятна. Страх, коснувшийся каждого жителя дрогнувшей Империи, касался и ее детского сердца. Но кроме страхов было что-то еще, что вызывало беспокойство младенца. Когда подросла, родители с удивлением обнаружили, что Верочка — вовсе не тихоня, а страстная и очень самостоятельная. Маленькая девочка с сильной волей. Страсти тянули в свою сторону, воля — в свою. Верочка, сообразив, что гибнет от греховного желания, принималась рыдать, почти себя ненавидя, мало что понимая, но переживала плен желания очень сильно. Рыдала она подолгу, и, кажется, плакать любила. Так душевные сосуды освобождались от тяжести греховных впечатлений и страсти. Чистота возвращалась, в душе воцарялся мир. Но — ах! — до нового увлечения.
Однажды, семи лет, Вере захотелось сладостей. Увидела их в старом буфете. Можно было бы спросить у мамы, но та не разрешила бы, а велела бы подождать до ужина. Однако сладостей хотелось сейчас и немедленно. И вот Вера взобралась на стул, открыла дверцу буфета… и вдруг изо всей силы ударила себя правой рукой по левой. Так сильно, что чуть со стула не упала. Немедленно показались слезы, стало тоскливо. Вера снова ударила непослушную руку, словно та была во всем виновата, еще раз, потом закрыла дверцу (рука раскраснелась в месте удара), слезла со стула, поставила его на место. И вроде бы — ничего не было. Но нелюбовь к себе осталась. Остался и постыдный привкус несъеденных сладостей. Боль от удара победила желание и отвела грех.
— Да что ж я все делаю, чтобы плохо было…
Молилась Вера с такой же страстью, с какой хотела варенья. Молясь, обязательно плакала. Это было — как стирать батист. Выполощешь, вымоешь… и легко-легко, по летнему, свежо и радостно.
— Да что ж за ребенок, — изумлялась мать, — сейчас один, через час — другой… Нельзя так, Вера, надо — спокойно.
Спокойно, спокойно. А попробуй тут спокойно, когда Христос — это Огонь. Но так сказать Вера не могла, хотя о Христе уже знала и Ему молилась, как молятся все дети. Но что точно — ровности в ней не было никакой. Это настораживало, отталкивало. Ну кто такую девушку замуж возьмет? Сейчас — одно, через час — другое.
То были не просто капризы. То было проявление духовной, в самом церковном понимании, жизни. Самые начала, самые первые признаки — но истинно духовные. Душа взбиралась ко Христу, как взбираются по крутой горе. Как художник кладет известковый грунт на холст. С огромными усилиями, с жестоким недовольством собою, беспощадно к себе. Это внутри души открыла глаза будущая духовная художница — монахиня. Да-да, художница! Художник смешивает краски и выводит линию, музыкант ищет контрапункт и подбирает звуки, поэт слышит и записывает (или не записывает) слова. Скульптор берет камень или глину, чтобы отсечь от куска части, лишнее, ради прекрасного образа. Все это замечательно, но у монаха есть материал и инструменты гораздо более благородные. Он сначала предлагает себя Христу как материал — оставляет суету и полагается на Его Творческую Волю. Господи, да будет воля Твоя! А потом, по мере духовного возрастания, уже вместе со Христом осваивает тонкости изображения Образа Христова духовным резцом по душе. Юная Вера обо все этом еще не знала. И не знала, что именно такое искусство ей предстоит освоить. Но Присутствие Божие она чувствовала очень живо.
В записках, оставленных уже пожилой монахиней, есть интересное упоминание: память у Веры была слабая. Так что учиться ей было трудно. Но учиться Вера очень хотела, много молилась, чтобы успевать по всем предметам в школе — и без помощи Божией не оставалась. Поначалу успехи Веры шли не от способностей, но от усидчивости и умения трудиться, к которым в большой семье приучишься даже нехотя. Вера подрастала, а дел становилось все больше.
Одним из домашних послушаний Веры было — таскать мешки с яблоками и огурцами на продажу. Торговля эта была незаконной, но без нее семья не сводила бы концов в концами. Так что приходилось рисковать. Милиция во все времена одна, им делов-то — напугать и поживиться. А если торговали дети, напугать было совсем просто. И вот, приходит милиция на рынок, пугает, разгоняет. Вера едва не плачет: мешок огромный, надо и товар сохранить, и успеть сбежать от милиционера. Случалось, что и плакала. Плакала и молилась — Господь, видя обстоятельства, без помощи не оставлял. Но как горько было сознавать и эти незаконные яблоки с огурцами, и свою худость, и неограниченную власть милиционера. Просто как ад. Неужели нет другой жизни? В церкви говорят, что есть.
И Вера ходила в церковь. Молилась, просила Христа о помощи и наставлении. Ей вообще нравилось в церкви: там она ощущала обильное присутствие благодати. Там был мир, свет, радость — вот так просто: мир, свет, радость… И домой унести… Вера считала, что у Бога можно выпросить все.
Вера любила танцы. Какой подросток не любит танцы? Но Вера чувствовала — будто кто хорошо ей объяснил — чего танцы вовсе не то, что ждет от нее Господь. И ужасно мучилась, когда шла на танцы. Каждый раз давала слово, что идет последний раз. Но вот — раздались звуки музыки, и Вера уже летит, уже увлечена потоком мелодии, а тело как бы само по себе совершает заученные движения. Это как полет. Как ни силен был голос совести, желание полета преобладало. Это стремление к танцам было по сути желанием благодати, но по изначальной человеческой поврежденности выражалось в танцах. Только спустя годы Вере открылось, что молитва — гораздо слаще танцев.
Семнадцатый год застал девочку среди тяжелых крестьянских забот. Мешки с яблоками и огурцами, уборка дома, помощь по хозяйству. И постоянные страхи: отнимут, прогонят, запретят. Вера держалась молитвой, помощь Божия сопутствовала ей — иначе как бы двенадцатилетней девочке вынести такие трудности?
В семнадцать лет, в 1922 году, Вера закончила школу с отличными отметками. Ей очень хотелось получить высшее образование. Хотелось рассказывать людям о Боге не от себя, а как преподавателю, обладающему систематическими знаниями. Было чувство открывшейся катастрофы: ровесники уходили из церкви, разуверялись — а власть поддерживала и насаждала атеистические настроения. Вера намеревалась противостоять власти словом. Но «по социальному положению» путь в высшую школу Вере был закрыт. Пришлось поступить на завод. Чернорабочей на паяльную фабрику. Чтобы получить от завода путевку в вуз.
День съежился как яблоко на солнце. От дома до работы — пять километров. Их надо преодолеть, желательно бегом. Вера вставала на темнозорьке, спешила к ранней обедне, с половины уходила — не опоздать бы на работу! Наступал обеденный перерыв, Вера снова бежала в храм — на вторую половину уже поздней обедни. И так — каждый день. А еще домашние дела, мытье-готовка, помощь домашним… Что для Веры значили это разорванные во времени обедни, в полусонной голове соединявшиеся в одну, как две половины, можно только догадываться.
Чернорабочей Вера проработала всего один день. Начальник цеха, которому приглянулась волевая и умная девушка, на второй день посадил ее за паяльный стол. Бог помог — и Вера хорошо освоила тонкости паяльного мастерства, довольно скоро. Чуткие девичьи пальцы ощущали каждый изгиб поверхности и умели направить горячий инструмент под нужным углом. Домой Вера возвращалась радостная, подкрепленная церковной молитвой и сознанием того, что в труде есть успехи. Но такая жизнь продолжалась недолго.
Молодых сотрудников Веры по цеху стали смущать и хорошее отношение к ней начальника, и ее успехи. Считалось, что своим поведением Вера смущает массу, вызывает нежелательные настроения. Добились товарищеского суда. Вера очень страдала, когда все это происходило. Но повторяла себе, что ничего без воли Божией не бывает. Как-то вообще подумалось: ей, видимо, суждено устроиться в жизни по-другому. Не на заводе. А где? Вера спрашивала Господа, но ответа пока не было. Ее молитвы за обедней стали смиреннее и горячее. На суде Вера сумела защитить себя и показать, что у нее не было никакой тайной цели, что была правдива и искренна в своем желании лучше работать. Все же решила с завода уйти.
Бог помог — и у Веры появилась возможность давать частные уроки девочкам дошкольного возраста. Странно было видеть, как знакомая с тяжелой крестьянской работой девушка преобразилась в тонкую гувернантку. Вера учила арифметике и правописанию, рукоделию и танцам. Работа оплачивалась. Но мысль о получении высшего образования не покидала. Так прошло некоторое время.
И вот — новое изменение жизни, новое препятствие на пути к образованию. Мать Веры тяжело заболела — туберкулез легких. Это заболевание длится долго, изматывает не только самого больного, но и его окружающих. Кроме того, считается заразным. И все это — с мамой? Вера как будто во сне. Нет, не может быть… А сама моет, готовит, помогает старшей сестре — и откуда силы… Зачем они… Вскоре мама оказалась при смерти. Перед самой кончиной собрала всех своих детей и стала благословлять образами. Сказала тихо: «Детки, я последний день с вами». Поверить невозможно было — все равно, как поверить в то, что солнце больше никогда не взойдет.
Темная злая туча горя висела во всех пяти комнатах большого дома. Вокруг — лица близких, потемневшие и… какие-то чужие. Вера будто высохла на корню. Слез нет, а внутри жжет так, что хочется кричать. Можно взять себя как пальто и повесить на рожок вешалки. Наконец, родительница благословила и ее: образом Казанской Пресвятой Богородицы. Образ этот был дан маме бабушкой Веры как благословение на семейную жизнь. Кто знает, может тогда умирающая родительница желала, передавая этот образ Вере, удачного замужества. А может, материнское сердце чувствовало, что Вере суждено совсем иное замужество… По кончине тело матери близкие благоговейно омыли и обрядили, положили в гроб. Приходской священник, отец Петр, хорошо знавший и любивший семью, служил панихиды по усопшей. Братья и сестры Веры плакали. А она — нет. И это отсутствие слез было таким вызывающим, таким бесстыдным, что стоя у гроба матери на коленях Вера взмолилась: «Мамочка, дай мне слезы, чтобы меня люди не осуждали!». И слезы пришли — обильные, горячие. Как будто и не умерла мама, а стоит рядом и все-все слышит. Три дня Вера не отходила от гроба, не пила и ела, а только молилась. Вместо горя горького в сердце была тихая радость.
Вера и не сомневалась, что родимая точно здесь и все-все слышит. Да, после кончины мама стала Вере как будто намного ближе. Будто — страшно сказать — что до кончины была мертва, а тут ожила. Похоронили маму. Вера, презирая стужу, каждый день бегала на кладбище к могилке и там молилась. Разговаривала с усопшей как с живою. Бежит на кладбище, а сама думает: только бы поскорей добежать до могилки. Там было радостно, и домой Вера возвращалась радостная. А дома — отец, уже пожилой. Он был сильно старше матери, на двадцать лет. И братья-сестры.
Старшей в семье стала одна из сестер. Ей было уже около тридцати лет. Замуж пока не собиралась. Хозяйство большое. Но у Веры оставалось время, чтобы погулять с подружками, поговорить о девичьем. Горячая, страстная натура требовала новых впечатлений. А душа желала молиться — не менее страстно. И вот, снова вечера, снова — ненависть к себе… Да что ж это я, Господи, такая неисправимая…
Прошло пол года со смерти матери. И вдруг сестра, не собиравшаяся замуж — вышла замуж. Вот так перемена! Вот так сестрица — удружила. Вера стала старшей, и на ее плечи — а ей было двадцать два года — легли все заботы по дому. В доме было все: и куры, и свиньи, и огород. Только успевай. За отцом приходилось смотреть — все же за семьдесят, хоть и на вид крепкий. Невыносимо жгла обида на сестру: что ж она так, а ведь сказала, что не собирается… А надо было прощать. И надо было весь этот связанный день пережить. Накормить младших, выстирать-высушить-вымыть, перетерпеть боль усталости и заснуть. И уже не будет ни вечеров, ни бесед о девичьем…
Если бы не отец Петр, вряд ли Вера перенесла бы эти труды. Он наставлял, поддерживал словом и молитвой, был рядом. Возможно, он и подсказал, Божиим наитием, счастливую мысль: записывать все, что произошло днем. Для исповеди, для работы над собою. И Вера записывала, находя в этом изложении огромное утешение. Младшие любили Веру. Помогали, как могли и даже боялись ее расстроить. Чувствовали характер Веры — «знали мой дух», как напишет потом она сама — и говорили друг другу: «Этого не нужно, Вере не понравится». Между братьями и сестрами установился христианский союз любви. Иногда и слов не нужно было — взгляд, мысль заменяли слово. Это безмолвное общение напоминало тайный заговор, что младшим даже нравилось. Вера была строгой хозяйкой, и у игры, конечно, была четкая граница. Время шло, младшие подросли и — Бог управил — смогли устроиться в новой страшной жизни. Но христианское отношение побуждало их помогать не только своим, но и нуждающимся. А нуждающихся часто находила именно Вера. Она никогда не забывала о делах милосердия. Отец не очень вникал в жизнь детей, но дети нашли между собою общий христианский язык. И это был подвиг в тяжелые предвоенные годы.
Годы, действительно, были тяжелые. Отец Петр трижды был арестован. Но Бог миловал, возвращался. Однако вскоре смутное предчувствие Веры окончательно оформилось. В глубокой духовной тоске, будто уже зная о предстоящем расставании, Вера пришла к отцу Петру и на коленях попросила дать ей в напутствие и благословение икону. И — чудо! — отец Петр вынес старый образ Святителя Ермогена. Вера с изумлением стала рассматривать потемневшее изображение. О жизни Патриарха-мученика она знала совсем немного, и удивлялась, что отец Петр именно этой иконой ее благословил. Но то было пророчество. Впоследствии Вера, уже ставшая монахиней Ермогеной, запишет, что видела много милостей от Святителя и действительно ощущает его духовное покровительство. Вскоре отец Петр был снова арестован и уже не вернулся. То свидание, при котором батюшка благословил Веру образом Святителя Ермогена, было последним. Вере будто подрезали крылья. Вот оно, горе-то горькое. Будто одна на свете осталась.
Настал 1941 год, в июле началась война. Вере пришлось переехать в Подмосковье, к младшей сестре. «Работала как каторжная» — скупо запишет она о том времени. И еще — «душа томилась как в аду». Монахиня Ермогена не стала описывать, какие именно «непередаваемые испытания» прошла она в войну. Зато написала, что ходила в храм Божий и причащалась Святых Тайн. Это очень важно. Ее духовная жизнь не прерывалась, а наоборот — развивалась, стремилась к новым высотам. Хотя самой Вере так и не казалось, да и не стоит той Вере говорить об этом — она, под гнетом скорбей, сочла бы такие слова насмешкой. Но так или иначе, желание найти духовного руководителя оформилось, и Вера теперь точно знала, что ей нужно. Она стала молиться, искать молитвой духовного отца, как в темноте с помощью фонарика ищут тропинку к дому. Поиски ее были долгими и сопровождались новыми испытаниями.
Послевоенные годы принесли и радость (какая пасха!), и боль. Отношения с родственниками осложнились, Вера остро почувствовала себя чужой. Но, тем не менее, часть серьезных хозяйственных забот была в ее ведении. Например, дача. Построен дом из сухостоя. Это хорошо, но есть свои опасности. И вот одна из них: стены стал точить червь. Тогда Вера работала в Москве, и в храм ходила в Москве. Но пока не определилась, в какой и к какому священнику. Однако молебен с водосвятием заказать надо, и он был заказан.
На батюшку, служившего молебен, Вера поначалу внимания не обратила — какой-то новый. В следующий раз снова пришла в этот же храм — благодатное наитие помимо ее самостоятельной воли привело ее — и снова увидела того же батюшку. А он спросил: «Как у вас с домом?». И… дал практический совет, что сделать, чтобы червь не точил сухой брус. Этот совет был как точка на сердце. Вера почувствовала, что это указание от Бога — священник будет ее духовным отцом… Посмотрела: нет же, это все от лукавого! Вот он, молодой, красивый, интеллигентный… Нет, нет, нет. Испугалась.
Но без храма и Таинств жизнь казалась бессмысленной. Вера снова пришла в этот же храм, как будто ноги сами принесли. У исповедального аналоя — все тот же батюшка. Теперь Вера знает, что зовут его отец Василий. На исповеди внезапно открылось, что отец Василий знает о Вере так много, что ей и рассказывать не надо. Почему? Это было страшно — что незнакомый человек, пусть даже священник, так много знает о жизни человека, которого видит третий раз в жизни. Дальше — отец Василий задает вопросы, делает замечания… И Вера понимает, что ему открыты не только события ее жизни, а даже ее мысли и помыслы… Какой необычный священник… Господи, вразуми: может быть, именно он и дан как духовный отец… Вера приободрилась.
А тем временем жена брата со своей матерью задумали Веру убить. Вера оказалась — как в кино. Со стороны — может, и будоражит чувства, а самой быть внутри детективного сюжета — не хочется. Вера три дня просидела взаперти, а на третий день ей все же удалось сбежать в Москву. Сбежать-то сбежала, а как дальше-то быть. Едет в метро — а линии еще новые — и молится. Господи, верно за мой дурной характер. Достойна.
Но как же так, как же так… Плачет. И вдруг — батюшка. Подошел, сам поздоровался. Тот самый батюшка, который молебен с водосвятием служил, отец Василий.
— Чем вы так расстроены?
Расстроена? Да ведь они убить хотят… И Вера рассказала все отцу Василию. Все-все. И про брата, и про его жену с ее матерью. Отец Василий выслушал внимательно, затем сказал:
— Возвращайтесь сейчас домой, и завтра приведите мне свою молодую невестку в церковь причаститься.
Чудо, но у Веры даже сомнений в том, что все так и будет, не возникло. И вот как на крыльях — на новых крыльях! — Вера вернулась домой. Ощущение чуда не покидало — как будто видит рассвет, а солнца давно не было. И вот солнце восходит. Невестка одна, матери нет, сидит на кухне и — неужели? — ждет Веру. Будто чувствует, что та приехала с извещением именно для нее. Вдруг строгая Вера — стала ласковой, нежной. Подошла, заговорила с молодой женщиной, поплакала малость, и невестка всплакнула.
— Поехали, причастимся. Ты хоть раз причащалась? Знаешь, как это?
— Нет.
Подумав, невестка решилась:
— Поехали!
И точно — утром, с рассветом, обе женщины скорее-скорее собрались. Вот уже влажная от росы электричка везет их в Москву. По дороге дочитывают правило. Отец Василий — у аналоя, встретил обеих — как будто сто лет знал. Пригласил невестку Веры. А та вдруг начала рыдать — просто как гроза летом, на весь храм; дрожит, кается, винится. И у Веры в ушах ее, вечное: да что ж я такая, Господи, что ж я такая…
Причастившись, невестка успокоилась. А Вера поняла, что стала свидетельницей чуда. Что сама избежала смертной опасности и возле нее спаслась человеческая душа. Конечно, не своими силами избежала, а помощью Божией и молитвами отца Василия… Да, молитвами отца Василия… Угодник он Божий, вот что…
С тех пор Вера утвердилась в мнении, что именно отец Василий — ее настоящий духовный отец. Снова отросли подрезанные было крылья. И Вера уже точно знала, к чему дальше стремиться — к жизни по заповедям Христовым. А это уже жизнь монашеская. Однако путь был достаточно долгим. С моменты обретения духовного отца до пострига прошло более 10 лет. Монашество — ближе к Истине. Говорят — истина в счастье. Да, Вера теперь была счастлива, хотя руководство отца Василия показалось ей строгим и тяжелым. Но ведь счастье — в истине, а истина — Христос.
Примечание: отец Василий (Серебренников) — московский старец, протоиерей, 1906–1996. Отличался любовью к монашеской аскетике и тонким знанием человеческой души.
Монахиня Ермогена (Вера Сергеевна Заломова). Родилась в 1905 году, постриг приняла в 1970 году. Скончалась 31 марта 1988. С пятидесятых была верной помощницей и опорой отцу Василию Серебренникову. Отец Василий свидетельствовал о ее любви ко Христу и духовной крепости.
IV. Церковное сегодня
Сорок вопросов священнику на одну тему
Это не интервью и не стенограмма беседы. Это диалог — мирянки и священника. В живом общении такого быть вроде бы не может и не должно. Так что можно считать это диалогом двух молчаний. Но молчание рано или поздно заканчивается — таково его свойство. И если есть в этом обмене несказанными словами голос, то это голос пастыря и его опыта.
С отцом Константином Кравцовым познакомилась в 2005 году, в начале лета, апостольским постом. По телефону. Позвонил он, а мой телефон дала ему одна раба Божия. Записали передачу для радио «Благовещение», благо материал был под рукой. Через некоторое время отец Константин возник в московском литературном кругу, и сразу вокруг него образовалось благожелательное светлое поле. С людьми он сходился легко. А стихи его сразу вошли в литературный мир, почти с триумфом. По отцу Константину было не заметно, что выдерживает довольно плотные нагрузки. Службы всю неделю, частые требы (в основном, в детской реанимации). Семья у отца Константина довольно большая. А он как будто порхал — всегда в светлом, легкий и вроде бы беззаботный. Чтобы не было слишком много лака, вот такое впечатление. Было странно, что он, православный священник, довольно строгий, как потом мне довелось узнать, вот так просто общается с этими словесными «грешниками». Не верилось ни в «крест», ни в «предназначение» — нести слово Божье в мир современной литературы. «Христу не нужны религиозные стихи, Ему нужны хорошие стихи» — так отец Константин расшифровывал слова известного богослова Томаса Марстона. Честно, мне такая позиция священника — «и современные стихи тоже нужны» — казалась несерьезной. Однако время разворачивалось, и понемногу стало яснее, зачем, как и почему. Поэзия для отца Константина, кроме всего высокого, еще и отдых. Но о чем он чаще всего говорил, от души, «среди своих» — так это о Христе и богословии. Чрезвычайно много читал книг по христологии, как классических, так и современных, пытался анализировать. Рассказывал о прочитанном невероятно живо, так что кажется — самые сложные догматы можно уяснить тут же, сразу. Часто его мнение возникало от вдохновения, от первого импульса. Но тут уж не мне решать, что это было — порыв или же нечто свыше. Однако некоторые мысли задевали. Эти мысли были тяжелы от его личного священнического опыта.
В «Несвятых святых» архимандрит Нафанаил говорит молодому монаху: «Смотри, дерзость еще никого до добра не доводила». Пусть это будет таким камертоном в беседе. Это я — к себе.
Конечно, вопросов не сорок. Можно было бы задавать, считая. Но был бы упущен важный-важный ток жизни, пульс общения.
Вопрос
Церковь и Христос — разные ли это вещи? Какая между ними связь? Быть в церкви — быть со Христом, слушать голос церкви — значит слушать голос Христа. Всегда ли было так — без раздора? А что — в наше время?
Ответ
В наше время, как и в любое другое, сущностные вещи не меняются. Церковь — это единство всех верующих во Христа, живых и умерших, в Боге единство во Христе всего творения. И это единство таинственно, как и сама Литургия, в которой оно осуществляется. Однако здесь важно различать вечную и эмпирическую составляющие. Бог свят, а человек, увы, грешен, ему, как заметили еще в античности, свойственно ошибаться — это в его природе. И церковный человек здесь не исключение. Это тоже было всегда и будет продолжаться до Второго Пришествия, после чего, по апостолу Павлу, «Бог будет все во всем». Голос Церкви — это, вот именно, голос Христа, творящего волю Отца, голос Святой Троицы, веяние Духа. И есть догматические и соборные определения, определяющие выразимые границы Истины и регулирующие церковную жизнь. Последние связаны с особенностями времени. Есть также высказывания церковных первоиерархов, иерархов, духовенства и церковных людей. У нас, в православии, нет догмата о их непогрешимости. Но есть Слово Божие и церковное Предание — это ориентир и критерий.
Вопрос
Что есть церковь? Невеста Христова, имеющая стать женой, или же социальная машина? Что имеют в виду просто верующие, если они хоть раз думали о том, что есть Церковь?
Ответ
Церковь и богочеловеческий организм (Тело Христово), и социальный институт. И Невеста Христова (как и всякая душа человеческая) и организация — со всем, что свойственно любой организации, включая бюрократический аппарат и все вообще. Согласно Символу веры верующий верует во единую святую соборную и апостольскую Церковь. Перефразирую поэта, в Церковь — как мистический организм, как богочеловеческое единство — можно только верить. А это значит — знать, но знать особенным образом, знать сердцем. Церковь — это таинство богочеловеческого общения. Его среда. Среда спасения. Для этого и существует Церковь. Но в «реальной жизни» неизбежны какие-то нестыковки, сбои, о чем я уже говорил. Есть христианство как святость и есть «историческое христианство» с его ошибками. Но, как сказал архиепископ Иоанн (Шаховской): «Церковь — прежде всего — не система». Хотя говоря о ней говорят зачастую о «системе» и «системе, дающей сбои». Сбои заметны всем, а таинственная жизнь Церкви познается только изнутри, только в личностном опыте, только в таинстве.
Вопрос
Однажды спросила у священника, расстроенная какой-то приходской мелочью: «Как быть?» Сказал — «Думай о Христе». Была бы умнее, засомневалась бы в том, что это вообще возможно — думать о Христе. А тут как осенило — и думала. Тогда стало понятнее, почему в книгах святых отцов древности и современности встречается: а что лучше Христа? Вот это простое — думать о Христе — не плод ли неумного восторга? Или же такое бывает даже с мирянами?
Ответ
Мирянин, священник, монах — принципиальной разницы нет. Все это — народ Божий, царственное священство. Христос — воплощенное Слово и, конечно же, именно о Нем и нужно думать больше всего, а точнее — жить Им и в Нем, жить в Слове Божьем. Иначе мы уже не христиане. Очень часто называющие себя христианами, по сути — обычные язычники, просто «религиозные люди», почти ничего общего не имеющие с евангельским Христом, а то и прямо противоположные Ему «книжники и фарисеи, лицемеры». Предохраняет от этого Евангелие, т. е. — Христос. Это мерило для всех вопросов и всех жизненных ситуаций.
Вопрос
Сначала — цитата: «Смех — это не свобода, а освобождение; разница для мысли очень важная». С. С. Аверинцев.
Христос никогда не смеялся (Святитель. Иоанн Златоуст) — в Евангелиях нет упоминаний о том, что он смеялся. Однако в сцене с женщиной, уличенной в прелюбодеянии, так легко представить, что у Господа на Устах улыбка. Или при благословении детей. Вот это — улыбка Христа — нечто совершенно реальное и вместе с тем — вне времени. Бывают случи, которые можно назвать Христовой улыбкой. Расскажите.
Ответ
Христос был Человеком в полном смысле слова, поэтому то, что Он никогда не смеялся — популярная фигура речи, как мне кажется, хотя за этими словами Златоуста несколько — смысловых пластов, о чем есть замечательная статься С. Аверинцева. Смеяться можно по-разному, смех смеху рознь. Вообще Христос ведь — воплощенная радость о Господе при всем трагизме, всем нечеловеческом напряжении. И, конечно, его улыбка присутствует между строк. Любовь — материнскую, например, да и любую — невозможно представить без улыбки. Хотя по отношению к Богу это будет, строго, по-научному говоря, антропоморфизмом, она разлита во всем — в каждом цветке, ласточке (недавно видел, как они пьют на лету, воду, коснувшись на сотую долю секунды водной поверхности). Помню в трудное для себя время, еще при СССР, зашел в столовую и обнаружил рядом со своим стулом красное яблоко — подарок Николая Чудотворца (был как раз его день — «Никола Зимний»).
Вопрос
Когда прислушиваешься к себе (не в монашеском, а в простом, мирском понимании) — возникает некоторое спокойствие оттого, что Бог слышен и виден через всякого человека, встречающегося в жизни. Но — такая незадача — открывается, что сам или сама — Богу совершенно чужды. И очень хочется здраво рассудить и дать всем по серьгам, чтобы себя оправдать. Окружающее только предлагает средства: ну какое христианство в этом мире? Все труднее с покаянием, все проще считать себя мучеником.
Ответ
Мученик — это ведь очень конкретное понятие: мученик — тот, кто принял страдальческую смерть за Христа. А человек мается, зачастую, радея о себе, любимом. Поэтому не надо себя оправдывать, искать виноватых (они всегда найдутся), не надо считать себя ни святым, ни «великим грешником». Думать нужно, действительно, о Христе, а не о себе. Думать о своем деле во Христе, деле Божьем, которое тебе поручено и результат которого и определит твою вечную участь. Жить по заповедям. Все это слишком хорошо известно, но практика показывает, как иногда трудно прилагать это к своей жизни. Никто не чужд Богу, кроме тех, кто сам выбрал эту чуждость Ему, сам себя Ему противопоставил и противопоставляет. Это и называется гордыней. Ее противоположность — смирение, т. е. радостная, а точнее — блаженная (хотя и трудная, а то и трагическая) жизнь во Христе. Жизнь в таинстве веры, надежды и любви. Иго Христово благо и бремя его легко, если забыть о своем эгоцентричном «я», преодолеть в себе «ветхого человека». Принести всю свою жизнь в жертву Христу, что, собственно и происходит (должно происходить) в Божественной Литургии. В таинстве Благодарения (Евхаристии). Вся жизнь должна стать Евхаристией, подразумевающей постоянное покаяние — «перемену ума», образа мыслей, а значит и жизни. Это такая постоянная «работа над ошибками», «разбор полетов» для того, чтобы идти вперед, а не ходить по кругу. Человек создан по образу и подобию Творца и должен быть творцом. Покаяние и Евхаристия — это постоянное творчество, точнее — сотворчество, так как без Бога, Его помощи, все это невозможно. Также можно сравнить это с семейной жизнью, где нужно постоянно «смиряться» и постоянно искать наилучших решений, научаясь мало-помалу любить, то есть забывать о себе, своих амбициях и претензиях.
Вопрос
О принятии осуждения. Заметила: если тобой недовольны, значит что-то точно делаешь правильно. Со мной было так: как не возникну в сети (а это было нередко) с какой-нибудь мыслью-белкой или с просьбой помочь разобраться в том или ином вопросе, так налетали (откуда брались?) какие-то авторитетные прихожане и начинали меня вразумлять. Довольно агрессивно, хотя, конечно, ничего плохого и в мыслях у них не было. Священники, наоборот, отвечали довольно спокойно, просто. То, что в каждом приходе есть бабы и мужики, которые умнее всех и все знают (в редакциях тоже), понятно. Они полезны и делают свое дело. Но элементарные формы должны же соблюдаться? Или — все равно сама виновата, а этика христианину не нужна?
Ответ
Пушкин написал на полях нравоучительного сочинения Вяземского, что поэзия выше нравственности или, по крайней мере, нечто иное. То же можно сказать о христианстве. Христианство — в пределе — это святость, а святость — это любовь. Любовь выше этики. Но не ниже, разумеется. Полемизируя в сети (знаю из своего опыта, сам грешен тем же) трудно стяжать дух мирен. Скорее, наоборот. Но во всем этом — как и во всем вообще — тоже может быть своя польза. Научиться «держать удар» — это важно. Еще важнее — научиться не бить в ответ, «подставлять щеку». Но иногда речь идет о принципиальных вещах, иногда необходима и жесткость, и здесь, конечно, важны и этика, культура, и логика. Беда России в том, что у нас проблематично со всем этим, в том числе и в церковной жизни. Не мешало бы поучиться почаще улыбаться, что является нормой в Европе и Америке. Понятно, что и улыбка может быть натянутой, неискренней, но учиться этому нужно.
Вопрос
Вот как с этим — сама виновата — быть? Иногда получается, что смотришь себе под ноги, и вдруг — лбом в стену. Все хороши, все хорошо, а тебе все хуже и хуже. Через это проходили многие неофиты. Мне так думается — этот инструмент — сама виновата — очень подходит для спекуляции. С ним без рассуждения не справиться. А рассуждение — нынче очень дорого. Царица и венец добродетелей, если верить святым отцам.
Ответ
Духовное рассуждение, дар различения духов — именно дар и плод, созревающий в свое время, сразу оно не приходит, а иногда не приходит вообще, если человек его не особо ищет и вообще живет бездумно. Или довольствуется нехитрыми инструкциями на все случаи жизни. Потому и посылаются испытания, чтобы хоть как-то дошло нечто необходимое для спасения, рефлексировать по поводу чего спасаемый не способен. Господь говорит: ищите — и найдете, но искать трудно, и многие — не ищут. И потом очень важен опыт страдания, называемый крестом, хотя в каких-то случаях это и не заслуживает столь высокого имени. Так что, когда все «хуже и хуже» — это нормально. Потом будет лучше и лучше, а потом и совсем хорошо, а за этим — снова все плохо. День и ночь. Важно, какой опыт мы из этого извлекаем, благодатен ли он. Если нет — нужно разобраться, почему, в чем ошибка. И так до конца. Рассуждение приходит с опытом.
Вопрос
Имеет ли это — сама виновата — хоть что-то духовно общее с «внимай себе» и «а ты осуждай себя, а не других».
Ответ
К себе нужно тоже относиться разумно. Осуждать же — себя или других — дело обычное и зачастую неблагодарное. Воздержание от осуждения — один из этапов приобретения христианской любви. И здесь есть свои тонкости. Трудно различать и не осуждать. Себе мы склонны делать поблажки, но к другим легко приклеиваем ярлыки. Нужно заставлять себя этого не делать, вообще быть внимательным. Судить — не наше дело. Наше — учиться снисходительности, чуткости. Себя, кстати, можно тоже засудить до смерти, и это не есть хорошо. Упал — встань и иди. Тяготит совесть — для этого есть исповедь. И конечно важна решимость измениться, или, что то же, исцелиться.
Вопрос
Самоубийство — смертный грех. Самоосуждение — путь к добродетели. Такое самоубийство во Христе. Последнее — сложнее, особенно в таком пестром мире, как наш. Осуждая себя, провоцируешь и окружающих осуждать тебя, которые понимают твой жест как изъявление слабости и начинают добивать.
Ответ
Надо, видимо, постараться, живя в мире — выйти из мира. Насколько это возможно. Дистанцироваться от него максимально. То есть не жить по его шаблонам, его лекалам. Это очень трудно. Но иначе наш «ветхий человек» не умрет, а значит и не родится «новый человек». А речь ведь идет именно об этом: стать другим, новым, умереть и родиться во Христе. Это и происходит (должно происходить) в таинстве Крещения, но его важно постоянно актуализировать, каждый день, все время рождаться и умирать заново. Ну, а давать добивать себя, как, например, первомученик Стефан, или повременить с этим — здесь уж в зависимости от ситуации.
Вопрос
О христианстве сложилось мнение как об институте — мрачном, очень строгом. У меня такого опыта по счастью не было, наоборот. Был опыт радости. Можно сказать, что внутренний мир христианина выкроен по-особенному, «от угла» — от некоего центра, но не в центре. Это мир ассиметричный, подвижный. Куда Христос — туда и вся тварь. С внешней точки зрения поступки и эмоции христианина выглядят неуместно. Может быть, поэтому так нужны ровность в общении и… способность пошутить?
Ответ
Григорий Богослов как-то заметил, что святому человеку подобает некоторая веселость. Да и Библия говорит о цветущем лице как признаке духовного здоровья. Христианство выглядит мрачным в советских школьных учебниках по истории — это карикатура века Просвещения, даже если говорить о католичестве с его инквизицией. На самом деле все сложней. И в то же время нельзя не признать ошибок «исторического христианства», в том числе и православия. Это та же, что и внутренняя, «работа над ошибками». Нужно отделять черное от белого. А ровность в общении и шутка — ну да, конечно. Юмор — не ядовитый, добрый — признак смирения, которое вовсе не есть забитость и безынициативность, мрачность, суровость и так далее, что говорит как раз о болезни души, ложном смирении.
Вопрос
О легком сердце. Когда нет грехов, тогда сердце легкое. Но в идеале оно легкое само по себе, потому что внутри — что легче легкого, Божественный Свет и Огонь. Внутри — всегда Христос. Но Христос порой совершал решительные поступки. Например, выгонял торговцев из храма. От христианина не-христиане сейчас ждут всеприятия, благости, абсолютной последовательности — а это ведь невозможно. С легким сердцем принимать то и это: благословлять заключение в тюрьму — и выход из тюрьмы, только совершенно другого человека. Как быть — чтобы без демагогии — или невозможно?
Ответ
Бывают очень непростые ситуации, когда как ни кинь — все клин. И в каких-то случаях мы вольны не принимать ни того, ни другого решения, а подождать ответа свыше. Христианство парадоксально, оно не вписывается, как и сама жизнь, ни в какую схему. Кстати, изгнание торговцев было не столько возмущением коммерцией в святом месте, сколько пророчество в действии, здесь не так все просто, как принято думать. Христос этим действием, заявив о Себе как Мессии и о том, что Храм больше не легитимен (стал «вертепом разбойников») подписал Себе приговор (как мы помним, это было единственным заслуживавшим внимание Синедриона, действием, вменяемым Ему в вину).
Да, любующийся на полевые цветы и птиц иногда вынужден взять в руки кнут (или сплести его сам), следуя воле Отца.
Есть вещи, которые невозможно терпеть. Терпя их — соучаствуешь во зле, соглашаясь с ним. Но Христос никогда не требовал расправы над кем бы то ни было, и невозможно представить Его в такой роли. В общем, бывает, наш путь проходит по лезвию бритвы. С одной стороны, нельзя попустительствовать злу, с другой — мы должны следовать Христу, Который предпочел быть жертвой, а не палачом. Будучи совершенно открытым, искренним, нередко — резким, и — оставив демагогию демагогам, которых ненавидел. И эта ненависть была тоже формой любви. Иногда невозможно спасти, не причиняя боль. А всетерпимость — то, что она от лукавого, мне кажется, не нуждается в доказательствах, так как сама она всегда лукава, всегда — двойной стандарт.
Вопрос
Веровать надо. И в церковь ходить надо. Но есть мысль, что если убрать всех этих старцев-стариц, источники, иконки и иконы, послушание-смирение-духовника — человеку Христос станет не нужен. Получается — выбор. С кем ты — с людьми или со Христом? Может быть, потому в последнее время такое изобилие материальных средств ко спасению?
Ответ
В общем-то, невозможно доказать, что веровать и ходить в церковь — надо. На Западе ходят к психоаналитикам, у нас теперь — к психологам. То есть всегда есть выбор психотерапии, если подходить к религии как такой терапии. Но Христос не изобретал новой религии, а превосходит любую из них, религию, как таковую. Религия — это Закон, Он же принес Благодать. При этом не отменил общерелигиозных форм. Христианство наполнило их новым содержанием, но для кого-то это содержание проходит мимо сознания, и в этом случае мы имеем дело с «народной религией», то есть, по сути, идолопоклонством. Этот святой — от порчи и сглаза, этот — для успеха в бизнесе. Можно все извратить, в том числе и традицию обращения к старцам. Все может оказаться подменой, ведя к фарисейству — в сторону, прямо противоположную той, куда зовет Христос. В общем, как и везде, важно различать. Внешняя сторона чаши имеет значение, но важней — внутренняя.
Вопрос
Как воспринимает литургию человек новый, недавно пришедший в храм? Ему, наверно, бывает скучно. Отчего тогда такая страстность в стремлении обратить близких и доказывать свое мнение? Если скучно на литургии — значит, это не твое, пока что не нужно. Но тогда что — выгонять непонимающих? В древней церкви, возможно, был некий порядок и опыт — как обращаться с «новенькими».
Ответ
В древней церкви крестили только взрослых и только после продолжительной катехизации. Христианство не было не государственной, ни народной религией. Но живем в другой ситуации, поэтому не можем ее не учитывать. Насчет объяснений — да, это важно, но еще важней, каков сам объясняющий. Поэтому апостол Иаков и пишет: немногие становитесь учителями. Здесь важен и собственный опыт, и знания, и человеческие качества, важно быть христианином не по названию, а по сути. Важен и дар слова, который тоже встречается не у всех. Но Господь действует через нас иже веси судьбами, поэтому, если тебя спрашивают — отвечаешь, как можешь. Это ведь тоже таинство. А выгонять… Дело в том, что у нас нередко очень плачевно обстоит дело с элементарной церковной культурой, не говоря уж о любви, оскудевшей даже в церкви. Но опять же Бог в силах выправить и эту ситуацию, зная, как привести «новенького» к Себе.
Вопрос
Пытаюсь представить — как человек приходит в церковь сейчас. Потому что коллеги тоже ходят по воскресеньям (или по праздникам) на всенощные и литургии. Или потому, что близкие упросили. Потому что — есть надежда развязать узлы, разбить тиски. Но бывает — и потому, что никого, кроме Бога, не осталось. Это ценно и редко. Что говорит ваш опыт как священника? Чем вызвана тяга к обрядам и — потом уже — Таинствам?
Ответ
Человек точно так же поклоняется идолам, как делал это всегда. Просто названия поменялись. Например, идол «успеха», «материального благополучия» и т. д. — у них нет раз и навсегда закрепленных за ними образов, мифов, но каждая реклама — их икона по умолчанию. Идолы — это представления и некие силы, управляющие человеком. Поэтому, когда не остается ничего кроме Бога (Истинного), то человек уже спасен, хотя жизнь — динамична, и может снова все измениться. Все сложно, запутано. Суть в том, кого ты любишь, кого ищешь — Бога или свой комфорт, скажем, психологический. Он важен, но не менее, а скорей более важно и страдание, о чем писал Достоевский. Хорошо, если человек идет на службу, но важно, чтобы это не превращалось в некую рутину, важен рост, путь, а не топтание на месте. С другой стороны, рутина неизбежна и нужны усилия, чтобы преодолевать всякий формализм и автоматизм, необходимо творчество. Обряд, как ясно из самого слова, это нечто внешнее, некая упаковка, маркировка. Таинство — внутреннее. Это уже непостижимое действие Самого Бога, когда человек дает Ему действовать в себе. Это Песня песней. Любовь — в том числе и эротическая — самая точная аналогия происходящему. Что говорит мой опыт? Что Евхаристия — это восстановление и обновление. Это как лекарство, без которого жизнь невозможна, без которого умираешь. Но вообще этот опыт невыразим, так как все попытки описать его будут его искажать. «Мысль изреченная есть ложь» — тот самый случай.
Вопрос
Церковь как таблетка от одиночества — встречается очень часто. Элементарное «никто меня не понимает» и «никому я не нужен». Но ведь в приходской среде, где страсти обострены, скорее ощутишь одиночество. Тогда что — одиночество среди людей одной с тобой веры?
Ответ
Да, этот момент присутствует, хотя бывает и иначе. Но прежде всего Церковь — это встреча с Богом. А в Нем, через Него открывается и «ближний» — любой из людей, человек вообще. Я думаю, когда человек свят (а святость — нормальное состояние христианина) он не одинок даже в пустыне. Ему не бывает скучно, хотя бывают и тягостные состояния. Надо отказаться от стереотипов о «счастье» и радоваться тому, что тебе дано. Ну и потом Бог Сам сказал, что нехорошо человеку быть одному и поэтому позаботится о том, чтобы человек вышел из своего одиночества. Только для этого ему самому нужно сначала открыться, пробиться из скорлупы (или брони) собственного индивидуализма. Просите, и дастся вам.
Вопрос
Часто Божественный Промысел можно принять за игру обстоятельств. Можно — и наоборот. Никаких опознавательных сигналов нет? Или — все же есть?
Ответ
Есть, конечно. Есть, во-первых, несомненное знание о том, что ты, как и всякий человек, любим Богом. Ты — так, другой — иначе. Но то, что Бог есть любовь — знаешь из своего опыта. И постоянно в этом убеждаешься. Например, я разбил коленную чашечку и пару месяцев пролежал в гипсе — это был важный духовный опыт, т. е. то же самое проявление любви ко мне, избравшей вот такой радикальный способ действия, чтобы вырвать меня из определенного внутреннего состояния, опасность которого я осознал лишь «на одре болезни». То есть «сигналы» — вещь регулярная, каждый верующий знает об этом из своего опыта. Это опыт прозрений. Чудес, если угодно… «Обыкновенного чуда», каковым и является христианская жизнь. Или, говоря словами поэта, «тихий праздник».
Вопрос
Что для вас, отче, было в самом начале вашего прихода ко Христу — радость, красота, отчаяние? Или что другое?
Ответ
В основе, конечно, радость — блаженное ощущение абсолютной, чудесной свободы, которая тебе дана, буквально — упала с неба. Самым потрясающим было ощущение присутствия Бога, испытанное сразу после Крещения. Потом — через два года — глубочайшая внутренняя тишина и свет после первого причастия. Потом был опыт ложного пути, продолжительное и довольно мучительное состояние неопределенности, непредсказуемости, «подвешенности», и это тоже было важно. Я научился надеяться лишь на Христа, понимая, что сам, своими силами, я не выпутаюсь. Собственно, эти состояния и следуют друг за другом, хотя со временем все «обустраивается».
Вопрос
О смерти. Чаще всего сейчас слышу такую мысль: мы ничего о ней не знаем, кроме того, что она существует. Соответствует ли это христианскому пониманию смерти?
Ответ
В целом — да, хотя какие-то знания нам даны, например, о посмертном суде. Все это, я думаю, очень индивидуально. Мы имеем несколько «картинок», чаще — страшных, возможно, из соображений педагогики. Но вообще смерть — это встреча со Христом. Это главное. Смерть — это свет, а не тьма. Такой опыт я получил в Крещении, после чего было абсолютно ясно, что смерти нет, а Бог — есть, и — вот Он, в тебе. Точнее, мне открылось, что Жизнь — это вот этот миг, минута, несколько минут, когда вы — одно и все исполнилось света. Этот свет был реален, более реален, чем солнечный, но ничего доказать здесь нельзя. Есть принципиально иные состояния, не принадлежащие этой реальности. Потому и посмертный опыт невыразим — лишь какие-то «тени», «тусклое стекло». Ясно только, что при полном доверии к Богу смерть — хотя она и противоестественна — не страшна. Потому что тогда ты всецело в Божьих руках, а Богу — и об этом говорит весь твой опыт — можно довериться. Страшно отпасть от Него, но Он этого — я верю — не допустит. Запутавшегося человека спасает опыт страдания, наконец — смерти, которая ведь тоже таинство…
Вопрос
Вы, отче, бывали в реанимации, крестили младенцев. Не будет бестактно попросить рассказать об этом периоде? Об этих детях.
Ответ
Этот период более-менее постоянен, так как храм, где я служу, рядом с роддомом. И все наши священники в нем бывают. Особенно летом, когда мы служим по неделе — одну неделю один, другую — другой, третью — третий. То есть священник, постоянно «окормляющий» роддом, отсутствует пару недель и его обязанности выполняет служащий священник. Обычно младенцу несколько недель, а то и дней и жизнь его в опасности, он лежит, опутанный трубками, в пластиковом прозрачном блоке. Освящаешь воду, блок открывает сестра или ты сам, кропишь водой крошечное тельце. Тут же — родители. Некоторые потом приносят этих выживших крох причащать. Трудно говорить о таких вещах, сами понимаете. Сострадать — это самое главное, состраданию, надежде и учат эти «требы». А еще есть точное и неверно трактуемое, почти забытое слово «умиление». Это не сентиментальность — это, в дословном переводе с греческого, «уязвление». Уязвление любовь Божьей. Радость и боль…
Вопрос
Мысль о смерти — конечно, не то, что «память смертная» святых отцов. Просто мысль. Но вокруг так много ужаса и трудностей, что невольно говоришь себе: «хоть передохну, подумаю о том, что после того, как сделаю то и то, будет хорошо». Словом, прячешь голову в песок. Это понятно. Но как жить с занозой: все равно ничего и никогда не будет. Уныние как главная болезнь настоящего времени — верно?
Ответ
Да, но уныние — либо испытание, неизбежное и в чем-то полезное, как и всякий правильно осмысленный опыт, либо — хроническая болезнь при неверии, безблагодатности жизни. При суете сует и всяческой суете. Кстати, у Екклесиаста — классическое ее описание, но поэтичность текста это уныние переплавляет в величественную красоту. Потому что поэзия — преображающее действие Божие и каким бы ни был предмет описания — он будет преображен. Короче говоря, уныние — одна из «страстей», что как и все вообще страсти (душевные болезни) были и будут всегда. Но ни в одно другое время не было столько средств заполнения внутренней пустоты. Сегодня человек живет в виртуальной реальности — искусственной и безблагодатной, но шумной и пестрой. Стоит ему хоть на минуту соскочить с этой иглы — и приходит «уныние». Он бежит от смерти, от мысли о смерти, хотя лучший способ избавиться от пустоты — это именно память смертная, делающая жизнь — реальной, а не иллюзорной. Верующий смерти не боится — он и ждет как возвращения домой, ко Христу. Он хочет «отрешиться», «разрешиться» от всех земных уз, как о том пишет Павел, и быть со Христом. Он и здесь — с Ним, но там это общение будет полней и свободней. И вот это ожидание встречи наполняет и его здешнюю жизнь своим светом, делает ее глубже. Смерть — продолжение пути, хотя и поют о «вечном покое». Покой ведь не противоречит действию, это — внутренний мир. И — освобождение от всего мелочного, лишнего, обманчивого. Предельная ясность. Вспомнишь о человеке, что он смертен, и уже не злишься на него. Так же и помня о своей смерти не делаешь многих лишних движений, не суетишься. Все пройдет, но с одной важной поправкой: пройдет то, чему должно пройти. Есть вещи непреходящие. Если они для нас есть. Потому что если человек убежден, что Бога нет, то Его для него и нет. До поры до времени.
Вопрос
Есть логика в том, что человек, пришедший в церковь, перестает воспринимать светскую культуру. Он либо добровольно отказывается от нее, либо возникает чувство, открывающее его душе иную красоту. Но это скорее исключение. Единого мнения о том, каким именно должно быть отношение современной православной церкви к светской культуре, в церковных верхах нет. Но его, кажется, и быть не может. Все упирается в личный выбор. Каков он у вас, отче?
Ответ
Светская культура — продолжение церковной. Собственно, «культура» — понятие всеобъемлющее. Все, что не природа — все культура. Приходя в Церковь, соприкасаешься с первоисточником. Культура перестает быть идолом. Начинаешь иначе мыслить, иначе чувствовать, иначе говорить. Все меняется. То есть — да, открывается иная красота, точнее — иное измерение красоты. Красота одухотворяется. Но наша жизнь — это вдох и выдох, восхождение и снисхождение. Время бросать камни, и время их собирать. Но уже по-новому и другие (хотя и те же). Например, я несколько лет после воцерковления не мог писать стихи, потом это вернулось, потом я снова замолчал, снова записал. Здесь все индивидуально. Кто-то оставляет все, что имел и идет за Христом налегке, кто-то не может сделать этого сразу, кто-то — вообще. И в каждом случае нужен индивидуальный подход. Важно, чтобы искусство было в конечном счете созидательным, а не разрушительным, хотя в этой области все настолько неуловимо, часто — двусмысленно, да и отношение наше к одним и тем же произведеньям изменчиво, как изменчивы и мы сами. Есть, например, икона, церковная архитектура, богослужебные тексты — здесь все подчинено канону (свободе внутри канона, говоря словами отца Павла Флоренского). Но есть и светская литература, музыка, изобразительное искусство — все это выполняет свою важную функцию. Это как монашеский и рыцарский путь (второй, увы, прочно забыт с некоторых пор). Церковь не стесняет свободу художника, ее задача — спасти человека, открыть ему Христа-Спасителя. А выбор человек делает сам и как он его делает, каким образом — все это тоже достаточно таинственно. Тем более, когда речь о художнике. В этом вопросе церковному сознанию еще предстоит разобраться. Запрета на искусство нет, да и не может быть, хотя есть запрет на изготовление порнографии и это правильно: искусство не должно развращать. Но порнография и не ставит перед собой художественных задач, а потому она и не искусство. Во всяком случае — не искусство в традиционном понимании. Потом, одно дело — искусство классическое, другое — сегодняшнее. Во всем этом воцерковляющемуся художнику предстоит разобраться для себя, и это, конечно, непросто. Если говорить обо мне, то я все время пишу — если не стихи, то эссеистику, тексты для моей авторской радиопрограммы. Все это, надеюсь, не уводит меня от Христа. Хотя это всегда поиск, всегда попытка ответить на какие-то вопросы, возникающие передо мной. Это не подгонка под заранее известный результат. Особенно, что касается стихов, приходящих не так уж часто, зато — как «лихорадка» (по замечанию Ахматовой). Стихи срывают двери с петель, ведут куда не хочешь. Для меня это не стихотворные иллюстрации известных благочестивых мыслей и мыслей вообще, в них я всеми силами избегаю проповеди — это другой жанр. В общем, что-то, так или иначе, все время пишется и именно с Божьей помощью, без которой все просто не состоится, пойдет в мусорную корзину (или виртуальную — в компьютере). Для меня это — продолжение священнического служения (простите за пафосность), смена регистров, и я не представляю себе одного без другого. При всей сложности такого расклада.
Вопрос
Творчество во все времена казалось отражением молитвы, сестрой молитвы. И сейчас это сохраняется. Но верно ни ли художник понимает, что есть молитва? Нет ли подмены живого языка сердца — куцыми жалобами? И обращена ли эта творческая молитва ко Христу?
Ответ
У кого-то из Отцов мне встретилась мысль, что любое движение ума и сердца к чему-то высшему есть молитва. Высшая степень молитвы — безмолвие. Но вообще у творчества всегда были задачи и более скромные, да и называлось оно не творчеством, а ремеслом. Это только христианство (прежде всего западное) превознесло художника на равнобожественную ступень. И в этом есть своя правда, если иметь в виду не художество как таковое, а укорененное в Боге. Потому что тогда через искусство говорит Бог. Молитва — это ведь диалог. Есть мольба, но есть и богомыслие, «молитвенное размышление», медитация. Все лучшее в искусстве — такие «сны». И у них свои законы. Это такой контролируемый (более или менее) транс. Мы вольны его принять (войти в него) или отказаться. Здесь все индивидуально. Насчет понимания художником, что такое молитва — вопрос особый и здесь вряд ли возможно говорить о художнике вообще. Мне представляется, что здесь тот же принцип неслиянности и нераздельности собственно молитвенной, литургической практики и творчества. Одно не есть другое, важно не смешивать, но и не разделять. Художник должен быть целен, как и вообще человек — целен, а не раздвоен. Но это по ряду причин непросто. Есть, впрочем, немало образцов — «Божественная комедия», например, уникальный образец сплава богословия и поэзии. Да и в любом большом художественном произведении можно отыскать тот же след, в том числе — в искусстве античности («христианстве до Христа» по выражению одного из Отцов). Бог благословляет художника, каковым и создан человек. Мне нравится определение искусства как блаженной игры Отца с детьми (Мандельштам), хотя, возможно, оно подходит лишь для художников определенного склада. Кстати, если мы, не став как дети, не войдем в Царство Небесное, то вспомним: дети не только молятся, но и играют. И шалят. Озорничают. Дети — не маленькие старички, какими нередко изображают святых в детстве жития. Главное свойство детей — открытость чуду и вообще — открытость, искренность, увлеченность (особенно игрой). Думаю, Христос имел в виду и это тоже.
V. Приходские рассказы
Коленька
Эта история записана мною на одном из тех мест, в которых человек, как нашкодивший школяр, стремится оправдаться.
Кот, символически побитый полотенцем, с неожиданной грацией закружился над бумажкой. Как котенок. Огромная серая тушка. Прощения просит.
Так вот, история, которую записала, подлинная. А может быть, создание устного телеграфа. Ну, как иначе назвать слухи, кочующие от человека к человеку?
Монаха звали Николай. Родители его, батюшка и мама, как-то очень рано умерли, и Колю уже шестнадцати лет постригли в рясофор. Теперь ему шел двадцать третий год и его совсем недавно облачили в мантию.
Николай нечаянно, хотя прочно, заслужил симпатию почти у всех. Нравом отличался мирным, несколько мечтательным, с точки зрения благочинного. Он обычно и давал послушания. Отцом Николая можно было назвать, хотя и с проекцией на будущее. В нем образовалась уже особенная внимательность, необходимая при его сане. Хотя он сильно отличался от прочей братии. И тем, что был слишком прост и мечтателен, и тем, что доводил начатое до конца. Ел он все, что предлагали в трапезной, и добавки просил иногда, и на ночь утешался булкой. С разрешения духовного отца, конечно. Спал, сколько мог себе позволить, не в ущерб общежитию. Словом, особенных монашеских достоинств не имел.
Приятелем ему стал отец Евфимий. Этот прожил десять лет на Афоне, но Волей Божией водворен был в место начала своего подвига. Вернулся в родную лавру. Лет ему было около пятидесяти, волосом рыжий, широколицый, говорил пришепетывая. Не стесняясь прихожан, отец Евфимий мог оставить исповедь и побежать к брату, возле соседнего аналоя, дабы исповедаться самому. Когда исповедовался, становился на колени. Ангелы начинали шептаться.
У Евфимия, с разрешения благочинного, жил рыжий же кот Тиша. Тишендорф. Правда, скоро этот кот был подарен старцу Кукше, во избежание привязанности.
Так что жизнь монаха Николая проходила ровно, как бы за пазухой. Кроме одного случая, происшедшего в канун Дмитровской Родительской Субботы. Божьей волей, Николай был поставлен исповедовать мирян. Впервые.
— Чуть что, беги скорее ко мне, я там тоже буду, — подучивал новичка отец Евфимий, — Вместе удобнее бить лукавого.
Сам Евфимий исповедовал мирян уже лет двадцать.
Милостью Божией, к авторитетному совету отца Евфимия прибегать не пришлось. Приходили дети, за ними — их благочестивые мамочки с бесконечными вопросами о соседях, жилье, работе. Приходили больные: сильно и не очень. Мужчины, бабки, старики. Монах задавал вопросы, когда что было ему не ясно, выслушивал только самое необходимое, по сути, интересовался, как себя ощущает человек, какое у него настроение, подробно расспрашивал о составе подготовки ко Святому Причастию. Понемногу толпа рассредоточилась.
Одной из последних подошла молодая женщина, не старше него. Она показалась хорошо одетой, даже дорого. И все плакала-плакала. Потом начала рассказывать. Слезы у ней как будто высохли. На лице появилась краска стыда. Жила невенчанной, муж бросил, сын умер, прожив месяц. Родители, состоятельные люди, похоронили внука на дорогом кладбище, почти в самом центре города. Сама живет частными уроками. Преподает английский язык. Женщина рассказывала скупо, сдержанно, а монах, углубившись в молитву, слышал только, как жгуче ей стыдно за прожитое и как больно за ребенка. После разрешительной молитвы она протянула ему листок бумаги, в котором было завернуто сто рублей. На листке аккуратно выведено: «Коленька. Окрещен 2.10. Умер 30.10.»
— Очень вас прошу, батюшка, помолитесь!
И тут с отцом Николаем что-то произошло. Деньги он вернул, сказав:
— Лучше за ящик положите.
И добавил, словно не от себя:
— Обязательно помолюсь, будьте спокойны.
Женщина, нырнув в толпу, скрылась из виду, а Николай, встав, пошел в алтарь. И с запиской — к Престолу. В алтаре гуляли жестокие сквозняки.
— Надо бы закрыть окно, — подумал Николай. Но тут же вспомнил, что его еще ждут человека три. Выглянул из алтаря — где отец Евфимий? Но тот уже ушел. Тогда Николай опустился на колени и помолился о том, возможно ли ему помолиться об этом младенце. Но сердце ответа не услышало.
— Господи, да будет воля Твоя!
Встал, поклонившись, вышел из алтаря и вернулся к аналою. Заметив ту самую молодую женщину, он подошел к ней и сказал. Снова как бы не от себя:
— Я помолюсь о вашем сыне. Будьте покойны.
Женщина опустилась на колени и поклонилась монаху в ноги. И снова плакала. Так, что не могла говорить.
Исповедь завершилась мирно, и Николай, утомившись, спал до последнего, без сновидений.
Проснувшись, первым делом он вспомнил о Коленьке. И все вспоминал его, читая положенное правило. И еще вспомнил, что на исповеди после повечерия, не открыл духовному своему отцу, игумену Арсению, про Коленьку, не посоветовался даже. После службы Николай отыскал отца Арсения и все ему выложил. Выслушали его любовно, прочитали даже молитву из требника, но тихо, так что Николай и не узнал, что же это за молитва была. После молитвы услышал:
— Хорошо бы тебе к отцу Кукше по этому вопросу.
Николай поднял глаза. Сердце у него захолонуло. Он хотел выспросить у отца игумена, что же случилось. Но не посмел.
Иеросхимонах Кукша уже лет шестьдесят жил в скиту, а ему самому было девяносто пять. Отличался старец живым и даже несколько хулиганистым нравом, чем заслужил прозвище блаженного. У него перебывало, и даже не по одному разу, все верующее население России. Басен и побасенок, сложенных о нем со времени войны, было предостаточно. Старец на басни внимания не обращал и мирян принимал строго в Четверг, от часу до четырех пополудни.
Волей Божией, многие энтузиасты попадали к старцу в любой день и в любое время. Рассказывали, что одна страдальческая чета, порешив не уходить от ворот скита, пока не дождется благословения старца, совершив молитвы на сон грядущим, уже располагалась спать на земле, подстелив курточки. Времени было часа три ночи. Вдруг ворота раскрылись, и выглянул отец Кукша.
— Вы чего порядок нарушаете? Идите сюда, что там у вас…
Но на это было особое благоволение Божие. Монастырских же насельников старец принимал охотно, все выслушивал, кое-что подсказывал. Говорил мало и резко, а за окончательным разрешением дела отправлял к духовному отцу. Так что в монастыре сложилось негласное правило: без нужды к отцу Кукше не ходить.
Что у меня за вопрос, думал Николай. Не примет меня старец. Но Господь судил иначе. Отец Кукша вышел из кельи, держа в руках письмецо Николая.
— Ну-ка, Коленька, иди сюда…
Николай понял: это к нему. А отец Кукша стоял уже рядом, держа наготове епитрахиль. Монах опустился на колени.
— Помолимся за Коленьку, помолимся. Потерпим. На то и монахи. — Довольно весело проговорил старец после разрешительной молитвы и тут же скрылся в келью, не добавив ни слова.
В монастырь Николай возвращался уставший. На ветру губы запеклись и казались испачканными собственной кровью. Вкус крови был в горле, кровью пахло дыхание в ноздрях — такой был ветер. Лоб, что называется, горел. Всю вечернюю службу так же знобило, бросало то в жар, то в холод. За трапезой кусок в горло не шел. Повечерие и вечернее правило миновали словно по воде, словно бы он плавал сердцем где-то. Николай хватался за Иисусово имя, засыпал и снова просыпался в поту.
Проснулся он ближе к утру и увидел, что на постели, в ногах, лежит синенький атласный сверток. Хорошенький, в кружевах. В свертке — младенчик. Коленька. Запищал, крутя лысой головенкой. Николай во весь голос, хотя не криком, зашептал «Да воскреснет Бог!». И вдруг — сам подхватил Коленьку и забегал с ним по келлии, укачивая, и все крестил его лобик, и смазал освященным маслицем.
Младенец пищал не переставая, а монах, порешив дотерпеть до утра, шептал все молитвы, какие знал, одну за другой, и все ходил по келлии, укачивал Коленьку. Мальчик был живой, теплый, глазки у него блестели грустно, и он искал ими маму.
Наконец, выбившись из сил, монах вздохнул:
— Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй меня, грешного.
Младенец тут же затих и уставился на монаха. В груди у Николая похолодело. Уже не глядя на младенца, но и не выпуская его, монах все повторял эту молитву. Вскоре Коленька совсем успокоился. В груди у Николая потеплело, страхи отступили, и младенец слился, казалось, с его собственным сердцем.
Но вот молитва ускользнула, и Николай взглянул на дитя. Коленька спал, круглое личико склонилось.
— Господи! — вздохнуло сердце.
Теперь подступил жар. Голова загорелась, в глазах поплыло. Монах твердил свое изо всех сил, хватаясь за каждое слово, и все не хотел заснуть.
Когда и как это произошло, он, конечно, помнить не мог. Проснулся вовремя, все вычитал, и не торопясь успел к службе. Коленьки с ним не было. Отец Арсений, выслушав Николая, ничего не сказал. Но тот и не удивился. Озноб у него потихоньку переходил в лихорадку.
После службы сотворили панихиду. Такой панихиды Николай еще не слышал. Словно бы все, слышанные им до нее панихиды — не панихиды. Хотя, конечно, это не так. Николай помянул про себя и Коленьку. Младенца Николая.
Когда вошел в келлию, понял, что должен лечь. Все тело болело как от побоев, временами нападала крупная дрожь. Едва лег, постучался отец Евфимий:
— Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас!
— Аминь!
Отец Евфимий захлопотал:
— Ну, слава Богу! Какой ты у меня! Сейчас я за доктором…
— Брат, позови отца Арсения!
— Брось, не бери в голову, Господь с тобою!
— Ради Христа, брат! Не ради меня, грешного.
— Позову, позову.
Больше Николай не помнил ничего. Вернее, помнил, что терял слова молитвы. И потом снова их находил. Иногда их приходилось вырывать из темноты, иногда — хвататься за них. И так далее.
Вдруг, совсем рядом — женский голос:
— Коленька, здесь я!
— Мама!
И — очнулся. Женский голос у него в келлии? Мама?
— Сейчас Коленьку будут причащать Святых Тайн. Я уже все приготовила.
Николай снова впал в забытье.
Вошли отец Арсений, с Дарами, и отец Евфимий. Больной лежал в мантии, улыбаясь, и даже не взглянул на них. Посиневшая от холода рука свешивалась с постели. Отец Евфимий склонил голову.
— Жив он! Подойди к нему, — раздался ясный женский голос. Бывший афонец рухнул на колени. Игумен со Святой Чашей стоял ни жив ни мертв.
И правда: больной открыл глаза. Он посмотрел на клобук отца Евфимия, или выше, и сказал:
— Мама!
Лоб у Николая был в крупных каплях пота. Духовник приблизился к больному и накрыл голову епитрахилью. Сознание словно бы вернулось. По окончании молитвы Николай сказал:
— Я смогу встать.
И действительно встал. Его приобщили Святых Тайн.
— Слава Тебе, Боже! — Вздохнул больной и тут же обвис на руках у отца Евфимия. Едва уложили на постель. Часа через полтора дыхание совсем прекратилось.
Добровольные певчие решительно брали самые высокие ноты, и от этого гудело в голове. Монахиня тихонечко поворачивала ладошку, чтобы этот стихийный поток хоть сколько-нибудь напоминал пение.
В проеме между окнами приютился образ Казанской Божией Матери, и оттуда взирал на поющих.
Образ Казанской глядел и с золотистого креста на дорогом столичном кладбище. На кресте было написано только «Коленька». И две даты, с разницей в месяц. Казанская же глядела с желтенького соснового крестика над могилой иеромонаха Николая.
Арафатки
Непридуманный рассказ
Конца коммунальной войне не предвиделось. И ведь не скажешь, что соседи — люди неверующие или уж очень плохие. Татьяна, крупная большеглазая блондинка, кажется, всю тварь готова была обнимать. Вот молодая собака, глупое существо, одуревшее от квартирно-городского быта, а порода — охотничья, далматин. Так она вся светится, псина, когда Татьяна с работы приходит. Прыгает, льнет к хозяйке. Зовут соответственно — Мегги. Мегги буквально купалась в хозяйской любви. Дочь, худой подросток со скрипучим голоском, выводила собаку гулять несколько раз в день и носилась вместе с ней по улице, презирая правила движения, наперегонки. Устав от прогулок, возвращались домой, и Мегги сразу же ставила лапы на колени Татьяне, которая, улыбаясь, ее обнимала. Отец, Женя, московская шпана, был строитель и дело свое, как доходили сведения, знал прекрасно. Когда было настроение, вежливо стучал в соседскую дверь, просился в гости. Как-то рассказал, что «они с Танюшей венчались тогда, когда ничего нельзя было».
Но — что ты будешь делать — освободившаяся комната в трешке, в старом доме — никому покоя не давала. Соседи — пожилая женщина, клирошанка, и ее дочь-инвалид, семнадцати лет, тоже на освободившуюся комнату претендовали. Но куда им против Татьяны с Женей. Татьяна в совершенстве владела искусством занимать пространство. Войдет на кухню — и вся кухня ее. И так далее. Но человек она не злой, что девушка чувствовала. С этой девушкой, у которой уже и коляска появилась, соседи были не то чтобы вежливы, а считали почти за свою. Не раз в спорах о комнате Татьяна едва не со слезами умоляла строгую соседку-мать:
— Ну что вам в этом старом клоповнике? А мы бы вам жилье нашли. Дашке бы — комната отдельная…
Средств на покупку отдельного жилья для соседей у Татьяны с Женей не было, и всем это было известно. Оставалась надежда — сколько-то доплатить к сумме, вырученной за продажу комнаты соседей. Но соседи продавать комнату не хотели. Что только Татьяна не предпринимала. И сверкала грозными глазами, и кричала громовым голосом и подучивала собаку лаять на соседей. Ничего не помогало. Вдобавок, к соседям приехал погостить родственник — старичок-кинолог. Мегги, как его увидела, завиляла хвостом и… сделала «служить».
В комнате Анны Сергеевны преимущественно было грустно. Заставленная старой мебелью, душноватая, с истрепанным ветрами балконом, с неразобранными коробками по углам — ну что за жилище. Дочка находиться там долго не могла, однако делать было нечего — и она порой часами вытирала слезы. Настроение мамы тоже было грустным, еще и приговаривала:
— Война, смотри. Настоящая война. Впрочем, вокруг меня всегда война.
— Что же, — думала девушка, — так и должно быть? К верующим всегда так относятся — как к врагам? Это всегда — не мир, но меч?
Однажды Анна Сергеевна обнаружила в стене, граничащей с кухней… дыру. Будто нарочно эту дыру расширил и подготовил для проникновения на вражескую территорию.
— Танька с Женькой, кто ж еще?
То, что дом старый или что другое было, до того как эту комнатенку им с дочерью дали, в голову не пришло. Такова власть мнительности: кто виноват? Да тот, кто ближе.
А тут как раз у Жени на работе неприятности, домой пришел в одиннадцать, и начался театр абсурда. И в стену стучал, и в дверь, и едва унитаз не разбил.
— Убью, старуха.
Татьяна, себя и дочку спасая, его подначивала. И совершенно непонятно было, всерьез Женя угрожает или нет. Анна Сергеевна решила, что всерьез — а как иначе? Телефон в коридоре, конечно, мобильных тогда не было.
— Вот люди… Убьют, отравят… Читай, Даша, псалтирь.
Даша открыла псалтирь, начала вполголоса кафизму. Из-за двери уже какие-то нечеловеческие звуки раздались. Женя и на Татьяну понес; как только она такое терпит. Дочка орет своим сорванным голосом, а Жене хоть бы что.
— Все уходите, всех убью.
Да что ты будешь делать. Анна Сергеевна сжалась в клубок, а потом вдруг выпрямилась и рукой махнула:
— Не читай!
Даша в недоумении: как так, целых две славы осталось… Анна Сергеевна вышла за дверь и ясно так, Даша слышит, сказала:
— Милицию вызываю.
Дракон еще несколько раз пламя свое выпустил и в своей комнате сховался. Часа не прошло — Татьяна стучит, в слезах:
— Анна Сергеевна, валидол нужен…
Да что ж такое, что ты будешь делать. Нельзя Жене пить, сердце-то не железное.
Так и жили — общей бедой и общим миром. Но не всегда — бои. Бывали и затишья. Даша любила середину дня, когда никого нет, а солнце на кухне длинное-длинное, и декабрист в цвету. Первой из школы приходит дочка, Ленка. Бросит тяжеленный рюкзак — и гулять. По-настоящему вечерняя жизнь начиналась с возвращением Татьяны из своего банка. Мегги плясала возле нее, запахи всякие вкусные на кухне, Ленка ласкалась и что-то девчоночье обязательно дарила.
Наступало время ужина, девушка выходила на кухню — согреть кашу или поджарить яичницу — а там, на кухонном диванчике, сидела улыбающаяся Татьяна в обнимку с Мегги, и никакого зла от нее не исходило. Густое закатное солнце стекало по разросшемуся декабристу на окне.
— Хорошо тут, где уж столько живем, — думала девушка, — тут настоящая Москва. Вот и храм недалеко, и метро, и зоопарк… А до Белорусской — если постараюсь, даже я пешком дойду.
Храм был православный, но грузинский. Однажды девушка зашла туда на пасху. Пели прекрасно, руладами, как плакали.
— Нет, не хочу отсюда.
И никто уезжать не хотел. Комната, причина коммунальных боев, еще вполне свободна не была. А жила в ней старуха, от которой только, кажется, отчество осталось: Антоновна. Антоновне дали квартиру в двадцатидвухэтажном доме, на двадцать втором этаже. Антоновне — восемьдесят. Самое время перебираться на двадцать второй этаж. Антоновна плакалась то Татьяне, то Анне Сергеевне. И обещала комнату «написать» — то Татьяне, то Анне Сергеевне. Родственникам Антоновна не очень доверяла — новые, как огурцы. От них — даже на двадцать втором этаже не получишь. Разные муниципальные структуры помогать расселению коммуналки не торопились.
— Нужно вам жилье — купите; сейчас можно, — говорили Татьяне и ее соседке чиновники. Разделить квартиру ни у кого в мыслях не было; что бы кому досталось — разве что угол.
Прошли новое лето и новая осень, настала зима. На Введение во храм Пресвятой Богородицы настоятель вдруг благословил Анну Сергеевну… поехать в Иерусалим на Рождество. Откуда что взялось. Кто-то из прихожан дал денег, кто-то помог оформить паспорт побыстрее. И вот, девушка спрашивает:
— А как же я одна Рождество встречать буду?
— Это слабость, — отвечает мама, — Бог все устроит.
И уехала.
Даша после отъезда мамы долго изумлялась тому, как так получилось, что мама уехала. Ведь она ужасно боится паспортных столов, чиновников, вокзалов и аэропортов. А тут — будто кто на руки взял. И группа подобралась хорошая: мама все нахваливала руководителя, безработного философа Илью Степановича, прилепившегося к храму. Этот Илья Степанович числился руководителем паломнических групп. С вокзала мама даже позвонила — похвастаться, какие хорошие в группе люди. Верующие, искренние, предупредительные. Даша в трубку слышала, как она улыбается. Анна Сергеевна умела улыбаться голосом.
Конечно, оставаться одной с Танькой и Женькой, как мама их называла, было даже страшно. Кто их знает, что могут учудить. Совсем рядом — новый год, а там и Рождество. Даша погрузилась в предрождественские настроения.
Пенсию ей выплачивали аккуратно, но вот за ноябрь и декабрь задержали. Пообещали, что будет либо в конце декабря, либо в самом начале года. Маминой клиросной зарплаты и пенсии им обеим на жизнь хватало, да и собес не бездействовал. Даша получала и гуманитарную помощь, и лекарства. Когда пенсию задержали, было, конечно, туговато, но все же выдюжили. И вот теперь — что будет, как будет. Да и пенсию обещали за три месяца сразу выплатить.
Сложнее было другое — самой помыться, приготовить пищу и убраться в комнате и туалете (Татьяна там пол протирала ежедневно). Лежать неделю и ждать маму Даша не хотела. Незадолго до мамина отъезда купила новый шампунь — земляникой пахнет! Надо попробовать.
В квартире вроде как тихо. Может, соседи в гости ушли. И Даша решила помыться. Но как же мыться, когда пол грязный, пыль не стерта и вещи — как попало, не убранные после маминого отъезда. И вот — скорей-скорей, шлеп-шлеп, встав с коляски, опираясь на палку, Даша начала уборку. Дело это ей очень понравилось. Наберет воды, чуточку, прополощет под краном половую тряпку (оглядываясь, чтобы Татьяна ее за этим делом не застала), и — шлеп-шлеп — в комнату. Сообразила, что пол удобнее мыть сидя. Сядет, и тряпкой — раз-два, и потом — еще раз. Чисто. Под шкаф рукой не особенно далеко залезть можно. Даша придумала: тряпку на швабру — и раз-два. Теперь и под шкафом чисто.
Но вскоре усталость сказалась: решила поскорей уборку закончить. Успела все же протереть подоконник, вымыть раковину в ванной и пол в туалете. Уже пахло мокрым деревом от паркета в коридоре на весь дом, а сама чай на кухне заваривает. И тут — о ужас! — Татьяна входит. Одна. Женя с дочкой в кино пошел. Вошла Татьяна и тут же заметила следы уборки. Затем на кухне увидела Дашу, которая со своим кипяточком готова была сквозь землю провалиться, да только беда — кипяток бы на Татьяну выплеснулся. Ну, думает Даша, сейчас скажет, какая я тут хозяйка. А Татьяна:
— Ты что, убиралась? Ан Сергевна уехала, а ты одна убиралась? Почему мне не сказала? Что я, не человек? Ну-ка сиди, сейчас ужинать будешь.
— Да я в своей комнате только, — залепетала Даша.
— Сиди, сиди. Тортом угощаю.
Все же как хорошо, когда — новый год.
Татьяна — свое:
— Ты когда убираешься, тряпку чаще старайся выполаскивать. Тогда точно все чисто будет. Тогда и воды много не надо носить. Самое — по тебе.
Даша открыла было рот: мол, я так и делала. Но тут кто в ухо шепнул: молчи! Смолчала. Подумала: может, и надо молчать. Пусть лучше Татьяна говорит.
Положила Татьяна на Дашину тарелку огромный кусок красивого ягодного торта, помогла чайник в комнату отнести. Однако в комнате Даша заметила, как зеленые глаза Татьяны стали холодные-холодные. Ничего не сказала, да и Татьяна сама промолчала, как гроза стороной обошла.
Пенсию дали сразу после нового года, четвертого числа. За все три месяца! Вот радость-то была. Даша и забыла, что зима и лед, а льда она боится очень и очень. Коляску ей никто бы не спустил с их третьего этажа, а вот — если самочувствие получше — на улицу с палочкой выйти можно и медленно-медленно погулять. Но чудеса продолжались. Даша спустилась на улицу… и дошла до кафе возле метро, где решила чаю выпить. Обычное кафе, с красивыми светильниками. Подошла Даша к стойке, посмотрела меню, поискала, что там постное. Салат из кальмаров! Вот удача. Взяла салат, пирожки и чай. Все вкусное, хотя пирожки холодные. Сидела за маленьким круглым столиком, как будто всего для одной кофейной чашки сделанным, ела салат из кальмаров, пила чай и смотрела, как ложится на асфальт новогодний снег. Звезды, звезды. А мама наверно возле главной звезды теперь — Вифлеемской. Сколько ждать осталось? Дней пять; после Рождества вернется.
В ночь на Рождество Даша подновила лампаду, зажгла самые красивые свечи. Свечи она любила и даже собирала. Белые, серебристые с голубым, а есть алые с золотом, и с запахом яблока, и с запахом клубники. Посидела, выпила горячий чай с лимоном, яблоком и корицей, всплакнула, что одиноко, и заснула. В семь утра звонок — отец Михаил; спрашивает, готовилась ли причаститься. Готовилась. В девять батюшка уже у Даши, порадовались празднику, помолились. Отец Михаил Дашу причастил. И все равно грустно.
Татьяна с Женькой, пока отец Михаил у Даши, все мимо двери ходили, хотели заглянуть. Громко так ходили, топали. Едва отец Михаил — из двери, Женя — к нему:
— Святой отец!
А батюшка в ответ:
— Бог благословит!
Благословил и по голове легонько постучал. Вот чудо-то!
Весь день Даша чувствовала себя огромной белой зимней птицей. Поднимет-поднимет крылья, а они опять опускаются. И как будто тают, крылья-то. Как из снега сделанные. Но радостно, до слез.
Анна Сергеевна приехала девятого. Тихая, светится.
— Ничего, говорит, не привезла. Все дорого, да и денег нет. Хотя если бы побольше было — там так хорошо. И платья красивые, тебе, и сумки. А я вот это только…
Покопалась в саквояже, распрямилась. А в руках… Два пестреньких платка, один цветной, один черно-белый. Как вышитые по белому, да так хитро.
— Арафатки, — говорит, — я их ко Гробу Господню приложила, так все там делают. Арабские платки несут ко Гробу Господню, чтобы святыня была и память.
Сама сесть боится, держит в руках эти платки. Ну невесть какая святыня этот кусок ткани. А поди ж ты. И голосом улыбается. Давно Даша не слышала — чтобы мама так хорошо голосом улыбалась.
— Вот эта, черная с белым, сказали — мужская. А цветная — женская.
И смотрит, в глазах сладкие слезы, так, как будто она и сейчас возле Гроба Господня. Чудо!
Ближе к лету дали Женьке квартиру в Подмосковье. Он там ремонт небольшой сделал, на халяву, конечно, сам — прораб. И вот решили они с Татьяной предложить это жилье в обмен на комнату. Повезли Дашу и Анну Сергеевну смотреть. Дорога долгая, минут сорок с Ленинградского вокзала.
А квартира вполне оказалась приличная. Комнатки, правда, небольшие, тесные. Телефона нет, но можно поставить. Балкон, а под балконом липы. Электрички где-то вдали грохочут.
— Ну что мне от хорошего лучшего искать, — вздохнула Анна Сергеевна, — Дашутка, видно не судил Бог нам в Москве.
— Да что вы, Ан Сергевна, — взъярилась Татьяна, — Это ж совсем скоро Москва будет, а сейчас номер вам дадут московский… Сорок минут — и в центре. И плата коммунальная тут невысокая. И никто не прописан.
— Тут ведь какая разводка, настоящая. И кабель медный, — подхватил Женька, — С электрикой у вас тут никогда проблем не будет.
Анна Сергеевна — к Даше:
— Нравится тебе тут, Дашутка?
А что — нравится или не нравится. Крыша над головой. Потому и арафатки. Очень Даше эти платки понравились. Так бы в них и спала.
— Да, мама. Пенсия тут поменьше будет. Может, какую работу найду.
— Зато отдельная, — уговаривала Татьяна.
Это точно. Только этаж восьмой. Ну да ладно.
Женька с Татьяной все документы сами оформили и за все сами заплатили. Потом Женька машину подогнал, перевезли вещи. Вещей-то немного, Анна Сергеевна больше половины вынесла на помойку, зачем копить, а вот пианино — груз достойный. Потом Анна Сергеевна настройщика вызывала, и полмесяца пришлось не то чтобы голодать, а сдерживаться, на кашах. Дорогая настройка. Но дорога до храма, где Анна Сергеевна поет, оказалась удобной. Дольше, но все равно удобно. Даше старый компьютер подарили, и стала она набирать тексты для приходского листка.
Убираться в новом жилье оказалось проще, чем в старом доме. Но тот дом Даша все равно вспоминает, и он ей снится. Будто лучик тех старых-старых тополей сюда дотянулся. И до Белорусской даже она пешком дойти может.
Дух Святой
Накануне нового, 1990, года в центре Москвы — нечаянная встреча. Белокурый человек, как будто сделанный из серебра. Мне было грустно, Новый год решила встречать одна. Пригласил в гости — так просто, потому что новый год. Дома — жена, моя тезка, Наталья. Чай, десерт из риса с киселем. Очень вкусно.
…Новогодняя ночь прошла как в волшебной сказке. Ни грусти, ни сожалений. Рисовали, рассказывали истории, зажигали немудрящие свечи. Жена недавно приняла Святое Крещение. К этому всегда открытому дому я очень привязалась. Хрущевка, пятиэтажка. Кажется, что вовсе без дверей. При желании можно влезть в окно, в любую погоду. Брать, конечно, было нечего.
Странная это была пара, но именно пара. Хотя — почему была? Кареглазая блондинка-дочка Аня выросла необыкновенно быстро — самостоятельная, энергичная. Заканчивает гуманитарный институт. Кажется, и не они — ее родители.
Наталью я знала с конца 80‑х. Встречала в известном кафе, и всегда наблюдала за ней. Наталья обращала на себя внимание. Ей неведома была усталость. Слушать всю ночь музыку Шнитке, рукодельничать, принимать гостей, поехать в Загорск в шесть утра — легко. Невысокая, но очень элегантная. Муж тоже гостей любит, вообще дом очень гостеприимный. Муж — умница, компьютер может разобрать и собрать с закрытыми глазами. Словом, они настолько хорошо друг друга дополняли, что казались созданными друг для друга. И какая же это была радость, когда родилась Аня! Дом светился. Даже если мне и казалось, что есть нечто нездоровое в том, как он устроен, ощущению счастья это не мешало. И я думала — а как Христос? Ему наверно приятно видеть, как они счастливы. Жена приняла Святое Крещение в 18 лет, но в церковь ходила редко. По-туристически, как мне тогда казалось. Мне не верилось, что для нее Христос — что-то важное. Что это Крещение — больше чем дань оригинальности, больше чем причуды развитой творческой натуры. Больше, чем противостояние окружающему гибельному порядку. Но в конце 80‑х можно было все, так что это противостояние ничем не грозило. Игра со Христом? Или же — Христа с нею?
В отношении человека человек всегда ошибается. Для Натальи крещение было факелом, который поднесли к морю нефти. А время для возгорания было самое неподходящее. Аня подросла, на горизонте замаячила школа, требующая очень много средств и вещей. Мужу деньги давались отнюдь не просто (были дремучие девяностые) — и вот, из всей бытовой сумятицы для жены выход оказался один — церковь. Поначалу были ступени. Увлечение то театром, то кино. Но жажда — тогда мне казалось: истины, на самом же деле — Христа — превозмогла все. Наталья хотела спасаться и все делала для того, чтобы спастись и спасти Аню и мужа. Порой это приобретало ужасно резкие формы. Однажды привезла огромный холст — надо было доработать картину. Мне позволили. Разложила кисти, ветошь, пенен. Наталья осталась: смотреть, как пишу. Подошла, взглянула на картину, разложенную на кухонном столе, критически. На картине было Распятие. И, как бы завершая разговор, произнесла:
— Вы на троллейбусе к Нему ездили. А я пешком ходила.
Меня эта фраза уничтожила. Я не то разгневалась, не то расстроилась. Может быть, то и другое. А сердце, напротив, подсказало: «И ходила-то босиком». Это была правда. Она некоторое время действительно ходила босиком по Москве. Такая у нее была добровольная аскеза.
…Она выбирала пищу попроще, но готовила всегда вкусно. Она настолько ограничивала себя в одежде, сне и еде, что это порой казалось болезненным. Но при этом как будто в ней проснулась природная, изначально ей свойственная веселость, которая до Крещения не целиком проявлялась. Теперь я почти не видела ее лица без улыбки. До храма порой она действительно добиралась пешком и босиком. Немалый путь.
Она жадно читала, как будто заново поступила учиться. Проводила в храме целые дни. Возвращалась вдохновенная и строгая, намереваясь обнять всех нас. Но мы все были не готовы к такой любви. Она сжигала нас этой своей любовью.
Муж стал отстраняться, но Наталью не выгнал. Крещен он был или нет, неизвестно до сих пор. На вопрос о крещении отвечает мягко, но как бы несерьезно, отшучивается. Наталья была уверена, что крещен, и старательно за него молилась. Когда в доме появились иконы, лампады и началось кропление святой водой, муж стал еще замкнутее, почти агрессивным. Наталья пошла на уступки. Повесила новые веселые шторы в кухне и за одной спрятала иконку Преподобного Сергия. Молитвы перед принятием пищи и после вызывали, конечно, насмешки, а порой — даже ругательства. Однако Наталья как-то ухитрялась молиться. Когда муж заставал — улыбалась. Широко, светя потемневшими от постов зубами, без тени наигрыша. Они все же очень любили друг друга и расставаться не хотели. Окружающие, в том числе и знакомые Натальи, поддерживали мужа. Ему одному было трудно кормить семью. Жена почти все время была в храме. Когда Ане исполнилось семь, Наталья отдала ее в воскресную школу, не так давно открытую при любимом ею храме. Муж потемнел еще больше.
Время шло, а тучи сгущались. Мужа раздражали потрепанные черные юбки Натальи, бледная улыбка, малопонятная готовность ему услужить. В этот период было совсем тяжело; что только в этом бедном доме не творилось. Но муж не поднимал на жену руки, или они просто по согласию об этом не говорили друзьям. Между ними была какая-то тайна; они все равно были вместе. Но вместе им было трудно. Однажды Наталья, глядя в меня своими огромными глазами, отчаянно крикнула:
— Ты же такая умная! Сделай же что-нибудь.
И она верила, что сделаю. Только мне казалось, что умная как раз она. И это задевало мое самолюбие.
За все время этих домашних страданий у нее ни разу не возникло мысли, что она не права, что надо бы изменить курс. Она все понимала — и не хотела ничего менять. Не могла, потому что одержима была какой-то огненной страстью. Не хотела измены Христу — она всерьез верила, что, изменив поведение, манеру одеваться и устроившись на работу, она изменит Христу. И верила, что все переменится, если Христос захочет.
Прошло несколько лет; неожиданно дали квартиру в новом доме. Семья переехала. И мне было немного жалко, что уже не пойдем гулять в тот самый парк, где выговаривали друг другу сердца. Из нового окна открывался восхитительный вид на излучину реки — можно смотреть часами.
Наталья изменилась — и совсем не изменилась. Трудно объяснить, но это именно так. Духовник у нее долгие годы, уже перешло за двадцать лет, один. Без его слова она ничего не предпринимает. Нрав у нее тот же — общительная, читает взахлеб новые книги, ходит на концерты — и классической, и фольклорной музыки. Когда Аня стала молодой девушкой, мать умудрилась так построить отношения, что теперь они — как две подруги. На концерт идут вместе, ну, и Анины подружки — с ними. Дочь научилась ценить волю и смелость матери. В разговоре нет-нет, да и мелькнет: а мама считает, что так… А мама так не делает.
Наталья — виновница моего возвращения в церковь. Не целиком виновница, но в значительной мере. Однажды, пасхой, разбудила меня, просто стащила с постели (сколько сил оказалось в этой сухопарой!), поставила на ноги и… повела в храм. Поставила перед аналоем. Я вдруг решила исповедоваться… И меня допустили к чаше! А я была так не готова! И я не могла понять, чему тогда так подчинилась — обаянию, воле моей подруги… или это вела меня божественная благодать?
В одежде перемена, конечно, есть. Наталья сменила полумонашеские юбки на элегантную городскую одежду. Нет-нет, узнаю в ней красавицу с насмешливо прищуренными глазами, которую видела некогда в артистическом кафе. Но жар любви и веры, при том, что внешне уже это не так заметно, в ней остался прежний. Старый дом, в котором жили, давно снесли. Аня поступила в институт, а теперь почти закончила. Этот вуз Аня нашла сама, о чем с гордостью сообщил отец. Он дочерью вполне доволен и ее обожает. Хотя Аня — девушка высокая, он все называет ее «мелкая».
Долгое время религиозные приступы моей подруги не вызывали у меня ничего кроме раздражения. Сочетание — веселости и строгости, до фанатизма — может даже смутить. Я не предполагала в ней ни простой веры, ни простой радости. А только желание быть кем-то, кому-то что-то доказать. Тогда я не знала, что так о людях вообще думать нельзя. Но чем дальше, тем яснее становилась ее искренность, которой у меня точно нет. В ней не было надлома, периода охлаждения, как у меня. Одно время у нас была противофаза. Она с головой погрузилась в приходскую жизнь, с намерением уйти в монастырь, как только вырастет Аня. А меня как раз от приходской жизни воротило.
Но был один момент, который не забуду никогда. То было нечто такое настоящее, которое придумать невозможно, а если бывает, то только по благодати. Был вечер, закат, муж собирался на работу. Что-то резкое ей сказал. Она прислонилась к притолоке и посмотрела на него. Потом на меня. И сказала, едва слышным голосом, сияющими глазами:
— На нем — Дух Святой.
И перекрестила его путь. А на его голове оказался длинный ясный солнечный луч.
Электричка
Непридуманный рассказ
Для меня первая половина девяностых — время, когда было очень много тяжелой работы, а денег не было совсем. Мне едва-едва перевалило за двадцать, расцвет, молодость, а сил уже — никаких. И никаких перспектив, как поет — не могу сказать «пел» — уснувший вечным сном посреди бурной реки непростого русского бытия певец Шатов. Не хотелось идти работать к бандитам — да они бы меня и не взяли. Поступить в вуз и начинать студенческое бытие — поздно, да и специальность есть, а для того, чтобы выучиться в хорошем месте и приобрести хорошую специальность, за которую хорошо платят, потребны большие деньги. О родственниках можно было бы совсем забыть, но кто-то из них порой снабжал небольшой суммой. Остальное надо было добывать самой. Вроде бы здоровая ситуация: хочешь иметь — заработай и купи; хочешь жить — роди себя. Обстоятельства толкали на преступление, а без преступления жизнь могла оказаться вечным постом.
Совсем бы я озлобилась и стала бы видеть мир таким, как в разных фильмах показывают, про девяностые, если бы вокруг меня не было особенного пространства чуда. Что это за пространство — не рассказать. Откуда я о нем знала — объяснить почти невозможно, но в том, что оно есть, убеждалась… почти каждый день. Искала — помощи, работы, денег, справедливости, мужа — а находила истину, но не в них. Жизнь вдруг раскрывалась, как в «Щелкунчике» — вальс цветов. Все плохо-плохо-плохо, и нельзя — не получится, а Бог изволит — и получается. Только не то, что хочу и что выпрашивала — а нечто совсем другое. Что действительно было нужно и полезно. Привыкнуть ни к бедам, ни к радости нельзя, а яркие случаи, конечно, запоминаются навсегда.
Вот один. Веровать всегда мне казалось очень важным, но на православие была обидка — не обида, а значительное охлаждение. Не с той стороны — сама зашла или подвели — но факт, что отношение было почти отрицательным. Однако не веровать для меня значило — не думать. Читала-покупала разные книги: «Авеста», «Ригведа». Благо время для чтения было. В сентябре девяностого устроилась сутки-трое вахтером в организацию, названия которой не помню. Зато помню, где располагалась: в Подсосенском переулке, в здании бывшего зимнего сада купца Саввы Морозова. Двухэтажное милое здание, кое-как, по тем временам — героически — подреставрированное. Вахтеру вменялось выдавать весь рабочий день ключи, следить за входом-выходом работников и посетителей, вести журнал посещений.
А после девяти вечера, если сотрудники все ушли, обходить помещение и все двери проверять: заперты ли. Для студентки — самая работа. Но я‑то не студентка, а вольный художник. И очень скоро стало понятно, что людям все равно, есть вольный художник или нет. Так независимость показала изнанку: ты независима, но ты теперь — почти на дне. Ни званий, ни статуса: сиди себе в углу, и тем будь довольна. Самолюбие, конечно, страдало.
Однако работа нравилась, и я ее выполняла аккуратно, почти без нареканий. Надолго из здания во время работы не отлучалась (хотя очень порой хотелось пойти попить кофе в «Джалтаранге», и смысла в вахтерском сидении днем немного было). Были огрехи, но вполне терпимые. Служба начиналась в восемь утра. Жила за городом, полтора часа езды на электричке. Так что вставать приходилось затемно. А электричка отходила в шесть тридцать. От своей станции «Машиностроитель» ехала несколько остановок с суровыми мужиками, работавшими на производстве. Кто на заводе — а заводы загибались, кто — еще где. Темные, в складках, лица. И страшно.
На билет до Москвы денег не было, абонемент покупать — если не лень, то дороговато. Зарплаты на поездки не хватило бы (в Москву выбиралась почти ежедневно). И вот, наудачу, ехала зайцем. Иногда удавалось пробежать вагона два назад, спасаясь от контролеров. Иногда высаживали. Контролеры были преимущественно пожилые, строгие. Женщины, помню двух, высокие, с розовым лаком на крупных ногтях.
Однажды влетаю в тамбур — едва не опоздала. И сразу пред светлые очи старика в форме. На лице написано, что билета у меня нет. В тамбуре мужики, покурить намереваются. Курить в тамбуре нельзя, мужики в напряжении. Кто смело, не таясь, покусывает папиросу, кто в кармане пачку теребит. Ждут, когда контролер уйдет. Лица болезненные, почти синие. Стоят, смотрят грозно — от одного вида оторопь возьмет. Контролер повернулся к мужикам спиной и билеты проверяет. Решил меня напоследок оставить, ясное дело. Если хотя бы одну станцию без билета — штраф. А мне штраф платить нечем. И тут вижу — стена мужиков как-то изогнулась, и чье-то плечо меня к переходу в задний вагон подталкивает. Я, благо невысокая, начала за спинами пробираться к переходу. А там — нырнула, хлопнула дверью, и вроде как исчезла. Страху было — полно. Мол, засек все равно, найдет, или ментов вызовет. Но все было, против ожидания, относительно тихо.
Народ разошелся где-то возле Железнодорожного. Появились даже свободные сидячие места. А на одном — прядь страниц. Как тетрадочка, вырванная из книги. Евангелие от Иоанна. Взяла и начала читать. Потом заплакала. И увидела, как тяжесть моей жизни растет из меня самой. И дала себе слово — рано или поздно отказаться от своих дурных привычек, исправиться и полюбить людей. Потому что ничего плохого о них сказать не могу. Вспомнились живо и синие мужики, меня от контролера прикрывшие, и контролеры, прощавшие мой безбилетный проезд. И другие люди, которым совсем не нужно было мне помогать, никакой выгоды — а они помогали. Вспомнился и мой вздорный характер — дойти до самой сути, а получается — хамство. И стало — как в школьной программе — мучительно больно. И открылся почти христианский смысл этих слов. Вот не так я трачу свою жизнь, не так… Но это чувство скоро ушло.
Проработала я в Подсосенском недолго, и зря, конечно. Не то чтобы жалею, что ушла. Да и вряд ли организация та просуществовала бы долго. Найденные страницы из Евангелия сохранила, но чувство своей неправильности уже не возвращалось — с такой же чистотой и новизной. Возвращалось, но гораздо слабее. Однажды не было денег на еду, но есть очень хотелось. В тот день были сутки, дежурство, время приближалось к полуночи. Уже завершила обход и готовилась ко сну. Но есть ужасно как хотелось. Хоть корочку хлеба. Не думая, что будет — воровство, залезла в ящик сменщика. Там лежала черствая булка. Я ее съела с чаем. Под булкой лежала изданная во Франции книга митрополита Антония Сурожского. Верующий у меня сменщик. Уж два года как было все можно — то есть, веровать — но в обычной жизни этого «можно» еще не ощущалось. Еще было много верующих, не вышедших навстречу времени. Тайных. Этот мой нечаянный кормилец — из таких. Как сейчас понимаю, зарубежник. Булкой я поживилась и в другой раз. Сменщик пожаловался начальнице Ольге — а она мне по непонятной причине симпатизировала, — что, мол, съедаю его булки. Я вняла жалобе, но обиделась — вот они, православные ябеды. Однако с зарплаты купила две булки и положила их на томик Сурожского.
…Было что-то удивительное в том, что именно Владыка Антоний подал мне тот странный хлеб именно тогда, когда очень хотелось есть. Страницы из Евангелия, найденные на сидении в зимней электричке, я еще долго потом хранила. Затем их промыслительно унесла река времени — ну, чтобы не привязывалась слишком к вещам. Есть у меня такая слабость.
Блаженная
(пастораль)
Блаженная приносила в чужие стены, где засыпаешь в слезах, особенный уют. Она возникала из городского кружения. Но в ней всегда светло проступала небесная грань. Она не сливалась с окружающим. Она владела им, не желая ничего из того, чем владела. Ее темное покрывало содержало в себе слова, запахи и виды, интонации и вещи, без которых Москва была бы невозможна. И все-таки Блаженная не сливалась с Москвой. Розовато-бирюзовые тона, присущие одним только улицам не далее Садового, приобретали царственную строгость. Из конфетного с посещением Блаженной город становился драгоценным. И сердце само лепетало о Царствии Небесном.
Блаженная приходила в гости. Она любила подолгу сидеть на одном месте, когда приходила, и степенно кушала чай с лимоном. Она особенно любила сумерки, даже говаривала: сумерки — время особенной молитвы, все силы слышат, и Христос воцаряется. Любила лампадку, рубиновую крошку света. Лампада освещала бумажный образ, фотографию с чудотворной иконы Божией Матери, что в церкви на Неждановке.
У переулка, в котором приютилась названная церковка, три названия. Первое — Успенский Вражек. Так сразу объясняется и местоположение, и вид храмины. Успенский овражек — едва ли не Гроб Пречистой Девы. Московский Иерусалим, Гефсимания. Название дано с терпкой московской ласковостью. Второе название победительное, громкое, в честь героя Полтавской битвы, прославленного Пушкиным — Брюсов переулок. И Брюс, и Боур, и Репнин. Барабанные имена. Громкость фамилии, попав на московскую землю, смягчилась словечком «переулок». Счастья баловень безродный. Сик транзит глориа мунди. Но мне полюбилось третье название. В нем — необыкновенная последовательность звуков. Улица Неждановой. Безысходность грусти, женские бессонницы и надежда. Не ждали Ее. Именно на улице Неждановой и должна быть чудотворная икона.
Сколько помню, никогда не было основательного жилья. Одно только временное, соломенное. А тогда, когда произошли вышеизложенные события, уже забыла, когда последний раз мылась в ванной. Горечь стучала в грудь, в горле мед першил. Ропот смолисто клокотал в глубине души.
Молилась, часами неотлучно призывая Божье Имя, и по ночам просыпалась с мольбой к Царице Небесной. Потихоньку с бесприютностью своей обвыклась. Стала думать, что так и надо, что может быть хуже. Но и за всю жизнь человек вряд ли совсем смирится с подобным положением. Изнеженный городской человек. Гомо урбис.
Когда Блаженная пришла впервые, не помню. Но помню, как.
Тонкая фигура мелькнула в сумерках на чужой лестничной клетке. Она подошла и попросила свежего чаю с медом и лимоном.
С удивлением разглядывала гостью, когда она чинно сидела за столом, и, тем не менее, ничего особенного не уловила в ее облике. На ней надет какой-то темный платок, скрывающий всю фигуру. Из-под платка показалось точеное лицо, лишенное болезненной худобы. Ясное, округлое, пшеничного цвета. И внимательные глаза. Рот, изогнутый как бы в улыбке, обещал необыкновенную речь. Не та душа, что собой хороша — сказал, наконец, этот рот.
Блаженная кушала чай, макая в чай маковый сухарь. В чашке плавал ломтик лимона, а рядом с чашкой стояла банка с медом: конечно, гречишный, лекарство от горя. Движения Блаженной были степенны. Перед трапезой она молилась, и в ее мольбе чувствовалось нечто особенное. Что-то от монахини, от очень старого человека. Члены ее двигались ровно, складки платка напоминали темные крылья.
Пламя лампады вырывалось из глубины рубинового цвета стаканчика, превращаясь в свет, а свет озарял лицо гостьи. На всей верхней половине густо лежала тень от платка. И там, в этой тени блестели две точки, одна душа, нечто двоякое, но в одном духе.
Однажды встретила блаженную поздней осенью. Живо помню чудесный ужас, увидев ее темный силуэт под облысевшим тополем, полным грачей, не улетевших по неизвестной причине. Над нами развернулось железно-синее предзимнее небо, без облаков, давящее и покрывающее.
Вдруг из бесконечной вселенской ясности набежала лохматая крохотная тучка и из нее на меня пошел снег. Вдруг, тотчас, тонкой тюлевой пеленой, брошенной птицеловом на человеческую птицу. Блестящий и теплый, снег плавился на моем воспаленном лбу и тек в глаза. Или просто заплакала?
Взглянула вверх. В небе, над тем местом, где мы стояли, покачивался маленький красноватый огонечек, украшенный золотистым венчиком.
Не помню, о чем говорили, если говорили. Скорее всего, молчали. Но и о чем молчали — не помню. Блаженная удалялась медленно, как очень старый человек.
На закате черные кладбищенские деревья, полные угольных птиц, вонзались в светлое и жидкое небо. Приходила Блаженная — и небо становилось кристальной чистоты. Над ее могилой теплилось что-то вроде походной палаточки.
Там, в песке, которым посыпали могилку, таяли свечи. Сюда приносили только живые цветы. У изголовья сидела женщина. Приходила сюда редко, но словно бы и не уходила. Однажды, помолившись, растревоженная гордостью (вот, мол, молюсь на святом месте!) совсем забывшая о крошечном и редком молитвенном счастье, поднялась на ноги и сказала:
— Молитвенница она у нас!
Женщина переспросила:
— Какая молитва?
Стушевалась и промолчала. Вдруг, повинуясь как будто окрику по имени, взглянула на женщину. Из-под темного платка показались глаза. Глаза Блаженной.
Возвращалась домой как бы пристыженная. Перешла через трамвайные пути. Не переставала корить себя за то, что так и не помолилась. Когда подходила к затерявшейся в трех тополях трамвайной остановке, услышала в душе голос, ясный и мягкий, совсем не похожий на все, что слышала раньше:
— Умерла восьмидесяти шести лет от роду, схимницей.
Свидетельство было спокойно и убедительно. Однако решилась приписать неведомые слова расстроенному воображению.
Блаженная стояла недалеко от дома, как будто встречала меня. В то время комнатенка в третьем этаже служила мне прибежищем. Здесь Блаженная еще не была.
Вдруг к ней приковылял неопрятного вида кавказский мальчишка. Он клянчил что-то гнусавым голосом. Блаженная не оборачивалась, а он дергал ее за юбку, за платок, теребил изо всех сил. Она вдруг будто встрепенулась, сделала шаг, оттолкнулась невидимой стопочкой от земли, и пошла удивительно быстро, как будто полетела. Шла, не касаясь газона и размытых дождем тропинок. Мальчишка трясся от гнева и холода, не успевая за нею, он спотыкался. И вдруг — упал. И заревел отчаянно — на весь район.
А Блаженная шла, как бы не слыша его воплей, и, казалось, уйдет совсем. Попыталась догнать ее, побежала, но Блаженная каждый раз оказывалась далеко. Наконец, я почувствовала, что готова упасть и зарыдать, как и мальчишка.
Вдруг Блаженная остановилась. Затем подняла руку, подзывая к себе. Не совсем поняла поначалу, чего она хочет. Потом подошла. Блаженная, пошевелив складки своего темного покрывала, вынула нечто, спрятанное в ячменно-желтоватой горсти. И разжала ладонь. На ладони, как на золотом блюде, зрели сухие и ароматные капли крупного изюму. Показалось, что от него исходит теплый и утешающий запах.
— Возьми, — сказала Блаженная, — Возьми и нищему дай.
А сама темной птицей скрылась за угол дома.
Улочка будто стекла вниз, в электрическое серебро широкой ночной улицы. Зашуршали осенние листья, просыпался лунный дождь, машины побежали куда-то в Ясенево. А Блаженной уже нигде не было видно. Обернулась: кавказский цыганенок уже несколько времени плясал возле и мычал что-то просительное на своем трескучем языке.
Неожиданно обнаружила себя жующей изюм. Когда совсем опомнилась, на ладони осталось три сухих виноградных капли. Протянула их мальчишке, повинуясь мирному указанию, но тот вдруг попятился, как от огня, и с воплем побежал прочь, сыпля дикими словами, смысл которых до меня, к счастью, не долетел.
Проглотила изюмины, как одну, и потом долго стояла, всматриваясь в ночь, внезапно осветившуюся необыкновенным серебристым светом.
Подул ветер и прогнал дождь. Стало видно до самого седьмого неба. Высоко в небе, над косматыми тучами, пронесся гул. Из черно-синей, тронутой заморозком, небесной глубины, выступил красноватый огонек с золотистым венчиком, особенно яркий на этот раз.
VI. Сказки
Девочка и Христос
Девочка увидела Христа. Он шел очень быстро, словно куда-то торопился. Сначала Девочка подумала, что это игра. То есть, что Христос с нею играет, что надо Его догнать. Он шел прямо, будто дорога никогда никуда не поворачивает, а идет все прямо-прямо через время и пространства. Будто всю вселенную — по тротуару. Христос шел легкий-легкий, светлый, так что даже белый и розовый клевер тянулись к Его ногам, Девочка сама видела. За Ним совершенно необходимо было успеть. Как увидишь, так и станет понятно, что только за Ним, попрощавшись с разными там игрушками, скорее-скорее, чтобы не потерять из виду. Потому что вот так идти за Христом — это и есть радость. И счастье. Так что Девочка встала, прижала к себе своего старенького мишку, с которым еще мама играла, и пошла.
— А если мама позовет? — задумалась она через пару шагов. — А я не услышу, как зовет? Успею ли вернуться?
Она еще не уходила от дома дальше продуктового магазина, за молоком. Молоко она любила. И дома было хорошо. Ей нравилось все, даже лифт. Как уютно, когда, нагулявшись, возвращаешься домой. Едва успеешь вымыть руки — мама зовет ужинать. Папа, конечно, строгий, что-нибудь страшным голосом скажет:
— Не кусочничай!
И ладно, не нужно мне ваше яблоко! Потому что — грибной суп! И не с шампиньонами, а с сушеными маслятами, которые сами собирали! Или со свежими, если в воскресенье ездили на Старый Рудник. Вот так. Или бульон с половинкой яичка. Красиво. И еще дома живет черная кошка, огромная ленивая кошка, а лет ей больше, чем Девочке. Кошка эта, говорят, мудрая. Порой приходит к постельке и поет колыбельную, а порой — неведомо на кого — ворчит. Защитница!
Христос шел так быстро, словно куда-то хотел успеть, словно опаздывал. Но как же Он может куда-то опоздать? Не верилось. А тем не менее — Он почти бежал. И успеть за Ним было совершенно необходимо. Почему так — успеть? Ведь есть дом, мама, папа, кошка, маленький братец, который скоро приедет, как стало девочке понятно из перешептываний родителей. Есть мир, с парком, который девочка называет лесом, есть играющие в разбойников мальчишки, есть старый дом на берегу озера, зеленый странный дом, где, говорят, сохраняются все городские документы. Так зачем же Христос, идущий так быстро, непонятно куда и непонятно зачем. К людям? Они Его ждут? А зачем? Он — врач? Да, Врач.
— Ну я только на минуточку, — убеждала себя Девочка, укоряя шаг, — ненадолго, только одним глазком посмотреть. Когда еще доведется увидеть такого Врача. Чтобы просто шел, и так приветливо смотрел. Только вот глаза у Него грустные. Или так только показалось? Мама говорит: когда кажется — это плохо.
И — снова:
— Успею ли я вернуться к ужину?
Вдруг Христос обернулся и на ходу сказал Девочке:
— Конечно! Ты успеешь точно к ужину. Идем.
И Девочка, вприпрыжку, побежала за Ним. Христос был впереди как волна света, Девочка почти Его не видела. Спросили бы про лицо — не могла бы сказать, что у Него за лицо. Да, как на иконах. Но было в этом Лице еще что-то, чего на иконах не было, и что для Девочки было важнее изображения на иконе. Но что? Он светил как солнце, а кто видел лицо солнца? Но было радостно и сладко, что Он рядом.
А Христос шел, почти бежал. Девочка едва не расплакалась, так трудно было успеть за Ним. Заметила, что расстояние между ней и Христом стало увеличиваться, а ноги становились все длиннее, все выше. «Отстаю?» — подумала Девочка, — «Почему отстаю? Ведь теперь у меня сил больше и я иду намного быстрее!». Вытянула руки, а старенький мамин мишка упал. И исчез, будто был очень тяжелый и упал с высокой-высокой высоты.
— Или я расту? Сколько мне уже лет? — сказала в голос Девочка.
— Растешь, — обернувшись, ответил Христос, — Ты уже большая.
И точно: шаг стал еще длиннее, сил будто бы еще прибавилось. Но куда Девочке успеть за Христом, Он как будто летел над дорогой.
— Ну почему Ты так спешишь? Неужели идешь к умирающему?
— Не отставай!
Странная была эта дорога. Девочка и Христос шли по мосту, а с этого моста можно было увидеть весь мир как крупную географическую карту. На этой удивительной карте можно было различить и отдельных людей. Вон там внизу — больница. А через квартал — роддом. Девочка засмотрелась, а когда взглянула: не потеряла ли из виду Христа, оказалась, что догоняет Его. И оказалась во дворе возле больницы.
Больница — старое здание, все — как очень грустная песня, даже заходить не хочется. Но Девочка смело последовала за Христом в больницу. И вдруг вместо Христа она увидела пожилого невысокого священника, а вместо себя — медсестру. Они стояли в холле, по стенам — цветы: драцены, монстеры. И кресла, цветные, мягкие кресла. В креслах — пациенты. Посередине холла — столик, на столике — свечи и… небольшая чаша. Священник прочитал молитву, потом запел, а медсестра ему подпевала. Затем оба стали обходить пациентов и каждого причастили. Было радостно сидеть среди этого зеленого комнатного леса, в креслах, причастившись, говорить о книгах. Но вдруг девочка ощутила сильную боль в спине и ногах от усталости. Такой боли она еще не знала.
— Можно мне посидеть? Очень устала.
— Что ты, — ответил Христос, — наш день еще только начался, нам еще очень много нужно успеть. Скорее в дорогу.
И они снова оказались на воздушном мосту. Девочка вдруг оглянулась назад и увидела своих родителей. Мать постарела. Губы у нее теперь были ярко накрашены, волосы коротко стрижены. А отец как-то ссохся весь, сморщился, и жакет на нем висел.
— Умерла наша кошка, — сказала мама, — И братик твой Юра. Упал, разбился…
— Господи, — закричала Девочка, — Мне немедленно надо домой. Там такое случилось…
А Он шел, будто бы ничего не слышал и не видел. Только шаг Его стал более широким, более быстрым.
— Господи, ну подожди же… Куда Ты спешишь? Умер мой братик!
Но Христос снова ничего не сказал. Девочка захотела повернуть назад, однако ноги не послушались. Они сами несли ее по таинственной дороге, как будто у ног была своя особенная жизнь. А из глаз Девочки катились слезы. Слезы падали и превращались в небольшие ароматные белые цветы. Девочка поняла, что наступила весна. Протерла глаза и увидела, как мама и отец идут от небольшого крестика на старом кладбище, утром, и лица у них уже светлые, ясные.
— Мама, папа, я к ужину вернусь! — закричала Девочка, замахала руками, чтобы они увидели ее. А руки стали смуглые, длинные, будто она уже подросток и ей скоро паспорт получать.
Вдруг над ухом как сверкнуло звуком:
— Привет!
Возле Девочки оказался молодой человек, с рыжеватыми бровями, улыбающимся лицом, в длинной белой рубахе. «Какая странная большая рубаха!» — изумилась Девочка, — «Очень большая!». Молодой человек снова поздоровался и сказал:
— Привет, сестренка!
И Девочка узнала Юру, хотя его никогда не видела, братика, о котором шептались мама и папа.
— Не удивляйся рубахе, — сказал Юра, — ведь я крещеный. Таинство успели совершить, и я прожил самую счастливую весну. Ведь там, где я буду жить, нет такой весны, такого дождя и таких запахов из настежь раскрытого лазурного окна. Я счастлив был жить, хотя я очень сильно болел. Теперь я здоров, умею летать и всегда рядом с Ним…
Тут Юра указала вперед, где все так же, как волна света, шел Христос, и смотреть на это сияние было почти больно.
— Знаешь, мама наша однажды сказала, что если и есть истина, то она в счастье. Я видел всю жизнь людей и вижу ее сейчас. Знай, что маленький человек познает всю жизнь людей в первые три месяца. А потом только повторяет уже изученное, всю жизнь. Вся его любовь и весь его труд познаются в эти первые три месяца. Я был счастлив прожить ту весну и она теперь со мною всегда. Нет, сестренка, истина не в счастье. Но счастье можно найти в истине. А истина…
Тут Христос сделал новый поворот и оказался в городе. Совершенно незнакомом городе. А братик Юра исчез, но Девочка знала, что может с ним поговорить, когда захочет. Не важно, что она не видит Юру. Важно, что Юра видит и слышит ее. «Вот я и не одна совсем! Вот теперь и у меня есть брат. А еще есть путешествие! И еще есть больница с комнатным лесом, где мне было больно. И через это „больно“, как через зрачок, я запомнила и батюшку, и пациентов, у которых были цветы в глазах от радости. Это счастье… Но постой, как Юра говорил: счастье в истине, а истина…»
— Смотри, — сказал Христос, — дальше тебе нельзя. Жди Меня здесь. Если хочешь, вот скамеечка у двери. Садись и жди.
Девочка села на скамейку, низкую и совершенно высохшую, возле двери и даже задремала. Дремать было хорошо и сладко. Но ей вдруг приснился сон, удивительный сон.
Будто Девочка парит над городом и видит все-все, что там происходит. А в городе этом жили только священники, и не-священникам, даже их матушкам, вход был воспрещен. Потому вокруг города возникло поселение, в котором жили семьи священников и их духовные дети. Поселение было огромным, со школами, вузами, ярмарками, кинотеатрами, театром и даже с зоопарком. Вон краснеет медью новая крыша вокзала. Говорят, даже аэропорт скоро построят.
Вход в город для прихожан открывали в субботу, часов в пять пополудни. А закрывали в воскресенье, тоже около пяти. Привратники менялись каждый день. Обязанностью их было передавать письма из поселения в город. В городе было много храмов, наверно, сто. Одни — старинные, пахнущие дождями минувших времен. Другие — совсем новые, яркие, только что подкрашенные, отчего напоминали пряники. Кроме храмов были корпуса, где священники жили. В вестибюле каждого корпуса висело расписание отпусков и служб, чтобы не было путаницы. Службы шли строгим уставом и каждый день. В некоторых храмах по утрам — только священник и дьякон. Порой даже алтарников не было. Зато в соборе алтарников было даже семь. Во время литургии в будний день храмы были пусты, но пустота звучала торжественно. По воскресеньям народу было тоже не очень много, потому что храмов было очень много, и служили во всех. Жизнь священников была очень интересная. Это было как на ярмарке, игра: кто дальше мяч бросит. Кто-то из батюшек не ел, кто-то не пил, кто-то не спал, а кто-то молчал. Кто-то, наоборот, все время говорил. Но очень тихо.
Христос вошел в этот город и… будто растворился. Девочка потеряла Его из виду. Но тут же успокоилась: ведь это только сон. Во сне настал большой праздник, а праздник в этом году пришелся на воскресенье. Открыли все городские ворота, поселенцы хлынули в город, ко всенощной. Видит Девочка исповедь в одном храме. Молодая женщина стоит на коленях и плачет. Девочке жалко эту женщину, она хочет сказать Христу: смотри, как плачет. Но слова замерзли в гортани, а вместо них — снежинки. Падают и тают, падают и тают. Такие крупные звезды.
— Иди, иди, вот тебе то-то и то-то, — сказал молодой женщине священник. А она зарыдала еще пуще. Не может понять, за что к ней такая ненависть.
— Да не ненависть, — говорит священник, — это грех, страшный грех…
Вдруг видит Девочка, что рядом со священником сидит Христос, и очень Он похож на этого священника, просто как две капли воды. Сидит, молчит, слушает и смотрит. Наконец:
— Прощаю, разрешаю.
Встал батюшка, и Христос встал. Батюшка читает молитву, накрывает голову женщины епитрахилью, читает новую молитву. Потом благословил женщину. Тут Христос и сказал:
— А она болеть будет, сильно болеть. Это у нее так покаяние выразится. Кто-то словами, а она, видишь, плачет. И сгорит от горя, и это горение сделает ее чистой. Потому что совершенное ею передо Мною вовсе не тяжкий грех, а гора сухих листьев. Только там, в этой горе листвы, сердце ее было. А теперь оно очень сильно поранено. Теперь она болеть будет. Ей-то, может быть, и хорошо — потому что у нее любящее сердце. Но если бы ты ей того-то и того-то не сказал, она бы не заболела. Зачем ты так с ней? Я вам о любви, а вы — по всей строгости.
Девочка слышит, руками уши зажимает: так ей удивительно, что происходит, почти боится. Вдруг открывается Девочке другой храм, и другая исповедь. Батюшка молодой, большеглазый, слушает старушку. А та: ох страдаю, милый, ох страдаю, болею! Все грехи свои кровью сердца омыла, исстрадалась. «Ладно, — думает батюшка, — иди с миром. Хоть у тебя такие-то и такие-то дела на этой неделе были, что ж; нам о любви заповедано, а не о строгости. Ладно, иди с миром». И снова: прощаю, разрешаю. Только Девочке открыто, что батюшка с холодком к старухе, будто брезгует.
Христос тут же, совсем как этот батюшка, молодой-большеглазый.
— Ты ж знаешь, отец, что у нее порок сердца. Лукавства в ней много, но смерть вон у двери сторожит. Готовься. Как ни злы ее дела, в ней есть покаяние. Мучается ужасно. И себя ненавидит. Как бы потом хуже чего не было, как бы эту душу у нас не отняли. Готовь ей венчик. Отпевать будешь.
И много еще кого Девочка вот таким чудесным образом увидела. И дети, и мужчины. Мужчины, понятно, всегда впереди. И всегда Христос поначалу с батюшками не соглашался. Как так может быть: Христос — одно, а батюшка — другое. Но потом увидела: нет. Он — помогает и несет. Беды-радости, тяжести, человеку невыносимые. Он и батюшек несет, и их, батюшкины, скорби.
Вдруг Девочка проснулась: Христос из города вышел. А город весь в закате, как будто горит, и уже догорает: небо по краям черное, и мгла, и звезд не видно.
— Идем, — говорит, — много еще успеть надо.
Девочка встала… И замерла от ужаса. Посмотрела на свои руки и ноги. Теперь ей лет сорок или пятьдесят. И там, на городском кладбище с крохотным Юриным крестиком — еще два креста, родители. И в кармане у нее мамин платок, которым глаза маме закрыла. Оглянулась — о ужас, лучше бы не оглядываться! Дорога клубится, а по дороге идут обозы, как в войну, и, очередь за очередью, люди стоят. За водой и хлебом. Ослабевшие, унывающие, страждущие и обремененные. Видно, как вон там храм строили и не достроили, бросили, как игрушку. А вот там построили, но люди туда не ходят, и непонятно — почему. А в третьем — духота, там толпы, и старенький батюшка плачет-плачет…
— Что ты грустишь, — сказал Девочке Христос, — эти дни уже как рыбы, ушли-уплыли, что их руками ловить, если сами в руки не идут. А ты сама иди, не смотри, какое горе вслед за тобою. Может быть, и спасешься.
Сделала Девочка шаг и закричала от боли. Идти она не смогла бы, даже если ее побили. И с ногами стало что-то такое страшное: их разнесло, они стали похожи на два длинных мешка и тянули, страшно тянули в землю. Девочка посмотрела еще раз — и увидела, что ей уже не пятьдесят, а семьдесят, что на ней одеяние, какие она видела в женском монастыре, во рту замер привкус недоваренной каши и творога с тертым шоколадом, что злится она на свою келейницу, которая вовремя не принесла ей чистого белья…
— Ну что ты стоишь, идем! — позвал Девочку Христос. — Что ты смотришь на то, чего нет, да и не было никогда.
— Было, было, было! — закричала Девочка. — Мама с папой — были, Юра, который головкой убился, тоже был. Муж был, дети были, духовный отец был, монастырь был.
— Видишь, вот и вся жизнь твоя как на ладони. Будто и не было ее. Будто сон. А теперь — пробуждение.
Девочка подняла лицо — серо-коричневое, сморщенное — и вдруг увидела Юру, который нес ей светлую-светлую одежду. А одежда эта была как новое тело. Мягкая, и сама одевалась. Юра встал рядом с Девочкой, поднес ей эту одежду. Миг — и Девочке снова стало шесть лет.
Сидит она на опушке своего лесопарка, засмотревшись на пестрого скворца. Эти скворцы по множестве прилетают с берегов Марокко. Они целыми пестрыми стаями пасутся на лужайках и сидят в кронах, как воробьи в мороз. Солнце заходит, уже веет сырой прохладой. Пахнет розовым и белым клевером, и немного — полевой фиалкой.
А где же Христос? Девочка встала и посмотрела вокруг. А Христос оказалось — рядом, вот Он.
— Да что ж я Тебя всегда из виду теряю!
Потянулась, протянула руки… А Он снова скрылся — пошел, наверно, к кому-то. Как когда-то к ней.
И тут:
— Доченька, доченька! Ужинать…
Грибной суп. Или бульон с яичком. Завтра Женечка в гости придет, это сын маминой подруги. То есть, тетя Таня в гости к маме придет и Женю с собою приведет. А Женя постарше, в школу уже ходит…
Только вдруг в одно мгновение снова отразились в зрачке девочки и больница, и город священников, и ее заношенная монастырская одежда.
— Страшно, Господи, жить… Если не Ты.
И вдруг стало грустно-грустно. Бежит Девочка на мамин зов, а сама думает:
— Ну подожди Ты, что Ты так быстро…
Парковый ангел
Он не был трогательной старой скульптурой, одинаково снисходительно принимающей и мороз, и жару, и дождь. Он не был иконой в новенькой или старинной часовне. Он не был тихим видением покоя и тишины, принявшим облик человека. Он действительно охранял этот старый парк, неуклонно уменьшавшийся от наступающих на него стен города. Он действительно был Ангелом. Ему самому было удивительно, как это он — сторож и охранник этого парка. Человек-Сторож давно скончался, хотя Ангел и помнил его. Покойный сторож был задумчивым полуслепым стариком, который в минуты вдохновения видел так ясно, как может видеть только птица. У Бога нет мертвых, и Ангел иногда обращался к Сторожу. Порой их беседа была долгой. Не было событий в рассказах Сторожа, о которых бы Ангел не знал. Но рассказы Сторожа привлекали его: столько в них было любви и внимательности, как будто Сторож сам создал этот парк. Так отчасти и было.
Ангел не знал, сколько ему лет, не знал, как его зовут и во что он одет. Ему было известно, что он носит рассвет, как носят плащи. Утро начиналось в разное время, каждый день. Потому что все дни — разной длины. Ангел, окутанный рассветным туманом, выходил к Престолу и совершал утреннюю молитву. Сколько времени длилась эта молитва и какие в ней были слова, сказать невозможно, но птицам очень нравилось. И в любую погоду их щебет сопровождал эту службу Ангела. Затем Ангел брал небесную метлу и шел подметать дорожки. Часто на этих дорожках одиноко лежала сплющенная пивная банка. Или пакет. Тогда Ангел шел к дворнику и напоминал о неубранном мусоре. Иногда дворник спал, приходилось его будить. Дворник, конечно, не очень понимал, кто и зачем его разбудил, но про мусор понимал очень хорошо. Недовольный скорым пробуждением и прохладой, он все же брался за свои инструменты и, не ведая того, помогал Ангелу. Затем Ангел брал часть от облака и протирал листья. Это было долгое занятие и довольно трудное. Листья постоянно шептались, хватались друг за друга, смеялись или плакали. У листвы каждого вида дерева был свой характер. Листья Лип, как и сами Липы, были задумчивы и сентиментальны. Хотя в поведении чувствовалась строгость, даже чопорность. Самые дружные листья были у невысоких крепеньких старых Вязов. Они располагались на ветке так, чтобы прикрывать друг друга от непогоды. Летом под ветвями Вязов можно было прятаться от дождя — так плотно сидели листья на ветке.
Листва Берез была самой веселой и нежной. В мае и начале июня она светилась как множество зеленых огоньков, хотя нежные красноватые ветви желали скрыть их. Березы вообще отличались молчаливостью и покорностью. Однако у этих тихонь оказался очень переменчивый характер. Ангелу часто приходилось расчесывать их спутанные от сонных грез пряди.
Хвойных растений в парке было много: Кипарисы, Можжевельники и Голубые Ели. Голубых Елей было пять. Все они росли у входа в оранжерею парка, были плотными, ухоженными и довольно надменными. Их окружали Кусты Чубушника, чье частое перешептывание Ели принимали за восхищение своей красотой. Эти Ели формировали общественное мнение растений парка, по крайней мере, они так считали. Особенно много хлопот было у Ангела с Гортензиями. Это были крайне своенравные цветы. А кроме того — крупные. Им невозможно было что-либо объяснить. Что, например, надо подождать подвоза нового грунта. Или что неделя выдалась засушливая, и у Ангела не хватает на всех воды. Что иногда приходится отказывать себе в чем-то ради того, чтобы помочь другому. Ангел, конечно, мог обратиться к Силам и Господствам с просьбой о дополнительном дожде для парка, но не считал это нужным.
— Представить только, — говорил Ангел Гортензиям, — что надо всем городом ясное жаркое небо, и только над нами — дождевая туча, из которой льется приятный дождик.
— Конечно, — отвечали Гортензии, — мы же так хороши, что достойны круглый год теплой и ровной погоды. Неужели наша красота никому не нужна? Или нужна только пару месяцев в году? Это несправедливо. Мы достойны восхищения, и мы его получим. Мы созданы для того, чтобы быть самыми красивыми цветами.
Управой на Гортензий был только рыжий парковый Кот, которого их аромат ужасно раздражал. Кот забирался в самую гущу кустов, ловкими ударами лап раскидывал стебли в разные стороны и, насладившись разбоем, уходил. Ангел не раз пытался вразумить Кота, но не получалось.
Кот был тоже своенравным и очень беспокойным созданием.
Растений в парке было множество. Однако в сказке участвовали отнюдь не все, многие были просто зрителями и слушателями, но это так важно — быть свидетелем сказки! Потом, сказка — не всегда выдумка.
В дальнем углу парка, похожем на крохотный заброшенный луг, рос Дикий Мак. Это растение было причиной сильнейших волнений Ангела. Если бы у Ангела было человеческое сердце, оно бы замирало при приближении к цветущему Маку. Иногда Ангелу казалось, что если и есть у него сердце, то оно — совершенно как этот цветок. Большую часть года Мак спал — длинный тонкий стебелек, едва подававший признаки жизни. Но в начале лета его шелковый огонек возгорался и оттого во всем парке появлялись слабый разлитый красный свет и особенная нежная тревога. Мак сиял всего несколько дней, затем огонек внезапно исчезал, а вместо него показывалась малоприятного вида зеленая голова, которая потом высыхала, твердела и траурно позвякивала. Ангел никогда не мог застать момент, когда Мак расцветал, и другой момент, когда начинали осыпаться его лепестки. Мак был очень молчаливым цветком, и только лепетал, завидев Ангела:
— Простите!
Ангел, конечно, не злился, не огорчался — ведь Ангелы не ведают огорчения, — а только улыбался как мать, с легчайшим укором, призывая молчаливо не прятаться от него. Но Мак все равно расцветал и отцветал тайно.
— Ну что за цветок, — беспокоился Ангел, — Все делает тайком. Это непорядок. Его цветение должны видеть все. Это очень нежный и красивый цветок. Пасхальный цветок. А он прячется среди колосьев тимофеевки. У него и запаха цветочного нет, еле-еле. Одному ему не выжить. А он прячется, как будто вокруг него все настроены враждебно.
Конечно, Ангел так не думал; в нем не могло возникнуть мысли, что другие Растения парка не любят Мак. Большинство просто о Маке не знало. Какое, например, дело Березе до Мака, живущего всего-то несколько дней. Но чтобы хоть как-то высказать свою тревогу, Ангел говорил «враждебно» и сам очень смущался от этого слова. А может быть, если бы Растения были знакомы с Маком, они бы невзлюбили его. Очень уж нежный и не похожий на другие цветок. Но в Ангеле не было и этой мысли, а он знал только, что этот слабый огонек он должен охранять, и что этот огонек ему самому бесконечно дорог.
Мак отцветал, и в парке как будто появлялось лысое, тоскливое место. Будто становилось меньше света. Будто у солнца отняли один только лучик, а получилось, что без него воцарились сумерки. Ангел ужасно переживал и волновался, когда отцветал Мак. Порой осуждал себя за эти чрезмерные переживания, совершенно Ангелу не свойственные. Много раз рассказывал Сторожу про Мак, но тот только качал головою:
— Умрет Мак — перекопай землю. Бог изволит — вырастет новый Мак.
Умрет! Так просто и холодно — умрет. Будто Мак создан для того, чтобы умереть. Ангел во что бы то ни стало решил перевоспитать Мак. Но как это сделать? Как заговорить с этим созданием, которое одно только и знает: простите!
— Ты прекрасен, — сказал однажды Ангел Маку, набравшись смелости, — Тебе вовсе не нужно прятаться среди этой подсохшей травы. Пойдем, я пересажу тебя на участок, где много свежей воды и сочная земля. Там ты найдешь друзей. Тебе нравятся Колокольчики? Они так мило меня встречают, качая головками. Один даже касается листьев Папоротника, как люди касаются рук друг друга — мол, вставай, встречай. Ах, если бы ты подружился с ними…
— Простите, — пролепетал смущенный Мак, даже лепестки его несколько побледнели. — Я опять скажу какую-нибудь глупость.
— Глупость! — изумился Ангел, — Да кто тебе сказал, что ты говоришь глупости? Я ничего кроме «простите» не слышал от тебя. А так нельзя; ты очень нежный, ты можешь засохнуть на корню.
— Простите! — совсем побледнел Мак.
— Наверно, надо найти тебе родственников, — подумал Ангел.
Долго искать не пришлось. Сторож указал, где есть рассада садовых Маков. И вскоре возле входа в парк появились нежные шершавые стебли, а затем роскошные венчики лиловых, белых и черных цветов. Лепестки их были крупными и ласковыми как сатин. Среди Маков были и красные, но они казались игрушечными, хотя цветок был больше, чем у дикого Мака. Садовые Маки порадовали Ангела своим цветением и необычным ароматом.
— Ну вот, теперь увидишь свою семью, — сказал Ангел Маку и совсем уже приготовился перенести его на клумбу.
— Простите, — ответил Мак. Затем сказал отчаянно и тихо: — Они совсем другие.
Ангел готов был заплакать. Он же не хотел обидеть этот капризный цветок.
— Ты прекрасен, — вздохнул Ангел, — пожалуйста, не умирай.
Сам Ангел ничего не мог больше придумать для Мака. Решил собрать Совет Растений и поговорить с ними — возможно, как растения, они лучше поймут Мак.
— Что вы с ним носитесь, — авторитетно высказались Голубые Ели, — оставьте его, предоставьте самому себе. Пусть живет, сколько ему положено и как положено. Мак не приносит никому зла, но и не приносит пользы Парку. Он не создает пространства и воздух, как, например Липы или мы. Он красив, когда цветет, это правда. Но эта красота не оригинальна. Вы посадили сотню Садовых Маков, они более красивы.
Садовые Маки, услышав, что говорят о них, оживились:
— Мы много лет не видели нашего дикого родственника и не особенно желаем его видеть сейчас; но мы согласны ему помочь, если он попросит помощи.
— Да, в поведении Дикого Мака есть надменность, а это нехорошо, — качаясь, подтвердили Кусты Чубушника.
— Вижу, вы не считаете его членом паркового сообщества и своим другом, — сказал Ангел, — Что же. Я не могу оставить его только потому, что он не нравится вам.
— Какое своеволие! — возмутились Гортензии.
Но тут возник рыжий Кот, у которого оказалось пораненным одно ухо.
— Что тут происходит? Мне как раз нужно почесать когти. Госпожи Ели, можно к вам?
— Уберите, уберите его немедленно! — застонали Ели. Приближалась гроза. Ангел подумал, что ливнем собьет последний лепесток с Мака. Ему нужно было туда, к дальней стене ограды парка, а надо было оставаться тут и успокоить Ели.
— Кот, — позвал Ангел, — идем со мной. Но сначала скажи Елям, что ты пошутил. Попроси прощения.
— Ну да, — согласился Кот, — это такая игра.
Ели предпочли ничего не отвечать.
В два прыжка Кот оказался рядом с Ангелом и поспешил вслед за ним.
Увидев Кота, Мак раскрыл лепестки.
— Ты такой же, как я! Ты…
— Рыжий, — сказал Кот, — всего лишь рыжий. Хочешь, посижу рядом и расскажу тебе сказку.
— Ты знаешь сказки? — затрепетал Мак. — А я могу рассказать тебе свои сны.
Ангел отошел в сторону, но уйти совсем не смог: ему очень хотелось узнать, что именно Мак и Кот будут рассказывать друг другу. Недалеко от лужайки росла юная Березка, еще очень тонкая и бледная.
— Березка, — попросил Ангел, — сможешь дотянуться до Мака и закрыть его своими ветвями, чтобы его цвет не побило дождем?
— Попробую, — согласилась та и протянула тонкие руки к лужайке, как будто их поднял ветер.
Но туча прошла стороной. Солнце лениво задремало в легком облаке.
Ангел услышал, как Мак рассказывает сон.
— Я видел белый-белый город ночью. В его основании спит множество людей, превратившихся в кости. Эти кости держат белые крепкие стены, которые даже при свете луны сияют. В этом городе нет растений. Одни белые-белые стены, лестницы из белого тесаного камня и пустые фонтаны. Только в заброшенном садике на окраине цветет Белый Цветок, такой же, как я, с длинным стеблем и гладкими лепестками. Я часто вижу его во сне. И порой думаю, что если для меня кончится солнце, я уйду в этот белый город. Чтобы добраться до Белого Цветка, мне придется пройти между костей, которые вскоре должны собраться в скелеты и потом одеться мясом и кожей. Мне страшно, очень страшно будет идти между ними, но мне надо будет пройти. Возможно, я стану другим после этого путешествия. Возможно, исчезну, и это тоже страшно, очень страшно. Но если я дойду до этого Белого Цветка, я снова увижу солнце.
— Какой страшный сон! — подумал Ангел.
— Какой странный город, — сказал Кот, — он похож на тот, что я вижу за оградой парка.
— Да? — встрепенулся Мак.
Кот меланхолично повел раненым ухом.
— Не стоит туда торопиться. Давай лучше я почешу когти и расскажу тебе сказку.
Кот подошел к Маку так близко, как не смел подходить Ангел.
— Ну вот, в одном доме жило большое такое мягкое Мяу…
Мак заулыбался. А Кот острыми когтями провел несколько борозд вокруг Мака. Затем раскопал яму, и оттуда показался тонюсенький Ручеек.
— Это было самое прекрасное на свете Мяу и оно постоянно хотело есть…
Мак рассмеялся, и из-под земли выскочило несколько новых стеблей Дикого Мака.
— Ну ты, голова, даешь, — увидев новые стебли, Кот даже приподнял лапы, — хотя, впрочем, это неважно. Важно, что это мое самое любимое Мяу, и я никогда его больше не увижу.
— Никогда-никогда? — разволновался Мак.
— Никогда-никогда, — ответствовал Кот и обошел вокруг растения, — Но это, поверь мне, самое красивое на свете Мяу. А вот когда я смотрю на тебя, хоть ты меня ужасно раздражаешь, я вспоминаю то Мяу и мне нравится, что ты такой красный.
— Нравится? — изумился Мак и заалел ярко-ярко.
— Да, ты очень красивый, — потерся рыжей щекой о землю Кот. — И я буду к тебе приходить, потому что мне с тобой интересно. А потом я тоже уйду, навсегда-навсегда, потому что ты меня ужасно раздражаешь, и ты будешь меня вспоминать. Будешь?
— Да, — отозвался Мак, — Я буду тебя ждать.
— А что нам с тобой остается? Вспоминать друг друга — это самое приятное, что может быть. На расстоянии лучше видны крупные буквы. Ведь мы теперь друг для друга — крупные буквы.
Каждый день нужны мелкие буквы, они важны, из них люди составляют слова. Их много. Но представь, что было бы, если бы не было крупных букв? Или, как мне сказали в нашей школе — больших букв с красной строки? Или наоборот, если бы остались только прописные? Никто не смог бы отличить имени от того, что имени не имеет. Чудо стало бы обыденностью. Но жить с чудом нельзя. О чуде можно помнить и беречь его.
На стеблях Мака появились розоватые новые бутоны.
— Смотри, это твои новые друзья и соседи. Они будут напоминать тебе обо мне. Постарайся полюбить их, как меня. Но это будет очень трудно; они будут такие же как ты, и вы будете спорить, сами того не желая, кто же настоящий. Так должно быть. Но вам не суждено поссориться окончательно — потому что ты полюбил меня, а я — тебя. И эта любовь будет поить и кормить нас обоих. Но как же ты меня раздражаешь! Нет, иду к Гортензиям; они тоже раздражают меня, но я хотя бы могу забраться в их кусты. Прощай, я буду с тобой; ты правильно сделал, что решил меня ждать!
И Кот исчез в купах Можжевельника. Вскоре маковые бутоны раскрылись, и Ангел подумал, что само солнце хлопьями опустилось на землю. В сухой золотистой траве играло множество чистых алых бликов, как играли бы утренние лучи.
— Простите! — неожиданно сказал Мак.
— Да-да, простите! — ответили ему.
С тех пор Ангел особенно заботится об этом участке, где среди невзрачной травы растут Дикие Маки, распускающиеся с восходом солнца и облетающие от слишком сильного ветра. Эти цветы не жалеют, что их цветение так коротко, что потом вместо прекрасного цветка возникает зеленая голова. Эти цветы настолько дружны и смиренны, что когда суждено облететь одному, другой тоже начинает готовить свои лепестки, будто надеясь, что тем, что облетит сам, продлит жизнь своему другу.
Прочим растениям непонятна жизнь Диких Маков. Зачем так разбрасываться собою? Зачем Создатель сделал их такими нежными? Но растения уже не осуждают Маки. Часть просто забыла об участке в углу парка, часть делает вид, что примирилась с Дикими Маками. Ангел видит все это и помогает Макам как может. В засуху принесет пол-облачка и выжмет его, или пошлет лягушек — перенести русло Ручейка. В дождь позовет Вяз — укрыть участок. Эти перемещения, конечно, согласованы со всеми Господствами и Престолами. И дарованы Ангелу за его кроткое старательное житие. Потому что этот Ангел никогда не стремился стать Архангелом или Силой. Но человеку трудно подсмотреть чудеса, бытующие в парке, обыкновенные чудеса, когда дерево ходит, а клочок облака висит низко-низко над участком.
Сторож, конечно, все видит. Иногда он зовет Кота, играет с ним веткой из своей старой заслуженной метлы, и Кот очень не прочь поиграть. Иногда Сторож беседует с Котом. Кот рассказывает Сторожу о Диких Маках, а иногда, если Мак делится с ним своими снами и разрешает их рассказать Сторожу, передает их. Тогда Сторож говорит Ангелу:
— Зима будет теплой.
Или:
— Будут сильные морозы.
Мак подолгу не видит Кота. И очень без него скучает. Ему хочется оторваться от почвы и пойти, как иногда Вязу или Березке, чтобы увидеть Кота, но он не решается. Тогда рядом с Маком садится Ангел и спрашивает:
— Тебе грустно?
— Нет, — улыбаясь, отвечает Мак, — простите!
— Простите, простите, — вторят другие Маки.
Мальчик и единорог
Единорог — на самом деле конь, одинокий конь, вечно ищущий всадника. Он очень красивый: серебристый, светящийся на лунном свету. День — время солнца. Днем Единорог гуляет по берегу таинственной дальней реки, в шуме которой слышен весь мир. Единорог знает, кому и что нужно, кто и что просит у Христа. Он рад бы исполнить все просьбы, но он только необычный конь, у которого что-то витое алмазное во лбу, которое к тому же еще и видит. Говорят — рог, потому и — Единорог. Он очень печалится, что не может исполнить всех просьб. Наверно, потому, что не исполнил ни одной.
Мальчик рос очень быстро, ему немного стыдно было, что он такой высокий. Хотя как посмотреть: просто высокий, не так чтобы очень. У Мальчика не было мечты. Ему ничего не хотелось, он был всем доволен. Только бы позволяли бегать, забыв обо всем, по двору, но даже это не очень нужно. Мальчик был послушен и тих, ел хорошо, что дают, и всегда немного улыбался. Родители его — артисты. Люди глубокие и тонкие. У них был друг, Поэт, уже пожилой и неопрятный, хотя, может быть, так только казалось. А на самом деле поэт был вечно молод и прекрасен. Но ни родители, ни Поэт не знали про Единорога. А тот довольно часто смотрел в окно Мальчика и удивлялся, даже немного печалился: какой странный сын у этих родителей, он ничего не хочет! Мальчик не знал, что Единорог смотрит на него, а если бы узнал, не понял бы, зачем и кто смотрит. Единорог по ночам гулял по лунной радуге и входил во сны людей. И учил людей, что во снах им нужно, а что нет. Но люди спали, так что уроки Единорога пропадали даром. Единорог очень переживал, что он такой волшебный и ненужный. Христос улыбался, на него глядя.
Родители Мальчика были известными и правильными. Мама писала духовные стихи, подбирала на гитаре мелодию, затем звала звукорежиссера и второго гитариста. Все вместе записывали альбом, а потом разъезжали по разным странам, запивая альбом легким белым вином и заедая устрицами. Отец Мальчика писал книги, их охотно издавали, на них были многочисленные рецензии. Он считался известным писателем. У обоих был один духовник, Священник, к которому ходил и Мальчик. Мальчику всегда было что сказать: он умел найти в себе недостатки. Так прошло лет десять-двенадцать.
Мальчик подрос, но все еще оставался Мальчиком. Он был очень высок, с рыжими волосами, крупным мягким ртом. Лоб тоже казался мягким, прямоугольный лоб, из-под которого, из тени надбровий, взглядывали вдруг настороженные глаза. В них не было ни капли того внутреннего покоя, о котором говорило все поведение Мальчика и его жесты. Когда Мальчику исполнилось пятнадцать лет, у него обнаружили страшную болезнь. Собрались врачи, огромная белая стая, долго беседовали между собою, задавали Мальчику похожие между собою вопросы. Наконец, вынесли решение: Мальчик может умереть. Нужно много лекарств, каждый день по нескольку раз. Но Мальчик никогда не пил лекарств и ему трудно было представить, что он пьет их по нескольку раз в день. Но как не пить, когда бледная и внезапно похудевшая мама плачет, а отец чешет в затылке. А ведь маме завтра ехать в город на море, а отцу — в редакцию, вычитывать гранки.
— Не беспокойтесь обо мне, — сказал Мальчик, — я буду пить лекарства и дождусь вас.
Единорог тоже услышал о болезни Мальчика. И сказал Христу:
— Ты зачем сделал с ним такое? Почему он должен умереть?
Христос ответил, обратив Лик, сияющий и милостивый:
— Я желаю ему Любви. А болезни как облака. Случается, что и проходят.
— Но разве он не любит своих родителей, свой дом?
— Я желаю ему Любви, — повторил Христос, — а ты можешь мне помочь.
— Конечно! — обрадовался Единорог. — Но как?
— Я скажу тебе, — ответил Христос и отвратил Свой Лик.
Мама сидела у постели сына и гладила его руку своей, тонкой и узкой, с аккуратнейшими ноготками.
— Верить, сын, надо просто. Без фантазий и причуд. Без фей и эльфов. Просто, открытым сердцем. Тогда все страдания будут казаться легкими, преодолимыми.
Пылкость губит нас.
Она создает внутри нас огромные горы.
— Да, — согласился Мальчик, — а кто такие феи?
— Ужасные существа, — ответила мама.
Затем поднялась, взяла гитару и сумку, и поехала в город на море, махнув на прощание длинным однотонным подолом.
— Феи — это как мама, — подумал Мальчик.
Он не знал, что отец и мать его познакомились, когда играли в эльфов и фей. У них были деревянные мечи, пластиковые латы, обшитые старой одеждой, и много-много любимых книг, и много-много любимой музыки. Но они бросили это, хотя и не смогли забыть до конца. Им казалось, что поступили правильно. Христос ничего не говорил по этому поводу. Священник, конечно, поддерживал, но такая у него работа — поддерживать.
Когда родители ушли, Мальчик, утомившись тишиной, решил нарушить условие, встать и пойти к реке. Посидеть немного на берегу. Он испытывал очень сильные боли и слабость, но болеть не умел, и ему все казалось, что на воздухе недомогание оставит его. Близился вечер, пахло мягкой летней сыростью и рекой. Мальчик знал один спуск к воде, про этот спуск рассказал ему Поэт. Нашел этот спуск без труда. Но там, возле самой воды, оказался связанный длинной речной травой, которая скреплена была глиной, большой крест из ветвей яблони. Кажется, крест этот был очень старый. Мальчик изумился этому кресту, он его никогда раньше не видел, и, задумавшись, сел в тень ивы. Солнце заходило так, что скоро крест оказался внутри него.
— Священник, — сказал Христос, — смотри, как Мальчик сидит у воды. Иди к нему, поговори с ним.
— Да, Господи, — сказал Священник и пошел к Мальчику.
Но случилось так, что в то же время к реке пришел Поэт. Он пришел немного раньше Священника, увидел Мальчика, в задумчивости сидящего под ивой, и сам присел рядом.
— Поэт, — спросил Мальчик, — а на что похоже вот это: солнце окружает крест?
— На стихотворение, — ответил Поэт, — каждое стихотворение — это как преступление. Это выход за границы, к солнцу. У солнца нет границ. У креста тоже, потому что крест — это и есть преодоление границ.
— Мама сказала бы: греха! — улыбнулся Мальчик. Он не улыбался очень давно.
— Того, что ведет ко греху, — согласился поэт, — страха.
— Но есть же страх Божий?
— Это одно из имен Любви к Богу, — ответил Поэт.
Тут подошел Священник.
— Ты говорил, что Бог видит даже каждый фантик от конфеты, — заговорил Мальчик, — И отличается от человека тем, что может помочь и фантику от конфеты, и целому народу. Неужели человек так слеп, что не видит очевидного — этого фантика, которому нужна помощь? Ведь человек мог бы помочь фантику.
— Вряд ли, — вздохнул Священник, — человек давно уже никому и ничему не может помочь.
— Может, может, — вдруг послышалось в лесу.
— Что там за птица объявилась? — изумились все.
— Грех — это когда мы не чувствуем, что от нас вышло зло.
— Неужели зло может исходить от человека?
— Может, может, — снова отозвалось в лесу.
— Это Пан, — сказал поэт, — это пастуший хозяин.
— Это только эхо, — улыбнулся Священник. — Мы пытаемся угадать, как в пасьянсе, с кем будет Христос, будучи абсолютно уверены, что он всегда будет с нами. На нашей стороне. А Христос не принимает ту или иную сторону, он не союзник, а Вседержитель. Он — намного больше, чем гармония и справедливость. И намного больше, чем вера и видения. Ему не нужно обличать или славить, Он любит и отдал жизнь за все, что мы видим, чтобы мы жили. Мы часто укоряем Его — нам не нравится тот мир, в котором живем, и мы просим Его о перемене. И мы забываем, что все Им созданное сгорает на Его Божественном Огне, и только в этом неуклонном сгорании смысл бытия. Вся история и все судьбы — это жертвоприношение Христу, это лучи Его Единственной Жертвы Любви.
— А сатана? — спросил Мальчик. — Ты говоришь так, как будто нет сатаны. Мама говорит — есть.
— Тебе пора, — сказал Христос Единорогу, — И помни: перед тобою — живое сокровище.
— Ну да, — сказал Единорог, выходя из леса. Золотистый, с волнистой длиннейшей гривой и волнистым хвостом, с алмазным рогом, — Я, конечно, очень похож на сатану. Здравствуй!
Мальчик остолбенел: он никогда раньше не видел такой красоты. Его глаза стали, наверно, размером с небо, и в них отразилось как будто солнце в сиянии звезд. Единорога сопровождали две лесные русалки. Именно они передразнивали Священника, подслушав разговор. Их неяркие травяные одеяния пахли чабрецом и тысячелистником. Священник, увидев все это, медленно перекрестился сам, а затем перекрестил незваных гостей. Но те и не думали исчезать. Поэт всплеснул руками, он только и смог сказать:
— Как боги, как боги…
— Здравствуй, — сказал Единорогу Мальчик, — Ты прекрасен!
— Я пришел за тобой, — сказал Единорог.
Мальчик подошел к чудесному гостю и взял его радужную перевязь. И они пошли вдоль реки, медленно беседуя. Поэту казалось, что они идут по воде. Священнику — что по воздуху. Никто из них не сделал шага, чтобы вернуть Мальчика. А когда Мальчик и Единорог скрылись из виду, Поэт и Священник уже забыли, что произошло у них на глазах. Только солнце стояло на том же месте, окружая крест.
— Сердце Мальчика расцвело, и теперь будет цвести вечно, — сказал Христос Священнику. Ведь сердце цветет в Любви. Они оба останутся со мною — и этот красивый нелепый зверь, и Мальчик. Тебе не нужно беспокоиться о них.
Поэт долго смотрел на реку, будто желая вызвать образ ушедшего чуда, но вызвал только несколько фраз, которыми остался недоволен. Что делать, слова часто блекнут, не успев раскрыться.
Росток
Росток впервые открыл глаза в прекрасном каменном городе, почти на проезжей части. Или как говорят здесь — на тротуаре. Вдоль тротуара лежали небольшие, сантиметров тридцать на десять, цементные бруски. Один за другим, цепочкой, ровным рядом. Эти бруски отгораживали проезжую часть от тротуара. Накануне праздников их красили в белый цвет. Праздник проходил, белый цвет оставался, как напоминание о празднике. Через некоторое время суета перекрашивала эти бруски в серый, и они оставались серыми до следующего праздника. Росток выглянул как раз из-под такого, еще не совсем посеревшего, бруска. Голова Ростка была в темной шапочке — будто солдат в каске выглянул из окопа — это были остатки зерна, из которого Росток проклюнулся. Сверху смотреть — будто кто спичку воткнул в землю серной головкой вверх. Но какая в этом городе может быть земля! Только в кашпо, для цветов и небольших аккуратно подстриженных деревьев. А так — кругом асфальт и камень, камень и асфальт. Росток не знал об этом и надеялся увидеть такие же Растения, как и он сам. Но Растений поблизости не было.
У Ростка, как и полагается ростку, были глаза, рот, нос и уши. Он видел, слышал, умел глотать и даже говорить. Хотя считается, что говорят только люди, и это явление — речь — отличает их от прочих живых существ. Росток ничего не знал про связную человеческую речь, и про людей он тоже ничего не знал, но говорить умел — как мог, и окружающие его понимали. Первое, что увидел Росток, было Облако, идущие над крышей дома — огромное молочное Облако.
— Привет, — сказал Росток, — как ты там?
— Иду над Домом, — ответило облако, — меня ведет Ветер.
— За руку? — спросил Росток. Ему отчего-то очень хотелось, чтобы у Облака были руки, за которые его можно вести. Белое, пышное, мягкое. Как приятно вести его за руку!
— Да, — улыбнулось Облако, — За нами идет Дождь, и очень сильный Дождь.
Росток сам не знал, откуда он знает о Дожде, но он знал, что есть Дождь, и что это — вода, падающая с неба. Откуда Росток знал о Небе, неизвестно, но он знал, что Облако идет по Небу, а Дождь падает с Неба.
— Этот Дождь еще называется Ливень, — сказало Облако, — он действительно очень сильный.
Затем Облако поспешило вместе с Ветром к потоку таких же облаков. Нет, не таких же. Облака были все разные. Одни выше, другие ниже. Они курчавые, другие с легкими прямыми прядями.
— Я увижу Ливень! — радовался Росток. — А кто увидит Ливень, тот стразу же станет большим.
Кто сказал Ростку, что Растения после ливня становятся больше? Конечно, никто не говорил, но Росток знал, что вырастет — как будто ему кто-то сказал.
Росток стал к закату немного выше, совсем чуточку. Но он уже смог рассмотреть иссохшее от солнца и иссеченное дождями лицо старого Дома, безучастно смотревшего на проезжую часть и тротуар. Он даже увидел, что отражается в самом нижнем глазу Дома, что Дом видит его.
— Привет, Дом! — сказал Росток.
— Привет, — ответил Дом.
Росток еще немного подрос и смог увидеть лежащий рядом с собою огромный Камень. Откуда взялся на границе проезжей части этот Камень, никто в Городе не знал. Камень лежал здесь, кажется, со времени основания Города, и никто убирать его не собирался. Говорят, что этот Камень был заложен на месте основания Города. Многие годы Камень лежал неподвижно, на одном боку, не жалуясь на погоду. Ничто не предвещало, что Камень перевернется.
— Привет, Камень! — сказал Росток.
Но Камень промолчал.
Внезапно стемнело, хотя еще не закончился закат, и пришел Ливень. Он привел с собою Темное Облако. У Облака из лица сочились крупные слезы. Ливень поначалу был теплый и веселый. Но темнело быстро, и еще быстрее, а струи становились все более жесткими, холодными и сильными. К ночи Росток был прибит к земле и лежал, распластавшись, вздрагивая от каждого нового удара Ливня. А Ливень рос и рос, частый, холодный, беспощадный. К нему присоединился отчаянно хохочущий Гром и розоватая молния, возникавшая в редких проемах между стенами воды. Росток лежал, ему было невыносимо холодно и больно, он много раз пытался подняться, но не мог. А только глубже уходил в глинистую почву. Терпение растений велико и огромно. Простирается до смерти, хотя растение ничего не знает о своем терпении. В этом терпении нет гордости и суда, оно ясно и ровно, как пламя свечи в тихой комнате.
Наконец, Ливень ушел, оставив коварные потоки, которые неслись по улицам, как свора водяных псов. Один такой поток бросился на Камень, засмеявшись, ударил его. И Камень, тяжело вздохнув, перевернулся на бок, скрыв едва приподнявшийся Росток. Ростку стало тесно, душно и темно. Забываясь тяжелым сном, Росток сказал себе:
— Я видел жизнь. Я видел Облако, говорил с Домом, я не умер под натиском Ливня, и меня не сожгла Молния. Что еще могу увидеть в жизни? Наверное, ничего.
Но тут кто-то словно спросил: а Солнце ты видел? Неужели ты не видел Солнце? Росток оживился, попытался приподняться, но сон оказался сильнее. Росток склонил голову, на которой уже не было шапочки из зерна, и уснул…
Здесь бы закончиться сказке, но Росток внезапно проснулся. И вспомнил, что еще не видел Солнце.
— Я должен увидеть Солнце, иначе — какой я Росток?
И Росток попытался поднять Камень. Конечно, ничего не вышло, Камень даже не заметил усилий Ростка. Росток ужасно расстроился, даже порыжел, но через некоторое время снова попытался поднять Камень. И снова — как будто не было никаких усилий. Тесно, темно и душно.
Шло время. Росток, как ему и положено, рос. Становился длиннее. Но его вытянувшееся тело было худосочным и слабым. Однако Росток начинал день с того, что пробовал поднять Камень. Ничего не получалось, Камень не шевелился и молчал. Только изредка вздыхал, однако по этим вздохам нельзя было понять, что беспокоит Камень и чего он хочет. И все же Росток каждое утро пытался поднять Камень. Упирался своими зелеными плечами, напрягал волокнистые мышцы. И вскоре Ростку стало казаться, что Камень совсем чуть-чуть подвинулся. Но возможно, Ростку только показалось. Сколько времени прожил Росток в темноте и тесноте, неизвестно.
— Если бы я не знал, что есть Солнце, — говорил Росток Камню, когда становилось совсем грустно, — я бы засох у тебя под боком. Но Солнце достигает и сюда, и у меня есть силы жить здесь. И будут силы поднять тебя.
Однажды Камень ответил. Вдруг заговорил, будто нехотя:
— Я уже очень стар, поднять меня немудрено. Лучше подумай, что ты будешь делать, когда выйдешь на свет и увидишь Солнце.
— О только бы мне его увидеть! — оживился Росток. — А ты сам — видишь Солнце?
— Да, — отвечал Камень, — оно здесь не всегда, но один мой глаз видит его, и оно прекрасно.
— Прекрасно! Значит, я все-таки подниму тебя.
— Не торопись. Все произойдет иначе, чем думается тебе, — сказал Камень и снова надолго замолчал.
Однажды Росток проснулся от того, что кто-то тряс его за плечи. Как будто желал сообщить что-то очень-очень срочное и важное. Росток открыл глаза и увидел Ветер. Это Ветер разбудил его.
— Скорее, скорее, вставай, смотри!
Росток распрямился, как мог, потом распрямился совсем, и… едва не задохнулся от обилия воздуха и света. Старый Камень треснул. Трещина прошла ровно посередине, так что теперь стало два камня. Росток оказался точно между ними. Как он смог проспать такой момент? Как мог не услышать треск Камня?
— Ты спал, как и полагается молодым, — услышал Росток хриплый, с трещинами, голос Камня. Голос шел одновременно от двух половинок. — Не вини себя. Подумай, что будешь делать.
Росток оглянулся… и замер с закинутой вверх головой. Затем склонил ее — не вынес великолепного сияния, вдруг открывшегося ему. В глубине небес висел жаркий сияющий шар, и от него шли тепло и свет. Именно от него, и этот шар был лучше всего на свете.
— Солнце, солнце, — ликовал Росток.
— Да, это Солнце, — сказали Облака и Ветер.
Вдруг Росток увидел, как стремительно уходит вниз земля. Он рос! Он становился большим!
Вскоре у края проезжей части, там, где в начале Главной Площади лежит Камень Основания Города, зеленело молодое Дерево. Дерево было так красиво и обещало стать таким большим, что горожане решили именно его считать Местом Основания Города. Дерево росло, радостно раскинув ветви, как будто обнимало: и город, и горожан, и дома. Старый Дом теперь дремлет в тени дерева, ведь старики любят тень. Дерево стало хозяином площади. Вокруг него не ставят автомобилей, лавок с едой и скамеек. Все это есть, но поодаль. Человек, который видит это Дерево на площади впервые, может подумать, что все дома и строения на площади возникли после того, как появилось это Дерево, да и сама площадь создана так, чтобы сохранить это Дерево. И никто уже не помнит, что Дерево было маленьким Ростком, который едва не погиб под огромным Камнем. Две половинки Камня так и лежат возле корней Дерева, но вряд ли скоро можно будет услышать голос Камня. Дождь и Снег почти не касаются корней дерева — такая у него густая крона.
Однако если бы кто смог услышать, что говорит Дерево, он изумился бы.
— Что делать мне теперь, — шепчет Дерево по ночам и в непогоду, — Я вырос, я огромен, я даю тень в жару и приют в непогоду. Я стал выше дома, но до сих пор мне не ясно, зачем я здесь и кому нужен… Я проживу еще много-много лет, и все будет так же. А когда я жил в тесноте и темноте под камнем, каждый день для меня отличался от другого, потому что каждое утро было я снова пробовал поднять камень, с новыми силами. Иногда мне снится та жизнь.
В ясный майский день, когда еще не очень жарко, Солнце говорит Дереву:
— Когда мы впервые увидели друг друга, я поняло, что значит свет. До этого я ничего не знало о свете. Я излучаю свет, но я не знало о свете. Ты открыл мне свет, маленький Росток.
Может быть, Солнце и Дерево разговаривают не только в ясный майский день. Но предание сохранило только эти слова Солнца.
Овчина
Мать укладывает младенца спать. Младенцу шесть лет — хорош младенец! Отрок почти. Волосы кудрявые, веселые, глаз блестит, ну точно — постреленок. Зовут Ванечкой, конечно. Ванечка спрашивает:
— Мама, вот ты все сказки рассказываешь. А можешь рассказать такую сказку, чтобы просто и сразу, вот так поверить?
— Все тебе, Ванечка, сказки. А вот как без сказок — все равно жить придется. Или нет?
— Ладно, расскажи, расскажи, — просит Ванечка. А сам думает: «Если не верить — это как? Тогда и сказки не нужны. А если верить, то не знаю — как без сказок. Наверно, можно, но я не знаю».
— Умный ты очень, — вздыхает мама, — я отцу Георгию на тебя пожалуюсь.
Ванечка даже голову приподнял: расстроился. Это он — маме боль причинил? Как же это — боль? Зачем — боль? Он не хотел… Зачем же эта боль существует? А если без боли?
— Я расскажу тебе сказку, которую мне моя сиделка, бабушка Груня, рассказывала.
Ванечка заулыбался: маме не больно. Простила. Он про прощение очень мало что знал, так только, сердечком, и по словам взрослых. Мама очень прощение ценила. И даже говорила порой:
— Нет у нас денег, а мы с тобой весь мир прощением купим.
— Купим, — соглашался Ванечка, — и папе большую машину.
Машина, конечно, очень нужна — почти как ноги.
Ну, так сказка начинается. Весьма пожилая сказка, много где побывавшая и много что повидавшая. У нее — белый тонкий пуховый платок. Эти платки быстро в негодность приходят: становятся жесткими, клочкастыми, теряют нежность и пушистость. А вот у этой сказки не так: платок не свалялся, будто она его в специальном растворе купала, или в какой талой снеговой воде, обувка не сносилась. Сидит сказка невидимо рядом и ждет своего часа.
— Бабушка Груня — это груша? — спрашивает Ванечка.
— Нет, — улыбается мама, — Груня — это Аграфена! Драгоценное имя. Неописуемая.
— Во как, — смеется Ванечка, — И какая же у ней сказка должна быть!
— А ты — слушай!
Тут сказка начинается, сказка бабки Аграфены.
— Вот тебе, Ванечка, окно, а на нем, как видишь, желтые сосновые ящики, а в них — помидоры. В одном — длинные, пахучие, раскинули веточки, и плоды на них. Небольшие, комнатные, но все равно — плоды. Алые. В другом же ящике — только-только стебли прорезались, светлые и очень тонкие еще, едва принялась здесь рассада. А как получилось, что растения — разные: одни большие, а другие — маленькие? От времени? Да, от времени. А в остальном — все то же: и земля одна, и вода одна, и руки — мои. Но вот те — ранние, сейчас кушать и срывать будем, а эти — поздние, им еще ох сколько трудностей преодолеть надо, прежде, чем вкусить от них можно будет. А так кто посмотрит — ну что за хлопоты. Все окно в плетях помидоров, и запах от листвы по всей квартире. Кому — воняет, а кому — нравится. Я вот люблю помидоры.
Жили на свете издавна Кривда, Печаль и Боль. Неразлучная шайка разбойников. Как они на свет появились, что у них за мать и отец были, никто не знает, ни одному святому то не ведомо, а ведомо только Господу. Господь им жизнь дал, в мир идти позволил, но в силах ограничил.
— Ты, Кривда, — сказал, — великую над человеком власть имеешь. С тобой человеку везде путь открыт. У тебя все пропуска на руках и все двери меченые, в любой тебя знают и в любую впускают. В честном бою тебя не одолеть, да и не надо тебя одолевать. На тебя одна управа есть — время. Сколько ты ни живешь, конец твой Мне известен, и конец этот — забвение. Одна от тебя польза есть. Ты без Правды-Истины не бываешь; если ты где возникла, там — Правда-Истина недалеко. Где ты охотишься, там Истина живет, ибо ты на нее только и охотишься.
Кривда, точно — добрый стрелок. И одет к лицу, и речь у него ласковая. Посмотришь на лицо — вспомнишь о старом друге, вот он — такой же был. Кривду все за доброго знакомого и друга принимают.
— Ты, Печаль, — сказал Господь, — Вширь сильно раздалась, грузная очень. Грузность твоя тебе помогает добычу придушить, на нее навалившись, но в быстроте ты сильно своим собратьям уступаешь. Но тебе ж быстроты и не надо; ты как накатишь, так и не отпустишь до самой смерти. На тебя то и управа, что мысль о смерти. Кто думает о смерти, тому Печаль не ведома. Вот когда ты у Покаяния полы мыл, тогда при деле был. А теперь одно разоренье от тебя.
Печаль ростом — под облака, в плечах — как горный кряж, а сапоги у него каменные. Он и дубинку-то не часто берет на разбой, ему кулака хватает. Но ленив. Спасть любит, поесть любит. Сладкое, а порой и вина выпить, немало вина.
— Ты, Боль, — снова заговорил Господь, — из собратьев твоих самый скорый, самый сильный. Но ты как ветер. Нашел — и потом утих. Но бывает, что берешь за самое сердце — тогда человеку смерть. Что твои собратья недоделали, ты довершаешь. У тебя помощники есть — болезни. Много их. Но уж если кто с тобой знаком, тот с двумя твоими собратьями справится.
У Боли — секиры и ножи. И шапка татарская. У Боли — зелий целый мешок. И действует он наскоком, сразу, мгновенно. Но бывает, что долго выслеживает, изматывает нарочными выстрелами, чтобы во всем теле болезненный огонь развился. Он так человека заморочить может, что все мысли погибнут и сердце опустеет.
— Ну что же, братушки, — молвил Господь, — дело ваше. Гуляйте, раз гуляете, ко Мне идти не хотите. Однако вот вам работа. Живет в дальней горе за дальним лесом Овчина. Но не Овчина это, а каторжник, бедный человек, вам знакомый. В жизни своей он немало злодеяний совершил, но покаялся и о каторге своей не жалеет. Я хочу его в Свой Рай взять, в который Разбойник со Мною Крестной Мукой вошел. Уже близко кончина Овчины. Дам я вам коней — всякие искушения. И вы поезжайте к Овчине, чтобы его испытать: остался ли он Мне верен.
— Что Ты, Господи, — возмутился Кривда, — Или не благ Ты? Верного своего Овчину к страданиям Сам готовишь. Или крови на Тебе мало?
— Вся кровь — Моя, — отвечал Господь, — и не твое, Кривда, дело, Мою Кровь отмывать.
Припомнили Кривда, Печаль и Боль, как при Воскресении Господь сатане хвост связал, и им тоже хвосты связал — приковав их к самому даль нему адскому камню, чтобы, когда адище зев раскроет, хвосты эти ему поперек зева встали. Подумали, и поехали к дальней горе за дальний лес — Овчину навестить. Долго ехали, всех коней загнали, все искушения перепробовали. Все прошли — и дожди проливные, и дожди обложные, и реки быстрые, и жар огненный, и леса частые.
Овчина тем временем каелкой помахивал, камни вырубая из горы, гранит. У него способность была счастливая — он этот гранит будто под почвой видел. Люди, с кем он в бараке сидел, разговорчивые. От горя склонность к беседам развивается, а еще если вина выпить — всю ночь говорить можно. А Овчина на слова товарищей улыбается и почти всегда молчит. За то и прозвали — Овчина. Будто что он своей тихой улыбкой невесть что прикрывает. Каторжники Овчину уважали. Он все умел: готовить вкусно, чинить одежду, спички достать, боль заговорить. Все умел. И никогда никому ни в чем не отказывал. О прошлом своем злодейском помалкивал, но видно было по глазам — не тронь, убить может. Овчина и сам своих рук боялся: они как против воли его сами ходили. Хлоп — и нет замка. Бац — и пес в предсмертном визге зашелся. Но Овчина зверье любил и старался всякого бесхозного обогреть и накормить. То у него снегирь живет, а однажды зимой и вовсе волчицу притащил. Сдохла серая, ранена была, но Овчина над нею бился как над дочкой, лечил и кормил. Когда умерла, закопал за дровяным складом и даже плакал.
Долго ли коротко, пришли Кривда, Печаль и Боль к острогу, в котором Овчина время свое коротал.
— Ну, — Кривда говорит, — сейчас вина возьму побольше, да и с его товарищами поговорю. Все расскажу, про его лицемерие и тайные замыслы. Все поведаю, что он о них думает и говорит начальникам.
— А я, — сказал Печаль, по голове его за добрые дела поглажу. Грустно ему станет, ох, грустно. Затоскует навек.
— А я, — сказал Боль, — тело его жгучей проволокой обовью, когда уснет. Ни рукой, ни ногой пошевелить не сможет.
Что решили, то и сотворили. Лежит Овчина на подстилке, тело у него все ноет, и слушает, как товарищи его, кому много добра сделал, совещаются его убить за доносы на них начальству. И тоска у него в груди такая, что вот-вот дыхание прекратится. Тогда Кривда, Печаль и Боль пришли к нему, сели рядом.
— Ты, Овчина, — говорит Кривда, — можешь стать свободным. Вот сейчас мы уйдем, а ты встань и посмотри за печкой. Там прут железный, крепкий лежит. Ты его возьми и иди к восточной стене острога. Она невысокая. Возле нее теперь один только часовой стоит. Ты его разом уберешь. А товарищи твои, как сбежишь, о тебе забудут. Мы обещаем.
— Эх ты, Кривда, — отвечает Овчина, — не знаешь ты человека. Если они меня, который их кормил-поил и лечил, убить хотят, ужели то забудут, что я бежал, а они — в остроге. Всяко найдут способ меня убить. Не они, так друзья их на воле убьют. Мне живым отсюда не выйти, это мне такой дворец покаянный выстроен.
— Не хочешь идти, — заговорил Печаль, так я Страх вызову. И научу товарищей твоих тебя этим самым прутом и убить.
— Такое мое дело, значит, умереть от человеческой руки, того достоин, — вздохнул Овчина.
— Ах ты, ведь старик совсем, — взъярился Боль. Овчина только глаза прикрыл, а из них — едкие слезы пошли.
— Давай-давай, братушка. Все равно мне из этого чертога дороги нет. Только к Богу и дорога.
Долго так беседовали Кривда, Печаль и Боль с Овчиной, но ничего не добились. А тем временем товарищи Овчины очнулись — истек ведь срок Кривды-то. Очнулись, подбежали — а Овчина уж последний вздох испустил, остывает тело его. Встрепенулись товарищи: да что ж мы, да как же так. Омыли, отпели, похоронили Овчину, крест на могиле поставили. А как ночь пришла, вошел к ним Овчина, в новой одежде, светлый, умытый и радостный.
— Друзья вы мои, братья. Что бы я без вас делал, не знаю. Совсем Господь меня простил, оставил мне мои грехи. Благодарю, что меня отпели и омыли. Скажу Господу, чтобы это вам всем вспомнилось.
И дал Овчина каждому своему товарищу зеленый лист с райского дерева, к веселью духовному и крепости телесной. А кто сказку слушал — тот молодец. На чем — и сказке конец.
— Вот как Овчина своих товарищей спас! — воскликнул Ванечка, засыпая.
А мама колыбельную поет: за широкими морями, за высокими холмами.
Литература
Арутюнов С. А., Жуковская Н. Л. Туринская плащаница: отпечаток тела или творение художника? // Наука и жизнь. 1984. № 12. С. 102–111.
Бахтин как мыслитель. М., Наука. 1992. С. 7–9.
Бутаков Н. А. Святая Плащаница Христова. Джордан— виль, 1968.
Верховский Л. Иисус пережил Голгофу // Наука и религия. 1989. № 6.
Гаврилов М. Н. Туринская плащаница: Описание и научное объяснение // Жизнь с Богом. 1992.
Дворкин А. Миссионер // Альфа и Омега. 1995. № 5. С. 139–156.
Душечкина Е. В. Рождественская елка // Русская елка. История, мифология, литература. Спб, Норинт, 2002.
Житие священномученика Василия Московского. М., Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского Института, 2001.
Кононов Ю. Снова о Туринской плащанице и не только о ней // Наука и религия. 1989. № 11.
Лебедев А. П. Братья Господни. Исследования по истории древней церкви. СПб., Издательство Олега Абышко, 2004. С. 9–100.
Лебедев А. П. Церковно-исторические повествования. СПб., Издательство Олега Абышко, 2010.
Лесков Л. Туринская плащаница — самая загадочная реликвия христианского мира. // «Известия» от 18.01.93.
Протоиерей Глеб Каледа. Святая Плащаница и ее значение для христианского сознания и духовной жизни // Московский церковный вестник. 1991. № 2.
Протоиерей Глеб Каледа. Туринская Плащаница — предмет пререканий // Альфа и Омега. 1994. № 2.
Протоиерей Глеб Каледа. Туринская плащаница и ее возраст // ЖМП. № 5. 1992.
Шик Е. М. Воспоминания о моем отце // Альфа и Омега. 1997. № 1.
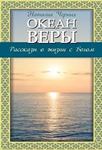
Комментировать