Оглавление
I.
«Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы»… Когда я слышу эти чудные слова, мою душу охватывает умиление, и на глазах навертываются невольные слезы: мне вспоминаются светлые годы моего далекого детства, из тьмы прошедшего снова встают передо много, как живые, образы моих отца и матери, и кажется мне, что эти люди ничего не говорили мне, ничему не старались поучать меня, ничего не стремились завещать мне, кроме этих великих слов Христа…
Мой отец, плотный, сильный, как бы отлитый из бронзы, был неудавшимся художником по призванию, неудавшимся, то-есть, ничего не нажившим врачом по ремеслу, но вполне удавшимся человеком. Немного философ-материалист и скептик, он глубоко понимал дрянность и искалеченность человеческих натур и был склонен не столько обвинять, сколько прощать. Моя мать, сохранившая до старости следы женственности и грации, была личностью, много выстрадавшей в детстве и ранней юности от своего родного промотавшагося барства и потому рано отрекшеюся от эгоистической необузданности барскаго «все для нас, все ради нас», но сохранившей навсегда всю прелесть барских — благовоспитанности, такта, уменья быть любезною без заискивания, терпеливой без приниженности, бедной без потери человеческаго достоинства. О он, и она были людьми здоровыми и физически, и нравственно; но этого здоровья им было отпущено, казалось, только в той мере, чтобы они могли уже не желать ничего лучшаго для себя, и в то же время еще ясно сознавать, что другим остается желать очень многаго. Едва ли знали вполне эти небогатые трудящиеся люди все отличительные догматы православия, все богословския тонкости, отделяющия одну религию от другой. Им было некогда, зарабатывая кусок насущнаго хлеба, основательно изучить все это, вдаваться в эти вопросы; им было даже некогда часто посещать храм, куда мать ходила изредка, урывками, на несколько минут, и куда отец не заглядывал иногда по целым годам. Но простыя добрыя сердца, горькия житейския невзгоды, столкновения с массою горемык, купленное опытом знание жизни и людей подсказали им, что в жизни нет более высокаго блага, чем христианская любовь к ближним. Любить ближняго и быть любимыми ближним, вот все, к чему они стремились и чего они достигли. Наш дом — дом врача — был открыт для всех. Окрестные бедняки, приходившие в него сначала за врачебною помощью, мало-по-малу, делались в нем своими людьми. В него шли пожаловаться на судьбу, поплакать, попросить совета, поискать помощи, отдохнуть душою, — шли люди из простонародья, лица из более образованных классов общества, из числа молодежи, из числа стариков. Константина Феодоровича и Елену Андреевну Ждановых знали все в нашем околотке, если не лично, то хоть по слухам. Ни отец, ни мать не делали между людьми различия, как-то чутьем дойдя и до того убеждения, что нельзя закрывать своих дверей и своего сердца даже перед теми, кто дошел до нравственнаго паденья, до тех или других пороков.
— Не было бы в душе гнетущаго сознания, не шли бы к нам, — говорила про этих людей мать.
— Ну, может-быть, и не всегда ради этого идут, — замечал отец, усмехаясь добродушной улыбкой. — Иной просто разжалобить да поднадуть хочет.
Матушка не спорила, соглашалась не без грусти, но замечала:
— А если и так, то все же гнать не приходится, если просят помощи.
— Кто говорит, что нужно гнать! Станешь одних гнать, придется, пожалуй, всех гнать. Если ведь порыться в душах и в делах других, так-называемых безупречных, то тоже не мало грязи встретишь, — прибавлял отец. — Вот как в препаровочной, труп первой красавицы — тот же кусок разлагающагося мяса…
И уже шутливо прибавлял;
— Я, впрочем, смотрю на людей с точки зрения врача: больны они, просят помощи, — ну, и помогай им, лечи их, и не тебе разбирать, что довело их до болезней, пьянство или разврат, труд или голод.
Окруженный таким образом с колыбели целой массой самых разнохарактерных людей, я долго не подозревал, что не все люди живут так, как моя семья. Как сейчас помню мое глубокое изумление, когда я сделал это открытие. Я однажды самовольно, без фуражки, как играл дома на дворе, пробрался в церковную ограду. Увидав там группы играющих детей, я подошел к одной из этих групп, как вдруг мне, слишком просто одетому мальчугану, с безголовой картонной лошадкою в руках, заметила довольно грубо одна нарядная нянька:
— Иди, иди прочь, мальчик! Наши дети со всякими мальчишками с улицы не могут играть!
Я посмотрел на нее такими удивленными глазами, как будто она заговорила со мной на неведомом мне языке. Потом я перевел свой взгляд на хорошеньких, щегольски одетых детей, порученных ея надзору. Они, должно-быть, под влиянием слов своей няньки, пятились от меня как бы в испуге. Смущенный, сконфуженный, опустив голову, я тихо побрел прочь. Какие-то мальчуганы весело и бойко крикнули мне:
— Иди играть с нами, мальчик!
Я посмотрел на них, ничего не ответил и, весь погруженный в какую-то думу, пошел из ограды понуро, грустно, точно у меня на сердце было большое горе. Дома я долго сидел в углу, молча, думая о том, что случилось, не умея ничего сообразить, охваченный каким-то совершенно новым чувством. Наконец, я не выдержал и спросил мать:
— Мама, отчего меня прогнала нянька от своих детей, когда я хотел с ними играть?
— Какая нянька? от каких детей? — спросила мать, недоумевая.
Я рассказал ей все случившееся. Ее лицо приняло грустное выражение. Она не сразу нашлась, что ответить. Потом, собравшись с силами, она сказала:
— Эта нянька не знала тебя; может-быть, боялась, что ты большой шалун и буян, потому и не позволила своим детям играть с тобою.
И лаская меня, она прибавила:
— Играй, милый, лучше у себя на дворе, около дома, с знакомыми детьми… Зачем было уходить в незнакомое место? И кто же ходить так, без шапки?.. И приставать к незнакомым не надо… Если незнакомые сами попросят тебя играть с ними — играй; не попросят — не навязывайся им в товарищи…
Дальнейших объяснений не было, но в мою душу запало какое-то новое чувство: я впервые узнал о существовании на свете таких людей, что могут сказать мне: «иди прочь, мальчик». Через долгие годы я уже стал изумляться не этому, а тому, что еще есть на свете люди, говорящие и человеку, не завоевавшему себе в жизни ни чинов, ни отличий, ни богатства, ни известности: «иди к нам!» И чем яснее становилось это для меня, тем выше и святее становились в моих глазах мои отец и мать, тем полнее понимал я, сколько великой любви отпустила им природа, если они сумели усвоить себе и притчу о том, кто имеет право бросить первый камень в блудницу, и рассказ о милосердном самарянине, и завет «не судите, да не судимы будете», и призыв к труждающимся и обремененным…
Но если отец и мать усвоили все это как-то сердцем, чутьем, опытом, то, выучившись на медныя деньги, они в сущности плохо знали суть обрядов и догматов православия, не исполняли многаго множества из этих обрядов, ели скоромное в постные дни, не служили молебнов, не теплили лампад, даже — странно сказать — отец не говел чуть ли не двадцать лет. Я тоже рос немного «язычником». Только на одиннадцатом году впервые начал я узнавать о религии и о том, что есть и православные, и неправославные, и еретики, и сектанты. Это случилось, когда я попал в большую школу, где учились и католики, и протестанты, и евреи, и православные. Все мы учились вместе всем предметам первоначальнаго обучения, и только классы закона Божия разделяли нас на отдельныя группы: к нам являлись ксендзы, пасторы, попы, и мы, каждый по-своему, учились веровать и молиться. С самаго начала меня сильно поразило это явление, совершенно новое для меня, и я начал страстно интересоваться религиозными вопросами, тревожно спрашивая себя: «чьи же молитвы слышит Бог?» Но удивление мы достигло крайних пределов, когда я познакомился с одним худеньким; белобрысеньким, золотушным мальчуганом, сказавшим мне как-то, что: он и его сестра хотя и ходят к лютеранскому пастору, но все-таки они не лютеране, а у них своя собственная религия, и их отец — пророк.
— Как пророк? Какой пророк? Илия? Исаия? — допрашивал я, широко открыв глаза.
— Что ты выдумал! Тех пророков давно уже нет! Мой отец жив. Он преподает с четвертаго класса математику здесь в школе, — ответил маленький Ганс Вурм.
Я ничего не понимал. Живой пророк! Учит математике у нас в школе! Я не верил своим ушам.
— У нас в церкви и апостолы, и евангелисты, и пророки, и ангелы есть, — продолжал рассказывать белобрысенький мальчуган. — Мы исповедуем религию божественнаго откровения. Кого Бог изберет из нас, тому он и открывает все, все, и тот пророчествует… Папа все знает, что и с кем будет после, как мир кончится, потому ему сам Бог открывает все…
Я чувствовал, что меня охватывает какой-то невольный, непонятный мне самому страх, при мысли об ятом человеке, беседующем с самим Господом Богом. В моем воображении с представлением о Боге в то время связывалось представление чего-то гигантскаго, необъятнаго, грознаго.
— И он знает все, все, что с кем будет? — допрашивать я тревожно и несколько недоверчиво.
«Может-быть, хвастает», мысленно успокаивал я сам себя.
— Ну, да! Папа все знает! — с уверенностью отвечал Вурм. — Бог его избрал, потому он и знает..
— А ты… ты… тоже все знаешь? — перебил я его.
— Я не знаю… Но Бог может избрать и меня… Тогда и я буду пророком… сестры, тоже…
Маленький Вурм говорил с сознанием собственнаго достоинства… Я задал ему нерешительным тоном еще один вопрос:
— А если бы я… Меня мог бы избрать Бог?
В моем голосе прорывалась заискивающая нотка: нельзя ли, мол, оказать протекцию?
— Ты не одной с нами веры, — гордо ответил Вурм. — Бог только из наших избирает, потому мы святые люди… наша вера так и называется религией божественнаго откровения или общиной святых…
Я опечалился, что моя вера не дает мне права быть святым и сделаться пророком, и проникся боязливым уважением к моему товарищу, к этому счастливому сыну господина пророка.
В первый же день, после этого разговора я решился подстеречь в школьном коридоре старика Вурма, чтобы хоть издали взглянуть на того, кого избрал Бог, кому открыто все грядущее. Звонок возвестил о начале урока; но я стоял у дверей нашего класса и сторожил, когда пройдет мимо меня господин пророк. Меня охватила легкая дрожь, мне казалось, что я сейчас увижу что-то необычайное, поразительное, величественное. Длинный школьный коридор с рядом стеклянных дверей уже начинал пустеть, только кое-где запоздавшие школьники вприпрыжку спешили в классы, хлопая дверями, когда в конце коридора показалась какая-то странная, высокая, тощая фигура. Это был господин лет пятидесяти в черном, наглухо-застегнутом сюртуке, с высоким, черным галстуком, плотно охватывавшим, как железное кольцо, длинную шею, с туго накрахмаленными, торчавшими вверх «фатермердерами», с изжелта-белокурыми, гладко-зачесанными на впалых висках вперед волосами, с зеленоватым, бледным, истощенным лицом. По длинной худой фигуре, по долгополому, точно прилипшему к телу сюртуку, по плоским волосам, лоснившимся, как атлас, он походил на человека, вытащеннаго из воды. Его землистое, безкровное лицо было неподвижно; глаза, прикрытые большими очками, не смотрели никуда, так как веки были опущены вниз. Он шел медленно, чинно, беззвучно, точно приготовляясь к совершению великаго таинства. Меня охватил инстинктивный страх при виде этого живого мертвеца, двигавшагося тихо и безшумно, как на пружинах, не смотря ни на что окружающее. В то же время с другого конца длиннаго школьнаго коридора торопливо, в каком-то переполохе, как бы с испугу, бежал белобрысенький Ганс Вурм. Поровнявшись с тощим человеком, он, раскрасневшийся, в поту, проговорил запыхавшимся, прерывающимся голосом:
— Вот, папа, твоя геометрия!
Тощий человек на минуту остановился, взял из рук Ганса книгу, стукнул углом ея переплета по голове мальчугана и сказал, точно скрежеща зубами, шипящим, отрывистым тоном:
— Негодяй, не мог напомнить дома, чтобы я ее не забыл! Каждый раз так!..
На секунду, как мне показалось, я увидал сверкающие гневом глаза. Но это было подобно блеску молнии, на миг прорвавшей темную тучу. А затем эти глаза снова закрылись веками, и мимо меня, не замечая меня, тем же медленным, плавным шагом, в той же застывшей позе, прошел этот длинный, исхудалый человек…
Это был, как я угадал сразу, сам господин пророк…
Я человек нервный, впечатлительный. В моей жизни бывали странные случаи: меня поражали иногда какое-нибудь слово, какой-нибудь взгляд, какое-нибудь лицо — и впечатление, оставленное ими, не изглаживалось никогда, всплывало в известных случаях на поверхность. Так раз, во дни моего детства, в доме умалишенных один больной внезапно наклонился к самому моему лицу и прежде, чем я опомнился, глядя мне в глаза своими расширенными, сверкающими зрачками, неистово крикнул: «Я Христос, меня распяли!» Я отшатнулся в ужасе, и выражение этих безумных, широко открытых глаз навсегда осталось в моей памяти, и взгляды; хотя немного напоминающие его до настоящаго времени, производят на меня непреодолимое впечатление чего-то похожаго на страх. Такое же неизгладимое впечатление оставила во мне первая моя встреча с Иоганном Рейнгольдом Вурмом. Я потом видел его, когда он бил куском мела по голове учеников; я видел его, когда он протяжно и набожно, подняв к потолку умиленные взоры, читал: «Отче наш, иже еси на небесех»; я видел его, когда он вкрадчивым и певучим голосом давал мне отеческое наставление быть кротким и послушным, прилежным и трудолюбивым, терпеливым и выносливым; я видел его, когда он, шипя и скрежеща зубами от подавляемаго гнева, с багровыми пятнами на впалых щеках, пророчил мне гибель на этом свете и адския муки на том, за то, что я схватил однажды его костлявую руку со всею силою семнадцатилетняго юноши и крикнул ему:
— Я вам не позволяю себя бить. Я сам изобью вас!
И всегда, во всех случаях мне вспоминалась одна моя первая встреча с этим человеком, когда он шел, как на пружинах, по нашему школьному коридору, когда он потуплял глаза в землю даже в этом пустом коридоре, когда, как молнию, я на мгновение уловил его бешенство…
Входя впервые в его класс, через три года после этой первой встречи, я уже ненавидел его и ждал, что вот-вот он, сверкнув глазами, ударит кого-нибудь по голове; а он, подняв набожно вверх глаза, сложив молитвенно руки, с глубоким чувством читал молитву Господню. Я слушал этот сладкий, певучий голос, смотрел на это просветленное набожностью лицо и ждал, ждал…
Бац! по всему классу раздался звон оплеухи.
«А, вот оно!» — мелькнуло молнией в моей голове.
— Это ты называешь молитвой? — неистово крикнул Вурм, оглушив пощечиной одного из учеников. — Это значит молиться? Я читал молитву, а ты, стоя, тетрадь просматривал? Я призывал Господа Бога, а ты…
Бац! раздался вторично звон новой оплеухи по другой щеке пойманнаго школьника.
И в то же время по классу пронесся, как стон, мой возглас:
— О-о?
Вурм повернул ко мне голову, и наши глаза встретились: мы оба были бледны, как мертвецы. Не знаю, как он не смял меня, не исколотил в эту минуту. Этого ожидали все; но этого не случилось. Ни он, ни я не проронили ни слова, и урок начался, как будто не произошло ничего особеннаго. Но с этой минуты я и Вурм стали заклятыми врагами. Эта вражда долго оставалась глухою и безмолвною. Я угадывал эту вражду только по сдержанно шипящему тону Вурма во время его разговоров со мною, во время его поучительных разсуждений при мне о том, что самый страшный порок — злоба и строптивость, что можно быть первым учеником в классе и все-таки оставаться в душе негодяем. Он угадывал эту вражду по моему искажавшемуся лицу, когда он бил других детей, по моему дрожащему голосу, когда я отвечал на его придирчивые вопросы, делаемые мне с явным желанием сбить меня с толку. Но ни разу не сказал я ему грубаго слова; ни разу не ударил он меня. Мы словно чувствовали инстинктивно, что наше первое резкое столкновение будет в то же время и последним, и остерегались столкнуться. Эта осторожность была странна, так как Вурм не любил и других учеников, и, в свою очередь, другие ученики тоже не любили его. Тем не менее, они грубили ему, он бил их, и все кончалось благополучно. Во мне, может-быть, он угадал более серьезнаго врага, более дикую натуру, чем в остальных учениках. И точно, я его ненавидел не по-детски, ненавидел его одного. Мне все в нем было ненавистно: его потупленные взоры, когда он входил в класс, его поднятые вверх глаза во время молитвы, его битье мальчуганов, чем попало, его полныя набожности и святости наставления о покорности и смирении, о кротости и выносливости…
Я не скрывал ни перед кем своих враждебных чувств к Вурму. Нелюбившие его школьники встречали мои выходки против него с сочувствием; мои домашние, не одобрявшие в душе его отношений к ученикам, смотревшие косо на его самозванное пророчество, только советовали мне остерегаться этого человека, не без тревоги замечая, что их «мальчик» начинает ненавидеть. Тем более удивился я, встретив существо, вступившееся за Вурма, и притом какое существо — тихое, кроткое, поэтическое…
У нас, среди не особенно близких родственников, но самых близких друзей была одна семья, принадлежавшая к числу разбогатевших ремесленников. Она состояла из хозяйки дома, ея сына и двух бедных девушек-племянниц. Покойный Роман Шельхер, так звали главу этой семьи, когда-то был кузнецом. Потом, женившись на дочери русскаго зажиточнаго мещанина Анне Ивановне Сущовой, он сделался заводчиком. Умирая, он оставил все свое довольно, крупное состояние жене, помня, что нажито было это состояние отчасти при помощи ея приданаго, и хорошо зная, что Анна Ивановна не ограбить своего единственнаго, горячо-любимаго Левы. Лев Шельхер был на два года старше меня и потому в школе нам пришлось быть в разных классах. Мать давала ему блестящее образование или, вернее сказать, он желал, чтобы ему было дано блестящее образование, так как вздумай он остаться неучем, — мать, верно, даже не потревожила бы его напоминанием об ученьи. Она боялась вообще чем бы то ни было тревожить сына. Он, по ея мнению, мог захворать от всякой тревоги. И тем не менее, боясь, чтобы он не захворал, она все же не сознавала вполне того, что уже сознавали почти все окружающие, — слабогрудый юноша, изнуряемый частыми недугами, давно стоял на шаг от могилы. В вашей семье часто с сожалением говорили, как поразит его смерть несчастную мать, при чем невольно приходилось толковать и о том, что после смерти Левы его двоюродныя сестры, жившия в доме Шельхеров, сделаются богатыми. Богатство никогда не бывает лишним, но для одной из этих бедных девушек, для племянницы со стороны покойнаго Шельхера, оно было особенно нужно. Это была жалкая калека, немного горбатая и кривобокая, сильно хромающая, вечно хворавшая. Она не могла даже докончить свое образование, была неспособна к работе и уж, конечно, была незамужницей. Она, впрочем, была уже и не первой молодости, будучи на пятнадцать лет старше Левы. «Бедная Минхен», как все звали ее, была кротким и безпомощным созданием, с бледной и чуть не прозрачной кожей, с томным и болезненным выражением поблекших голубых глаз, с тонкими и как бы полинявшими белокурыми волосами, с очень некрасивым вытянутым лицом. Она являлась совершенной противоположностью с племянницей Анны Ивановны, с быстроглазой, румяной, подвижной смуглянкой Женей, посещавшей женское отделение нашей школы в одно время с нами. Она была года на четыре моложе Левы. Минна и Женя часто заходили к нам, я часто бывал в их доме, мы все были на «ты» и горячо любили друг друга. Мне нередко приходилось говорить с Женей о Вурме, дававшем уроки в школе и на женском отделении, и на мужском, начиная с четвертаго класса, где уже находился я в то время. Тогда раздавался ея звонкий заразительный смех — смех безпечной, вполне счастливой юности — и Женя поразительно искусно начинала передразнивать Вурма, как он ходит с потупленными взорами, как он в беседах поднимает глаза к небу, как говорить певучим голосом длинныя проповеди. Оставаться серьезным, когда смеялась и дурачилась Женя, было немыслимо, и я смеялся вместе с нею; потом, однако, я пробовал протестовать, принимал серьезный вид пятнадцатилетняго мальчугана, начинающаго играть роль юноши и говорящаго умныя слова, и замечал ей, что Вурм вовсе не смешон, а страшен.
— Кто? Он? Вурм-то страшен? Нет, нет, ты уморишь меня со смеху! — кричала Женя, махая руками и заливаясь задушевным смехом ребенка. — Эту тоненькую цаплю одним пальцем свалить можно! Это скелет, а не человек! Его ветром качает!
— Я не о том, — протестовал я снова. — Что физичеческая сила! Его злость страшна!.. Впрочем, ты ошибаешься и насчет его силы. Правда, он худ и тонок, но это человек из железа. Ты посмотрела бы, как он дерется…
— Ну, у нас на женском отделении он не дерется, а в нашем доме он только вздыхает и стонет, как умирающий…
— А он все попрежнему бывает у вас? — спросил я.
От своих домашних я давно слышал, что Вурм очень близок с семьей Шельхер, так как он был земляком и другом детства покойнаго Шельхера. Тем, не менее, почти никто никогда не встречал его в доме Анны Ивановны, точно он боялся встретиться здесь с посторонними. Потом я узнал, что Вурм у большинства посторонних бывает также тайком, объясняя это какими-то преследованиями и соглядатайством.
— Еще бы! — ответила мне Женя. — Тетя слаще засыпает от его проповедей… Лева же если и не засыпает от них, то становится все задумчивее, наслушавшись Вурма… Он ведь все о светопреставлении говорит, о страшном Суде, о царствии Божием на земле, после того, как всех нас истребят. Послушаешь его, так так и ждешь, что завтра нас всех жарить будут в аду…
Как раз на этой фразе застала нас однажды Минна. Мы сидели на террасе дачи Шельхеров близ Ораниенбаума. Перед нами разстилалась сверкающая на солнце гладь залива. Воздух был тих и неподвижен. Из сада доносился аромат цветов. Услышав слова Жени, Минна печально покачала головой и проговорила:
— Женя, можно ли шутить такими вещами!
— А ты веришь, что мы живем накануне конца мира? — спросил я у Минны. — В такой-то день, в такую-то погоду?
Я засмеялся. Она вздохнула тяжелым вздохом.
— Я не знаю, накануне ли конца мира мы живем, или нет; но об этом нельзя не думать, к этому нужно готовиться. Ты читал, что говорится о девах со светильниками? Во всяком случае, грех смеяться над человеком, напоминающим о покаянии.
— Над ханжой, фарисеем, иезуитом! — воскликнул я запальчиво. — Он просто мерзавец…
Минна опять покачала с укором головою.
— Ты еще мальчик совсем, и не тебе судить людей, — серьезно сказала она.
Она сошла с террасы, подошла к клумбе цветов и стала вдыхать аромат роскошно распустившихся левкоев. Ея тщедушная, горбатенькая, кривая фигурка казалась жалкою среди роскоши цветущаго сада. Сорвав один из левкоев, она приподнялась и направилась снова к террасе. Продолжая думать о Вурме, она заметила:
— Господин Вурм много перестрадал, долго искать истины, был гоним…
Я вспылил:
— Он? Он?.. Да он просто негодяй, он…
Она не дала мне кончить и болезненным голосом начала рассказывать о том, что вынес Вурм. Когда-то, воспитуясь у иезуитов на юге Германии, он готовился сделаться католическим патером. Но в семинарии он увидел все пороки, все недостатки католическаго духовенства. Он стал задумываться о жизни окружавших его людей, стал углубляться в католическую религию и среди страшных сомнений пришел к убеждению, что лютеране были правы, отвергнув многое в католической вере. Он решился перейти в протестантство, бежал из родного города, женившись на своей двоюродной сестре, и стал готовиться в пасторы, перебиваясь уроками, часто голодая. Тут он натолкнулся на целую массу интриг, увидал пасторов, погрязших среди чисто житейских дрязг и расчетов, понял, что это люди, по большей части, вполне индифферентные, равнодушные в деле вопросов о спасения души, что это те же сытые бюргеры, сделавшие из богослужения ремесло, и, отказавшись от пасторства, стать исповедывать религию божественнаго откровения, стал во главе общины святых…
— Он должен был бросить родину, он скитался по разным странам, он перебивался с семьей в страшной нищете, он и здесь далеко не спокоен, так как его преследуют, в проповедуемых им истинах видят что-то опасное. Его религия нигде еще не признана, везде гонима, — говорила с увлечением Мнана. — Люди не понимают святости его целей, его стремления обратить на путь истины заблудших, напомнить им о Боге…
— Кулаками и подзатыльниками? — спросил я, раздраженный ея речами.
Она взглянула на меня с упреком, вдыхая аромат сорваннаго цветка.
— Если бы даже страшными физическими страданиями пришлось заставить человека вспомнить о душе, то что же из этого? — медленно, как бы в забытьи разсуждала она. — Я его понимаю: он суров, он строптив, он, может-быть, жесток, но ведь у него сердце обливается кровью при мысли, что люди сами губят свою душу…
Я широко открыл глаза. Я знал, как кротка и добродушна Минна, и меня удивили, почти ужаснули ея слова, как нечто чудовищное. Она же продолжала тем же тоном раздумья:
— Я сама сначала удивлялась его суровому отношению к детям. Но он выяснил это один раз у нас… «Что может быть ужаснее, как обречь на смерть свое дитя? — говорил он. — А между тем, сам Господь послал своего Сына на крестную смерть, чтобы спасти человеческия души от греха. И с той поры матери-христианки вели своих детей на пытки, на растерзание зверей, на смерть на кострах, лишь бы эти дети спасли свои души, а не погубили их, отрекаясь от веры и тем спасая себя от физических страданий»…
На меня точно повеяло откуда-то холодом, хотя я не в силах был тогда ни серьезно спорить, ни серьезно протестовать. Мне просто стало страшно от этой теории; в моем еще по-детски настроенном воображении мелькнула картина, как моя мать повела бы меня на растерзание зверям; это меня ужасало. Но Минна, это привыкшее к физическим страданиям существо, говорила об идеях Вурма с какой-то кроткой восторженной экзальтацией, дыша ароматом цветка, устремив бледные глаза в безпредельную даль моря. Ей как будто казалось, что Бог дал ей самой тяжелый крест физических страданий для того, чтобы спасти ея душу, и она готова была восторженно благодарить Его за свое убожество, за свои уродства.
— Кто не страдал, не переносил мучений, не подвергался испытаниям, — тихо и задумчиво говорила она: — тот мало думал о душе, о грехах, о недостатках… Недаром Гёте заметил:
Кто не вкушал с слезами хлеба,
Кто не просиживал ночей
Без сна под бременем скорбей,
Тот вас не знает, власти неба!..
И болезненно прихрамывая, с поникшей на бок длинной головой, с выражением тихой муки на бледном, точно сделанном из белаго воска лице, она направилась в комнаты.
— И так у нас теперь, после прихода Вурма, все мыши кота погребают! — с комическим отчаянием воскликнула Женя, всплеснув руками и в то же время разражаясь детским смехом.
— И ты вместе с ними? — спросил я, очнувшись от какого-то гнетущаго забытья.
— Ну, нет, извини!.. Я еще хочу повеселиться до светопреставления!..
II.
При вспоминании об этом памятном для меня разговоре с Минной, мне всегда кажется, что именно в этот день я впервые понял болию или менее ясно, что на свете есть люди с иным складом ума, чем я, мой отец, моя мать. Нас почти вовсе не интересовало то, о чем говорили Вурм, его сын, Минна; — о чем впоследствии я услышал так много от Левы и Жени. Мое чисто детское недоумение при встреть с людьми различных вероисповеданий, мои наивные вопросы о том, чьи молитвы слышит Бог, разсеялись очень быстро, не находя ни пищи, ни поддержки в моей домашней среде. Мать на мои разспросы об этом предмете ответила:
— Бог у всех один, а молится каждый как умеет, как может…
Отец же просто заметил мне:
— Подрастешь — все сам поймешь. А теперь, мальчуган, учись прилежнее, чтобы не засидеться в классах и кончить ученье, пока я жив…
Этим и кончились объяснения…
Отец и мать не скрывали от меня, что мы едва сводим концы с концами, не откладывая ничего на черный день. Это говорилось без жалоб, без нытья. Трудовая жизнь выносилась бодро и весело. В то же время отец и мать старались обратить мое внимание с детства на более тяжелое положение массы бедняков, полное лишений и невзгод, стремясь вызвать во мне участие к этим людям и желание быть им полезным. При этом мне постоянно выясняли, что я никогда не добьюсь ничего для себя и ничего не сделаю для других, если не привыкну к упорному труду. Это направление воспитания, веселыя лица окружавших меня родных тружеников, хорошия гигиеническия условия нашей жизни быстро укрепили мой организм и сделали меня довольно бодрым мальчуганом, быть-может, немного прозаиком, немного практиком, немного материалистом. Чем сильнее развивалось во мне это направление, тем страннее должны были мне казаться люди, смело парящие мыслью где-то в заоблачных сферах и безпомощно не умеющие справиться с самым ничтожным препятствием в обыденной жизни, плачущие над чувствительной книгой и проходящие равнодушно мимо горьких будничных явлений, терзающиеся разными сомнениями и вопросами и не делающие ни шагу для практическаго разрешения этих сомнений и вопросов. Отец шутливо называл таких людей «сладкопевцами». Не мало подобных личностей приходилось мне встречать в жизни. Ближе всего ознакомился я с ними в семье Шельхеров. Эта семья была тесно связана узами родства и дружбы с моей семьей. С детства эти люди служили для меня «натурой»: я знал каждый их шаг, все их заветныя желанья, каждую мелочь их характеров, все, что радовало и огорчало их…
Склад этой жизни был своеобразен…
В старые годы, увидав в Петербурге изящный дом-особняк, вы почти безошибочно могли бы угадать в нем барское жилище. Но времена переменчивы. В последния двадцать пять лет, вы, в большинстве случаев, сделали бы ошибку, предположив, что тот или другой из подобных домов непременно принадлежит барам. Такие дома настроили себе с течением времени разные разжившиеся ремесленники, разбогатевшие коммерсанты, счастливые биржевые игроки. Такой дом построил для своей семьи и покойный Роман Шельхер. Не мало лет он всеми правдами и неправдами сколачивал свое значительное состояние. Для чего? Для того, чтобы все досталось, в конце-концов, каким-то дальним родственникам, делавшимся все более и более чуждыми Шельхеру и его жене по мере того, как эта чета из мелких ремесленников превращалась в крупных предпринимателей. Не мало горя приносило это сознание Шельхерам. Наконец, на десятом году супружеской жизни, у них родился четвертый ребенок и не последовал за своими тремя предшественницами в могилу, а остался жить. Это был «наследник». Тогда-то Роман Шельхер начал строить свой дом-особняк. Это чистенькое одноэтажное каменное здание с просторным и светлым подвалом для помещения кухни и для жилья прислуги, с тенистым садиком, смотрело весело и уютно, бросаясь в глаза белою окраскою стен, светлозеленою крышею, дельными зеркальными окнами. В доме все было несколько ярким, несколько пестрым, несколько напоминающим новизною о магазине, но именно в этом была своего рода прелесть — прелесть новаго гнездышка, новой жизни, новых надежд. Тут было все не так, как «принято», как требуют условия «света», как распорядились «предки», а так, как вздумали, как устроились по своему вкусу сами обитатели дома. Этот вкус, может-быть, был причудливым, аляповатым, смешным, но это был их вкус. Они самодовольно улыбались, осматривая свой белый зал с белой мебелью, обитой бледно-голубым шелком с голубыми узорами на потолке, на стенах, на белых рамах зеркал, — потом ярко-красную гостиную, обремененную золочеными украшениями, рамами зеркал, вазами, люстрами, бра, жирандолями, далее — столовую, отделанную темным дубом, с тяжелой дубовой мебелью, с разрисованными стрельчатыми окнами, пропускавшими в комнату какой-то причудливый свет, с украшениями из оксидированнаго серебра на стенах, на камине, на буфете. Роман Шельхер в первые дни ходил по комнатам своего дома, подпершись правой рукой в бок и покручивая левой свой ус, а Анна Ивановна Шельхер, немного подобрав по старой привычке свое тяжелое шелковое платье, только покачивала с блаженной улыбкой головою и шептала: «совсем дворец!» В образе жизни этих обитателей тоже не было ничего навязаннаго кем-то и чем-то, а вполне сказывались их собственные вкусы и привычки. Угадать эти вкусы и привычки было не трудно, так как даже самый поверхностный наблюдатель мог бы сразу понять, что и постройкой дома, и складом жизни здесь руководила одна мысль: как бы удобнее было Леве. Для Левы строился этот дом: отец и мать только и говорили при постройке о том, что им самим ничего не надо, а для Левы — вот тут будет спальня его, когда он женится, вот здесь поместится детская, когда у него будут дети, вон там отведется комната для няни, когда детей будут отнимать от груди. Для Левы взяли племянниц-сирот, чтобы ему не было скучно расти, и для него же принимали в гости почти исключительно молодежь, его товарищей, его друзей, так как «что ему за радость смотреть на стариков и старух». Именно вследствие этого не только дом смотрел снаружи внутри игрушкой, сделанной для ребенка, но и самый образ жизни в нем напоминал не то детскую, не то школу, не то рекреационное зало. Может-быть, жизнь в доме сложилась бы несколько иначе, если бы Роман Шельхер прожил дольше после окончания постройки этого дома. Он, верно, постарался бы блеснуть своим «дворцом» перед приятелями заводчиками и биржевиками. Но он умер, когда Леве минуло только семь лет. Анна Ивановна была сильно опечалена смертью любимаго мужа и, конечно, не думала о пирах. Кроме того, она была слишком неподвижным по натуре человеком, чтобы вести шумную жизнь. Только изредка, в торжественные дни, или в особенных случаях, в доме появлялись чопорные гости из взрослых и стариков — купцы и купчихи, стремившиеся породниться с «генералами», дамы и мужчины из «света», не брезгавшие ради благотворительных целей женой бывшаго кузнеца, какие-то промотавшиеся помещицы и помещики, когда-то покупавшие у Шельхеров машины, а теперь старавшиеся урвать в долг сотню-другую у «заводчицы». Кроме того являлись такими же редкими гостями и то как-то урывками, на минуту, разные родственники и родственницы хозяев, еще не успевшие нажиться и алчущие подачек. Во время этих визитов молодежь старадась куда-нибудь удирать из зала и гостиной, оставляя на жертву гостям мать семейства, добродушную Анну Ивановну. Анна Ивановна, получившая образование на медныя деньги, а может-быть, и вовсе не получившая его, давно уже приобрела привычку «держать себя» с важничающими или важными людьми, с нуждающеюся или с прикидывающеюся нищими роднею. Она постоянно жаловалась важным посетителям на свое «страшно разстроенное здоровье», зная, что это, во-первых, дает ей право не отдавать визитов и не посещать благотворительные комитеты, а во-вторых, заставляет ея гостей не засиживаться у нея подолгу. Потом, чтобы оставить в гостях приятное впечатление, она заговаривала о том, что до нея дошли слухи о денежных затруднениях в таком-то и в таком-то приюте, и выдавала посильную лепту. С родственниками дело обделывалось еще проще и скорее, так как встреча и начиналась с вопроса: «Что, деньжонок?..» И во все время этих бесед, как она сознавалась по уходе гостей, у нея сосало под сердцем от мысли, что Дарья, кухарка, «готовившая за повара», опять не так крем сделает, как любить Левушка. Опечаленные нездоровьем хозяйки и очарованные ея щедростью, гости спешили уехать, чтобы не утомить дорогую Анну Ивановну, а она, вздыхая облегченною грудью, переваливаясь с боку на бок, немного подобрав тяжелое шелковое платье, спешила в кухню наблюсти за стряпней Дарьи, твердо веря, что никакая повариха не угодит так Левушке, как она. Это была смешная слабость богачихи, оставшаяся у нея в наследие от тех времен, когда ей приходилось если не стряпать, то действительно помогать служанке. Иногда на дороге в кухню ее перехватывала с гамом и хохотом молодежь, разспрашивая ее, как она отделалась от гостей, что говорила им, сколько дала отступного. Анна Ивановна отбивалась от «пострелят», махая руками и твердя:
— Пустите, пустите, разбойники! Дарья уж верно натворила без меня каких-нибудь бед! Сами же без обеда останетесь!..
Анна Ивановна была женщина приземистая, довольно толстая, рыхлая, или, как она сама выражалась про себя, сырая. Простоватость, добродушие, слабохарактерность, отсутствие страстности были ея отличительными чертами. Отчасти по натуре, отчасти вследствие обрюзглости и рыхлости, она не отличалась подвижностью и оправдывала себя в этом тем, что у нея ревматизм в руках и ногах, что у нея одышка в груди и кроме того «трепетанье сердца». Впрочем, при ея крупных материальных средствах она и без этих уважительных причин могла бы сидеть по целым дням на одном месте. Она, вероятно, и сидела бы на одном месте, если бы у нея не было своих забот. Эти заботы заставляли ее забывать все, и природную склонность к лени, и бремя тучности, и всякие недуги. Забот этих было две: первая забота — здоровье сына, вторая забота — невозможность оставить без надзора кухню. Первая забота заставляла Анну Ивановну усиленно двигаться периодически два раза в год — весною и осенью, когда Лев Шельхер хворал почти неизменно; вторая забота была ежедневной и, можно сказать, ежечасной, так как Анна Ивановна во всякое время дня способна была срываться с места и стремительно направляться в кухню, вспомнив о каком-нибудь блюде, приготовляемом к завтраку, к обеду, к ужину, к завтрашнему дню. В те же минуты, когда эти заботы не мучили ее, она оставалась по целым часам неподвижною и с блаженной улыбкой смотрела, как резвится и дурачится ея «молодежь», или с той же улыбкой слушала, как ей что-нибудь рассказывают — Минна о прочитанной книге, моя мать о положении окрестных бедняков, Женя о школьных проделках, какая-нибудь странница о Иерусалиме, Вурм о религии божественнаго откровения. Эта блаженная улыбка не исчезала с лица Анны Ивановны по понедельникам в итальянской опере, где ее интересовали богатые испанские костюмы и танцы, — по субботам во французском театре, где она любила более всего смотреть, если актеры дерутся или падают в водевилях, — не исчезала эта улыбка даже тогда, когда слушанье и созерцание переходили незаметно в сладкий сон. Впрочем, вероятно, и во сне Анна Ивановна слышала все тот же звонкий молодой смех, вечно наполнявший ея дом, а разве можно было не улыбаться, слыша его? Под его звуки ей, может-быть, грезилось во сне, что, увлеченный этой молодежью, улыбается светлою улыбкой и ея Левушка.
Когда я вспоминаю о Льве Шельхере, из-за него всегда выглядывает на меня смеющееся розовое личико Жени. Говорить о Леве, не говоря о ней, почти невозможно, так срослись, сжились эти два совершенно противоположныя существа. Я и теперь буду говорить о них разом, не отделяя их друг от друга, как они не отделялись друг от друга в жизни.
В нашей школе было два отделения — мужское и женское; несколько раз в году оба отделения сходились на общих танцклассах; раз в году давался публичный бал, где танцовали и мальчики, и девочки. Само собою разумеется, что дело не обходилось без маленьких невинных романов. Нередко эти романы продолжались и по выходе из школы и приходилось слышать, что те или другие бывшие воспитанники женились на бывших воспитанницах нашей школы. Иногда, иной из воспитанниц выпадала завидная доля быть «дамой сердца» всей школы, и каждый из школьников старался завоевать благосклонное внимание этой «богини». Такую роль пришлось играть и Жене. Это был бойкий, веселый и безпечный бесенок, способный вскружить голову самому апатичному человеку. Когда она дурачилась и смеялась, передразнивая кого-нибудь из учителей или классных дам, — улыбка озаряла даже лицо Левы Шельхера, и его мрачное настроение, казалось, исчезало безследно. Влияние Жени на Леву было так явно, что его замечала Даже Анна Ивановна, умевшая в сущности подлечат только: пригорел или не пригорел пирог, перекипел или не докипел бульон. За эту способность Женя была своего рода божком в доме, и Анна Ивановна нередко говаривала ей:
— Женюша, поди-ка ты к Левушке, он у нас что-то куксится сегодня, боюсь я, не худо ли ему?
И Женя шла к Леве, и Лева оживлялся.
Узкогрудый, худощавый, с пятнами румянца на впалых щеках, он чуть не с самаго ранняго детства опасался уже того, чего не предчувствовала даже его мать, сокрушавшаяся о его здоровья, — опасался близости своей смерти. Он опасался этого и боялся этой мысли, мучился ею. Матери, он никогда не высказывал своих опасений, во зато перед другими эти опасения прорывались у него хватающими за сердце нотами. Эти ноты отзывались еще мучительнее оттого, что природа дала этому юноше все, кроме крепкаго здоровья. Он был строен, высок, красив собой; густые темные волосы, тонкия брови, темные карие глаза, точно подернутые маслом, мелкия правильныя черты лица, замечательная нежность и белизна кожи делали его почти красавцем; при этом его обращение с людьми, манеры, голос обличали в нем человека с мягким сердцем, а выражение лица сразу говорило о мыслящем, недюжинном уме. Болезненность с детства развила в нем привязанность к книгам, к науке, к искусствам; это были его друзья, а богатство давало возможность отдаться этим друзьям всецело; с ними он мог просиживать, не волнуясь, не двигаясь, не уставая, целые часы. Застать его за книгой, за фортепиано, за акварелью — это было почти неизбежно; иногда он не оставлял своего места у фортепиано, или не выпускал кисти из рук даже при появлении друзей. Но с той поры, как ему начало делаться все яснее и яснее, что он не долгий гость на свете, когда он под влиянием мнительности, развившейся вследствие болезненности, стал бояться близости развязки, ожидая ее при каждой легкой простуде, он иногда вдруг отбрасывал книги, ноты, кисти. Когда в эти дни кто-нибудь из нас спрашивал его, чем он занимается, он отвечал мрачно:
— Ничем! Да и для чего? Сколько бы ни занимался я, для могильных червей вкуснее от этого не стану. Вот жаль, что шить не научился, а то мог бы себе саван начать шить…
И, охваченный мрачным настроением, начинал говорить о том, как все нелепо складывается в жизни.
— Кому есть нечего, кто молит о смерти, тому отпущено здоровья на десятерых. Иному же птичьяго молока недостает только, а смерть уже запускает в него свои когти.
В душе начинался ряд нерешенных вопросов, мучительных сомнений, болезненных тревог.
— И если бы хоть знать, что все не кончится здесь, что там жизнь, а не уничтожение! Так нет, впереди одна непроглядная тьма неизвестности…
Охваченный страхом перед мыслью о полном уничтожении, он старался сходиться с товарищами, быть на людях, чтобы не думать, не мучиться, забыться. И вдруг среди самаго веселаго общества, на него нападала тоска, он уходил куда-нибудь в угол и снова думал, думал все о тех же неразрешимых вопросах: что там — новая жизнь или полное уничтожение, небытие? Если жизнь, то какая — с безстрастным блаженством и с неодолимыми муками, без личной воли, без личной свободы? В эти минуты только Женя и Вурм способны были хотя несколько разсеять его, каждый по-своему — она, врачуя душевныя раны, он, вливая в них новую отраву. Вурм был земляком, старым знакомым, другом отца Левы; он был учителем Левы перед поступлением последняго в школу; по смерти Романа Шельхера он явился в качестве одного из душеприказчиков старика и, уже без всяких посторонних приглашений, принял на себя обязанность не то опекуна, не то руководителя семьи. Леве было тогда семь лет. Его ум развивался исключительно под влиянием пророка. В доме Шельхеров Вурм нашел первыя богатыя розсыпи для своей, существовавшей только в проекте, общины и сообразил, что нигде нельзя намыть для нея столько золота, как здесь. Он подолгу дружески беседовал с Левой, и эти беседы, как казалось, благотворно действовали на молодого человека. Для Вурма не было тайн в загробной жизни. Он мог разрешить всевозможные вопросы и сомнения. Скоро настанет светопреставление; добрые будут торжествовать и жить среди блаженства; грешников и злых ждут страшныя мучения; земныя невзгоды — ничто, и счастлив тот, кто не долго мучится на земле; истинная жизнь и блаженство не здесь, а там, за пределами гроба. Вурм говорил с таким убеждением, что на время Лева успокаивался и даже замечал:
— Да, правда, что хорошо умереть рано. Здесь, кроме неправды, зла, мучений, нечего ждать. Жизнь людей сложилась так нелепо, что дорожить ею нельзя.
Он вспоминал все ужасы, которые говорил Вурм о жизни: корыстолюбие, разврат, торжество зла над добром, победа сильных над слабыми, предательство дружбы и любви, недуги и невзгоды старости, очерствение души под конец жизни. Разве можно просить небо о жизни, чтобы испытывать все это? Под влиянием пессимистическаго взгляда на жизнь Лева иногда готов был сказать:
— Слава Богу, мне не долго придется видеть все это!
А вдруг, там, за гробом, его, Леву, ждут мучения ада? Эта мысль смущала, бросала в дрожь юношу. Вурм успокаивал его и в этом отношении. Иногда целые часы, не уставая, прохаживался Лева с Вурмом по белому залу в беседах об этом вопросе. Заложив за спину руки, наклонив немного вперед голову, сосредоточенно сощурив устремленные вперед глаза, молодой человек слушал слова пророка.
— Спастись может только тот, кого изберет Бог, — тихо и мягко говорил Вурм. — Когда богатый юноша, спрашивавший у Христа, как спастись, с печалью отошел от него, услыхав, что нужно раздать имение нищим, Христос обратился к ученикам и на их вопрос: «кто же может спастись?» ответил: «человекам это невозможно, Богу же все возможно»… Да, на жизненном пиру много званых, но мало избранных. Не принадлежащие к числу избранных не идут на брачный пир — в царство Божие, даже когда их зовут рабы Царя Небеснаго, или если и идут, то не приготовившись, не в брачной одежде, и их выбрасывают туда, где плач и скрежет зубов… Но кто избран, тот спасется…
В душе Левы пробуждалось сознание, что он принадлежит к числу избранных. В этом убеждении поддерживал его Вурм, поощряя и одобряя его пытливые разспросы, как явное проявление лежавшей на нем благодати Божией. Юноше было сладко сознавать, что и там, за пределами гроба, его ждет блаженство.
— Да, я умру спокойно! — говорил он.
Но молодость берет свое — роскошный весенний день, полный тепла и света, возрождение всего под лучами весенняго солнца, какая-нибудь чудная картина природы в часы восхода или заката солнцу, веселое настроение общества молодежи с шумным говором, с задушевным смехом, с стройным пением, все это снова влекло к жизни, и он восклицал:
— И все же тяжело сознавать, что скоро ничего этого не увидишь!
Тогда являлась на выручку Женя, веселая, безпечная, жизнерадостная, готовая шутить и смеяться.
— Да полно, Лева, томиться вопросами о будущем, — говорила она. — Пользуйся настоящим! Ведь тебе сегодня весело, хорошо? Ну, и слава Богу! А будущее — кто его знает? Оно, может-быть, еще светлее будет… Да если бы даже и не так, то для чего отравлять настоящее страхом перед этим будущим? А вдруг его совсем не будет, никакого?
И, лаская его, как ребенка, она, сама почти ребенок, обращала его внимание на чудный день, на цветущую природу, на безпечную молодежь, тихо спрашивая его:
— Ведь ты счастлив теперь? Ведь тебе весело? Да? да?
Он улыбался, притягивал ее к себе за талью, целовал ее и шутливо говорил еи:
— Да, счастлив, когда моя весна со мною.
Весной своей он называл ее.
Действительно, она была для него весною, оживляющею, согревающею, развеселяющею. Его мучили отвлеченные вопросы о жизни и смерти; Вурм говорил о грехах и пороках мира, сокрушаясь о них, запугивая ими юношу; мать охала от ревматизмов в руках и ногах, от начинавшейся водянки, от неудавшагося у Дарьи пирога; Минна, убогая, больная, создавала какой-то фантастический мирок для себя, с излюбленными стишками; она же, весна Левы, щебетала, как птичка на ветке, обо всем без умолку, без связи иногда: тут был и серьезный рассказ о том, как она испугалась на экзамене, забыв свой билет; и такой же серьезный рассказ о том, как она вышьет себе малороссийский костюм; и комическое передразниванье учителей и классных дам; и восторженныя мечты о том, как они все будут жить на даче, кататься в экипаже, удить рыбу, ходить за ягодами и грибами. И все это смешивалось в один винегрет безконечной болтовни со смехом, с прыганьем по комнате, с быстрыми переходами от одного рассказа к другому, от одного впечатления к другому. Она напоминала ребенка, попавшаго впервые на представление волшебной пьесы; его занимает все, и декорации, и превращения, и серьезное, и смешное, и он дергает своих спутников, повторяя: «смотрите! смотрите!» точно они ничего этого не видят, не замечают. Этой волшебной пьесой была для нея жизнь. Молодость, избыток здоровья, душевная чистота делали то, что в этой волшебной пьесе все казалось ей покуда прекрасно.
Ей шел шестнадцатый год, Леве пошел двадцатый, когда, в начале весны, Лева простудился и пролежат недели три. Ему все казалось, что это смерть; ей казалось, что он не может умереть, и она забегала к нему утешать его, обнадеживать: «погоди, вот настанут теплые дни, сразу поправишься»; «тебе ведь лучше сегодня? да? да? Это потому, что уже теплее стало; вот, погоди — станет еще теплее, и ты совсем будешь здоров»; «а как у нас в Мартышкиной-то теперь хорошо; море, я думаю, так и искрится на солнце»… И теплые дни настали, и он поправился. Когда он сидел на террасе своей дача около Ораниенбаума, еще слабый, еще худой, но уже выздоравливающий, Женя хлопала в ладоши и смеялась:
— Ведь я тебе говорила, говорила, что выздоровеешь! Не верил! Ах, как бы тебя надо проучить за это!
Он улыбался, счастливый, страстно желающий жить, обрадованный отсрочкой смерти, отсрочкой вечнаго блаженства.
— Ты рада, что я поправляюсь? — ласково говорил он ей.
— Еще бы! вот выдумал спрашивать! Ты вот только болен был, так я думала, что я с ума сойду от тоски! Право! Ты лежишь, около тебя и на цыпочках боишься пройти, чтобы тебя, бедняжку, не обезпокоить, а в других комнатах тетя о тебе плачет, плачет — и вдруг вспомнит, что булка в печку поставлена: «ах, вечно, подгорела, ах, без меня никто не посмотрит»; а Минхен сидит и только вздыхает о суете всех этих забот и хлопот, потому что «что значит наше тело с его страданиями и недостатками, когда нужно заботиться о душе». Вот я смотрю, смотрю на них и хоть плакать, то в ту же пору…
— Да ведь и со мной не весело, — заметил тихо Лева, улыбаясь в ответ на ея болтовню.
— С тобой? с тобой? О, да ты по целым часам выслушиваешь мою болтовню, спрашиваешь, споришь… Иногда тетя говорит: «ты не надоедай ему!..» Скажи, я тебе надоедаю? Скажи!..
— И ет, нет, — проговорил он с лаской.
— Ну, и я то же говорю тете. «Мы, говорю, друзья, мы не можем надоесть друг другу»… Ведь я это правду говорю?..
— Да, да, друзья… Вот выйдешь замуж, тогда и не нужен будет старый больной друг.
Она покачала отрицательно годовой.
— Я не хочу выходить замуж. Мне так, так хорошо здесь… Нет, нет, не выйду ни за что… Да кто же тогда с тобой будет?.. Тебе совсем скучно без меня будет…
— Ты и обо мне подумала?
— Я же всегда о тебе думаю.
Он ласково притянул ее к себе и спросил:
— Так ты меня очень любишь?
— Вот так… Помнишь, как я ребенком говорила.
Она крепко обняла его и поцеловала в губы. На мгновенье у него закружилась голова, в глазах потемнело, голубыя небеса слились в одно целое с голубым взморьем… Как молния, в его голове мелькнула мысль о том, какое блаженство испытывал бы он, если бы она всегда была так около него. Он долго всматривался в ея лицо, потом взял ея руки и покрыл их поцелуями, со слезами счастия на глазах, прошептав:
— Милая, дорогая моя девочка!
Она опустилась у его ног на скамейку и опята заговорила:
— Какой чудесный день, тепло, ясно, ни облачка в небе, ни одной волны на море. О, что может быть лучше весны!
Он хотел ей ответить: «любовь!» и промолчал. Впервые он почувствовал, что безумно любить ее. Но что может выйти из этой любви? Никогда он, больной, умирающий, не связал бы судьбы этой девочки с своей судьбою. Но отчего же? Может-быть, эта любовь и спасла бы его, укрепила бы? Нет, дело не в болезни, а в том, что они двоюродные брат и сестра; подобные браки у нас запрещены. Вот отец и мать Минны были двоюродными братом и сестрой и повенчались. Вурм тоже женат на двоюродной сестре; это он сам говорил. Отчего же у нас запрещено? И снова его мысль, под влиянием Вурма, приученная с детства обращаться к вопросам веры, религии, догматики, работала в привычном направлении, терзая его вопросами, сомнениями, отрицаниями. Да, если бы закон позволил ему жениться на Жене, он был бы счастлив хоть несколько последних лет, он даже, может-быть, выздоровел бы. О, Вурм правду говорит, когда порицает существующия религии…
III.
То, чего опасались близкие мне люди и чего остерегался я сам, наконец случилось: я столкнулся с Вурмом и вышел из школы. Это столкновение сильно повлияло на меня. Я рассказал все отцу и матери. Они не встретили меня горькими упреками, какими встречают «преступника», и не осыпали чувствительными сожалениями, какими осыпают «пострадавшаго». Они, казалось, только подумали: «было бы лучше, если бы этого не случилось, но раз это случилось, то нужно позаботиться о будущем». Отец только коротко спросил:
— Что же думаешь делать?
— К выпускному экзамену в гимназии готовиться, — ответил я.
— Дело; значит, придется взять приватных учителей. Оно дорогонько, но кое-как постеснимся.
Я покраснел, как вареный рак. Стесняться из-за меня! Они и без того не роскошно жили. Слова отца подействовали сильнее упрека.
— Нет, зачем же? — ответил я сконфуженно. — Я подготовлюсь сам, без учителей.
Отец зорко посмотрел на меня и проговорил:
— Глупости! Хватает денег на помощь чужим, хватит и на тебя. Сократим кое-какие расходы.
Мне стало совсем совестно: мне показалось, что отец намекает на возможность помочь мне, отняв что-то у бедняков.
— Нет, я уж решил, — ответил я.
— Смотри, чтобы дешевое на дорогое не навело, — сказал отец.
Я стал уверять его, что я выдержу экзамен.
— Ну, как знаешь, так и делай!
Он, повидимому, был совершенно спокоен. Но мать была далеко не спокойна. Тотчас после моего удаления в мою комнату она высказала свои опасения отцу. Справлюсь ли я? Выдержу ли экзамен? Тяжело мне будет. Отец усмехнулся.
— А вот пусть и узнаегь: легко это, или тяжело. Урок, Леля, нужен…
— А вдруг сорвется на экзаменах?
— Не бойся, не бойся, следить-то я буду… Впрочем, Николай из сил выбьется, а достигнет своего… Видела, как сконфузился?..
Отец не ошибся: я экзамен выдержал, хотя эта зима была для меня не легка. Я, как шутливо замечал отец, «отощал» за время приготовления к экзаменам. Но сдав их благополучно, я почувствовал, что я стал еще дороже отцу и матери, что я сам как будто вырос в своих глазах, встал на свои собственныя ноги, испробовал свое терпение и способность работать не из-под палки. Весной мы перебрались на дачу. Нанимаемая моей семьей дача стояла бок-о-бок с дачей Шельхеров, и потому мы и Шельхеры виделись почти ежедневно. Именно в это лето я сблизился с Левой — сблизился уже не как мальчик, а как юноша, как завтрашний студент. Происшедшая со мной катастрофа, несколько месяцев самостоятельной работы, боязнь сорваться на экзаменах — заставили меня призадуматься о многом. Я впервые понял, сколько подводных камней и мелей ожидает человека в житейском море, и как нужно быть осторожным и осмотрительным, чтобы не столкнуться острым углом с какими-нибудь Вурмами, если дорожишь своей будущностью, своим успехом. Сотни новых практических вопросов вставали в моей голове и требовали ответа. Лева тоже сильнее обыкновеннаго томился и мучился разными вопросами, поднявшимися в его душе в это время вследствие пробудившейся в нем страстной любви к Жене. Именно эти-то вопросы и сомнения, хотя я и не знал их источника, сблизили нас, и мы проводили целые часы на мартышкинском кладбище и в ораниенбаумском парке, толкуя и споря о том, что волновало и мучило каждаго из нас. Мало-по-малу, Лева открылся передо мною весь со своим душевным миром, и я только теперь не без горечи заметил, сколько отравы влил в эту душу Вурм, наполнив ее мистическими бреднями, догматическими измышлениями, неразрешимыми сомнениями. Я угадал это чутьем, так как и я, и Лева избегали говорить об этом человеке, сделавшем мне не мало зла.
Как-то раз, забравшись ранним утром за деревню «Венки», мы напились на мельнице молока и, усевшись на траве, залюбовались морем, широко раскинувшимся вдали за леском и садами, покрывавшими низменную пасть берега. Пригретые утренним солнцем, любуясь развернувшеюся перед нами картиной природы, мы размечтались и разговорились о будущем. Я говорил, как думаю устроить свое будущее, поступив в медико-хирургическую академию.
— Счастливый ты человек, — заметил Шельхер: — все у тебя определенно, ясно. Даже эта поганая история, вытолкнувшая тебя из школы, все же не выбила тебя из колеи, не столкнула тебя с торной дороги, а даже послужила тебе в пользу…
Я улыбнулся: моя дорога — была дорогой пролетария, надеющагося на выносливость своих рабочих сил; его дорога — была дорогой богача, могущаго распоряжаться и повелевать обстоятельствами. Я мельком заметил ему:
— Твой путь еще определеннее.
Он передернул плечами.
— Что ты мне говоришь. Неужели ты до настоящаго времени не понимаешь всей неестественности, всей странности моего положения? У тебя есть определенное положение, определенная среда, определенныя цели. У тебя, кажется, чуть ли не прадед был врачом?.. А я? Скажи, пожалуйста, к какой среде принадлежат господа Шельхеры? К простым ремесленникам? к именитому купечеству? к дворянскому кругу? Ведь в нашем доме стоит побывать два-три раза в гостях, чтобы понять всю нелепость нашего положения. Мы давно постарались удалиться от кузнецов, родных моего отца, и от мелочных лавочников и лабазников, родных моей матеря, но мы до сих пор не могли пристать ни к какому новому кружку, классу общества, среде. Обирать нас, пожалуй, самые аристократичные аристократы придут к матери, но ведь не могут же они в-серьез признать ее своею знакомою, равною. Вон Федулова, бывшая селедочница и нынешняя обладательница миллионов, Говорят, даже на каком-то придворном балу была и выслушивала благодарности за основанные ею приюты и богадельни; но ведь это вовсе не значит, что она придворная дама, что за ея спиной не смеются над ея жаргоном, манерами, туалетом… Гнезда с голубями, бывшия на ея бальном платье, сделались сказкой города, а брильянты… ее за них прозвали иконой в окладе…
— Твоя мать и не стремится, никуда, — сказал я. — У вас в доме все живет тобою и для тебя, ты и создашь себе в будущем положение, кружок…
Он перебил меня.
— О, в этом-то и заключается ирония судьбы: отец и мать бились, работали, копили, эксплоатировали людей, все для того, чтобы подготовить все удобства, все блага «наследнику» — стоящему одной ногой в могиле человеку!
Я молчал, боясь касаться этого больного места Левы — его страха перед смертью. Его лицо приняло сосредоточенное, мрачное выражение; всматриваясь в даль прищуренными глазами, он заговорил в раздумьи:
— Знаешь ли, что? Мне с некоторых пор кажется, что это возмездие. Как знать! Пути Господни неисповедимы и таинственны… В прошлом году я перечитал много книг о рабочем классе. Это мрачныя, безрадостныя картины. Непосильный труд, нищета, грязь, невежество, пьянство, разврат и вымирание целых масс людей, обобранных каким-нибудь одним эксплоататором, высосавшим их лучшие соки. Все это я вычитал у Энгельса, у Виллерме, у Лассаля, и понял; но сердце мое осталось все-таки спокойно: — работал только ум. Я сам не испытал и не видал нищеты — и рассказы о ея муках были для меня словами страшными, мрачными, но все же только словами… Нынче же перед началом весны я посетил бывший наш завод, купленный у нас дядею Карлом с компанией…
— Ты, кажется, после этой поездки и простудился? — спросил я.
— Простуда тут была ни при чем, — с горечью ответил он, не изменяя своей позы. — Это была кара Божия! Да, кара Божия! Я в этом твердо убежден. Когда я увидал этот народ, испитой, оборванный, одичавший, окруженный чадом и копотью, озаренный пламенем печей, согнувшийся над расплавленным чугуном, раскаленным железом, меня охватил ужас, точно я попал в ад, где томятся грешники. На минуту у меня потемнело в глазах, и мне показалось, что кто-то шепчет мне: «все эти люди были загублены для того, чтобы ты не нуждался ни в чем; и вот ты богат, теюе птичьяго молока только недостает, и все же ты не чувствуешь себя счастливым, потому что ты обречен на смерть; это возмездие».
Его лицо приняло мрачное выражение. Казалось, он снова видел перед собою картину завода и слышал таинственный шопот Бога-мстителя.
Я осторожно заметил ему:
— У тебя слишком разстроены нервы!
— Должно-быть, — разсеянно согласился он и тем же тоном мрачнаго раздумья продолжал: — Я приехал домой больной, подавленный, мучимый тысячами вопросов, а ночью уже пришлось послать за твоим отцом… Решили, что я простудился, начали пичкать лекарствами, поставили на ноги, радуются, что я здоров… Заглянули бы во мне в душу, в мой мозг, не то бы сказали…
И, резко повернувшись ко мне, прибавил:
— Знаешь, мне иногда кажется, что отец сделал какую-то гигантскую подлость, какое-то кровавое преступление, чтобы выбиться на торную дорогу к богатству. Обычным путем метаморфозы из мелкаго кузнеца в крупнаго заводчика не совершаются.
— Метаморфоза совершилась не вдруг. Он бился десятки лет. Наконец, твоя мать принесла деньги в приданое, — сказал я.
Он горько усмехнулся.
— Спроси: сколько? тебе не ответят, как не отвечают мне. Говорят: было приданое, вот и все. А сколько? Что мог дать за нею мещанин-лавочник? Или уж и он столько народа отравлял гнилыми продуктами, что мог скопить десятки тысяч? Богатства всегда являются плодами преступлений.
Он вздохнул.
— Да, ты счастлив. Ты не покраснеешь, когда тебе скажут: «один Господь знает, каким путем составляются благосостояния! Иной человек, даже раздав все на бедных, не смоет с себя крови, которая запятнала его с колыбели».
— Странно, что ты считаешь детей ответчиками за грехи отцов.
Лева даже изумился.
— А как же? Если первородный грех лег на все человечество, то грех отца и подавно лежит на сыне.
В моей голове мелькнула мысль о том, что Вурам первый заронил эти идеи в душу Левы. Может-быть, он даже намекал Леве, что нажитое неправым образом благосостояние надо отдать на его, Вурма, святую общину, на его церковь. Я, чтобы переменить неприятный для меня разговор, сказал Леве:
— Ну, ты можешь утешиться тем, что сам-то ты не будешь эксплоатировать людей. А что касается богатства, то этой беде помочь не трудно, — уже шутливым тоном прибавил я. — Стоит только раздать все, вот тогда нажитое неправдой и не будет тяготить тебя. Впрочем, я, может-быть, потому говорю о легкости этого, что у меня нечего раздавать…
Шельхер уловил в моем тоне иронию и загорячился.
— Ты хочешь сказать, что все это фразы, что богач никогда не поступится своим богатством?
Я откровенно сознался, что я именно это думал. Не верю я проповедям богачей о раздаче имущества, покуда они не раздают его. Это пустое фразерство и только. Не могут эти люди искренно любить бедняков, как мы не можем пылать любовию к какому-нибудь совершенно чуждому нам краснокожему, живущему где-то на другом полушарии. Если бы богачи искреннее любили бедный люд, они не были бы богачами. Нельзя же в самом деле представить себе пресыщающимся всеми благами любящаго брата, когда любимый им брат умирает с голода. Лева загорячился снова.
— У тебя слишком узкие взгляды! Можно быть глубоко убежденным в справедливости известных идей и оставаться слабым человеком, не имеющим сил осуществить эти идеи.
Я засмеялся.
— Это, брат, очень удобно: проповедуй самыя возвышенныя идеи, не осуществляя ничего из них на практике под предлогом своей личной слабости. К такому проповеднику и примкнуть легко: говори то же, что он, и поступай так же, как он, в свою очередь отговариваясь сиюею личною слабостью. И честь будет спасена, и от убытка Бог избавит!..
Лева нахмурился и отрывисто проговорил:
— Об этом много можно спорить. Впрочем, меня лично нельзя упрекнуть ни в чем, так как богатство покуда в руках матери, а не в моих. Кроме того, главная задача не в раздаче всего, а в том, на что раздать…
Я не без досады сказал:
— Отдай Вурму на пропаганду его идей, на проповедь смирения и покорности набитому обстоятельствами и кулаками народу, на проповедь склонным к фатализму и безпечности беднякам о том, что человек сам спастись не может, а может спасти только Бог.
— А ты бы самонадеянность хотел проповедывать? — насмешливо спросил он.
— Да. Спустя рукава люди и без проповеди Вурмов живут…
По его лицу скользнула улыбка сожаления.
— Впрочем, — проговорил я: — женишься — переменишься…
— Никогда я не женюсь, — коротко прервал меня Лева.
— Что за глупости! — не без удивления сказал я. — Полюбишь и женишься! Конечно, не сейчас. У вас и влюбиться не в кого, потому что у вас почти не бывает девушек…
— Ну, это то добра сколько хочешь найдется, — пренебрежительно ответил он. — Только кликни клич — со всех сторон набегут. Еще бы, жених завидный, богач и на ладан дышит! Но… лучше подальше от этих барышень…
Я засмеялся.
— Да ты что же, ненавистник женщин, что ли?
— А ты думаешь, я могу их любить? Правда, вздумай я жениться — невест не оберешься. Но почему? Потому, что я богач, скоро умру. Но могу же я поверить, чтобы молодая девушка могла полюбить полуумирающаго человека. Пойдет замуж, конечно, любая из них за меня и, может-быть, даже потому и пойдет, что я не долго проживу, — кому не хочется богатства и свободы.
Я не выдержал и спросил:
— Уж не Вурм ли тебя навел на эти мысли?
Лева сделал нетерпеливое движение.
— Я знаю, что ты ненавидишь его, но, поверь мне, он во многом прав. Он никогда не говорил мне об этом, о девушках, о невестах, но, конечно, отчасти он заставил меня задуматься и над этим вопросом. Ему приходилось волей-неволей говорить обо многом со мною…
Я не понимал, что побуждало Вурма подсказать Леве недоверие к женщинам. Не мог же он надеяться, что Лева, умирая холостым, оставит свое богатство ему, Вурму? Покуда это богатство принадлежало Анне Ивановне, а она хотя и любила поговорить с Вурмом о божественном, но все же считала его еретиком и, уж кончено, не отдала бы своего имения на его затеи. Желая как-нибудь покончить с похоронным настроением Левы, я заметил шутливо:
— Вот погоди, явится какая-нибудь девушка в роде Жени и сразу покорит тебя.
Лицо Левы вспыхнуло яркими пятнами румянца.
— Женя одна! — ответил он быстро. — Найди мне другую такую — и я женюсь. Это чистая душа без лжи, без притворства, без корысти…
И, вдруг оборвав речь, он болезненно воскликнул:
— Нет, полно толковать обо мне! Я иногда сам от себя хотел бы бежать! Иногда мне кажется, что меня спутали какия-то сети, как рыбу в воде. Рыба бьется, бьется во все стороны и все больше, и больше запутывается в петлях сети, сознавая, что это смерть, смерть, смерть, — а кругом — родная стихия, вода, жизнь. Это пытка, это проклятие…
Он встал, взволнованный, с горящими щеками, с каплями пота на лбу. Я тоже поднялся, недоумевая, с чего он вдруг так заволновался.
Мы направились домой молчаливые, только изредка перекидываясь незначительными фразами.
Разговор с Шельхером произвел на меня тяжелое впечатление, и я внутренно упрекал себя за то, что я поддерживал эту беседу. Мне казалось, что нужно всеми силами отвлекать Леву от подобных бесед. Кроме того, мне было неловко, что с ним толковал об этих вопросах именно я. Я был совершенною противоположностью Левы. Не по летам высокий, плотный, здоровый, несколько мужиковатый, я мог возбуждать в Шельхере только зависть. Я дал себе слово избегать подобных бесед. Но дать слово было не трудно, трудно было сдержать его. Дня через два Лева коснулся снова тех же мучивших его вопросов и заметил мне между прочим:
— Ты не знаешь сам, как ты сделался мне дорог в последнее время. Ты один, кому я могу открыть вполне мою душу. До настоящаго времени мне приходилось все это передумывать одному. Это страшно тяжело. Когда выскажешься — становится легче…
И волей-неволей мне пришлось сделаться поверенным всех его душевных тайн, всех его жалоб и сетований. Надо было покориться этому ради его спокойствия, тем более, что я сам любил его за его искренность, мягкость, чисто женственную нежность. И точно, с кем же, кроме меня, мог он откровенничать? Мать понимала толк только в пирогах, супах, жарких; Женя была в сущности ребенком, больше болтавшим, чем слушавшим других; Минна носилась в области поэзии и туманных мечтаний, говоря с блаженной улыбкой о физических страданиях, о смерти, точно это самыя лучшия блага; Вурм редко посещал Шельхеров летом, и я готов был, если бы это зависело от меня, сделать все, чтобы Лева не откровенничал с ним, так как и без того этот человек слишком сильно повлиял на болезненнаго юношу. Правда, кроме этих людей, Леву окружали товарищи, приезжавшие нередко на дачу, иногда на несколько дней. Но вся эта более или менее обезпеченная и счастливая молодежь, только что соскочившая со школьной скамьи, не волновалась никакими вопросами, жила удовольствиями настоящаго дня, пустою безсмысленною жизнью богачей, соря деньгами, нажитыми чужими — трудом, потом и кровью. С этими людьми Лева мог только кататься, ловить рыбу, посещать музыку, ходить на прогулки. Вся эта молодежь была довольно разношерстною: тут были и сыновья богатых купцов, и сыновья аристократов, все связанные еще школьными воспоминаниями. Более других выдавался в этом кружке один юноша, сын заслуженнаго генерала Бестужева, молодой человек с большими связями, с блестящей карьерой в будущем. Он, как и Шельхер, был уже студентом, хотя я прозвал его «правоведом». Эта кличка так и осталась за ним. Действительно, по франтоватости, по манерам, по привычке говорить по-французски, по вкусам, он очень мало напоминал студента. Пробор по середине, завитки черных волос на узеньком лбу, изысканно безукоризненные туалеты, уменье болтать обо всем и со всеми, говор немного в нос, высокомерное поднимание головы и прищуриванье глаз, постоянное кокетничанье и рисовка, желание казаться любезным и остроумным, находчивость, доходящая до беззастенчивости, все это делало Александра Бестужева похожим на любого паркетнаго шаркуна из породы карьеристов. Тут было слишком много внешняго лоска, полированности, салоннаго шику и слишком мало внутренняго содержания, искренности, сердечности. Такие люди на прокурорском месте, не сморгнув глазом, могут сказать пламенную обвинительную речь хоть бы против самого Христа, и на другой же день в роли адвоката найдут в себе способность и силы сказать такую же пламенную речь для защиты хорошо заплатившаго им первейшаго разбойника, — и что главное, в обоих этих случаях эти люди сумеют сохранить надменный вид и смотреть свысока на простых, то-есть еще не намошенничавших богатства смертных. Тем не менее, все считали Бестужева добрым малым, веселым собеседником, душой общества. С Львом он сошелся довольно давно, в школе, как с богатым юношей, не справляясь, купец или дворянин, из средняго класса общества или из более высоких сфер Лева. В школе на это мало обращали внимания. Посетив несколько раз Шельхеров, Бестужев увидал, что это за семья, может-быть, даже узнал, что в гербе этой семьи можно поместить разве только кузнечный мех или заводский молоть, но, тем не менее, он не только не перестал посещать Шельхеров, а даже сделался их самым частым гостем. Эта связь продолжалась и по вступлении Бестужева и Шельхера в университет. Странное явление можно было заметить в отношениях Анны Ивановны к Бестужеву. Она, повидимому, жившая только мыслью о своем ненаглядном Леве и об удаче своих излюбленных блюд, нашла где-то в тайнике своей души нечто в роде чувства тщеславия и гордилась тем, что у них в доме сам Бестужев, как свой. Лева отнесся к этому чувству матери не без иронии юноши, не признающаго никаких родовых преимуществ и титулов, но, тем не менее, и он как-то мимовольно дорожил и гордился дружбою именно этого человека, не без ударения замечая иногда, что «как ни хорошо в аристократическом кругу, а все же к ним, к плебеям, идет отвести душу Бестужев». И матери, и сыну было особенно лестно, что этот изящный и ловкий юноша, приезжая к ним, сам говорил:
— Приехал к вам отдохнуть!
И точно, он отдыхал здесь, как отдыхают чиновники, когда они могут заменить вицмундир домашней жакеткой и почтительныя улыбки хохотом во весь рот. У Шельхеров Александр Николаевич Бестужев чувствовал себя дома, тогда как дома он чувствовал себя на службе, да притом еще на тяжелой службе. Там было самое разнообразное начальство — дядя, от котораго зависела отчасти карьера молодого человека, любил, чтобы его смешили новыми анекдотами; бабушка, от которой ожидалось наследство, любила, чтобы наследники ея ходили в церковь и давали отчет, какое евангелие там читали за обедней; мать, у которой выманивались субсидии, любила, чтобы ея дети отличались утонченною светскостью; отец, который мог ни с того, ни с сего во всякое время придраться к какому-нибудь пустяку и поднять целую бурю, любил, чтобы перед ним все стояли на вытяжке, как солдаты; кузина, которую прочили в невесты молодому человеку, требовала, чтобы он был музыкантом и певцом, так как она любила больше всего итальянских певцов. Угождать всем было не легко: приходилось быть постоянно настороже, следить за собою. У Шельхеров никто не предъявлял никаких требований; здесь жилось свободно и привольно. Тут люди, вполне обезпеченные материально, устроились так, как им было угодно, а не так, как требуют традиции, приличия, обычаи, среда; что не дозволялось в аристократических салонах, то допускаюсь здесь. Бестужеву нравилась эта жизнь и, может-быть, особенную прелесть в ней составляло для него то, что здесь был такой милый ребенок-девушка, как Женя. Она шутливо называла Бестужева «старым товарищем», так как они учились в одной школе. Она не стеснялась при нем, так как это был свой человек в доме. Игра в горелки, в серсо, в фанты, в воланы, катанье вместе на лодке, прогулки по лесу, все это сблизило молодых людей, как родных. Иногда он говорил ей:
— Ах, если бы хоть одна девушка из нашего круга была похожа на вас! Не приходилось бы бежать оттуда.
— Да что же в них особеннаго? — спрашивала она.
— Чопорныя, натянутыя, жеманныя, неискренния. Это куклы на пружинах, а не живыя души.
И он рассказывал ей насмешливым тоном, стараясь быть остроумным, про кузин, про знакомых, немного ломаясь и кокетничая. Молодые люди задыхаются в их обществе, стараются бежать куда-нибудь к иным кружкам. Сближаются с актрисами, с бродячими певицами-француженками, кутят по разным кафе-шантанам и трактирам. Увлекаясь, он заходил несколько далеко в своих рассказах и посвящал молоденькую девушку в тайны, еще неведомыя ей.
— А потом, когда молодые люди сбиваются с пути и гибнут — все кричат о разврате, об испорченности молодежи, — заканчивал он. — Но чем же мы виноваты, что у нас нет другого исхода?
— А вы разве тоже кутите? — наивно спрашивала Женя.
— Я? Нет, не кучу покуда, — со вздохом отвечал он, не прибавляя, впрочем, что отец и мать скупы на деньги; — но этим я обязан вам. Я так счастлив, когда могу быть около вас…
Она смеялась.
— Значит, я ваш ангел-хранитель?
— Да, да, вы мой ангел!.. Вы сами не знаете себе цены…
— Ну, ну, не хвалите меня! Вон тетя говорят, что я стрекоза и ничего больше, — со смехом отвечала Жена.
— Если бы все были такими стрекозами! — со вздохом говорил он, принимая мечтательное выражение лица.
Она пропускала мимо ушей эти вздохи, не подозревая, что они должны обозначать нечто серьезное. Она их пропускала мимо ушей даже тогда, когда Бестужев, впадая в элегический тон, говорил:
— Вы не знаете, как тяжело мне становится иногда, когда я подумаю, что скоро пройдет и лето, что, может-быть, зимою все изменится…
— Что изменится? — спрашивала она.
— Наши отношения… Вы уже совсем взрослая барышня; явятся человек, котораго вы полюбите, выйдете замуж.
— Мне нельзя выйти замуж, — отвечала Женя с серьезностью ребенка, говорящаго о важных предметах. — Я здесь нужна для Левы… Ему очень, очень скучно было бы без меня.
— Дитя! — говорил Бестужев. — Разве можно давать зарок не идти замуж ради того, что Леве будет скучно? Полюбите и забудете все и всех, и Леву, и меня… О, я вперед ненавижу того счастливца, который похитит вас у нас!..
Она, смеясь, говорила, что она позволяет Бестужеву ненавидеть этого человека, так как его нет и не будет. И опять она не придавала никакого значения этим разговорам, этим вздохам, этим полупризнаниям. Может-быть, если бы она хоть на минуту задумалась об этом, она нашла бы странным, что Бестужев иногда особенно сильно пожимает ея руку, как-то особенно обнимает ее, ловя в горелках, как-то особенно склоняется лицом около ея лица, нюхая вместе с нею цветок, или заглядывая в ея книгу. Все эти мелочи ускользали, впрочем, не только от внимания Жени, но и от внимания всех окружающих. Только один Лева следил в последнее время как-то тревожно за Бестужевым. Чутьем страстно влюбленнаго человека он сразу угадал именно в этом из своих приятелей соперника. В его душе началась новая глухая борьба. Имеет ли он право ревновать Женю? Он ей не жених, не любовник. Может-быть, в этой любви все ея счастие, вся будущность? О, пусть даже и так, пусть она выйдет потом за Бестужева, но теперь… Долго ли ему, Леве, остается жить? Пусть теперь только она будет здесь, около него, его Женей! Что будет после — ему все равно. И что такое Бестужев? Составит ли он счастие Жени? Лева начал пристальнее всматриваться в Александра Николаевича, рыться в его душе, выискивать в ней темныя пятна с придирчивостью тайнаго врага.
В один из тихих и теплых июльских вечеров я и Шельхер сидели в беседке и молчаливо играли в шахматы — любимую игру Левы. Партия была еще не кончена, когда кто-то подъехал к саду дачи по нижней дороге. Я мельком взглянул на дорогу и сказал:
— Бестужев!
По лицу Левы скользнула гримаса неудовольствия. Он, однако, не пошевелился с места и продолжал обдумывать свой ход. Минуты две спустя, к нам подошел Александр Николаевич, как всегда, изящный, надушенный, грациозный. Он пожал нам руки и начал снимать перчатки.
— А вы все этой скучной материей занимаетесь, — проговорил он, не терпевший шахматов.
— А ты все попрежнему враг всяких скучных материй, — заметил Лева.
— Не понимаю, мой милый, как и можно их любить в наши годы, — ответил Бестужев.
— Вот погоди, я зимою специально для тебя буду устраивать балы, — с насмешливостью в голосе сказал Лева.
— Это будет очень мило с твоей стороны, — развязно ответил Бестужев,
Я знал близость Левы и Бестужева, тем не менее меня немного смутил тон Левы, тем более, что Шельхер был всегда крайне мягок и вежлив в обращении с людьми. Я, чтобы замять неловкий разговор, спросил Бестужева:
— Много веселились за это время?
— Не скажу, — ответил он, закуривая папиросу. — Таскался по разным увеселительным заведениям, но все это приелось. Однообразие страшное. Те же набившия оскомину оперетки и те же безголосыя певицы.
И, осмотревшись кругом, он прибавил небрежным тоном:
— А где же дамы? На террасе, верно? Сбежали от вашей скучной игры! Надо пойти представиться…
Он поднялся с места и неторопливо пошел вверх по аллее сада, расположеннаго уступами на скате холма. По лицу Левы скользнула гримаса. Я сделал ход, он задумался, взял одну из фигур, переставил ее чисто машинально.
— Ты что же это? — спросил я, видя неправильность хода.
Он очнулся, откинулся на спинку кресла и проговорил:
— Довольно!
С минуту он задумчиво смотрел прищуренными глазами на море, озаренное последними лучами заходящаго солнца. Потом, не глядя на меня, он тихо спросил:
— Как ты смотришь на Бестужева?
На минуту я поколебался. Я не любил этого человека как-то безсознательно, как личность, совершенно чуждую моей натуре. В то же время я знал, что это старый приятель Левы, и мне не хотелось говорить Леве дурно о близких ему людях. Заметив мое молчание, он сам подсказал мне ответ:
— Ты его не любишь?
— Да, — ответил я.
— За что?
— Не могу тебе сказать. Это чужой мне человек. Я плебей по…
Лева усмехнулся, перебивая меня.
— Он всем чужой, всему чужой!
Я посмотрел вопросительно на Шельхера.
— Удивляюсь я, как могут вырабатываться такие люди, — продолжал он. — Правда, они только и вырабатываются в их гнилой аристократической среде. Он чужой дома, откуда бежит в кабаки приличных наименований, он чужой у нас, куда приходит только потому, что здесь чуть не в разстегнутом жилете можно быть…
И уже совсем раздражительно, придирчиво, он заговорил о своем приятеле:
— Я знаю его девять лет и ни разу не уловил я в его речах ничего, что сказало бы мне, что ему дорого и свято. Отец и мать — дойныя коровы, служба — путь к карьере и обогащению, книги — оне хороши, когда скучно, если в них есть хитросплетенная интрига и сальности, искусство — это собрание скабрезных картин, статуй и сцен, религия — это только узда для голоштанной сволочи. Ни принципов, ни идеалов, ни сомнений, ни вопросов. Жизнь — это арена для состязания в наживе, чинах и отличиях и публичный дом, где нужно искать только наслаждений и наслаждений…
Я резко остановил его вопросом:
— Ты за это и сошелся с ним?
Он быстро повернулся ко мне лицом, на котором проступила пятнами краска.
— У Шельхеров, как в трактире, принимают всех без разбора, — с насмешливой ноткой в голосе ответил он. — Где нам разбирать, лишь бы были богатые, приличные, чиновные люди. Теперь таких домов в Петербурге много — вчерашние кабатчики, вчерашние факторы, вчерашняя сволочь, сделавшись сегодня богачами, не могут разбирать, хороши или дурны люди, протягивающие им руки, лишь бы руки были в перчатках…
Я молча глядел на него, стараясь понять, что происходит с ним. Я знал, что он не умеет ни лгать, ни притворяться, — для этого он был слишком нервным и впечатлительным человеком. Он встретил мой вопросительный взгляд и, отвернувшись, проговорил упавшим голосом:
— Я просто никогда прежде не всматривался в него и потому ошибался в нем.
— А теперь не ошибаешься? — спросил я.
Он загорячился.
— К чему этот вопрос? Разве сам ты его считаешь не таким? Почему же ты сторонишься от него? Почему уходишь, когда он здесь?
Я пожал плечами.
— У нас денег не припасено на кормление таких господчиков с утонченными вкусами. Да и он сам мало интересуется, я думаю, мной…
— Еще бы! У тебя нельзя кататься в чужих экипажах, нельзя побираться займами без отдачи…
Меня опять раздражил этот тон.
— Я думаю, он и у тебя не берет денег, — сказал я резко.
Лева посмотрел на меня с усмешкой.
— Ты это по себе судишь? Нет, милый, эти господчики, приличные и франтоватые, чопорные и задирающие нос, не погнушаются никогда залезть в чужой карман, занять в долг хоть бы у сына кузнеца…
— Ты меня удивляешь, — начал я.
— Ты считал его лучше? — перебил он меня.
— Нет, — ответил я. — Ты меня удивляешь тем, что, считая его таким, ты продолжаешь его принимать,
Шельхер в волнении поднялся с места и заходил взад и вперед по беседке. Он был видимо взволнован и как будто стеснялся высказаться вполне.
— Ты прав, это вечная моя слабость, — начал он. — Сомнения, вопросы, колебания — и ничего решительнаго. Видно, я не родился Александром Македонским, чтобы разрубать запутанные узлы. Я вечно буду копаться над ними, никогда их не распутаю и буду ныть…
И, помолчав немного, он, как бы в оправдание себе, прибавил:
— Кроме того, видишь ли, я только недавно начал за ним наблюдать. Прежде и неопытен я был, и не задумывался над этими вопросами, и, право, меня мало интересовало, лучше он, или хуже других… А теперь…
Он опять оборвал речь, чего-то не договаривая.
— Теперь, — проговорил он: — я стою в таком положении, что не могу быть безпристрастным к нему, может-быть, преувеличиваю его недостатки, вижу только дурное.
На минуту он перевел дух и сказал как-то разом:
— Он ухаживает за Женей.
— Полно, что ты выдумал? Ты ошибаешься!
— Я-то? Я ошибаюсь?
Он сказал это страстным тоном ы, тотчас же овладев собою, начал спокойно объяснять, как близко касается его судьба Жени. Женя росла у них. О ней некому позаботиться. Ея судьбу нужно устроить осмотрительно. Анна Ивановна не сумеет этого сделать; очень уж она… оптимистка. Минна какая-то блаженная. Только он и может позаботиться о Жене… Мне тогда минуло уже восемнадцать лет; я казался старше и серьезнее своих ровесников. Тем не менее, я ровно ничего не смыслил в вопросах любви. У нас дома обо всем говорили при мне с малолетства, но вопросы любви, романическия истории вовсе не интересовали моих отца и мать; не интересовался ими и я. Вследствие этого я был плохим наблюдателем в делах этого рода. Слушая Леву, я ни на минуту не задал себе вопроса: «уж не влюбился ли он сам в Женю?..»
IV.
В один из следующих дней после приезда Бестужева, мы предполагали устроить дальнюю прогулку в лес за грибами. Лева поколебался на минуту: идти ли или не идти? Он боялся, что эта прогулка даст возможность Бестужеву остаться наедине с Женей. Но и дома Бестужев мог остаться наедине с нею. Лева решился идти и не выпускать Женю из глаз. Мы отправились в шарабане через парк к лесу; доехав до него, мы оставили экипаж ожидать нашего возвращения и разбрелись по лесу. Мало-по-малу, Лева увлекся исканием грибов и хотя старался держаться поближе к Жене, тем не менее немного отстал от нея. Она была по обыкновению весела и, звонко смеясь, кричала Бестужеву и Леве, как только они приближались к ней, что они берут ея грибы: она найдет, а они тотчас и перехватят, грабители!
На нашем пути была небольшая канавка, на дне которой скопилась вода. Я и двое юношей, бывших с нами, перескочили через нее; по другую сторону остались только Бестужев, Женя и Лева, несколько отставший от своих спутников. Женя не рисковала перескочить на другую сторону, боясь оступиться, соскользнуть по глинистому откосу и попасть в воду. Бестужев, находившийся около нея, предложил ей перенести ее. Он спустился вниз и, стоя у ея ног, сказал ей:
— Не бойтесь, я вас не уроню.
— Ну да, поскользнетесь и свалимся вместе!
— Да нет же! Я просто перешагну…
Она покраснела и колебалась. Я же и перескочившие со мною через канаву юноши, как нарочно, аукались и кричали, что на нашей стороне много ягод и грибов. Женя колебалась и, смеясь и досадуя на себя, не знала, что делать, рискнуть ли перескочить грязную канавку, или согласиться на предложение услужливаго Александра Николаевича. Ее смущало и то, и другое. Бестужев между тем решительно протянул руки, чтобы взять ее. В эту минуту к ним подошел Лева. Кровь хлынула ему в лицо, когда он увидал Бестужева, готоваго уже принять в свои объятия девушку. Лева так грубо оттолкнул его, что Бестужев едва не соскользнул с глинистаго откоса в воду.
— Ты с ума сошел! — крикнул запальчиво Шельхер.
— Что с тобой? — спросил Бестужев с досадой, с бледным лицом.
— А то, что надо помнить, где ты и с кем ты. Я не знаю, принято ли у вас таскать на руках ваших барышень. А у нас этих фамильярностей не водится.
— Каких фамильярностей! Что ты выдумываешь! — резко сказал Бестужев.
Лева не удостоил его ответом. Обернувшись к Жене, он проговорил:
— Я думаю, ты не маленькая и должна понимать, что это просто неприлично.
Женя сконфузилась и пробормотала что-то в свое оправдание, не вполне понимая, за что ее журят.
Бестужев, всегда хорошо владевший собой, постарался все обратить в шутку и развязно заметил ей:
— Вот, Евгения Александровна, нам с вами и досталось за наше легкомыслие!
— Это не легкомыслие, а неуважение к тому обществу и в тем людям, среди которых ты находишься, — тем же запальчивым тоном продолжал Лева, видимо вызывая на ссору приятеля.
— Ты пустякам придаешь серьезное значение! — холодно заметил Бестужев.
— Ты лучше меня знаешь, что это не пустяки, — ответил Шельхер.
И, оборвав опять речь, он резко сказал Жене:
— Пора домой!
Потом он крикнул нам:
— Господа, домой!
Мы все повернули из леса на голос Левы, не зная, что случилось и почему так скоро оканчивается наша прогулка. Лева пошел рядом с Женей и со мной. Бестужев и два других спутника шли сзади. Я удивился, взглянув на лицо Левы, искаженное гневом и покрытое красными пятнами.
— Что-нибудь случилось? — тихо спросил я.
— Чорт знает что! — громко и строптиво сказал он, не считая нужным сдерживаться. — Этот господин, должно быть, думает, что он где-нибудь в кафе-шантане, в кабаке. Вздумал на руках переносить Евгению Александровну. Как тебе это нравится? Маленькая девочка!.. Недостает только того, чтобы у нас молодые люди стали целоваться и обниматься с молодыми девушками! И то сказать, стоит ли церемониться у нас, у каких-то Шельхеров!..
Я чувствовал себя крайне неловко. Бестужев шел в нескольких шагах от нас и мог все слышать. У Жени в глазах стояли слезы. Мы шли торопливо и, кажется, у каждаго было одно желание, поскорей добраться домой. Лева между тем продолжал горячиться и распространяться на ту же тему о безцеремонности разных нахалов. У Шельхеров они все могут делать, чуть не в разстегнутых жилетах ходить. При дамах готовы валяться на диванах. Стоит ли стесняться! Тяжелое, неловкое положение еще более усилилось, когда мы все уселись в шарабан. Шельхер сел рядом с кучером на козлах, мы все сидели друг против друга в шарабане и перекидывались незначительными фразами. Женя, не поднимая глаз, разсматривала какой-то гриб, закусив губы и видимо боясь расплакаться. Впервые в жизни она слышала выговор Левы и притом выговор резкий и грубый.
Бестужев был сдержан и холоден. Никогда он не смотрел более приличным, почти надменным.
Дороге из лесу, по извилистым дорожкам парка, казалось, не будет конца. Наконец мы доехали до дачи. Когда все вышли из шарабана и направились к дому, Бестужев остановил Женю и Леву.
— Извините, Евгения Александровна, если я провинился, — сконфуженным тоном сказал он, с едва заметной усмешкой в глазах. — Но я привык считать ваш дом и всех в нем своими, близкими, и уж никак не думал, что мой совершенно невинный поступок вызовет такую бурю… в стакане воды. Она мне крайне неприятна, так как она отразилась на вас…
И, обращаясь к Леве, он прибавил:
— Если бы я смотрел иначе на твой дом, на твоих близких и на тебя, то, конечно, и наше объявление имею бы другой характер.
По его лицу, теперь холодному и почти злому, скользнула уже совсем явная насмешливая улыбка.
— Что спускается старому другу, то не спускается чужому человеку, — сказал он с ударением: — ты тоже немножко перешел границы приличия…
— Я не беру назад своих слов! — быстро ответил Лева, напрашиваясь инстинктивно на ссору.
— Я и не прошу их взять назад, — холодно сказал Бестужев: — ведь и я не могу взять назад своей оплошности. Мы-то квиты!
И, опять обращаясь в Жене, он повторил:
— Но вы прощаете меня, Евгения Александровна?
Она, сконфуженная, не понимающая, почему из-за таких пустяков поднялась такая тревога, пробормотала:
— Это глупости.
И, наскоро пожав протянутую руку Бестужева, стараясь не расплакаться, направилась к дому. Бестужев обернулся к Леве и заговорил дружеским, развязным тоном, ловко скрывая затаенную насмешку:
— Право, Лев, ты распетушился из-за пустяков. Я готов в виде третейскаго судьи призвать Анну Ивановну, и она, я в этом вполне уверен, скажет тебе, что в моем поступке нет ровно ничего предосудительнаго, нарушающаго требования приличий, так как до этой поры и я считал вас всех своими, и вы так смотрели на меня.
У Левы чуть не сорвалось с языка: «ты бы уж лучше нашу Дарью позвал в судьи». Он знал, что его мать ровно ничего не понимает в вопросах о приличиях. Закусив губы, он сдержался и коротко, раздражительно ответил:
— Никакие третейские судьи тут не нужны! Нужно только быть поосмотрительнее на будущее время!
— Горячка ты человек! — шутливо заметил Бестужев, и в его глазах мелькнуло что-то в роде высокомернаго презрения. — Я уж-было хотел тебя на дуэль вызвать за твои продерзости. Я ведь хороший стрелок и фехтовальщик! Ну, да Бог с тобой! Не хочу быть братоубийцей…
— Ты что же это, кажется, угрожать мне вздумал? — спросил Лева.
— Нет, мой друг, я хотел рассказать тебе, как два мальчика поспорили из-за выеденнаго яйца и в запальчивости один убил другого…
Он засмеялся и прибавил:
— Право, я слишком люблю тебя, чтобы убивать тебя или быть убитым тобою…
Продолжая развязно и не без злости шутить, он направился к даче. В душе Левы уже прошел гнев, но ее охватили обычное мрачное настроение, внутренняя борьба с вечными двойственными вопросами: имеет ли он право вторгаться в судьбу Жени? Может ли он мешать ей любить Бестужева? Не сделал ли он точно из мухи слона? Не натолкнул ли он сам этих людей на какия-нибудь новыя мысли? Недостает еще, чтобы его заподозрили в любви к Жене? Каждый его шаг — новая безтактность. И что за тон был у него при объяснении с Бестужевым? Он был груб, как мужик, и сам напросился на то, чтобы ему надавали чуть не пощечин в форме. дружеских шуток. Анну Ивановну предложили избрать в судьи по вопросу о приличиях! Ему, Леве, сказали, что его на дуэль хотели вызвать, да пощадили. Уж так бы и сказал, что его, Леву, можно, если только есть охота, как комара, раздавить. Еще бы: он безсилен, он никогда в жизни не держал в руках ни рапиры, ни револьвера. И вообще, что он такое: ни такта, ни находчивости, ни остроумия!.. Одно безумное бешенство и нервничанье, вот и все… Когда мы сели за стол, я сразу понял, что Лева терзается тысячами мелких, едва уловимых сомнений и вопросов, что что-то, может-быть, ничтожное, как укол комара, отравило ему хорошее настроение на целый день, на несколько дней. Мне было жаль его, и меня бесило настроение Бестужева, точно на зло шутившаго и гаерничавшаго во время обеда. Он делал намеки на то, что он великий грешник, что он всегда напроказит, что ему придется и на том свете искупать свои грехи. И во всем виноваты молодость, ветреность, легкомыслие. Все еще хочется быть школьником, дурачиться, пока еще можно дурачиться… Я знал уже хорошо, как дорожит он дружбой Левы ради своих мелких расчетов, и меня удивляло теперь, что он как бы не понимает впечатления, производимаго его шуточками на Леву. Лева мог возненавидеть его за одне эти шутки, так как в его душе было уже раскаянье и злость на себя за поднятую им бурю, а тут этот человек еще подсмеивается над ним. Но, прислушиваясь к шуткам Бестужева, я понял, что его заставляет шутить поднявшаяся в нем злость на Леву; желание отплатить за обиду, отплатить без пощады, сторицею, с злорадством, было теперь в Бестужеве выше всех мелочных расчетов. Как только кончился обед, я поспешил уйти домой…
Нанимаемая нами дачка была перестроена из простой крестьянской избы. Внизу помещались отец и мать; верх, то-есть, две комнатки с потолком в виде крыши гроба и с крошечным балконом, занимал я. Забравшись к себе, на вышку, я взял книгу и, распахнув двери на балкончик, прилег на кушетку. Я любил свой чердачок, тихий, уютный, с видом на взморье, и все чаще и чаще оставался здесь с своими книгами. Тут ничто не смущало моего покоя; тут мне было хорошо и уютно. Снизу во мне доносился иногда говор отца и матери, переходивший порою в веселый смех. Тогда я поднимался, выходил на балкон. Над чем они смеются? Они поднимали головы. А, это ты? Слушай, что случилось. Начиналась беседа, оживленная, дружеская… Давно прошли эти чудные годы, память же о них уцелела навсегда, и мне легче переносить с нею невзгоды: я не могу роптать на судьбу, так как я знал счаетье… Начинало уже смеркаться. Я отложил книгу и, закинув руки под голову, забылся в смутных грёзах, устремив глаза в прозрачную даль неба, следя за плывущими в пространстве облаками. Куда несутся они? Где прольются дождем — над морем или над высыхающей нивой? Не погонит ли их обратно переменившийся ветерок? Как часто и с людьми так же играет судьба… Кому птичьяго молока только недостает, тот умирает во цвете лет, кому есть нечего, тому отпущено здоровья на десятерых. Эти слова Левы, мелькнувшия в моей голове, напомнили мне о нем. Да, прав он, завидуя мне. У меня как-то все определенно, ровно, спокойно в жизни, во мне самом. Ничего я не желаю, как только пройти жизненный путь так, как прошел его мой отец, с трудом пролетария, с гордостью пролетария. Даст судьба больше, откроет двери к более широкой деятельности — хорошо; нет — и не надо. А у него, у Левы, точно все в котле кипит — и на что уходят силы? На вопросы: Бог ли может спасти человека, или сам человек может спастись? Будет ли за гробом жизнь, или не будет? Возмездием за грехи отцов и свои, или проявлением особенной любви Божией являются земныя испытания? Спрашивается о том, на что никто не может ответить, на что нет ответа и в собственной душе. Кругом же люди бьются в слезах, просят помощи, жаждут любви. На них почти не обращается внимания, так как что же значат их житейския невзгоды и лишения перед вопросами о вечном блаженстве или вечными мучениями собственной души?.. Уходят годы, лучшие годы жизни без определенной деля на земле, без плодотворной деятельности здесь, без пользы для других и без радостей для себя. Что это — следствие болезненности, предвидящей близость смерти, или следствие влияния мистика-Вурма, ожидающаго пророческим духом близкаго светопреставления? Вероятно, часть отравы внесена и тем, и другим. Что за дело им, Вурму и Леве, до жизни накануне смерти?..
— О чем размечтался? — послышался надо мною голос Левы.
Я быстро обернулся и чуть не сказал: «о тебе». Меня удивил его неожиданный приход. Он редко заходил во мне по вечерам, появляясь всегда утром для прогулок вдвоем…
— Что ты? — спросил я. — За мной?
— Нет, сил нет сидеть одному, там у себя, — ответил он и заходил по комнате.
Я поднялся с места.
— Сегодняшняя история всего меня перевернула, — проговорил он.
— Из-за всяких пустяков ты волнуешься!.. — заметил я. — Ну, стоит ли об этом думать?
— Да неужели же ты не понимаешь, что я с ума схожу от любви? — воскликнул он, точно сердясь, что я ничего не могу понят сам, и что мне нужно слышать его собственное признание. — Я места не нахожу от этого чувства! Меня точно огнем жжет всего.
Я остановился в недоумении.
— Какая любовь? К кому? — спросил я.
— К Жене! — ответил он коротко и отрывисто.
— К Жене? — повторил я. — К Жене? Опомнись, ведь та ей двоюродный брат!..
— Знаю, знаю, знаю! — вне себя воскликнул он. — Ну, и что-ж из этого? Разве чувству можно приказывать? И какому чувству? Чувству первой, страстной, чистой любви. Если бы я не был вечным больным, я, может-быть, давно потерял, бы способность страстно любить, разменяв это чувство в мелком развратце. Если бы я мог верить в любовь каких-нибудь барышень, ищущих моего богатства, я, может-быть, полюбил бы которую нибудь из них. А теперь… Друг мой, пойми ты, что это первая моя любовь, что это единственная девушка, в которую я верю…
— Но что же может выйти из этого… — начал я.
— Ничего, ничего, ничего! — страстно, почти болезненно, перебил он меня. — Я все, все обдумал, все знаю, что можно сказать против этого, и не могу победить себя, переломить себя!
Он схватился за голову.
— Ах, если бы ты мог понять эти муки! Я иногда по целым ночам плачу, как ребенок! Мне иногда кажется, что я с ума схожу! Ты пойми, что тут нужно, чтобы кто-нибудь спас меня от меня самого!
Он сел на диван, закрыл лицо руками и разрыдался. Мне стало мучительно жаль его.
— Голубчик, полно! успокойся! — уговаривал я, ласково обняв его.
Он припал головой к моему плечу я плакал. Прошло несколько минут молчания. Понемногу он успокаивался, облегченный слезами. Наконец, осушив глаза платком, он поднялся снова и опять заходил по комнате.
— Это все проклятие, возмездие судьбы! — проговорил он. — Богатство чужими потом и кровью мне купили, счастия ничем не могли купить. Это суд Провидения…
Меня всегда раздражали разсуждения Левы на эту тему. Они и теперь все перевернули во мне, точно я слушал не Леву, а Вурма.
— Оставь Провидение в стороне и лучше сам постарайся помочь себе! — резко сказал я. — Пусть уж Вурм считает себя посвященным в намерения и планы Провидения и кощунствует, сообщая их людям, а мы ведь не пророки и не духовидцы.
— Помочь, помочь себе! Как? Чем? — перебил он меня. — Жениться на ней без огласки? Потом умереть, оставив ее незаконной женой? Ведь она тогда Бог знает что перенесет. Ты думаешь другие, родные не раздуют скандала после моей смерти? Эти благородныя, но бедныя и алчныя чиновницы, эти потерявшие совесть в кабаках и трактирах плотовщики, эти разжившиеся, но все же алчущие добычи фабриканты, вся эта орда, лебезящая теперь перед нами, поднимет, подобно псам на охоте, травлю и затравит Женю. Ведь я даже завещать ей ничего не могу? На чье имя сделаю я завещание? На имя законной жены моей Евгении Александровны Шельхер, но брак признается незаконным, законной жены не будет налицо. Нужно будет вести процесс. Выиграет ли она его? А если и выиграет, в конце-концов, то во что обойдется скандал, какия последствия повлечет незаконное сожитие с двоюродным братом?
— Постой, так ли, — начал я, не вдруг сообразив все сказанное им.
Я имел тогда самое смутное понятие о наших законах, касающихся подобных браков.
— Так, так, — сказал он и, увлекаясь, повторил снова; — На чье имя я буду завещать? На имя моей законной жены? Но разве она будет законною женою? Брак признают недействительным. Недействительно будет и завещание. Ах, я все, все это обдумал, взвесил. В том-то и беда, что исхода нет. И зачем я православный! Был бы лютеранином, как отец…
— Что ты говоришь глупости! Был бы ты лютеранином, она все-таки была бы православною, и дело не изменилось бы…
— О, эти религиозные вопросы! — воскликнул он, сжимая руки почти с бешенством. — Всю жизнь терзали они мою душу! Теперь разбивается о них и последняя надежда на счастье!
И, как бы опомнившись, испугавшись своих собственных слов, он заговорил спокойнее, подавляя волнение:
— Я знаю, что исход один: надо вырвать из сердца эту любовь, надо выдать скорее замуж Женю, отрезать себе путь к думам о ней. Но это легко сказать! А каково сделать? Я при одной мысли, что этот Бестужев ухаживает за ней, стал ненавидеть этого человека, отыскивать в нем всякую грязь… Ты знаешь, сегодня я готов был убить его за то, что он намеревался принять ее в свои объятия. Тут шел вопрос не о приличиях и неприличиях. Какая может быть у Шельхеров щепетильность в этих вопросах! Кузнецы, мещане, толкующие о приличиях! Что за глупость! Это была ревность, ревность и только ревность. Я его возненавидел, вот и все! И я чувствую, что я так же возненавижу каждаго, кто приблизится к ней…
Я в раздумьи заметил:
— Тебе уехать бы за границу, надолго, чтобы забыть ее.
Он горько усмехнулся.
— Я месяца не выживу без нея!
Меня раздражили слова Левы. Я, как я уже сказал, ничего не смыслил тогда в вопросах любви. Мне показалось, что главную роль в чувствах Левы играют упрямство и настойчивость. Этими чертами в характере Левы я объяснял тогда многое: иногда мне даже казалось, что именно вследствие упрямства и настойчивости он бьется над разрешением многих вопросов, слыша, что они не разрешимы. Я объяснил это, как следствие избалованности Левы. Он мог всегда поставить на своем, он всегда ставил на своем; он привык к этому. Нередко я сердился на настойчивость и упрямство Левы, вспоминая, как меня отучали от этого дома с детства. Отец нередко говаривал: «хоть лоб об стену разбей, а звезд с неба не достанешь; значит, и нужно примириться с этим». Я не удержался и сказал Леве откровенно:
— Избалован ты слишком, вот в чем беда. Не может довести до добра эта любовь, ну, и надо делать все, чтобы освободиться от нея. А то ты погубишь и себя, и Женю.
Он нахмурил лоб.
— Я не подлец, — коротко ответил он.
И, помолчав, он продолжал:
— Я понимаю, что нужно выдать ее замуж, переломлю себя и не буду ей мешать… Ах, вот когда я хотел бы скорее умереть. Умереть, чтобы не знать, не видеть, не слышать…
И с горькой иронией он начал говорить о себе, о своей судьбе. Вся эта судьба состоит из противоречий, из нелепостей. Богатство, свобода, любовь близких — и вечные недуги, вечный страх перед смертью. Этот страх сделался главным ощущением, вошел в плоть и в кровь, стал привычкою, — и вдруг теперь хочется только одного — смерти. Разсудок говорит, как должен поступить честный человек, сердце подсказывает, что нужно сделать для счастия любимой девушки, — и все существо возмущается именно против этого, против ея брака с кем бы то ни было. Во всем, всюду противоречия и противоречия!
— И все-таки ты сделаешь все, чтобы она вышла запуск и была счастлива, — заметил я тихо, но твердо.
Мы уже стояли на балконе, окруженные прозрачной тьмою яснаго вечера. Перед нами внизу, за дорогой, тянувшейся под горой, разстилалось темное море. Над ним горели и мигали мириады ярких звезд. Внизу под балконом и около балкона чуть слышно шелестили листья деревьев. Лева, засмотревшийся вдаль, в думах о своей судьбе, как бы очнулся от моих слов. Он горячо схватил меня за руку и, крепко сжимая ее, проговорил:
— Клянусь небом, что я употреблю все усилия, чтобы хоть она была счастлива, если мы не можем оба быть счастливы!..
Я почувствовал, как его похолодевшая рука вздрогнула в моей руке, как дрожь пробежала по всему его телу.
— Ты озяб? — спросил я.
— Так что-то, дрожь пробирает, — ответил он. — Смерть — вот бы и исход.
— Ну, ну, поживешь еще! — шутливо заметил я. — Однако, уйдем с балкона…
Он усмехнулся.
— Чтобы не простудиться! Да, чудная природа, чудная ночь, только бы наслаждаться всем этим, любоваться этим морем, упиваться этим воздухом, — но Лев Шельхер должен непременно уйти, потому что он может простудиться.
На мгновение по его лицу скользнуло какое-то злое выражение. Он отвернулся от моря и, хмурый, подавленный, угнетенный, пошел за мною в комнату. Его рука от времени до времени вздрагивала в моей руке. Я посмотрел на его лицо. В полутьме оно казалось каким-то потемневшим. Я зажег свечу и ужаснулся. Он весь изменился, как бы осунулся; его била лихорадка.
— Я тебя так не отпущу. Зайдем к отцу, — сказал я тревожно.
Едва успел взглянуть на него отец, как заметил ему:
— Ну, брат, опять простудился! И сколько раз я говорил тебе, что беречься надо! Видно, хина полюбилась?..
На следующий день я застал Леву уж лежащим в постели. Анна Ивановна металась из комнаты в комнату, сокрушаясь о сыне и не зная, что делать. Ей казалось, что она должна в этих случаях что-то делать, а между тем делать было нечего, нужно было только не тревожить больного и аккуратно давать ему лекарство, что обыкновенно делали и Минна, и Женя, и я. Почти целые дни проводил я у постели больного. Если я уходил на несколько часов, он посылал за мною, извиняясь, что безпокоит меня, и повторяя мне, что только при мне ему легче. У него явился какой-то непреодолимый страх перед одиночеством. Он переживал именно то состояние духа, когда хочется бежать от самого себя. Я читал ему вслух книги, болтал о разных разностях, избегая только имен Жени и Бестужева! Он сам не вспоминал о них, и когда Женя заглядывала к нему, он говорил ей:
— Не сиди у меня, Женя. Еще и ты расхвораешься в стой душной комнате…
Раз только он мельком заметил мне:
— Ты прости, что я томлю тебя. Но один я думаю о том, о чем нужно не думать, о чем нужно забыт… И кроме того, я боюсь… боюсь, что могу остаться с глазу на глаз с Женей…
Женя, в свою очередь, против обыкновения была очень серьезна. Я еще никогда не видал ее такою задумчивою и сосредоточенною. Когда Лева высылал ее из комнаты, она как-то вопросительно взглядывала на меня, точно прося объяснения. Наконец, она не выдержала и, встретив меня в зале, у выхода на террасу, спросила:
— Лева захворал от этой истории?
— Простудился, верно, промочив в лесу ноги, — уклончиво сказал я.
— Ах, что ты говоришь! — нетерпеливо перебила она. — Приревновал тогда и это…
Я остановил ее на полуслове
— Приревновал? Что тебе пришло в голову! — проговорил я. — Разве Лева может ревновать тебя, свою сестру? И в кому, в Бестужеву? Разве Бестужев за тобою ухаживает?
Она тихо сказала:
— Бестужев меня навел на эту мысль…
— Дурак! — резко проговорил я. — Действительно, он начинает неприлично себя вести. И как ты не сказала ему, что это нелепость, что Лева не может тебя ревновать ни к кому…
— Я сказала, — раздумчиво начала она и смолкла.
Ее опять охватило раздумье. Какия-то новыя мысли и чувства видимо подавляли ее. Она, казалось, не могла ни отогнать, ни одолеть их своим, еще почти детским умом. Я не удержался и заметил ей:
— Но будь осторожнее с Бестужевым. Это, как кажется, порядочный нахал…
На ея глазах навернулись слезы.
— Тогда Лева, теперь ты! — начала она дрожащим голосом, тоном упрека. — Разве я не знаю, как себя держать… Но я не могу же гнать его от себя… Я не ребенок, и понятно, что за мной могут ухаживать… Или это преступление?..
И с некоторой раздражительностью она добавила:
— Ведь за кого-нибудь придется же выйти замуж… Или это будет преступление в глазах Левы и твоих?
Она нетерпеливо пожала плечами.
— Уж скорей бы, а то измучают…
Я вопросительно посмотрел на нее.
— Ну, да! Что ты так на меня смотришь? Измучают, потому что мне не легко видеть, что Лева слег из-за меня…
Я хотел возражать.
— Пожалуйста, не говори пустяков! — сказала она, угадывая, что я хочу сказать. — Простуда тут ни при чем… И не гнал бы он меня… Любил, ласкал, звал «сестренкой», а теперь гонит, гонит…
Она отвернулась, пошла прочь, но я ясно услышал ея всхлипыванья. Бедная девочка вполне знала истину, подсказанную ей Бестужевым.
V.
Мой отец и два другие доктора, призванные им, как он выражался, «для очищения совести», к Леве, посоветовали последнему провести несколько месяцев на юге Франции. Пребывание за границею уж два раза благотворно подкрепляло силы Шельхера. Услышав теперь этот совет, Лева спросил:
— Разве дело уж так плохо, что надо ехать куда-нибудь умирать?
Отец пожать плечами.
— За этим не стоит так далеко ездить. Но я уверен, что ты в два-три месяца оправишься там надолго.
Лева недоверчиво посмотрел на него.
— Вы, Константин Федорович, точно надеетесь?
И, получив утвердительный ответ, он выразил свою готовность ехать. Возвратившись домой, отец сообщил матери и мне, что отъезд Левы решенное дело.
— Давно я говорил, что ему надо бы опять пожить где-нибудь на юге, — заметил отец. — Так нет, все упрямился.
— Что-ж тут удивительнаго. Им подняться не легко, — проговорила матушка. — Вероятно, придется опять всем ехать и прихватить снова тетю Маришу. Не отпустит же его одного Анна Ивановна. И Минну с Женей тоже не оставят здесь…
— Ну, денег у них не хватит, что ли? — сказал отец.
— Денег-то хватит, а ты знаешь неподвижность Анны Ивановны…
— Ничего, пускай порастрясется. Это и ей пойдет на пользу…
При упоминании имени Жени я смутился. В моей голове мелькнула мысль о том, что там, за границей, оставшись с Женей вместе, среди чужих, Лева станет в самое тяжелое положение. Его любовь только усилится, и до чего это доведет — Бог знает. Меня даже несколько удивило, как согласился сам Лева на эту поездку. Неужели он не понимает, на какой рискованный шаг он решается? Но в тот же вечер к нам зашла Анна Ивановна, встревоженная и озабоченная, как никогда. Впрочем, одно ея появление у нас доказывало уже, что случилось нечто необычайное. А етом она предпочитала не двигаться со своей дачи никуда за исключением прогулок в экипаже. С первых же слов она заговорила о том, что она совсем голову потеряла, узнав о необходимости везти Леву за границу.
— Я и ума не приложу, что с нами будет, — говорила она растерянно, точно о какой-то беде. — По гостиницам придется жить, пансионы там тоже эти… Что подадут, как приготовят — всем будь доволен.
Отец улыбнулся.
— Денег у вас, что ли, недостало, чтобы не жить в трактирах и пансионах? Да вам даже и но расчет так жить. Вас ведь поедет целая орда, будете жить на одном месте, ну, и живите своим хозяйством. Слава Богу, не в первый раз едете.
— Как много едет? Я, Лева, да тетя Мариша — вот и все, — ответила она. — В томе-то и беда. Мариша плохая хозяйка, а я — да я не справлюсь с тамошней прислугой… Да разве вы же знали, что мы без Женюшки и Миннушки едем? А я даже, грешный человек, подумала, что это вы настроили Леву не брать их. Это-то меня и сокрушает более всего, что Миннушку и Женюшу приходится здесь оставлять.
Мать и отец удивились.
— Зачем же, зачем же, Анра Ивановна? — заговорили они в один голос. — Забирайте и их. Право же, это не большой расчет.
— Ах, да разве я когда о деньгах думаю? — воскликнула Анна Ивановна. — Но Лева так хочет, Лева!
Отец даже разсердился.
— Ну, уж очень он у вас много капризничает. Скоро с ним сладу не будет!
Анна Ивановна испугалась.
— Родной мой, Константин Федорович, разве же я могу идти против его желаний? Он у меня один. Он больной. Пусть делает, как хочет. Говорит, ему спокойнее без сестер…
— Ну, нет! С ним нужно поговорить об этом. Хотите, я поговорю? Ведь он сам с тоски пропадет. Да и вам скука будет. Вот тоже надумал!
— Уж обо мне и не говорите! Предлагает взять с собою кого угодно, только не Женюшу и Миннушку. Ну, положим, я и возьму опять тетю Маришу, да ведь это все не то, что Миннушка и Женгоша. И сердце мое ныть будет по них. С ними тоже надо кого-нибудь оставят. Ольгу, что ли? Больше некого. Ах, уж так эта поездка все перевернула, что я я голову потеряла.
Она тяжело вздохнула.
— И Женюша опечалилась, ходит, как в воду опущенная, — эта она-то, жаворонок-то наш! И то сказать, разве легко ей остаться здесь, без меня, без Левы?
Отец опять заметил, что все это нелепо, что надо уговорить Леву переменить решение; Анна Ивановка недоверчиво покачала толовой. Она знает Леву: он мягок, кроток, но что уж раз задумал, то сделает. Настойчив, настойчив ток, что страсть. Да вот, коротко сказать — задумал кончить учение в школе — и кончил, а на что ему это, но учителем ему быть, не хлеб зарабатывать. Все это от настойчивости. Конечно, больной человек.
Отец, прощаясь с нею, обещал зайти к ним на следующий день.
Мне очень хотелось сказать ему, чтобы он не мешался в это дело, что из его советов ничего не выйдет, что даже было бы лучше, если бы ничего не вышло. Но меня останавливало сознание, что я не имело права выдавать чужой тайны, вверенной мне по дружбе. И как взглянет отец на это дело? В то же время меня смущала мысль о том, что вдруг отцу удастся поколебать решимость Левы. Что тогда? Не без тревоги ждал я возвращения отца от Шельхеров. При первом взгляде на него я угадал, что он потерпел неудачу.
— Чорт знает, что за упрямый человек! — сказал отец, садясь за завтрак. — Что вобьет себе в голову, того ничем не выбьешь. Хуже осла. Набаловали его. Еще бы! Как сыр в масле катается, единственный наследник, оранжерейный цветок, как же не быть избалованным.
И, обернувшись ко мне, он спросил:
— Хоть тебе-то не говорил ли он, почему эта блажь пришла ему в голову?
Мое лицо вспыхнуло румянцем, но я не выдал себя я ответил:
— Нет, не говорил.
— Да, должно-быть, и нет никаких серьезных мотивов, а просто: хочу так — так и будет.
И, уж смеясь добродушным смехом, он прибавил:
— Он, может-быть, и хворает из упрямства: хочу, мол, быть больным и болею. А впрочем, ну их, сытых самодуров!.. Вот посмотрели бы, как живут люди не где-нибудь за тысячи верст, а здесь, в соседних деревнях, может-быть, самодурство-то и соскочило бы…
Мне было крайне больно, что я не мог серьезно вступиться за Шельхера и сказать, что, уезжая за границу без Жени, Лева в сущности приносит не малую жертву. Как тяжела была эта жертва, я убедился в этом в тот же день, когда Лева говорил мае о своих планах. Три, четыре месяца, может-быть, помогут ему если не забыть Женю, — нет, забыть ее он не может! — то охладеть несколько к ней. Иные люди, иная природа, иныя впечатления, все это должно же повлиять благотворно. Он употребит все усилия, чтобы переломить себя, чтобы образумиться. Если бы он взял Женю с собою, остался бы с нею с глазу на глаз, ходил бы с нею рука об руку там, под синим небом юга, по берегам лазурнаго моря, где все дышит страстью и любовью, он дошел бы чорт знает до чего.
— Ты знаешь, я не подлец, не негодяй, но бывают минуты, когда… Мало ли что делают люди в припадке сумасшествия.
Он вздрогнул.
— И кого же погубить? Ту, которая мне дороже жизни?.. Нет, нет, никогда!..
И говоря это, он в то же время плакал неутешными слезами. Эти слезы, это отчаяние он подавлял при посторонних; ни словом, ни взглядом не выдал он себя и перед Женей. Он был с нею холоден и сух, как никогда. Она смотрела на него странными глазами, удивленными, недоумевающими, широко открытыми, точно ребенок, не понимающий своей вины и гнева взрослых. Иногда этот взгляд переходил на меня, точно спрашивая: «скажи же хоть ты, что это значит, ты ведь все знаешь; что же ты молчишь, зачем мучишь меня?» Я, краснея, отворачивался от нея. Бедная девушка смотрела жалкою, подавленною. Всегда веселая, безпечная, легкомысленная до этой поры, она теперь была грустна, задумчива, сосредоточена, не пела, не смеялась. Меня удивляла эта перемена, но еще более удивляло то, что Женя не спрашивает Леву, за что он сердится на нее. Я ждал и боялся именно этого. Она ведь так любила болтать, так не выносила, чтобы на нее «дулись». Что ей скажет он, если она спросит: «за что ты дуешься?» Хватит ли у него сил спокойно объясниться с нею? И как объясниться? Что сказать? Но она не задавала этого вопроса. Почему? Этого я не мог понять тогда. Это тягостное время длилось недолго; Лева страшно торопился отъездом и даже несколько раздражался, слыша от Анны Ивановны, что ей еще нужно сделать кое-какия распоряжения, что тетя Мариша не успела еще собраться. Если бы Лева способен был ругаться и если бы кроткую и покорную тетю Маришу можно было ругать — он непременно бы разругался за ея медленные сборы. Впрочем, эта небогатая родственница, не столько старая, сколько убежденная в своей старости, в сущности, могла раздражить и не Леву. Она, когда Анна Ивановна пригласила ее ехать за границу, растерялась и никак не могла освоиться с этой мыслью. Начнет она приготовляться, хлопочет целый день, а ночью пораздумает и является на утро к Анне Ивановне с робким вопросом, точно ли ее приглашают ехать и не раздумали ли ее взять. Это могло хоть кого вывести из терпения. Ей отвечали: «да, да, только собирайся скорей», и она торопливо уезжала, хлопотала, сбивалась с ног, а вечером на нее снова нападало сомнение.
Тетя Мариша или, иначе, Марина Осиповна Сущова принадлежала к числу людей, кажущихся смолоду старыми, а под старость юными, чуть не детьми. Она была круглою сиротою почти с колыбели, воспитывалась в институте, жила в гувернантках. В ранние годы детства кто-то назвал ее «драною кошкой». С этой поры она конфузилась за свою физиономию. Поступив почти без подготовки в институт, она должна была употреблять много усилий, чтобы не отставать от подруг, и потому стыдилась за свою «неспособность». Убивая все силы на учение, она не могла сделаться ни хорошей музыкантшей, ни хорошей певицей, ни хорошей рисовальщицей, и смущалась при мысли что у нея нет никаких «дарований». Так она и вышла в свет с убеждением, что у нея нет никаких «достоинств». Жизнь была не сладка без ласк, без любви, без наслаждений, с вечным однообразным трудом из-за гроша. Марине Осиповне минуло тридцать два года; а она уже считала себя давно старухою, держалась скромно, одевалась в черное. И вдруг за нее посватался двоюродный дядя Анны Ивановны, Матвей Матвеевич Сущов, встречавший ее ежедневно у своей сестры, где Марина Осиповна жила в гувернантках. Она сконфузилась, ответила: «я уже старуха, Матвей Матвеевич». «И я не юноша», — сказал он. Тем не менее, она не дала ему своего согласия. Ей казалось, что с ея стороны было бы грехом идти замуж, не имея никаких достоинств, за человека, обратившаго на нее внимание только вследствие своей безмерной доброты. Его родные, узнав его намерение, разъяснили Марине Осиповне, что он пьет, что она будет несчастна с ним, что за него никто не пойдет. Марина Осиповна расплакалась и расплакалась именно о том, что он такой несчастный человек, что за него никто не пойдет. Когда он еще раз заговорил с нею о свадьбе, заметив при этом, что с нею он, как у Христа за пазухой, был бы, — она дала свое согласие. Свадьба состоялась. Супруги зажили примерно, немного даже сентиментально. Он ее звал «моя папаша», она его звала «деточка». Когда ей говорили: «но ведь он пьет», она отвечала: «он сущий ангел». Действительно, он быль добр, мягок, слаб, склонен к слезам, и оне были тем обильнее, чем более он выпивал. В эти минуты он целовал руки жены, обливая их слезами, а она ласкала его, как больного ребенка. Сестры, братья, племянники и племянницы Матвея Матвеевича говорили: «с детства он поврежденный, в сумасшедшем бы доме ему сидеть». Жена его говорила: «он страдалец». В пьяном виде он жаловался на то, что в детстве его забили, что в юности бросили без образования, что с горя он стал пить. Все слушали его с насмешливостью или с отвращением. Еще бы! Разве не смешны жалобы сорокалетняго мужчины, жалобы пьяницы? Марина Осиповна не смеялась над ним, не презирала его, называла его «загубленным человеком», и не верила тем, кто говорил, что из него ничего не вышло бы и тогда, если бы его не загубили. Когда он умер — она плакала неутешно. Ей казалось, что ей уж нечего ждать в будущем, что она всем чужая. Ее ведь только и любил этот человек. И он-то за что полюбил ее, за что продолжал любить всю жизнь? Этот вопрос она задавала себе тысячу раз и никак не могла его разрешить. Может-быть, после смерти мужа она умерла бы с горя, но у нея на руках осталась девочка-сиротка, подобранная ею и ея мужем где-то на улице. Надо было устроить как-нибудь судьбу девочки и, отирая слезы, проливаемыя о муже, Марина Осиповна бегала и хлопотала о девочке, выставляя всем на вид добродетели этого ребенка: «Ведь что за сердце-то, я ей чужая, а она во мне души не слышит, как родную мат любить». Девочку устроили в учебное заведение, а тетя Мариша, имевшая довольно ограниченныя средства, принялась усиленно за уроки. «Охота тебе трепаться по улицам, — говорила ей Анна Ивановна. — Переехала бы ко мне, вот и все». Марина Осиповна совсем сконфузилась. За что ей хотят помогать? За что ее любят? Господи, какие добрые люди бывают на свете! И она готова была в огонь и в воду за Анну Ивановну, хотя переехать к ней в дом и заняться хозяйством она не могла, к величайшему своему огорчению: она, конфузясь и краснея, объяснила, что она тотчас же переедет в дом Шельхеров, как только пристроят детей. И уже совсем пристыженная, она объяснила, что на дворе у нея умерла прачка и оставила двух сирот. «Их решительно некому было взять, решительно некому», — ну, и пришлось взять их ей, Марине Осиповне. Она сознавалась в этом, как сознаются пойманные на месте преступления юные и неопытные воры, пошедшие воровать с голоду. И стараясь хоть как-нибудь вывернуться, объяснить, что она никогда не взяла бы детей, если бы было кому их взять, она прибавляла совсем заискивающим тоном, каши души у этих детей: «она им чужая, совсем чужая, а они ее зовут тетей, ластятся к ней». Мало-по-малу, на нее все махнули рукой, как на неисправимую чудачку и на крайне ограниченную женщину. Ограниченность ея ума не была ни для кого тайной, и прежде всего она сама была убеждена в этом. Тем не менее все очень; любили тетю Маришу и пользовались ея услугами, хотя ии не без оттенка сознания своего превосходства над нею, не без оттенка иронии в отношении к ней. Она была всегда крайне тронута вниманием близких, удивлялась, какие доброе люди бывают на свете, и оказывала им услуги в роде ухода за больными, хлопот по покупке разных вещей, путешествия за границу в должности даровой компаньонки, лектрисы и переводчицы при Анне Ивановне. Эта невысокая, теперь уже не «драная кошка», а полненькая старушка, с лицом похожим на розовый кулачок, с какими-то как бы недоразвившимися, недорисованными чертами лица, с безформенными комочками розоваго тела вместо щек, подбородка и носа, с красноватыми полосками вместо бровей, с неопределенным не то улыбающимся, не то близким к слезам выражением лица, являлась крайне комичною во время сборов за границу с Анной Ивановной. Ей нужно было обдумать, как устроить на время своего отсутствия кого-то из сирот, живших у нея, кого посетить и кому что снести из сирот, живших уже не у нея, а в учебных заведениях. И все ей казалось, что она не все им снесла, не все для них сделало. Потом на нее нападало раздумье: «да может быть, ее и раздумали взяты». Тогда она бежала справляться, узнавала, что не раздумали, что ее ждут, извинялась и торопилась снова, растерянная, запыхавшаяся. Наконец, она посетила всех своих «дегей», наделила всех их, поплакала у каждаго из них — и собралась в дорогу, горячо благодаря Анну Ивановну, что та ее берет с собой. Ей ведь и во сне не снилось, что она опять поедет за границу. Иной ведь весь век проживет, а не дождется такого счастия, как она. Господи, какие добрые люди бывают на свете!..
У всех как камень свалился с плеч — Шельхеры ехали на вокзал варшавской железной дороги. Все время до отъезда поезда Лева сновал по вокзалу, хлопоча о чем-то, что и без него было уже устроено и улажено прислугой. Я чувствовал, что он только хочет не быть с нами, с провожающими. Наконец, раздался второй звонок. Шельхер заторопился.
— Ну, прощайте, прощайте! Пора! — заговорил он, торопливо пожимая нам руки и целуясь с нами, не глядя почти на нас.
— Про-щай… прощай! — вдруг раздался прерывающийся от рыданий голос Жени.
Лева, захваченный врасплох ея рыданиями, как безумный, схватил руками ея голову и, не помня себя, покрыл поцелуями ея лицо; потом схватил обе ея руки и десяток раз поцеловал их, заливаясь слезами. Это был бурный порыв страсти. Женя стояла, как обезумевшая, с широко открытыми глазами, с полуоткрытым ртом, точно человек, сразу понявший все, все, над чем он думал и бился долгие, долгие безсонные дни и ночи. Лева уже был в вагоне, забившись в угол, закрыв лицо платком, под сводами дебаркадера уже прозвонил третий звонок, поезд уже медленно задвигался, когда Женя очнулась, двинулась куда-то вперед, безсознательно, как бы во сне, и опять как бы застыла на месте. Все присутствующие махати платками Анне Ивановне, Леве и тете Марише, идя рядом с вагоном, где они сидели. Женя осталась одна со мною. Я позвал ее, она взглянула на меня и тихо сказала:
— Бедный Лева!
Городская жизнь в доме Шельхеров пошла и без хозяев обычным порядком. Оставшаяся при девушках в доме родственница Анны Павловны, Ольга Дмитриевна Вощинина, вдова небогатаго чиновника, заправляла хозяйством и быстро вошла в свою роль. Это была типичная представительница небогатых посетительниц клубов, театральных галлерей, дешевеньких пикников. Развязная в манерах и очаровательная по обхождению с людьми, эта особа с претензиями на светскость и даже на красоту, чувствовала себя у Шельхеров, как рыба в воде. В обыкновенное время Ольга Дмитриевна являлась в дом Шельхеров только за подачками и уходила отсюда с затаенною завистью в душе и с развязною шутливостью несколько дней сряду после этих визитов говорила «в своем кругу», что «нынче ведь царство мужиков» и «на что нынче благородство, воспитание, образованность, когда почет и уважение оказываются только туго набитой мошне, когда какая-нибудь бывшая селедочница Федулова на придворный бал попала». Потом она «в своем же кругу» рассказывала самые смешные анекдоты об этих мужиках и мужичках, вылезших в люди: ни вкуса, ни манер, ни такта! Конечно, кто истинно благороден, развит, образован, тот не станет завидовать этому животному счастию — о, нет, нет, никогда! — и не променяет своей скромной доли на их долю. Ведь все это довольство нажито, ах, какими путями! Теперь приглашенная в дом Шельхеров Вощинина могла ездить с барышнями во французский театр, в итальянскую оперу, принимать в доме гостей и, несмотря на свои сорок пять лет, любезничать с молодежью, находясь в сладком заблуждении, что эта молодежь очарована ея приторной любезностью и косметическою красотою. До этой поры она играла в доме Шельхеров роль приживалки, появлявшейся с целью выманить денег или поношенных платьев. Теперь она считала себя чуть не благодетельницей в этом доме, потому что без нея Аннет (до этой поры она называла госпожу Шельхер не иначе как Анной Ивановной) не могла бы уехать за границу, так как на кого же оставить бедных Минну и Женю; она, Ольга Дмитриевна, даже бросила ради дружбы к Аннет свой дом и своего беднаго мальчика, при этом она умалчивала, что ея «дом» была скверная меблированная комната, а ея «мальчик» и прежде, и теперь «продавал слонов», воображая, что он будущая знаменитость — у него было что-то в роде баритона, и потому он присвоил себе право ничего не делать, ничему не учиться, числясь учеником какой-то музыкальной школы. Теперь этот мальчик, ражий и цветущий юноша, лет двадцати двух, кормился ежедневно у Шельхеров и старался пленить своим голосом «кузиночек». Почти каждый вечер зала Шельхеров потрясалась его баритоном, выкрикивавшим:
Проснись, проснись, Динора,
Иль я умру с тобой!
Но мальчик не только сам являлся почти каждодневно сюда, он наводил с собою каких-то товарищей, — еврейчика с тенором, похожим на пискливый сопрано; бывшаго придворнаго певчаго, заупокойным басом завывавшаго «двух гренадер»; каких-то невозможных субъектов, харкавших во время пения и говоривших: «нам наплевать на итальянцев, потому что мы им носы-то утрем». Ольга Дмитриевна была без ума от этих молодых людей, говоря, что «она обожает все примитивное», — хотя самое слово «примитивное», вероятно, было для нея не вполне понятно. С этими примитивными людьми у Ольги Дмитриевны были даже легонькие романчики, хотя она вообще была очень строга в вопросах о нравственности и кстати, и некстати говорила, что она «презирает этих продажных женщин», «и разве можно торговать чувством, святым чувством!» Впрочем, ей, вероятно, ныкто не предлагал торговать чувством, и у нея не было, в свою очередь, никогда лишняго гроша, чтобы купить чужое чувство, и одно это уже могло способствовать ей остаться верной своим нравственным принципам относительно непродажности чувств. Со дня вступления Ольги Дмитриевнь в дом Шельхеров здесь шел «дым коромыслом». Миннушка сносила довольно добродушно концерты доморощенных певцов и даже просила их сама спеть тот или другой любимый романс — «Ты скоро меня позабудешь», или что-нибудь в этом же роде. Но Женя чувствовала себя в этом обществе неловко и как-то ежилась, когда Володя безцеремонно пожимал ей руки, вздыхал при ней и закатывал глаза, напевая, по своей привычке, отрывки разных любовных романсов во время разговора. Впрочем, вероятно, и без этого общества Женя по отъезде Шельхеров смотрела бы не веселее. В ней произошел какой-то перелом: безпечная девочка вдруг превратилась в серьезную взрослую девушку, и притом девушку, уже испытавшую глубокое горе. К несчастию, горе не приносят тотчас же с собою и развития, и широких взглядов, и глубоких умственных способностей, и опытности. Оно может заставить человека задуматься, но вопрос: под силу ли ему окажутся тяжелыя думы? Что творилось в душе Жени — никто не знал. Бестужев, заглядывавший нередко в дом Шельхеров, говорил ей с брезгливой гримасой:
— Вас тяготит это общество?
Она равнодушно отвечала:
— Я не обращаю на них внимания.
— Нет, нет, не говорите так! Я знаю по себе, что значит быть среди людей, с которыми не имеешь ничего общаго! Недаром же и бегу сюда отдохнуть с вами.
Она пристально вглядывалась в него.
— И вам не скучно здесь?
— С вами-то? О, если бы я мог всегда, всегда быть около вас!..
Раз он порывисто поднес к губам ея руку. Она смутилась, покраснела и с упреком проговорила:
— Александр Николаевич, что с вами?
— Простите, простите! О, если бы вы могли заглянуть в мою душу.
И опять он говорил ей, как отрадно ему быть около нея, такой чистой, такой неиспорченной. Подле нея он сам становится лучше, чище. Там, в его кругу, тоже омут, затягивающий, губящий.
— Вы не ребенок и от вас зависит выйти из этого омута, — заметила она, пристально взглянув на него.
— О, это далеко не так легко, — вздохнул он.
И опять начались толки об ангеле спасителе, который вывел бы его из этого омута. Все это говорилось в форме банальных фраз, с пошлым ломаньем разочарованнаго и гибнущаго человека. Скоро ли же будут результаты этих признаний? Чего он добьется? Она так мила и наивна! Вскидывая на нос pince-nez, он горящими глазами вглядывался в нее, в это детское личико, в эти пурпуровыя губки. Женя слушала его и задумывалась. Не она ли этот ангел-спаситель? Не ей ли суждено спасти от чего-то этого страдающаго от своего положения человека?
— Бестужев, кажется, очень несчастлив, — сказала она однажды мне.
— Чем же? Живет себе во всю ширь, — ответил я.
— Да, но он в дурной среде, это тяготит его. Он хотел бы вырваться из нея.
— Ты думаешь?
— Я это наверно знаю.
— Что-ж, может-быть, я так! — уклончиво ответил я.
Мне не хотелось говорить дурно о Бестужеве. Я боялся влиять на Женю в этом вопросе в ту или другую сторону. Ее это, повидимому, сердило. Она с досадой заметила мне:
— Ты точно чего-то не договариваешь. Право, это странно…
— Я плохо знаю Бестужева!
Она передернула плечами.
— Ты, может-быть, даже слишком хорошо знаешь, — с насмешливостью в голосе проговорила она: — и только боишься разочаровать меня…
В другой раз, сидя со мною, она заметила:
— Я часто думаю, что случилось бы, если бы я вышла за кого-нибудь замуж?
— За кого? — спросил я.
— Все равно, за кого, — раздражительно проговорила она. — Дело не в том. Но что сказали бы наши?
— Все были бы рады, если бы ты была счастлива, — ответил я.
— Все? — спросила она, пристально взглянув на меня. — Ты уверен?
— Конечно! — поторопился я сказать.
Она задумалась.
— Леве было бы скучно без меня, — начала она нерешительно.
— Да, но он был бы рад, что ты счастлива, — сказал я. — Я уверен, что его тревожит неопределенность твоего положения.
Она вздохнула.
Чрез несколько дней разговор опять коснулся вопросов женитьбы и замужества.
— Я не знаю, — заметила Женя: — правду ли говорить пословица: женится — переменится? Может ли женщина так повлиять на человека, чтобы он стал совсем, совсем иным?
— Что тебя так заинтересовал этот вопрос?
— Так, случайно… Скучно теперь у нас… Передумаешь Бог знает что… Вот на-днях читала роман, где говорится о таком перерождении человека…
— Какой роман?
Она покраснела, замялась, проговорила:
— Забыла теперь название… И дело не в том. Это навело меня на мысль о том, что вдруг бы я вышла за такого человека…
Она постаралась улыбнуться.
— Я ведь невеста теперь по годам, не мудрено, что и думаю об этом… Могла ли бы я переделать человека?.. Или это только слова, слова и слова…
— Любовь, говорят, творит чудеса…
— Да, да, любовь… Что-ж, я постаралась бы любить…
Я разсмеялся.
— Какой ты ребенок! Разве можно постараться любить? Любовь является без старания.
— А если ея нет?
— Тогда не для чего идти замуж, насиловать себя.
Она сделала нетерпеливое движение
— А если надо, необходимо надо?
И вдруг, точно опомнившись, она засмеялась насильственным смехом:
— Но что это мы все о любви толкуем! Хорошее мнение составишь ты о барышнях вообще, судя по мне! Будешь думать, что оне только этими мечтами и живут.
Она круто переменила разговор.
Я смутно угадывал, что в ея голове проходят какие-то новые вопросы, думы, сомнения, не соответствующие размерам ея природных умственных сил, образования, опытности…
Разговору о любви суждено было возникнуть снова между нами и при крайне тяжелом настроении. Я получил от Жени коротенькую записочку, приглашавшую меня в дом Шельхеров. Это был понедельник, и я удивился приглашению, так как это был день абонемента в итальянской опере. Я отправился в дом Шельхеров и застал Женю одну. Взглянув на нее, я сразу увидал, что она плавала, что она сильно возбуждена.
— Извини, что я просила тебя придти, — сказала она, здороваясь со мною. — Но ты здесь один, с кем я могу поговорить…
— Что случилось? — спросил я тревожно.
Она хотела засмеяться и вместо того неожиданно разрыдалась.
— Женя, Женя, что с тобою? Полно! — уговаривал я с участием.
— Нет, дай мне поплакать!.. Легче!.. Ты знаешь ли, я получила отказ, — говорила она сквозь слезы и опять постаралась засмеяться.
Я чувствовал приближение истерики и счел нужным молчать, чтобы дать ей время успокоиться. Наконец, она пересилила себя и заговорила менее взволнованным голосом:
— Я спросила, наконец, Александра Николаевича, любит ли он меня?
— Женя! — воскликнул я в ужасе, — Разве так делается?
— Ах, не говори мне! — уже раздражительно ответила она, — Зачем он ходил сюда, вздыхал, делал намеки? Я не могла долее терпеть, оставаться в неизвестности. Ну, и спросила прямо, резко.
— Ты его любишь?
— Никогда я не любила его! — горячо воскликнула она. — Никогда, никогда! Он делал вид, что без ума от меня… Ну, я и спросила, любит ли он меня… И он… он упал на колени, схватил мои руки…
Она опять засмеялась, но уже без слез, каким-то облегченным смехом, напомнившим мне на минуту прежнюю, шаловливую Женю.
— Я отняла их и спросила: «отчего же вы не делаете мне предложения?»
— Женя! — ужаснулся я. — Я тебя не узнаю.
Она опять залилась смехом.
— О, если бы ты видел его тогда — на коленах, с опущенной головой, растерявшагося, даже уронившаго pince-nez… О, каким идиотом смотрел он!.. Ты понимаешь его положение, его родные, его связи! Ему никогда не позволили бы жениться за мне. Я ведь мещанка!.. Он не сказал этого, но я сказала это и… Она снова звонко засмеялась.
— О, как я счастлива, как счастлива, что я могла сказать ему: «зачем же вы ходите сюда?» Понимаешь сказала прямо в глаза, насмехаясь, глумясь. Он, растерянный, начал что-то шарить у моих ног, отъискивая свое pince-nez. О, он больше не явится сюда, никогда и явится!..
Я ничего не понимал. Зачем она начала этот разговор с Бестужевым. Ну, а если бы он сказал: «я предлагаю вам свою руку». Я задал ей этот вопросъ
— Я пошла бы за него, — ответила она и изменилась в лице. — Помнишь, а спрашивала тебя; можно ли изменить человека? Я старалась бы его любит. Это ведь обрадовало бы всех в нашей семье? Да? Всех?
И вдруг, сделавшись совсем серьезной, она страстным тоном прибавила;
— Нет, нет, я лгу! Я знала, какой ответ я получу. Я не могла бы принести этой жертвы. Никогда, никогда! Я четыре месяца приучала себя к этой мысли. О, лучше в могилу, чем, не любя, выйти замуж…
Она крепко сжала мои руки.
— Милый, ты не можешь представить, как я счастлива, как я счастлива!
Опять я ничего не понимал. Я спросил ее мельком:
— А ты знаешь, что на-днях ваши возвращаются из-за границы?
Она кивнула утвердительно головой.
— Да. Я потому и объяснилась с Бестужевым. Надо было кончить все до приезда Левы.
Потом, точно спохватившись, она прибавила:
— Лева в последнее время раздражался его присутствием. Ну, я и решилась удалить этого фата. У Левы не хватило бы духу…
И шаловливым, веселым тоном она опять начала говорить о Бестужеве, как он был комичен, как он позеленел от злобы, поднимаясь с полу.
— Он тебе этого не простит никогда, — сказал я.
— Ах, очень он нужен мне! — воскликнула она. — Я теперь никого не боюсь!..
Через три дня я получил телеграмму, извещающую о дне и часе приезда Шельхеров. Мы все отправились на варшавскую железную дорогу. Минут десять мы ждали поезда, наконец, вдали показались яркие фонари локомотива, и поезд стал приближаться. Вот он, медленно пыхтя и скрипя, поровнялся с платформой. В вагоне перваго класса мелькнули знакомыя лица. Еще минута, и послышались восклицания, поцелуи. Лева, сильно-поправившийся, несколько загоревший и как бы возмужавший, перецеловался со всеми, но когда очередь дошла до Жени — он как будто поколебался; она же бросилась к нему и буквально покрыла страстными поцелуями его лицо, целуя его, как четыре месяца тому назад он целовал ее на прощанья.
VI.
Когда я вспоминаю о наступившем в жизни Левы Шельхера периоде, мне всегда почему-то вспоминается одна бурная летняя ночь. Нестерпимый зной продолжался без перерыва всю первую половину июля, без ветра, без облачка в небе. Даже у моря, казалось, нечем было дышать и в сущности здесь было еще нестерпимей за недостатком тени, при виде солнечнаго блеска, отражавшагося в воде, казавшейся массой расплавленнаго серебра. Наконец, зной и удушливость стали как-то особенно действовать на нервы, что-то такое пророчило грозу, точно в воздухе запахло электричеством. В один из таких дней, клонившийся уже к вечеру, я вышел на балкон и увидал внизу под горой крутящуюся по дороге пыль; около балкона слышался такой шелест листьев, как будто по деревьям пробегали волны ветра, то стихавшия, то поднимавшияся снова. Я взглянул по направлению к Петербургу; оттуда надвигалась совершенно прямой полосой, перекинувшись через все взморье, изсиня-черная туча, а под нею ея нижний слой клубился, как серовато-бурый дым. Изредка еще где-то далеко, далеко слышался глухой и тихий рокот, как сдержанное ворчание свирепеющаго зверя, и темная масса тучи на мгновение вся сплошь озарялась розовым светом. Ветер быстро нес эту тучу над морем к нам, и все находившееся под нею быстро темнело. Порывы ветра делались все сильнее и чаще, где-то начинали хлопать ставни, калитки, двери; шелест листьев сменился скрипом нагибающихся деревьев, как бы раскачиваемых во все стороны какой-то невидимой рукой. В воздухе, уже совершенно потемневшем, стали падать одинокия крупныя капли дождя и вдруг грянул, точно над самым моим ухом, гром и одновременно с ним черную массу туч словно разорвала молния. Началась настоящая буря с воем, свистом, раскатами грома, шумом ливня, треском деревьев, бушеванием моря.
— Запри двери, а то сквозит, — раздался где-то голос матери.
Не знаю, мне или кому другому было сказано это, но я запер дверь и лег. Непроглядную тьму прорезала молния, гром грохотал почти над самым домом, дождь барабанил по крыше, а ветер точно старался сорвать ее. Мне стало жутко. Я не боюсь грозы. Но тут меня охватил какой-то невольный страх, какия-то смутныя мрачныя мысли роились в голове, сон бежал от глаз. Меня бросало и в жар, и в холод. Никогда еще я не чувствовал такого разстройства нервов. Казалось, буре я ночи не будет конца. Я сотни раз ворочался на постели, стараясь уснуть, но вместо сна явились галлюцинация слуха и зрения; оне были таковы, что мне то слышались крики о помощи с моря, то казалось, что где-то горит и рушится что-то в деревне. Я закрыл глаза, но картины становились все страшнее и страшнее, море бушевало уже не внизу, под горою, а несло свои волны прямо к нашему саду, и горело уже не на деревне, а у нас в доме, огонь подходил все ближе и ближе ко мне. В ужасе, очнувшись от тяжелаго кошмара, я снова открыл глаза… В окно мое смотрело ясное голубое небо, без облачка, залитое солнечным светом. Я вскочил, подбежал к балконной двери, не веря сам себе, и распахнул ее: из сада пахнуло свежим душистым воздухом, кругом слышались гомон и пение птиц, а море, едва покрытое легкой рябью, сверкало серебристой чешуей. Бурная ночь сменилась благодатным утром. Никогда еще не чувствовал я такой любви к природе, к свету, к жизни, как в эту минуту, точно я спасся от страшной беды. Эта ночь и это утро вспоминаются мне всегда рядом с воспоминанием о жизни Левы и Жени, после возвращения перваго из-за границы. Я не знал ничего, что произошло между ними, но я встречал их почти каждый раз сияющими, радостными, просветленными, полными гармонии. «Что с ними? они ли это?» спрашивал я себя, смотря на Леву и Женю.
— Тебя заграничная жизнь совсем переродила, — говорил я ему.
— Да, я очень благодарен твоему отцу, что он настоял на этой поездке, — мягко улыбаясь, отвечал он. — Я точно переродился…
И он говорил мне, что теперь у него прошли всякие страхи за свое здоровье, что он чувствует себя окрепшим на долгое время, что ему хотелось бы найти только какую-нибудь полезную деятельность. Ему было бы отрадно сознавать, что он может приносить хоть какую-нибудь пользу ближним. Нельзя же вечно влачить какую-то животную жизнь — есть, чтобы жить; жить, чтобы есть. О религиозных вопросах он не только не говорил, но, казалось, избегал вспоминать о них. Я слушал его и мысленно задавал себе вопрос: «его переродила заграничная жизнь, а что переродило Женю?» Она теперь тоже не походила ни на прежнюю Женю-ребенка, ни на тревожную, задумчивую, нервную девушку, какою она была в отсутствие Левы. Теперь это было приветливое, ласковое, тихое создание с светлой улыбкой счастия на лице, без резких шалостей и в то же время без скучающаго или тревожнаго выражения на лице. Все ея существо дышало внутренней гармонией. Но настроение этих обоих лиц было так ровно и постоянно, что я скоро привык к этому и перестал задумываться о его причинах. «И то сказать, чего им недостает, — думалось мне. — Он перестал тревожиться, почувствовав себя здоровее и не терзаясь более ревностью; она счастлива сознанием, что он спокоен. Это так просто». Зима в доме Шельхеров проходила весело, как никогда. Кроме выездов в театры, Шельхеры назначали jours fixes, не очень многолюдные, но веселые, с танцами, с пением, с petits jeux. На этих собраниях появлялись не одни молодые люди и молодыя девушки, но и старики и старухи, усаживавшиеся за зеленые столы. Богачам стоило только распахнуть свои двери, чтобы к ним повалил народ, ищущий развлечений, сытных ужинов, блестящей обстановки. Мой отец шутливо замечал, что Шельхеры «готовятся к свадьбе и пробуют, весело ли жить по-семейному». Действительно, теперь дом Шельхеров перестал походить на детскую, на школу, на рекреационное зало, а принял вид обыкновеннаго богатаго «семейнаго» дома.
К концу зимы Лева стал мельком говорить о своих планах съездить летом снова за границу, где воздух так благотворно повлиял на него. Анна Ивановна стала немного тревожиться при этом, говоря, что ей страшно подумать о новых сборах к путешествию. Тогда Лева улыбался и говорил шутливо, что он возьмет вместо нея Женю. Нужно же ей показать Швейцарию, Италию. Правда, она уже бывала за границей, но тогда она была совсем ребенком. Если бы Миннушка была «ходок», то можно бы и ее взять. Но где же ей ходить, а он с Женей намерен весь Тироль и всю Швейцарию исходить пешком. Мало-по-малу, от шутливаго тона перешли к серьезному, и Анна Ивановна уже сама говорила, что она ни за что не поедет сама; пусть Лева берет Женю. Начинались шутки, предположения, как они вдвоем будут забираться на высокия горы, подобно диким козам, как они будут бегать по городам, осматривая всякия достопримечательности. Еще бы! школьники на свободе!
— Вы бы хоть меня с собою взяли для приличия, — неожиданно заметила однажды Ольга Дмитриевна, раздраженная мыслью, что «эту девчонку» даже за границу повезут.
Лева немного изменился в лице и хотел что-то возразить, но за него ответила Анна Ивановна:
— Ах, Ольга, да что же тут неприличнаго, что брат с сестрой путешествовать будут?
— Брат с сестрой… двоюродные! Где это видано в порядочном обществе? Люди мало ли что могут подумать!
— Никто ничего не смеет думать! — вспылил Лева.
— А, Боже мой! не смеют! Да разве можно запретить людям думать? — проговорила Ольга Дмитриевна. — Уж ты думаешь, если деньги, так и все можно…
— Да что думать-то людям? — спросила Анна Ивановна.
И, махнув рукою, не дожидаясь ответа, прибавила:
— Да ты и не знаешь заграничной жизни! Ты думаешь, там, как у нас, заварят кашу в. своей семейке и расхлебывают ее целый год. Нет, мать моя, за границей-то ты всем чужая, не подними сама шума да скандала, никто на тебя и вниманья не обратит. И паспортов там не спрашивают — запишись графиней — графиней и будут звать.
Она добродушно засмеялась.
— Ты, Лева, записывайся везде бароном фон-Шельхером с женой… Помнишь, тебя в Берлине все называли Herr Baron… По-баронски деньгами сорили, вот и титул сейчас дали.
Разговор принял снова шутливый оборот. Тень не сходила только с лица Левы. Он как-то особенно всматривался в Ольгу Дмитриевну, точно желая прочитать ея сокровенныя мысли. Но кроме зависти он не прочел ничего на ея разрисованном лице…
Недели две спустя разговор коснулся снова поездки Левы за границу, и снова Ольга Дмитриевна заметила:
— Да неужели вы, в самом деле, вдвоем поедете? Уж хоть бы Марину Осиповну взяли… Она-то никого не стеснит…
Лева опять вспылил.
— Мы поедем так, как вздумается нам, — ответил он. — Кажется, это не касается никого…
— Ах, Боже мой, это говорится вовсе не к тому, что кто-нибудь желал бы вмешиваться… Но я только говорю, что в известных кругах общества это не принято…
— То-есть это где? В вашем кругу?
— Да, в порядочном обществе…
— Ну, мы, значит, непорядочное общество.
И с несвойственной ему грубостью он заметил:
— Смотрите, Ольга Дмитриевна, не уроните себя, вращаясь в подобном обществе…
Она со злостью прикусила нижнюю губу и отвернулась.
Лева опять упорно вглядывался в нее, желая угадать ея мысли.
В это время в нем начала замечаться снова тревога; он иногда впадал в задумчивость и простаивал по несколько минут у окна, в раздумья смотря куда-то вдаль и покусывая ногти; порою он задумывался так глубоко, что вовсе не слыхал обращенных к нему вопросов или отвечал невпопад. Впрочем, этот новый фазис в настроении Левы совершенно ускользал от меня в то время. У меня началась горячая пора экзаменов, и я редко бывал у Шельхеров. К тому же у них шла разсеянная, чисто светская жизнь, совершенно чуждая и несимпатичная мне и, может-быть, это, а может-быть и что-нибудь другое немного отдалило меня от Левы в последнее время. Как-то чутьем я угадывал, что я становлюсь ненужным для него. Он был попрежнему приветлив со мною, но и только. Ему точно не о чем было говорить со мною. Его душевный мир вдруг закрылся для меня, сделался тайной. Я замечал это, но не напрашивался на откровенность…
Приближалась уже весна, удовольствия зимняго сезона оканчивались, у Шельхеров был один из последних jours fixes. Я пошел к ним с отцом, решив, что я теперь долго не заверну к ним: работы было не мало и нужно было на некоторое время отдаться исключительно ей. Народу у Шельхеров собралось немного, танцев не было и разговор как-то не клеился. Может-быть, отчасти повлияло на всех безпокойство по поводу нездоровья Жени. Она не появлялась в парадных комнатах и лежала в своей комнате. Мой отец, услышав о ея нездоровье, сказал:
— Что же меня не позвали?
— Да что вы поделаете, Константин Федорович, если Женя не любит лечиться, — ответила Анна Ивановна. — Вот в последние месяцы это четвертый раз с нею мигрень, а скажу, чтобы послать за вами — ни за что!
— Отчасти и умно делает, — заметил отец. — От мигрени почти нет средств. Раз одно поможет, другой — другое. Наугад прописываешь лекарства. Но ведь это, может-быть, и не мигрень.
— Нет, мигрень. Болит голова, тошнота..
В разговор вмешалась Ольга Дмитриевна:
— Странно, право, бояться показаться доктору! Если доктор даже и не поможет, то хоть определит болезнь, даст благоразумный совет…
И, пожимая плечами, она прибавила:
— И с чего это у нея вдруг мигрень началась? Прежде что-то этого не было.
Лева уже кусал ногти, видимо раздраженный и встревоженный.
— Эх, Ольга Дмитриевна, — ответил с обычной шутливостью отец: — вот и у меня все не было, не было седых волос, а теперь проявились. И с чего бы это?
— Ах, уж вы не хотите ли сказать, что Женя от старости начинает хворать? — насмешливо спросила Ольга Дмитриевна, свысока взглянув на отца.
— Ну, до старости ей далеко! А я просто хотел сказать, что у нея начались мигрени, потому верно, что время мигреней пришло, вон как у Анны Ивановны начались ревматизмы, потому что их время пришло, а у вашего покорнейшаго слуги от той же причины черные волосы в седые превращаться стали.
Потом, подтрунивая над нею, он сказал:
— Впрочем, где вам это знать, когда вы с каждым днем все расцветаете! У вас долго еще не придет время каких бы то ни было недугов и превращений…
— Да, время свое дело делает, — со вздохом сказала Анна Ивановна.
— Еще бы! — пошутил отец. — Не наложи на нас с вами время своей лапы, мы бы еще танцовать стали…
И, переменяя тон, он прибавил:
— Вон Ганс Вурм, тот, верно, не потому слег вчера…
— Как, Ганс опять нездоров? — заметила Анна Ивановна: — а я и не знала. И очень болен?
— Очень. Да я и удивляюсь, как он живет еще. — сказал отец: — наперекор науке живет. Возьмите вы то: отец и мать двоюродные брат и сестра…
— Ах, у них это и за грех не считается, — сказала Анна Ивановна: — он ведь не православный.
— Ну, я не о грехе, — заметил отец: — это не моя специальность, а о том, что близкое родство само по себе уж не особенно благоприятствует здоровью ребенка, как говорят, да кроме того и сам старик Вурм и его жена худосочные, малокровные, страдающие чуть не чахоткой… Не знаю я, пророк старик Вурм, или не пророк, но знаю, что, вступая в подобный брак, можно было предвидеть, и не будучи пророком, что наплодишь детей, обреченных не на жизнь, а на более или менее быстрое увяданье.. Еще слава Богу, что уродов не родилось… Впрочем, кажется, у него одна девочка была глухо-немая?
Лева, с лицом, покрывшимся пятнами, тревожно спросил:
— Да, позвольте, Константин Федорович, разве это непременное следствие подобных браков?
— Ну, нет, — ответил отец: — не непременное, но более возможное, чем при иных браках, пожалуй, даже можно сказать более, так как такия болезни, как бугорчатка, сумасшествие, падучая, вообще передаются наследственно, а наследственность при близком родстве супругов, сколько можно судить по разным изследованиям, усиливается. Это вопрос крайне интересный.
Видя, что Лева слушает его с напряженным вниманием, отец стал объяснять ему взгляды разных ученых на этот вопрос. Он указал на наблюдения Монтегацца в Южной Америке, на изследования Митшелля о влиянии на потомство браков между близкими родственниками, указал на то, что говорят об опасности подобных браков Вуден и Девэ, заметил в то же время о противоположных взглядах и, между прочим, об интересных наблюдениях Вуазена в общине Батца, где среди крайне здороваго населения браки между родственниками производили здоровое потомство.
— Этот факт, по-моему, особенно интересен, — заметил отец: — так как тут является наследственность здоровья, как бы поддерживаемая или усиливаемая тем, что браки совершаются между близкими родными…
И прибавил:
— Во всяком случае, покуда более или менее ясно то. что наследование недугов и уродств легче передается между близкими родственниками, вступающими в брак, и то, что подобные браки, повторяясь в одной семье или в известном местечке, сильно влияют на вырождение…
Анна Ивановна, уловившая только то из этой беседы, что отец не одобряет браков между родными, заметила:
— Да; уж и точно, до чего доходят люди, чуть не родные отцы на дочерях женятся. Впрочем, уж нынче время такое, вон и гражданские браки выдумали, чтобы разврат прикрыть…
Я давно привык читать на лице Левы его душевныя настроения, и меня поразило теперь выражение его лица. Оно было тревожно и мрачно. Он в глубоком раздумьи проговорил отцу:
— Я никогда не задумывался об этом вопросе с этой стороны..
— Ты же не естественник, — просто сказал отец: — это и понятно.
И шутливо прибавил:
— А с практической стороны тебе нечего было и думать об этом: за тебя подумал наш закон, запретив подобные браки.
Брови Левы сдвинулись, нижняя губа была закушена, глаза смотрели мрачно. Мой отец, ничего не подозревая, продолжал говорить о том же вопросе — о вопросе влияния родителей на детей, о гибели детей от легкомыслия родителей, о целом ряде вредных влияний, отражающихся на ребенке прежде появления на свет. Он попал на свою излюбленную тему и, развивая ее со всех сторон, коснулся наконец незаконнорожденных. Они мало того, что обречены на разныя житейския неудобства, на потерю разных прав, принадлежащих законным детям, на ложное положение в обществе, где они как бы выбрасываются из среды своих родителей, так еще и физически они почти всегда страдают: девушки скрывают свое положение, вечно находятся в тревоге во время беременности, не имеют возможности вести гигиенический образ жизни, соответствующий их положению, ну, и не мудрено, что все это отражается на детях.
— Э, да и не перечислишь всех форм детоубийства, — резко закончил отец. — Разные юнцы и юницы чуть не государственные вопросы умеют решать, а чтобы быть матерями и отцами — для этого у них никакой подготовки нет…
Лева сидел, как приговоренный к смерти. Я давно уже не видал его в таком состоянии духа. В моей голове мелькнуло подозрение, показавшееся мне чудовищным. Неужели он и Женя?.. Нет, не может быть! Я старался отогнать от себя эту мысль. Но тут же мне вспомнилась болезнь Жени, слова Ольги Дмитриевны о том, с чего начались эти мигрени. А предполагаемое путешествие Левы с Женей на лето? Опять мне вспомнились слова Ольги Дмитриевны о неприличии этого путешествия и раздражение Левы. Мне вспомнилась масса мелочей, пропускавшихся прежде мною без внимания и получавших теперь значение, бросая свет на дело. Неужели же в самом деле это правда? Но если это так, то я ли один подозреваю это? Не подозревает ли этого и Ольга Дмитриевна? О, она наверное догадалась, поняла все. Что если все откроется? Как-то безсознательно, чтобы разсеять эти мысли, я поднялся с места. Лева вздрогнул и очнулся при моем движении, взглянул на меня, наши взгляды встретились, и вдруг, точно безмолвно объяснившись друг с другом, мы угадали все, что происходило в душе каждаго из нас. Лева поднялся с места, и мы оба молча, не сговариваясь, не приглашая один другого, пошли в его кабинет. Едва успела закрыться за нами дверь, как Лева отрывисто проговорил:
— Ты все понял?
— Да, — ответил я.
Он сжал голову руками и опустился у письменнаго стола. Я, не нарушая молчания, ходил по комнате, совершенно ошеломленный открытием. В моей голове была какая-то путаница. Наконец, он заговорил отрывисто, почти с укором:
— Твой отец точно ножом провел по моему сердцу.
— Мой отец? — спросил я разсеянно.
— Ну, да. Я ни о чем не думал, что он выяснил. Я не думал о влиянии на ребенка родственных связей, моей болезненности.
— Ну, это, может-быть, и не так, — начал я: — отец же говорил, что тут много спорнаго.
— Нет, нет и это отзовется, и то, что Женя скрывает свое положение, старается казаться стройной… Все, все отзовется!.. Господи, недостает еще того, чтобы наше незаконное дитя было страдающим недугами ребенком! Да, этого и надо ждать! Как же! Попробовал наперекор судьбе украсть себе счастие! С Богом захотел спорить!..
Его тон напомнил мне прежняго Леву, каким он был всегда. Я уловил пробежавшую по нем дрожь и невольно подумал, что и без слов отца мрачное настроение охватило бы его: — с весной, по обыкновению, воротилась его болезнь. Я сразу понял это, когда Лева начал говорить, что он за последнее время и так волновался мыслью, как они поступят, когда родится ребенок, что его начали тревожить допросы Ольги Дмитриевны по поводу отъезда за границу. В моей голове мелькнула мысль, что если бы у него не было даже этих причин для волнения, то он изобрел бы их и стал бы терзаться, томиться, страдать. Такие люди не могут быть счастливыми и, если можно так выразиться, само счастие является для них несчастием, как трезвое состояние для пьяницы. Сознавать себя несчастными — это их нормальное состояние; в минуты, когда они сознают себя счастливыми, они со страхом говорят себе, что «это перед бедой». Он с горечью закончил свои жалобы:
— Единственный шаг в жизни сделал по своему желанию, и это первый шаг в окончательной гибели и себя, и Жени, и домашняго мира!
Я знал, что его нечего утешать. Его мысль работала в своем привычном направлении, как у маниака, независимо от логики вещей и посторонних людей. Я мог только посоветовать ему скорей ехать за границу. Там Женя может почти не скрывать своего положения; там никакия Ольги Дмитриевны не выследят их.
Когда я вышел с отцом на улицу, отец спросил меня:
— Что с Львом?
Я только махнул рукою.
— Опять, кажется, расхварывается и привередничает? — сказал отец.
— Не говори лучше, — ответил я: — тут начинается целая драма.
— Ну, ну, уж и драма.
Я не привык скрывать что-нибудь от отца, и хорошо знал, что этот человек не выдаст чужой тайны. Скрывать от него то, что я скрывал от него до этой поры, я дольше не мог. Потому я сказал ему откровенно:
— Лева живет с Женей.
Он даже остановился от изумления.
— Ты бредишь?
— Она беременна!
Отец развел в обе стороны руками. Несколько минут мы шагали молча.
— Этого никто не знает, кроме меня и тебя, — сказать я.
— Понимаю, — отрывисто ответил отец и потом прибавил: — но что будет, когда узнают все, а узнают это наверно.
— Может-быть, все удастся скрыть, — сказал я.
— Нет, мальчуган, эти вещи никогда не скрываются. Выпрядется тайком, а белится на солнце, как говорить Гете… Только в этом случае дело будет не в том, чтобы все выбелилось, а чтобы все зачернилось… Да, да, все узнают… А что будет, когда все узнают, это еще мы увидим с тобою.
VII.
Лева и Женя уехали за границу, Анна Ивановна и мы перебрались на дачи. Я был сильно занят в это лето уроками и посещал дом Шельхеров урывками, не особенно часто. Но каждый раз, посещая Анну Ивановну, я слышал от нея и от Миннушки, что Лева и Женя здоровы и наслаждаются жизнью в Швейцарии. То же сообщал и мой отец, после посещения им старухи. Я знать, что в этом нет ни слова правды. Каждое письмо Левы, адресованное ко мне, дышало тревогою, жалобами, сетованиями, опасениями. Сначала эти письма были довольно часты, довольно длинны, потом они стали приходить реже, делались все короче, наконец, Лева перестал вовсе писать ко мне. Я понимал, что он «потерял голову», как он выразился сам в одном из последних писем ко мне. Впрочем, и было отчего потерять голову: и он, и Женя были молоды, неопытны, среди чужих людей; рождение перваго ребенка и при самых лучших условиях не обходится без волнений и опасений, тут же условия были далеко не благоприятными; кроме того, как они поступят с ребенком, на чье имя запишут его, как привезут в Петербург. Я сознавал, что и более спокойный и здоровый человек, чем Лева, мог бы растеряться на его месте; он же мог натворить всевозможных промахов, ошибок, глупостей, растерявшись в решительную минуту. Время между тем подходило к осени, и Анна Ивановна тоже начала немного волноваться, так как Лева не писал ей ничего определеннаго относительно своего возвращения домой. Она со вздохами говорила, что ея «дети» загостились черезчур долго за границей.
— Верно там свободнее, — не без насмешливости замечала Ольга Дмитриевна.
Она как-то незаметно внедрилась в доме Шельхеров, чтобы, как она говорила, бедная Аннет не так скучала. Впрочем, Анна Ивановна, привыкшая «жить на народе», была, повидимому, довольна присутствием в ея доме «Ольги». Иногда старуха даже добродушно подсмеивалась над нею, когда та любезничала с молодежью или являлась уже черезчур сильно накрашенною. «Ольга, — говорила Анна Ивановна: — ты вот тут лицо мукою запачкала; потри около глаза, у тебя чем-то черным выпачкано». Это было своего рода развлечением для Анны Ивановны. Старуха не сердилась даже за мелкия выходки и тонкие намеки Ольги Дмитриевны на Женю и Леву, отчасти не понимая этих намеков, отчасти сознавая, что «уж очень Ольге хотелось бы быть самой за границей». Последняя мысль была тоже причиною невинных шуточек над Вощининой. «Что она на итальянцев, что ли, хочет насмотреться? так ведь они и в Италии такие, как здесь»… Анну Ивановну вообще трудно было встревожить или разсердить, еще труднее было заставить догадаться, насчет чего бы то ни было, что не говорилось прямо, что не было очевидно, как день. Она была уверена, что все обстоит благополучно и что ничто в доме не изменилось — Дарья печет попрежнему пироги, жарит телятину, готовит кремы — чего же больше? А перемена в доме была, и эту перемену один из первых заметил мой отец. Как-то раз, спросив меня, получал ли я письма от Левы, он сказал:
— Он и не ожидает, что все уже знают его тайну.
— Ну? — с сомнением проговорил я. — Почему ты так думаешь?
— А видишь ли, когда куда-нибудь слетаются вороны, там верно есть падаль, — ответил он шутливо. — Ну, а когда к богатым родным очень уж усердно стекаются разные дальние родственники — это значит, что они чуют в доме покойника.
И более серьезным тоном продолжал:
— Ты разве не замечаешь, что в доме Анны Ивановны вдруг появились какие-то троюродные сестры и братья, какие-то четвероюродные племянники и племянницы? Их скликала, очевидно, Ольга Дмитриевна, и скликала недаром: она все угадала и все так или иначе передала этой стае, будьте, мол, на-стороже, может-быть, покойник будет..
Отец потрепал меня по плечу.
— Ты, мальчуган, молод и этой грязи корыстолюбия еще не изучил, а я — я специалист в деле подобных наблюдений. И то сказать, мне, как врачу, не мало пришлось видеть историй в этом роде. Знаю я хорошо, с каким выражением на лицах, каким голосом спрашивают родственники, ожидающие наследства: «доктор, скажите, ради Бога, очень опасно положение нашей дорогой бабушки?»
— Но, отец, я не понимаю, на что здесь можно надеяться: Анна Ивановна и Лева живы, — с недоумением начал я,
— Этого, мальчуган, и я не знаю, на что тут можно надеяться, — ответил отец, улыбаясь добродушной улыбкой. — Не сподобился стоять в таком положении. Я только констатирую факт: родня вылезает из всех щелей и ползет в дом Анны Ивановны… ну, значит, почуяла добычу… Может-быть, покуда они и не знают, зачем они выползли, но каждый ведь из них знает поговорку о мутной воде, где хорошо рыбу ловить… И что за подлыя рожя делаются у людей, когда они, как гиэны, идут на разведку мертваго тела, человеческой падали? Ты присмотрись к ним, присмотрись, как они целуют ручки у Анны Ивановны… «Сестрица», «тетечка», «бабенька» — слова-то самыя сладкия подбирают, и голоса у всех шепелявыми от нежности делаются… Тьфу, мерзость житейская!..
И, снова шутя, он заметил, потрепав меня по плечу:
— Счастливы мы, мальчуган, что у нас нечего наследовать и не от кого наследовать…
Но отец не любил долго останавливаться над подобными вопросами. Он шутливо говаривал, что рыться в грязи человеческих отношений вредно для здоровья, а у него, как у врача, и так кругом заразныя болезни, то тифы, то скарлатины, то дифтериты. Вообще он относился довольно равнодушно ко всему, что происходило в семье Шельхеров и тому подобных людей. Он шутливо говаривал, что он делит людей на две половины — на односторонне-несчастных и двусторонне-несчастных; к первым принадлежат сытые, ко вторым — голодные; у сытых несчастия почти исключительно мозговыя, у голодных же — и мозговыя, и желудочныя, а иногда в придачу и… Макаровския, — добавлял он, смеясь, — так как каждый бедняк почти непременно Макар, на котораго все шишки валятся, даже и такия, которым не следовало бы валиться именно на него. «Вон, например, мужик, потому что он больше всех работает, потому что он больше всех голодает, потому что он мрет, как мухи осенью, на него и навалили все шишки податей да поборов, — ты, мол, Макар». И развивая свою теорию, отец заканчивал: «а так как всех покойников не оплачешь, то и надо беречь свои слезы для самых дорогих, для наиболее заслуживающих этих слез, т.-е. для двусторонне-несчастных людей». Согласно этим взглядам, он, конечно, только мимоходом мог интересоваться разными событиями в жизни каких-нибудь Шельхеров.
Меня же, начинавшаго сильно интересоваться всеми сторонами окружающей меня жизни, наблюдение, сделанное отцом, заставило присмотреться к жизни в доме Анны Ивановны. Действительно, в этом доме теперь бывала целая стая родственников, появлявшаяся прежде только в годовые праздники. Теперь только и слышалось: «тетя», «бабушка», «сестрица». Всей этой стаей точно командовала Ольга Дмитриевна, лаская каждаго, улыбаясь каждому, как будто хозяйкою в доме была она, а не Анна Ивановна. В то же время я заметил какое-то странное отношение этой женщины ко мне, не то враждебное, не то презрительное. Она не без ядовитой иронии разспрашивала меня:
— Вам что пишет Лева? Вероятно, больше, чем Аннет? Ей только восторги описываются, все больше о природе. Иногда даже смешно читать, точно он одно письмо с другого списывает.
— Он мне совсем не пишет, — отвечал я. — Я сам ленив писать.
— Вот как, поверенному сердечных дел и не пишет!
Я обратил дело в шутку:
— А вы думаете, что я поверенный Левы? У меня много для этого своих забот и хлопот.
— Да? Но вы, верно, знаете, когда он вернется?
— Нет, не знаю!
— Это странно! Уж не думает ли он экспатрироваться? За границей свободнее жить.
— А разве вы чувствуете здесь, в России, стеснения? — шутливо спросил я.
— Я не о себе говорю!
— Так это вам Лева писал?
— Он не переписывается со мною…
— Так из чего же-вы делаете свои заключения? Ведь вы же не живали за границей?
Она сделала злую гримасу и отошла от меня. Но меня самого начало смущать долгое отсутствие Левы. Я сознавал, что, должно-быть, там, у него, не все благополучно, и кроме того ясно видел, что Анна Ивановна, под влиянием каких-то смутных толков, начинает волноваться. Она подолгу говорила и со мной, и с моим отцом, и с моею матерью о том, что Лева зажился слишком долго, что боится она, не скрывает ли он чего-нибудь от нея. Но на вопрос: чего? Она отвечала, что, может-быть, он нездоров и не пишет только об этом. Других подозрений, очевидно, у нея не было. Прямо даже Ольга Дмитриевна не решалась высказать ей своих предположений, а намеки разбивались о непонятливость Анны Ивановны…
И вдруг, точно снег на голову, в один прекрасный день явились Лева и Женя. Ни телеграмм, извещающих о приезде, ни просьб о высылке экипажа, ничего не было. Все были озадачены этим приездом и с Анной Ивановной чуть не сделался обморок. Ольга же Дмитриевна только восклицала на все лады:
— Господи, да вы оба точно из могилы! Да с чего это вы оба похудели? Вы больны были? Вот вам и заграница!
Лева и Женя торопливо объяснили, что они очень устали в дороге, что в последнее время они простудились в горах Швейцарии. И, наскоро переговорив со всеми, Лева прошел со мною в свой кабинет.
— Прости, что я не писал, — указал он, обнимая меня. — Было не до писем, и кроме того у меня вечные страхи: боялся, что письма не дойдут, что кто-нибудь прочтет их, что ты как-нибудь обронишь. Бумаге нельзя вверять тайн: она всегда может предать.
Он стал мыться и переодеваться.
— Ты не сердись, что я при тебе… Хочется все скорее передать… Пережито столько, что… не знаю, как и пережил… Я не воображал, что это такая страшная вещь — роды!.. А Женя, о, что она выстрадала?
— Ребенок жив?
По лицу Левы скользнула горькая усмешка.
— Да, да, ребенок… еще более жалкое созданье, чем я… Он привезен сюда… Маленький ирландец…
Я ничего не понимал. На минуту в моей голове мелькнула мысль, что Лева бредит.
— Что-ж было делать? — продолжал он. — Записать: незаконнорожденный от девицы такой-то? Это было уже слишком! Надо было приискать родителей: За деньги нашлись какие-то, нищие, согласившиеся приписать дитя на свое имя. Мы взяли к нему кормилицу, нашли женщину, бывавшую в России, и привезли их сюда. Покуда они поместились в гостинице, потом найму им квартиру. Впрочем… что я говорю; потом! Придется, вероятно, везти ребенка на вечную квартиру, на кладбище…
И уже совершенно раздражительно он начал изливаться в жалобах. Что ему дала эта незаконная связь, что она дала Жене? Пять месяцев счастья? Но какое это было счастье? Краденое, воровское! Ни разу они не смели явиться мужем и женой в своем доме, в своей семье, поговорить они не могли спокойно, боясь, что кто-нибудь подслушает. Они пробирались друг к другу крадучись, воровски, с оглядкой. Правда, на первых порах они видели в этом особую прелесть, как школьники, обманывающие учителей и гувернеров. Им нравилось целоваться в уголках, на ходу, за спинами других. Но когда Жене пришлось стягивать талью корсетом, когда ей пришлось скрывать головныя боли, тошноту, боясь позвать доктора, когда…
— Помнишь, тот вечер, когда последнюю каплю отравы влил твой отец в эту чашу тайных мук? — сказал он с горечью. — Я уже тогда был так настроен, что готов был бежать или все открыть матери… первому встречному… всем и каждому… И вдруг твой отец поднял этот вопрос, выяснил то, что уже начинало бродить в моем уме… Я не знаю, как я тогда не сошел с ума.. А там, за границей, приходилось лгать, играть роль мужа и жены, бегать от русских, жить исключительно среди чужих и чуждых людей, изыскивать средства для того, чтобы ребенок не был незаконным, чтобы не было следов его рождения от Жени… О, бедная, бедная Женя, сколько перенесла она из-за меня…
В двери послышался стук.
— Это я, Левушка! — раздался ласковый голос Анны Ивановны.
Лева вздрогнул.
— Мать! — прошептал он, изменяясь в лице. — Что случилось?
Вошла Анна Ивановна, не дожидаясь ответа.
— Пришла посмотреть на тебя, шутка ли, сколько времени не видала, а там — народ…
Она поцеловала его, взяв за голову. Я хотел удалиться.
— Куда ты, Николаша? — спросила она. — Ты-то свой, слава Богу, а там…
Она махнула рукой, садясь в кресло.
— И хорошо иметь родных, и не хорошо, — заговорила она. — Тут они вертятся, болтают, ну, и весело, а вот как захочется одной с своими близкими остаться, так уж и не знаешь, куда от родни деваться, сказать: «уходите» — неловко, а сами понять не хотят, что надо же матери и поговорить с детьми, с тобой, с Женей, с Минной…
— Действительно, у вас базар какой-то, — сказал Лева. — Что они все на житье к нам переехали, что ли? Орда какая-то…
— Попросту живем; аристократами не сделались. У тех ведь на все назначенные дни и часы, — пошутила Анна Ивановна: — а к нам иди все, сколько влезет.
И, переменяя тон, она сказала:
— Ну, да Бог с ними! Разсказывай о себе, как жил, что видел.
Началась пытка для Левы. Лгать, выдумывать, притворяться. Он не умел этого делать. До этой поры ему не было нужды привыкать к этому. Он заговорил сбивчиво, смутно. Анна Ивановна между тем задавала вопросы: отчего он похудел? почему Женя изменилась? Я сидел, как на иголках; мне все казалось, что вот-вот Лева проговорится, расскажет все. И помимо моей воли в моей голове мелькала мысль: «и не лучше ли разом сказать все? ведь все равно все узнается». Я поставил себя на его место. Что стал бы делать я, если бы я попал в такое положение? По моему лицу скользнула невольная улыбка. Разве я мог бы попасть в подобное положение? Разве я был способен на все эти сомнения и терзания, из которых состояла вся душевная жизнь Левы? И разве было что-нибудь похожаго в моей семейной обстановке на семейную обстановку Левы? Лева между тем кое-как выпутывался из допроса. Когда лакей доложил, что подают чай, Анна Ивановна встала и пошла в столовую, поцеловав Леву и сказав ему, чтобы он шел пить чай.
— И эта пытка будет длиться не день, не два, — проговорил мне Лева, как только закрылась дверь за его матерью. — Будут разспрашивать все, каждый поодиночке и все месте.
И, передернув плечами, он проговорил:
— Точно, надо вытолкать в шею весь этот сброд родни, затвориться от всех…
— Я на твоем месте просто все сказал бы матери, — заметил я.
— Что ты, что ты! — с испугом воскликнул он. — Это ее убьет! Разве она такая женщина, чтобы понять, что я не сделал никакого преступления, что я только жертва закона. У нея свои предразсудки…
— Что-ж из этого? Ну, посердится, поплачет, потом…
— Ах, ты совсем плохой наблюдатель! — перебил он меня, — С колыбели видишь человека и вовсе не понимаешь ее… Убеди какую-нибудь безграмотную мещанку, что земля не на китах стоит… Объясни, не прослыв кощунствующим человеком, какой-нибудь страннице, что Христос был жид…
Я не дал ему продолжать и сказал:
— Но ведь когда-нибудь она узнает…
— Нет, нет, я все это передумал. Времени было довольно. Никто теперь не узнает, а после — я всех родных удалю…
Мы вышли в столовую, и я разслышал голос Володи Вощинина, говорившаго Жене своим обычным пошловатым тоном:
— Вы видите, кузиночка, я тоже похудел, тоскую по вас. Дни разлуки казались мне вечностью.
— Ах, оставь, Володечка! — воскликнула Ольга Дмитриевна. — Разве Женя может теперь интересоваться тобой?;. Что ты для нея, бедный мой мальчик!
— Что ему Гекуба? — продекламировал Володя. — Нет, Женя, я не верю, чтобы вы были так безчувственны.
— Володечка, Жене нужно богатство…
Женя сидела, молчаливая, грустная, уже измученная разспросами, намеками, колкостями, ясно понимающая, что в воздухе носятся подозрения относительно ея.
VIII.
Возвращение Левы и Жени внесло в дом Шельхеров не радость, а уныние. Анна Ивановна тревожилась, что ея дети вернулись «словно другими». — «Лева ходит мрачным, Женя точно в воду опущенная. Что с ними?»
Старушка приставала к коему отцу: «Вы поразспросите толком, что с ними? Чую я, что они больны». Отец уклончиво отвечал, что это просто усталость с дороги, перемена климата, зима стоит гнилая, как же не хворать. Не находя поддержки в моем отце, Анна Ивановна жаловалась родным и, главным образом, Ольге Дмитриевне, как самой частой посетительнице, на то, что Лева и Женя больны, — сама она видит, что больны, — а лечиться не хотят. Ох уж, эта молодежь, все на свои силы, на свою молодость надеется! Ольга Дмитриевна вздыхала и тут же спрашивала: «Куда ездят Лева и Женя так часто? отчего они одни ездят? с чего это у Жени красны глаза так часто?» Для Анны Ивановны все это были открытия. Сама она ничего не подмечала. Ей бросалось в глаза только то, что они мало едят; это был для нея верный признак их нездоровья. Ольга Дмитриевна злилась в душе на «безтолковую» старуху и прямее приступила к делу, заметила наконец, что неловко, что Лева все с Женей вдвоем: «Женя уж невеста, Бог знает, что люди могут подумать». Это уж были не намеки, а прямо подозрение. Самый безтолковый человек мог понять, о чем тут говорилось…
Анна Иванова пришла в ужас, так чудовищно показалось ей это: мало того, что она признавала всякую связь, чем бы ее ни оправдывали, развратом, а тут еще связь брата и сестры, двоюродных, правда, но «все равно, что родных», как выражалась она. Да за это и люди опозорить могут, и на том свете муки вечныя ждут. Никто и никогда не мог бы в-серьез сказать что-нибудь «о нравственных принципах» или «о религиозных воззрениях» Анны Ивановны. Все знали, что она живет в свое удовольствие, любит заниматься кулинарным искусством, души не чает в Леве — и только. Правда, никогда она не развратничала, была примерной женой, но что же из того — может-быть, случая не было; может-быть, просто лень было затевать незаконныя связи. Это была если и нравственность, то чисто отрицательная, сохраненная за недостатком искушений или вследствие апатичнаго темперамента. О религиозности Анны Ивановны могли возникнуть еще большия сомнения; она теплила лампаду в своей спальне, но безпрекословно согласилась с мужем, что не только лампады не идут к новой обстановке других комнат, но даже и образа больших размеров; божественные рассказы она, конечно, любила, но одинаково слушала их от странниц, от русскаго попа и от Вурма, с одинаковым удобством дремля под каждый из них; в церковь она всегда собиралась ехать, как только наставал праздник, и, вероятно, ездила бы часто; если бы один раз не мешал ревматизм в ногах, другой — трепетание в груди, третий — затеянные к завтраку блины. И вдруг всплыло наружу, что за этим кажущимся нравственным и религиозным индифферентизмом, как столбы, стояли незыблемо известныя понятия: девушка или женщина, сошедшаяся без брака с мужчиной, — развратница; сошедшиеся или женившиеся в недозволенной степени родства люди — грешники, заслуживающие кару Божию; и никаких смягчающих обстоятельств, никаких оправданий не было и не могло быть тут. Если бы порыться поглубже в душе Анны Ивановны, вы бы нашли в ней такие же приговоры, например, вору: с голоду или не с голоду он украл — он все же вор и его нужно наказать; при этом она вовсе не считала вором торговца, берущаго втридорога за товар, хозяина, платящаго грош за большую работу. Все подобныя убеждения не были чем-нибудь навеянным с ветру, вычитанным случайно из той или другой книжки, а были чем-то наследственным, прирожденным, всосанным с молоком матери. Но нужно было вовсе не знать Анну Ивановну, чтобы вообразить, что она поверит, подозрениям на Леву и Женю, или станет сама подозревать их. Она довольно сдержанно заметила Ольге Дмитриевне: «Плетешь что-то ты, Ольга!» и только. Она даже не особенно разсердилась на нее в первую минуту, а почувствовала к ней что-то в роде омерзения. Не умея ничего, скрывать, она тотчас же сообщила свой разговор с нею Миннушке. Минна ужаснулась.
— Это все потому, что Женя сирота и ей завидуют, — сообразила Минна, и на ея выцветшие и бледные глаза навернулись слезы. — Сироту, уж известно, все притесняют.
Миннушка это знала из своих чувствительных книг.
— Ну да, ну да, — радостно согласилась Анна Ивановна. — Я и говорить Жене не стану, чтобы ея не огорчать. Чистый это ребенок, а что выдумывают на него. Господи, что за завистники есть на свете!… А Леве я скажу, Лева мужчина. Он отбреет Ольгу. Непременно отбреет!
Миннушка была того же мнения.
— Как тихо, мирно мы жили прежде. Никогда ничего такого не было… Грех Ольге Дмитриевне вносить раздор в вашу семью, — сентиментально сказала она.
— Ну, какой же раздор? Что это ты, Миннушка, выдумала! Разве я так и поверила злой бабенке? Известно, завистница и злючка. Ну, да поговорить и замолчит, — решила Анна Ивановна. — А Леву предупрежу, непременно предупрежу. Он поговорит с ней, так язычок-то она прикусит.
Тем же добродушным тоном, хотя с некоторыми предосторожностями, она передала эти толки Леве, приступив к разговору с оговорками: «ты не волнуйся, не сердись, все это пустяки, только, конечно, ты должен это знать». Одни эти предостережения могли испугать. Лицо Левы покрылось пятнами, он чуть не упал от неожиданнаго потрясения. Но Анна Ивановна, испуганная, раскаивающаяся, что начала этот разговор, тотчас же стала ему объяснять, что волноваться особенно нечего, что этакой мерзости никто не поверит; никогда у них ничего подобнаго в роду не было, все, и покойный батюшка, и покойная матушка, жили благочестиво и по закону, — и она начала распространяться о том, что это только Ольге Дмитриевне могло придти в голову. Давно она, Анна Ивановна, подозревает, что сама-то Ольга Дмитриевна развратничает. Уж что-то очень она умильно смотрит на своих горлодеров, в рот им влезть хочет, как они распоются, соловьи-то ея, недаром же подкрашивается, прельщать на старости лет мальчишек вздумала. По себе и других судит.
— И все из зависти плетет, — продолжала Анна Ивановна. — Как же, Женю за дочь я считаю. Нельзя ничего на нее и понаушничать. Ну, вот и придумала историю, чтобы не просто вооружить, а заставить выгнать девочку. Как же, сына моего родного с пути совратила! Чего уж хуже! И не просто развратничает, а и людские, и Божеские законы ни во что ставить… Господи, и чего людям надо! Ведь уж всем, всем им даю, точно голодным собакам подачки бросаю, — все мало. Все хотят себе взять!
— Вы… вы и Жене это рассказали? — спросил дрожащим голосом Лева, подавляя свое волнение.
— Что ты, что ты, голубчик! — почти с испугом воскликнула Анна Ивановна, замахав рукою. — Я и на мысли-то такия не стану наводить ребенка. Во сне-то ничто такое чистому человеку не пригрезится, надо быть Ольгой, чтобы мерзость такую надумать… И с чего я Женю-голубку, буду тревожить? Да и ты не волнуйся! Все это пустяки! Не рада я, что и тебе-то сказала!.. А только Ольгу я спроважу… это уж как Бог свят!..
— Всех этих родственников надо выпроводить, — резко заметил Лева. — Вышвырнуть, как сор, нужно!..
— Да, уж все хороши!.. И боюсь я, не намекнули ли они чего Жене-то самой? Может-быть, она от этого и грустная у нас все такая.
И, точно озаренная внезапным светом, она воскликнула:
— Да, да, это верно! А я-то думала, что с ней, с чего она грустит… А оно вот что!… Еще бы, теперь все понятно! Как тут защищаться станешь? В смертном грехе обвиняют, что и людям, и Богу в глаза не посмотришь… Уж я, на что спокойный человек, а и то все во мне перевернулось от этой истории. Трепетание опять началось…
Лева ходил в волнении взад и вперед по гостиной, а Анна Ивановна продолжала развивать свои взгляды на эту «историю», точно стараясь вслух уяснить себе самой все ея значение.
— И того не подумали, что я женщина сырая, что со мной удар мог сделаться. Еще хорошо, что я сразу-то всего не поняла, не сообразила, точно туман какой в глазах встал. Только и сказала ей: «плетешь что-то ты, Ольга», да так и отпустила ее, даже без сердцов, точно так она сдуру что-то сболтнула, а потом уж все это и стало мне ясно и поднялось все во мне… дальше да больше, дальше да больше… А пойми я вдруг, поверь, — да, право, душу отдала бы Богу! Или, может-быть, того ей и хотелось! Да пользы-то им что от моей смерти! Слава Богу, ты наследник всего, а не они. Женишься еще, дети будут, тогда…
Лева с горечью перебил ее:
— Хорош жених, одной ногой в гробу стою!
Анна Ивановна чуть не вскрикнула от испуга и с широко открытыми глазами, тяжело дыша, замерла на месте.
— Лева, Лева, что ты! — проговорила она, наконец, зобравшись с силами. — Христос с тобой! С чего ты это взял! Ох, точно подкосил ты меня этим словом… И с чего!.. Слабенький ты у меня, так ведь ты и всегда таким был. Это рост твой такой тяжелый. Вот войдешь в лета — возмужаешь, окрепнешь. Ох, что это тебе в голову пришло! Родной ты мой!
Она с трудом поднялась с места, едва стоя на дрожащих ногах, и обняла сына.
— Огорчил ты меня, Лева, огорчил этим словом!..
Она тихо заплакала, прижимая к себе его голову.
Он никогда не видал ее такою взволнованною, такою испуганною. В ея дрогнувшем голосе послышался ему упрек. Лаская его, она тревожно разспрашивала, не хуже ли ему, не захворал ли он, не послать ли за Константином Федоровичем. Все ея существо, каждое ея слово было проникнуто материнской любовью и заботливостью. Она не могла собраться с мыслями, придти в себя. и все это от этой истории, от этих каверз. Раздражили оне Леву, навели еию на мрачныя мысли. Никогда, никогда до этой поры не сказал он ей ни слова о близости своей смерти, — и вдруг теперь говорит, что стоит одной ногой в могиле! Да, на что же ей самой после этого жизнь? Для кого она жила и живет, как не для него?.. Вот роденька-то до чего довела! Нет, надо погнать всю эту орду родни. Вороны проклятые, точно к падали, к богатству слетаются! Разорвать живых людей из-за денег готовы…
Анна Ивановна не вдруг успокоилась, и ея мягкое, доброе сердце исполнилось еще большею любовью к Леве и Жене, к этим «обиженным» детям. Она смотрела на них теперь сквозь слезы и то и дело слышались эпитеты «голубчик ты мой, Левушка», «голубка ты моя, Женюшка». Покрывая поцелуями их лица, разспрашивая их. не надо ли им чего, бегая с одышкой в груди, подобрав тяжелое шелковое платье, на кухню, чтобы наблюсти за приготовлением самых любимых блюд Левы и Жени, Анна Ивановна была как бы охвачена страхом, что вот-вот она потеряет и Леву, и Женю. Господи, что же тогда с нею будет? Никогда еще ея материнская любовь к ним не проявлялась в таком трогательном виде Старухе хотелось чуть не на руках носить, чуть не на колени сажать ея «детей». И в то же время потихоньку она толковала с Миннушкой и с моей матерью, как обидели ея Женю и Леву. Женя это чует, ей, верно, намекнули злодеи, вот почему она и ходит такая печальная; известно, чистый ребенок, огорчила ее эта грязная выдумка. Да уж что она, когда сам Лева так опечалился, что — Господи, до чего злые люди могут довести! — о смерти заговорил, о своей смерти! Никогда и не думал об этом, а уж как иногда хворал, — теперь же вдруг заговорил об этом! Миннушка вздыхала и плакала вместе с теткой, замечая при этом в утешение, что Господь из любви к Жене и Леве послал это испытание им, так как Бог всегда испытывает тех, кого любит; праведники потому и страдали всю жизнь, что их Бог любит. Моя мать, выслушивая Анну Ивановну, осторожно и сдержанно советовала ей забыть всю эту историю, не говорить о ней, так как в деле сплетен единственное спасение — не обращать на них внимания: сплетня, как снежный ком, чем ее больше подхватывают, чем дальше катят, тем сильнее она растет. В то же время Анна Ивановна считала нужным развлекать своих детей. Прежде она ездила с ними в театры, потому только, что нельзя же было им одним туда ездить, «без старших»; теперь она тащила их за собою, так как сами они не поехали бы, может-быть; с той же целью тащила она их в гости и сзывала гостей в свой дом. В ея разговорах стали прорываться похвалы тем или другим барышням и молодым людям и было не трудно угадать, что она безсознательно, может-быть, подыскивает невесть и женихов для Левы и Жени…
Что испытывали Лева и Женя в это время — это трудно передать. Им, может-быть, было бы легче, если бы Анна Ивановна поверила намекам, если бы все объяснилось разом. Как знать, может-быть, она и простила бы, думалось им. Да, тогда, может-быть, простила бы, а теперь? Нет, теперь она не простила бы! Теперь это ее убило бы. Наконец, как сказать ей это самим, когда она уже говорила, что это ее убило бы, что она изгнала бы Женю? И если бы она была менее ласкова с ними, если бы она не видела в них «обиженных» детей. Чтобы успокоить ее, нужно притворяться веселыми, счастливыми. А как притворяться, когда их волнует вдобавок ко всему положение тщедушнаго ребенка, живущаго на стороне, без их призора. Видеть его даже на минуту им удается урывками. Хотя бы он умер! Они желали этого и пугались этого желания, как мысли о детоубийстве, точно ребенок мог умереть от их желания ему смерти. Я не знал, как все это действовало за Женю, но Лева впал опять в свое мистическое настроение. Это наказание Божие за грех! Но что значат земныя мучения перед загробными муками? А эти муки ждут впереди грешников. От этих мук там нет избавления; оне продолжаются вечно. Чем искупить этот грех, чтобы не мучиться и на том свете? Дни его, Левы, сочтены, и он должен торопиться загладить свой грех. Загладить? Это легко сказать, но как это сделать?.. Как тяжело мучили его эти вопросы, это я понял из его разговоров о будущем, оставшись как-то с ним наедине после этих, событий в его жизни.
— Да, вам трудно, я думаю, скрывать ваши отношения, и волей-неволей приходится подумать о втором ребенке, — мельком заметил я.
Он остановился передо мною в недоумении, смотря на уеня почти тупым взглядом, точно ничего не понимая.
— Какия отношения? Какой ребенок? — глухо спросил он. — За кого ты меня считаешь? Я мог сделать грех, но повторить его — я еще не совсем подлец, не совсем погибший грешник.
— Вы-же любите друг друга, и вам… — начал я.
Он перебил меня уже раздражительно.
— Тут не может быть речи о том, любим мы или не любим друг друга! Да, мы любим друг друга. Любим! Если бы мы разлюбили один другого, нам было бы легче. Но это-то и есть кара Божия; Бог дал нам нести этот крест здесь за наказание!
Я вспылил.
— Бог! Бог! Вы с Вурмом так говорите о Боге, точно ежедневно беседуете с Ним! Сами себя произвели в поверенные Его намерений и определений, господа духовидцы и пророки. Кощунство это какое-то! И как не стыдно приплетать Бога ко всей этой любовной истории, к этой житейской грязи!.. Ты бы, верно, женился на Жене, если бы вы были протестанты; теперь же, вступив с ней в связь, ты сделал противузаконный поступок, вот и все. Но дело не в том…
Он хотел перебить меня, но я остановил его.
— Погоди, дай сказать! Ты со своими воззрениями, расходясь с ней, порывая свои отношения с ней, можешь вообразить, что ты искупаешь здесь свои грехи и, может-быть, надеешься за это попасть прямо в рай. Тебе ведь только этого и надо… Но каково ей? Ты спросил ли ее об этом.
Его лицо исказилось нехорошей, жесткой улыбкой.
— A! ты думаешь, что Женя такая же язычница, как ты? — с иронией сказал он. — Я давно замечал, что у тебя нет ничего святого… Бог, религия… что тебе до всего этого!.. Ты думаешь и Женя такая же? Ты ведь когда-то болтал с ней о религии со своей точки зрения. Ты думал, она заразилась твоими, взглядами. К счастию, ты ошибаешься. Женя вполне уразумела весь ужас нашего поступка.
— То-есть ты погубил ее и еще терзаешь ее своими мистическими ужасами? — резко сказал я. — Недостает только, чтобы она потеряла разсудок от всей этой истории.
— Да ведь для тебя разсудок все, — с горечью воскликнул Лева. — Лучше погубить душу, лишь бы его сохранить.
— Что это ты словами Вурма говоришь? — раздражился я. — Уж ты и его не посвятил ли в свою тайну?
— Ну, а если бы и так? — уклончиво проговорил Лева.
— Ну, так я вот что скажу. Ты терзаешься, совершив грех с точки зрения православия, и в то же время не боишься сделаться вполне отщепенцем православия, примыкая к какой-то непризнанной секте, ища защиты у какого-то самозваннаго пророка. Где у тебя твоя логика, где трезвый взгляд на вещи? Уж не обещал ли тебе Вурм местечка в царствии небесном за отступничество от православия и поступление под его протекцию?
Лева широко открыл глаза, точно я высказал какую-то совершенно новую для него мысль, никогда не приходившую ему в голову и страшно поразившую его теперь. Он в волнении заходил по комнате, хватаясь за свою пылающую голову. Несколько минут длилось молчание.
— Нет, нет, оставим этот разговор, — наконец, заговорил он тревожно, с каким-то отчаянием махнув рукою. — Мы никогда не поймем друг друга. Ты можешь внести в душу только разлад, вместо надежды и успокоения… Ты ни на минуту не останавливался на тех вопросах, над которыми глубоко задумывался я.
И, сухо оборвав разговор, он сделал мне несколько незначительных вопросов, не интересовавших ни его, ни меня, спросил что-то о театре, кажется, даже заметил, что нынче стоит хорошая погода… Между нами вдруг что-то оборвалось, воздвиглась какая-то стена. Меня более всего поразило то, что во мне не было жалости к Леве, не было сожаления о порвавшейся дружбе, не было желания сделать какой-нибудь шаг для устранения взаимной холодности. Он стал вдруг для меня чужим человеком. Уходя от него, я невольно задумался над вопросом, как это могло случиться так внезапно? Не был ли он и всегда чужим для меня? Волновали ли меня его тревоги и мучения, как волновали меня какия-нибудь невзгоды и лишения выбившихся из сил тружеников? Нет, нет и нет! Я выслушивал его сетования и только; когда же жаловались те люди — во мне все переворачивалось вверх дном, являлось озлобление на притеснителей и грабителей, закипало страстное желание помочь, спасти, утешить. Смотря на его судьбу, я оставался простым любопытным, заинтересованным зрителем и даже — теперь я ясно понимать это — становился тем более любопытным, чем драматичнее были перипетии этой судьбы; смотря на участь бедняков, я рвался только к одному — принять участие в этой драме, вмешаться в эту драму, превратиться из зрителя в деятеля, страстнаго, горячаго, с жаждой мщения за страдающих. Теперь мне припомнилось, что и сам Лева как бы угадывал во мне эти чувства, это направление. Он часто замечал мне: «какой у тебя узкий кругозор»; «что значат эти единичныя явления перед мировыми вопросами»; «ты весь растратишься на мелочи, если будешь волноваться из-за- каждаго единичнаго факта несчастий и несправедливостей». Иногда он просто раздражал меня, когда я просил у него помощи для какой-нибудь голодающей семьи, и он, давая ее равнодушно, не глядя даже, сколько дает, много или мало, замечал мне: «не об Иване, мой друг, надо заботиться, а об Иванах: оплакивать каждаго в отдельности — слез недостанет». Вспоминая теперь об этих мелочах, я в недоумении спрашивал себя: «что же нас связывало?» Привычка. Этот деспот, привязывающий нередко людей к одним и тем же предметам, местам, личностям, давно уже сменил в нас обоих более теплыя чувства детской привязанности, юношеской дружбы. Даже сознав все это, я понимал, что нас еще долго будет тянуть друг к другу, хотя нам уже не о чем было говорить друг с другом.»
IX.
На житейской сцене, как и на театральных подмостках, бывают драмы, может-быть, и глубокия, и потрясающия, но однообразныя по своей сущности, не обещающия с самаго начала ничего новаго в своем дальнейшем развитии. Как бы ни были талантливы их исполнители, как бы ни были сильны в отдельности их эпизоды, зритель, в конце-концов, чувствует утомление и, не дождавшись их окончания, уходить прочь. И на что ему ждать их конца, когда этот конец предугадан вперед? Такою драмою была жизнь Левы вообще. Я мог присматриваться к ней, покуда я еще мог обманываться насчет наших отношений друг к другу; но раз явилось сознание, что мы чужие, драма этой жизни стала мне казаться просто скучною. Мой отец после посещения семьи Шельхеров нередко говаривал: «какого рожна им еще нужно?» «с жиру бесятся»; «проморить бы их на морозе голодом, заставить бы поработать до седьмого поту, стряхнули бы с себя дурь»; «сладкопевцы и больше ничего». Прежде меня немного смущали и сердили эти замечания об этих «добрых людях». Теперь я задумывался над этими словами и склонялся на сторону отца. По привычке меня еще тянуло иногда к этим людям, но, направляясь к ним, я порою задавал себе неожиданно вопрос: «да что мне там делать?» и сворачивал с дороги. Встречи становились все реже, все короче.
В доме же Шельхеров все шло по-старому, даже как будто все пошло ровнее. Мельком я узнал, что ребенок Левы умер, и, вместо слез и жалоб, услышал от Левы:
— Господь прекратил его страдания и избавил от гибели!
В тоне этой фразы было что-то сухое, черствое, бездушное. Меня просто покоробило от нея. Мне показалось, что Лева сказал бы то же самое и тем же тоном, если бы ему принесли весть о гибели всего мира. Для него уже не существовало ничего, кроме его собственнаго я, которое нужно было спасти от загробных мук…
Однажды я узнал от отца, что Лева захворал. «Это, кажется, смерть», — коротко сказал отец. Я пошел к Леве и застал у его постели Вурма. Вурм, не глядя на меня, с тяжелым вздохом поднялся с места, точно праведник, удаляющийся при приближении искусителя. Я не без ненависти взглянул на эту сухую, длинную фигуру с набожным лицом, с поднявшимся на мгновение к небу и снова потупившимся взором. Лева встревожился и с сожалением сказал:
— Рейнгольд Карлович, вы уже уходите!
— Да. Я еще зайду в другое время! — скромно ответил Вурм.
Я мельком взглянул на него и сказал:
— Я вам не мешаю! Я зашел только взглянуть на Леву и сейчас ухожу…
Я пожал руку больного, простился с ним и вышел.
Вурм присел снова к постели.
В гостиной меня встретила Анна Ивановна, опечаленная, в слезах. Она засыпала меня вопросами: — ну, что? Как ты его нашел? Что Константин Федорович говорит?
— Отец советовал вам созвать консилиум, — заметил я.
Она безнадежно махнула рукой.
— Лева и твоего отца едва допустил. Не хочет лечиться, ни за что но хочет!
— Что же он на Вурма, что ли, надеется?
— Ах, уж и не говори ты мне! Я совсем голову потеряла.
И она начала мне жаловаться. Лева в последнее время все о смерти говорит. Ну, значит, нездоров и надо доктора позвать. Так нет, не хочет. Что же, разве он не понимает, что это убивает и ее, мать. Хоть бы ее-то пожалел! Так нет, точно замерло все в нем. Ох, дурной это знак! Это у людей часто перед смертью бывает. Все опостылеет, все чужим станет. Вместо доктора, он зовет Вурма. Что-ж Рейнгольд Карлович свой человек, она сама любит иногда послушать, когда он о божественном говорит, но все же — зачем его звать каждый день? У него своя вера, кто его знает какая. Как ни как, а все же еретик он. Уж не то, что но православный, а даже лютеране и те еретиком его считают. Сам себя в пророки произвел. Чего он натолкует больному человеку. Ну, хочется Леве о божественном в болезни послушать — позови священника. А то, храни Господи, умрет еще так-то в беседах с еретиком. Ведь уж что ни говори, а Рейнгольд Карлович еретик, самозванный пророк! Здоровый человек для развлечения может его послушать, а на смертном одре тоже о душе нужно подумать, всяких бредней нечего слушать. И какия слова говорить Лева!
— Я ему заметила о священнике, а он: «что мне священники, что я им? Прежде мне ничего не дали и теперь ничего не дадут». Да что же они могли ему дать? И чего у него недоставало? Это он, верно, уже в бреду говорит. И не поймешь, что!
Она опять стала жаловаться, что Вурм сидит все у Левы. Вот ведь сидит он целые часы наедине с Левой, а свои, домашние, бродят, как мухи осенью по комнатам, не зная, что с Левой делается…
— Ох, уж не во-время мы его привадили к дому… Как здоровы да веселы, оно и забавно послушать его, а теперь он — точно бревно на дороге…
Потом она стала жаловаться и на то, что и ея здоровье расшаталось не время болезни Левы. Она ведь одна ходит за ним. Бедная Миннушка слаба, где же ей, убогому человеку, ходить за больным.
— А Женя? — сорвалось у меня с языка.
Анна Ивановна махнула рукой.
— Недовольна я Женюшей, — сказала она. — Помнишь ты, толки-то позапрошлой зимой были? Ну, с тех пор она и Лева точно чужие, стали сторониться друг от друга. Пробовала я им уж говорить, что дурят они, что никто ничего не подумает о них дурного. Ну, да это их дело. Пока Лева был здоров, оно и ничего было. А теперь…
Она немного нахмурилась.
— Это уж ведь просто какое-то безсердечие со стороны Жени. Брат лежит болен, а она не заглянет к нему. Точно злится на него, что про нее шли эти толки. Так разве Лева был виноват?
— Может-быть, Лева сам не желает, — сказал я.
— Голубчик ты мой, что ты говоришь! Ну, не желает он, так разве любящая сестра не сумела бы сделать так, что он допустил бы ее ухаживать за ним? Нет, я уже и не знаю, что с Женюшей сделалось… Ты видал ли ее? Взгляни! Исхудала, глаза большие стали, смотрит, точно что потеряла. Спросишь что, ответит: «а?» а сама точно от сна ее разбудили. Улыбнется, так я уж не знаю, что это, точно судорогами ей рот раздергивает…
Анна Ивановна глубоко задумалась. Я удивился тому, что Анна Ивановна начала делать наблюдения в окружающей ее среде, стала подмечать новыя черты в окружающих ее лицах.
— Да, видно, чужое чужим и останется! — со вздохом сказала Анна Ивановна.
— Вы это насчет чего?
— Да вот о Женюше. Известно, мне не дочь, Леве не родная сестра.
В тоне Анны Ивановны я впервые подметил какую-то нотку вражды.
— Или уж и в самом деле женить его хотела на себе, да и разсердилась, что не удаюсь.
— Анна Ивановна, что вы! — воскликнул я почти с испугом.
Она неожиданно расплакалась.
— Молод ты, Николаша, не знаешь жизни! Чего не бывает на свете… Да и мать я, голубчик, чего-чего не приходит в голову в этаком-то горе… Иногда жаль Женюшу, а иногда… точно на врага я на нее смотрю… Брата бросила, в этаком-то положении бросила!.. Где же сердце у нея?..
— Да вы бы поговорили с Женей откровенно! Не хотите ли, чтобы я поговорил с ней? — спросил я.
— Поговори. Только насильно мил не будешь! — ответила Анна Ивановна, — Нет, дурное у нея сердце, дурное! Теперь я это вижу, сама вижу!..
Я прошел к Жене. Я ее не видал давно и был поражен происшедшей с ней переменой. Анна Ивановна верно подметила выражение ея лица, растерянное, недоумевающее, тупое. Казалось, ея мозг не мог осилить происходившаго в нем брожения. Это был мозг ребенка, которому нежданно-негаданно задали работу, бывшую не по силам даже иному взрослому и развитому человеку. Шаловливому и резвому ребенку вдруг сказали, что он великий грешник, что его ждут страшныя муки и здесь, и там. Тут было от чего растеряться. Я заговорил с Женей мягко, дружески. С первых же слов она заплакала по-детски.
— Не велел, не велел ходить! — отвечала она на все мои увещания.
— Да ты растолкуй, что это нужно ради Анни Ивановны, что тебе самой неловко, что это опять может возбудить подозрение. Или тебе самой не тяжело?
— Господи! Да я же его люблю! — воскликнула она, рыдая. — Ты пойми, что я не могу разлюбить его! Он все про ад, про муки вечныя говорит, а я…
У нея оборвался голос от рыданий.
— Я… жду одного ласковаго взгляда, одного приветливаго слова!.. А он… он говорит, что это демон-искуситель во мне…
И из ея уст полились мучительныя признания. Не день, не два терзал Лева и себя, и ее этими толками о их падении, о их грехе, об ожидающих их наказаниях. Когда ей нужно было ласковое слово, утешение, она бросалась к нему, а он сурово отталкивал ее, говорил, что ей мало, верно, одного греха, что ей хочется вечной гибели. А что-ж ей делать, если он один и мог дать ей утешение, если она не может разлюбить его? И во время этих мучительных признаний, ея глаза смотрели растерянно, с недоумением, как бы спрашивая меня: где же исход? неужели спасения нет? Неужели ей так и суждено страдать и здесь, и там?
Я, как умел, старался успокоить ее.
Я ушел от нея с тяжелым чувством. В то же время я был убежден, что мои слова не остались без влияния на нее. Я не ошибся в этом, но я ошибся в результатах моих увещаний. Если бы я мог предвидеть эти результаты, я никогда не вмешался бы в это дело…
Прошло не мало дней с той поры, как я узнал все мелочи сцен, происшедших после моего посещения Шельхеров, а мне и теперь тяжело рассказывать об этом.
Женя после моего ухода не вдруг собралась зайти к Леве. Но все же собралась. Был уже вечер, когда она вошла к нему. Он лежал на спине и, не поворачивая головы, спросил:
— Кто тут?
— Я, Лева, — тихо ответила Женя.
— Ты? ты? опять? — воскликнул он с горечью.
Она быстро подошла к его постели, опустилась на колени и в слезах прошептала:
— Лева, я не могу… Пойми ты, что я страдаю, не видя тебя… Ты бблен, а я не вижу тебя, не знаю, лучше ли тебе или хуже, не смею помочь тебе… Неужели я стала тебе совсем чужою? Мы муж и жена перед Богом…
И все, что наболело в ея душе, вылилось в страстных, отрывочных фразах. Это были не упреки взрослаго человека, а лепет огорченнаго, обиженнаго ребенка. Когда-то этот ребенок был для Левы всем — светом, радостью, жизнью. Это чувство никогда не умирало в душе Левы: он только подавлял его, умерщвлял, чтобы не лишиться загробнаго блаженства. Теперь этот нежный голос, эти горькия слезы, эти детския жалобы растопили лед. У Левы потемнело в глазах, у него закружилась голова. Страсть — страсть чахоточнаго человека, у котораго, по его выражению, все горело в груди, — страсть, долго подавляемая страшными усилиями, застращиванием себя адом, проснулась, прорвалась наружу каким-то бурным потоком, и он, забыв все, уже покрывал поцелуями ея лицо, ея руки.
— Девочка моя, бедная девочка, что я с тобой сделал! — вырывались из его груди восклицания. — Загубил вою твою жизнь!..
Она обвила его руками, радуясь этой вспышке любви и забыв все недавния терзания. Она любовалась этим исхудалым, но все еще прекрасным лицом.
— Не говори, не говори этого! — шептала она. — счастлива! Твоя любовь для меня все! Дорогой, выздоравливай только, а там — будь, что будет.
И, ласкаясь к нему, она говорила опять о любви, о надеждах. На минуту ей показалось, что воротится их прежняя жизнь, — та жизнь, когда он называл ее, Женю, своего весною. Он, кажется, надеялся на то же, забыв и Вурма, и близость смерти, и ад…
— О, если бы только вернуть жизнь! — восклицал он. — Еще бы хоть год, один год счастья… Ничего мне не нужно, кроме тебя… тебя…
Эти восклицания прервал страшный припадок кашля. Задыхаясь, Лева судорожно ухватился костлявыми руками за подушку и бился в каком-то отчаянии. На подушке показались пятна крови. Женя, перепуганная и растерявшаяся, слышала только восклицания:
— Не могу!.. Не могу!.. Уйди!.. Зачем ты пришла!.. Смерть!..
За припадком последовало полное изнеможение, какое-то тяжелое забытье. Потом он очнулся, обвел комнату мутным взором, как бы припоминая все, что произошло. Этот свинцовый взгляд остановился на Жене почти с ужасом. В ушах Жени тихо, но отчетливо раздавался хриплый шопот:
— Уйди!.. уйди…
Она покорно встала, вышла на цыпочках, озираясь, точно боясь, что кто-нибудь подслушал, подсмотрел все происшедшее. На следующий день, рано утром, Лева послал за Вурмом. Длинный, сухой, с набожным лицом, с потупленным взором, Рейнгольд Карлович прошел в спальню больного.
До этого дня Лева много и долго говорил с ним о грехах, спрашивал, как можно очиститься от грехов. Вурм знал все помыслы, все намерения Божии. Бог посылает иногда грех людям, любя людей, желая исцелить их от гордыни, от самомнения, то-есть от самых страшных грехов. Это уже потому самые страшные грехи, что человек прежде всего должен сознавать одно: спасти может Бог, а сам человек спастись не может. Зараженные гордынею и самомнением забывают именно это и полагаются на свои силы, то-есть идут прямо на погибель. Совершенный грех в избранных пробуждает раскаяние, усиленное желание стать лучше, не грешить впредь, искать Божией помощи — единственнаго нашего спасения. Это воздержание от повторения греха, несмотря на все искушения, и отличает званых от избранных. Только избранные и могут отсечь руку, если она соблазняет их, вырвать око, если оно соблазняет их. Неизбранные не могут этого сделать. Недаром же в рассказе о богатом юноше говорится, что Богу все возможно, а людям невозможно. Какой грех совершил Лева — Вурм не спрашивал. Да и мог ли он спрашивать, когда он все знал и без объяснений? Разспросы могли бы поколебать веру в его всеведение. Ведь он пророк! Ему все открывает Бог. Теперь настала именно такая минута, когда Лева сказал, должен был сказать все. Еще бы! Вчера он чуть не умер именно в ту минуту, когда все греховное воскресло в нем снова и сразу погубило все достигнутое долгими днями покаяния. За минуту любви он, Лева, готов был отдать вечность небеснаго блаженства. Вурм, кроткий, набожный, слушал, не удивляясь, не возмущаясь, как следует человеку, видящему и знающему все.
— Бог милосерд, он в эту минуту напомнил тебе о смерти и спас твою душу, — сказал он набожно и торжественно. — Долгие дни упорной борьбы со своею плотью могли породить в тебе самомнение, веру в свои силы, способныя побороть все. И вот Бог послал тебе искушение, чтобы еще раз показать тебе, как ничтожен человек.
— О, я знаю, знаю все свое безсилие, всю свою ничтожность! — воскликнул Лева. — На каждом шагу мне грозят искушения… мне нужна поддержка…
— И Бог ее дал тебе, — торжественно произнес Вурм. — Я с тобою!
Он благоговейно сложил руки, поднял к небу глаза, стал читать одну из безчисленных молитв-импровизаций. Тихий, льющийся, как ручей, кроткий голос, возвышенныя фразы, набожное выражение лица пророка, все это снова влило мир в душу больного. Он смиренно склонил голову на подушке, и когда молитва была окончена, поцеловал руку своего утешителя. Тот, казалось, открывал ему снова двери рая, ради котораго больной забыл все в жизни, дружбу, любовь, науку, деятельность. Вурм возложил на минуту на его бледный лоб руки, точно стараясь успокоить этим прикосновением бури в тревожном мозгу умирающаго, и потом безмолвно вышел из комнаты, видя, что больной, утомленный всей этой сценой, закрыл глаза с блаженной улыбкой. Своим обычным мерным шагом Вурм безшумно направился к комнате Жени. Он постучал к ней в дверь и, услышав ответ: «войдите», вошел к молодой девушке. Она вздрогнула и поднялась с места при виде его. Она мгновенно угадала все. Он никогда не заходил к ней, он даже почти не обращал на нее внимания до этой поры. Ее охватил какой-то инстинктивный ужас при появлении на пороге этой исхудалой, высокой фигуры с строгим, как бы застывшим выражением на лице. Он мог появиться в ея комнате только затем, чтобы сказать: «я все знаю!» Он пристально взглянул на нее и торжественным, проникающим в душу тоном, подняв правую руку вверх, произнес:
— Что вы делаете, безумная! Или вы не знаете, что вечное проклятие поражает того, кто соблазняет даже и умирающаго.
Она широко открыла глаза, полные выражения ужаса, вскрикнула, зашаталась и упала, как подкошенная, у его ног. Он неторопливо наклонился, чтобы поднять ее и привести в чувство. Склоняясь над нею, он даже и не подозревал, что сзади его, в отворенных дверях, стояла женщина, нуждавшаяся, быть-может, в помощи гораздо более, чем Женя. Это была Анна Ивановна, догонявшая Вурма после его ухода от Левы и следом за ним вошедшая в комнату Жени…
X.
Спустя несколько дней после этих событий, я сидел с матерью за утренним чаем. Обоим нам было не по себе, так как отец с вечера ушел к Шельхерам и еще не возвращался домой. Он только прислал записку, чтобы мы не безпокоились; он писал, что Леве очень худо и потому ему, отцу, придется, вероятно, провести ночь у Шельхеров. Мы терялись в догадках, что происходит там. Наскоро допивая стакан, я решился идти к Шельхерам, чтобы навести справки. В эту минуту раздался звонок, и в прихожей послышался голос отца. Я поднялся с места. В столовую вошел отец. Он был видимо утомлен и хмур.
— Ну, что? — разом спросили я и мать.
Отец махнул рукою.
— Все кончено, — ответил он.
У матушки показались на глазах слезы. Я молча заходил по комнате. У меня сдавливало горло, я закусывал губы, стараясь не расплакаться. В голове не было и мысли о мелких недоразумениях, об охлаждении к Леве за последнее время, было только одно сознание, что догорела и погасла молодая жизнь, полная страданий и тревог; было ощущение утраты того, с кем прошли лучшие годы детства.
— Чаю, голубчик; устал я, — проговорил отец, обращаясь к матери и прерывая тяжелое молчание.
Мать, засуетилась, отирая наскоро слезы.
— Что бедная Анна Ивановна? — тихо проговорила она, налив отцу стакан. — Бедная, бедная мать!
Из глаз матушки слезы хлынули уже потоком, удерживать их теперь она была не в силах.
— Я с Анной Ивановной и провозился всю ночь, — ответил отец. — Паралич разбил…
Отец неторопливо стал рассказывать все события этой ночи, прерывая иногда рассказ словами:
— Полно, полно, Леля!..
Мать отирала слезы, старалась успокоиться и снова плакала. Она, как любящая мать, понимала весь ужас потери, понесенной Анной Ивановной. На что нужна теперь жизнь этой женщине, лишившейся сына? Я сидел у стола, опустив голову на руки, подавленный всем, что рассказал отец. Это была поистине страшная ночь. С вечера
Леве стало хуже. Болезнь шла быстро к развязке. Пришлось предупредить Анну Ивановну. Несчастная женщина, несмотря на долгую болезнь сына, все еще не верила в душе, что конец так близок. Она растерялась, начала умолять моего отца и двух других докторов, находившихся при Леве, о спасении, требовала, чтобы ее пустыя к сыну, а у него, между тем, близилась агония, с страшными предсмертными муками, с бредом и конвульсиями. Он метался по постели, хватался за грудь, лицо принимало страшное выражение.
— Довольно было и их двоих, чтобы потерять голову, а тут еще пришлось возиться с Женей, — сказал отец. — Я уж сдал ее на руки тете Марише и не заглядывал к ней. Тут не о прекращении истерики нужно было думать, а о спасении Анны Ивановны. Едва успели сказать старухе о смерти Левы, как ее поразил паралич. Теперь трудно и определить, выживет ли она. Впрочем, если и выживет, то трудно ожидать, чтобы выздоровела совершенно.
— Ах, да на что ей теперь жизнь! — воскликнула матушка.
Отец допил чай и поднялся с места.
— Вот когда бы с удовольствием завалился спать, вместо посещения больных, — проговорил он, потянувшись.
— В самом деле, ты отдохнул бы, — сказала матушка.
— А больные? — проговорил он. — Ничего, кое-как перемогу себя, разомнусь.
Он поцеловал мать и пошел в свой кабинет переодеваться. Я тоже поднялся с места, чтобы идти.
— Ты к Шельхерам? — спросила мать.
— Да, надо взглянуть на Леву, — ответил я.
— Я тоже через часок зайду к нему, — сказала она.
Мы говорили о нем еще как о живом…
Как живо помню я это светлое весеннее утро. Еще улицы были покрыты кое-где грязью, в которую превратился стаявший снег, еще из водосточных труб с грохотом вываливался на тротуары полурастаявший лед, еще деревья в садах стояли совершенно обнаженными, но небо было уже весеннее, синее, глубокое, солнце горело ярко и заметно грело своими сверкающими лучами, в воздухе слышались гомон и чириканье птиц, в домах открывались окна, на улицах было заметно особенное оживление точно все проснулись от долгаго сна, выбрались из своих нор, чтобы подышать свежим воздухом, и самый грохот колес, так надоедающий летом, теперь казался каким-то веселым, оживляющим… И каким контрастом показался мне дом Шельхеров с этой проснувшейся «улицей»: в нем точно все вымерло. Я вошел в прихожую, сбросил пальто и вступил в зал, не встретив никого. В этой белой зале с бледно-голубыми узорами, где, может-быть, не раз мечтали Роман Шельхер и его жена о будущей женитьбе сына, было совершенно безлюдно, и только при моем появлении сделался громче гнусавый голос молодого монаха, читавшаго псалтырь. В углу, на возвышении, покрытом простыней, лежал труп, тоже прикрытый простыней; такими же простынями были завешаны над двумя каминами и в простенках зеркала. С перваго раза казалось, что тут не один покойник, а несколько, только один лежит, а другие приставлены к стенам. Я направился к телу Левы. Мои шаги как-то особенно звонко раздались в пустой комнате. Я подошел к покойнику, откинул с его лица простыню, и по моему телу пробежала невольная дрожь: его лицо было еще повязано платком, чтобы не открылся рот, на глазах лежали медные пятаки, чтобы не открылись веки. Из моих глаз полились слезы при виде этого исхудалаго, но все еще прекраснаго лица. Сердце мое сжалось невыразимою тоскою, точно мне было обидно и больно за этого брошеннаго покойника.
— Теперь можно бы снять, скоро духовенство прибудет, — раздался чей-то довольно звонкий и чистый голос, заставивший меня вздрогнуть.
Я обернулся. Оказалось, что это заговорил со мною монах. Он провел рукою около своего лица и указал на свои глаза, чтобы выразить яснее и нагляднее, что нужно снять. Я стал развязывать платок на голове Левы, стал снимать пятаки с его глаз. Монах опять загнусил, продолжая чтение совсем иным голосом, чем говорил со мною.
— Чахоткой, должно-быть, помер? — раздался снова его звонкий голос, прерывая гнусавое чтение на полуслове.
— Да, — ответил я.
И прибавил:
— Сюда никто не проходил? Где же все?
— Какая-то хроменькая барышня заходила… А то никого не видать… Распоряжается-то кто?
— Право, не знаю, — ответил я.
Монах вздохнул.
— Причесать бы нужно…
Я не сразу понял его, взглянул на него. Он кивнул головой в сторону покойника и опять указал на свои волосы. Я понял, торопливо порылся в кармане и стал приглаживать волосы Левы. Монах отплюнулся, усердно пошаркал ногой по паркету и снова загнусил, читая псалтирь.
Я закрыл простынею лицо Левы и направился разыскивать кого-нибудь из семьи Шельхеров. В моей душе была какая-то обида за Леву на его родню, на Женю, бросивших труп. В дверях залы я столкнулся с Миннушкой.
— Ах, это ты, Коля! — Проговорила она, сжимая мне руку. — А я шла на Леву взглянуть… и отдохнуть…
Я взглянул на ея безкровное, длинное лицо: оно было утомлено, точно еще более вытянулось. Я взят бедную больную девушку под руку и повел ее в гостиную.
— Устала ты, бедная?
— Ах, уж и не говори! Только я, да тетя Мариша и хлопочем… и с тетей Аней, и с Женей…
— Где же все остальные?
Миннушка вдруг разрыдалась.
— Деньги ищут, ссорятся… Господи, они даже чуть не прибили меня, отнимая ключи…
Я начал ее успокаивать, разспрашивать. Из ея отрывочных, прерываемых рыданиями рассказов я узнал все, что произошло в это утро. Едва успел Лева закрыть глаза, едва разнесся слух, что с Анной Ивановной сделался «удар», как дом уже наполнился родней. Повидимому, Ольга Дмитриевна и ея сообщники ждали этого момента, как ждут гробовщики смерти опасно больного, прохаживаясь, подобно шакалам, около дома умирающаго. Марина Осиповна и Миннушка, застигнутыя врасплох постигнувшим семью несчастием, еще метались из угла в угол — от трупа Левы к лежавшей без чувств Анне Ивановне, к бившейся в истерическом припадке Жене, а родня сбилась в кучу в столовой и громко обсуждала вопросы: кто будет хоронить Леву? Где у Анны Ивановны деньги? Не на свой же счет хоронить Леву им. родным? Где находятся ключи от денег?
— Уж где им быть, как не у Миннушки! — воскликнула Ольга Дмитриевна. — Доверенный человек, везде лазает без надзора…
Притащили Миннушку, начались допросы.
— Ты знаешь, никогда я ничем не распоряжалась, никогда ни во что не вмешивалась, — говорила мне Миннушка жалобным тоном. — А они кричат, топают на меня ногами!.. Господи, какие это безсовестные люди!.. Я растерялась, ноги подкашиваться стали… а они кричат, кричат!.. «Подай ключи, они у тебя!..» у меня никогда не было в руках ключей…
Они не постыдились просто ругаться: «Блаженная», «поврежденная», «идиотка!» Никто из них не мог поверить, что она точно не интересовалась вопросом о деньгах, о ключах. Нищая, приживалка и не думала о деньгах!.. Статочное ли это дело? Кто ей поверит! Да и как же поверить, когда они сами только и думали об этом. Наконец сообразили, что ключи у Марины Осиповны, и приказали Миннушке принести их. Миннушка исполнила приказание.
— Они чуть с ног меня не сбили, когда я принесла ключи, — продолжала Минна. — Все разом бросились за ними, отталкивая друг друга. Я думала, они раздерутся…
Возбужденные алчностью, эти грабители почуяли друг в друге врагов и переругивались уже между собою, видя ключи от денег. Они доказывали друг другу свое первенство в качестве наследников; они не доверяли один другому, боясь, что тот или другой из них скрадет часть денег. Повидимому, они вовсе забыли о том, что Анна Ивановна еще жива…
Наконец, над всей этой шайкой, среди которой были и какой-то содержатель купален и плотов, и мелкий чиновник с орденом в петлице, и какие-то юнцы, еще не окончившие курса в гимназии, и Ольга Дмитриевна со своим Володей, — внезапно возвысил свой голос один из богатых родственников покойнаго Романа Шельхера. Он прибыл в дом нежданно, негаданно и застал родных Анны Ивановны как раз в разгар их перебранки из-за ключей.
— У меня точно гора с плеч свалилась, когда я увидала дядю Карла, — говорила Миннушка. — Знаешь его, как он на своем заводе командовать привык. Он как вошел, как окинул всех глазами и крикнул: «вы это что, господа, собрались? Имение делить? Какое вы имеете право распоряжаться? Сейчас подайте сюда ключи. Вы все отвечать будете, если что-нибудь пропадет». И все притихли, перетрусили, а дядя Карл взял ключи и говорить: «теперь нужно не грабить, а охранять имущество законным порядком». И никто не пикнул перед ним, точно лакеи перед барином… Тут только и распорядились перенести Леву в зало и послать за монахами, за гробовщиком…
— Где же теперь вся роденька? — спросил я, ощущая омерзение ко всей этой грязной шайке.
— Ах, все еще здесь, в столовой, — ответила Миннушка. — Точно в гостинице теперь у нас. Вот уже два часа, как чай и кофе не сходят со стола…
— Чего же они ждут?
— Боятся друг друга здесь оставить без надзора… Я пошла вот сейчас в буфет, так Ольга Дмитриевна бросилась за мной, глядит, что я беру… Разве я когда-нибудь воровала? Как им не грех!..
Миннушка опять заплакала. Она была крайне жалка. Впервые ей пришлось перенести тяжелую утрату, впервые пришлось испытывать такое тяжелое физическое утомление, и впервые стояла она теперь лицом к лицу с житейскою грязью людского корыстолюбия. Это было горькое начало новаго склада ея жизни…
Мы еще разговаривали с нею, когда в зале послышались движение и говор. Мы поднялись, вышли в зал. Там уже были монахи, надевавшие черныя ризы, осеняясь широко крестным знамением и перекидываясь между собой отрывистыми фразами: «можно начинать или ждать будут кого-нибудь?» По сторонам зала стояла группами родня, продолжавшая полушопотом, но очень оживленно переговариваться между собою. Несколько незнакомых лиц, стоя поближе к входным дверям залы, с любопытством осматривали стены и потолок; было очевидно, что они попали сюда впервые, чисто случайно, желая взглянуть на внутренние покои шельхеровскаго дома; некоторые из группы этих незнакомых людей, очевидно более смелые, подходили к дверям, ведущим в другия комнаты, старались незаметно раздвинуть голубыя спущенныя портьеры и заглянуть искоса в смежныя с залой гостиныя. За этими любопытными зрителями и безучастными к покойнику родными, почти не замечаемая никем, бледная, как мертвец, опираясь на Марину Осиповну, в углу прижалась Женя. Среди всего этого народа засновал молоденький, похожий на девочку, кудрявый и напомаженный послушник, с перетянутой, точно зашнурованной корсетом, тальей, и с поклонами разносил на блюде свечи. Кто-то из духовенства крякнул, кто-то тихонько отплюнулся, в комнате замигали свечи, распространяя легкий чад. В эту минуту входная дверь тихо отворилась, и Вурм, с набожным лицом, с потупленными глазами, тихой походкой прошел вперед, не обращая ни на кого внимания, скромно обходя присутствующих, как бы боясь их задеть. Он прошел к окну, почти к самому изголовью покойника и, сложив руки, поник головою. Священники еще раз откашлялись и начали служить панихиду. Протяжное чтение молитв и пение, запах ладана, мерцание и копоть восковых свечей, все это слегка начало кружить голову. Я чувствовал, что у меня стучит в висках и изредка посматривал на несчастную Женю. Я видел, как в ея руках дрожала, как бы подпрыгивала свеча, и боялся, что вот-вот несчастная девушка лишится чувств. Слезы обильно катились по ея лицу. Наконец, грудь ея стала сильнее и сильнее подниматься от всхлипываний, она зашаталась. Я поспешил к ней и едва успел поддержать ее. Она уже билась в истерическом припадке. Затушив ея и свою свечи, я отвел, почти отнес ее в ея комнату. Оставив ее на попечение Марины Осиповны, я вернулся в зал. Панихида кончилась. Священники торопливо разоблачались, послушник обирал свечи, от которых еще поднимались вверх сероватыя струйки дыма, монах, читавший псалтирь, тушил свечи около покойника. В группах родных слышался довольно громкий говор. Я уловил на ходу несколько фраз:
— Срамница, покойника-то позорит! Всего бы ее лишить надо. За одно это по-миру стоит пустить!
— И лишат, и лишат, только бы Аннет пришла в сознание.
— Да, а ведь теперь вообще очень спорный вопрос, кто и по какой линии наследует…
— Да разве нет духовнаго завещания?..
Шарканье ног, шелест платьев, говор толпы, откашливанье читавшаго псалтирь монаха перед началом чтения, все это слилось вместе, действовало как-то неприятно, говорило о каких-то мелочах жизни, о равнодушии всего этого люда к тому, что произошло в этом доме. Я почти с ненавистью смотрел на всех этих людей, думавших и говоривших только о наследстве, торопившихся выйти из залы, не бросив ни одного взгляда на труп того, за кем еще так недавно они ухаживали все с наглой лестью и приниженностью…
Когда зала опустела, мои глаза невольно остановились на одной фигуре. Эта фигура, все время не смешивавшаяся с толпой, выдвинувшаяся из этой толпы, казавшаяся выше остальных, стояла и теперь около покойника, сохраняя величавое спокойствие. Это была фигура пророка. Он простоял неподвижно во все время службы, сложив молитвенно, руки и подняв к небу глаза. Когда кончилась панихида, когда все поспешно стали удаляться, он подошел к Леве и начал тихо молиться, неподвижно, торжественно. Окончив молитву, он. положил руки на голову покойника, как бы благословляя его и принося ему весть мира. По его лицу катились одинокия слезинки. Наконец, он склонился лицом над Левой и поцеловал этот холодный бледный лоб. Не знаю, какия мысли, какия чувства охватили меня всего, но я как-то невольно, точно под влиянием электрическаго толчка, двинулся к Вурму и порывисто, как бы благодаря его, протянул ему руку. Это был порыв, молодой, невольный, непреднамеренный. Вурм понял его по-своему и, удерживая мою руку в своей, торжественно проговорил:
— Этот человек при жизни был нашим общим другом; да послужит же он, мертвый здесь, живой там, связующим звеном между нами…
Он был убежден, что Господь сотворил чудо, и здесь, у праха этого юноши, озарил меня новым светом и превратил в последователя общины святых. Я не разуверял Вурма. Мне в эту минуту не хотелось огорчить старика, не хотелось нарушать в самом себе того впечатления, которое он произвел на меня впервые — впечатления искренно верующаго человека, а не разсчетливаго проныры и обманщика, стремящагося только урвать у людей грош. В этот день я стал глядеть на Вурма новыми глазами: он показался мне не просто ловким актером, а действительно истинным фанатиком. И если он и тут играл только свою «роль», то во всяком случае это безкорыстное притворство было менее омерзительно, чем откровенность всех остальных присутствовавших на панихиде…
XI.
— Вы домой? — спросил меня Вурм.
— Нет, хочу зайти к Жене. Бедная девушка совсем потеряла голову, — ответил я. — И то сказать, такая потеря…. и что еще ждет в будущем.
Я чувствовал, что Анна Ивановна выгонит ее без милосердия из дома, если поправится.
— Бог простил и разбойника на кресте, — набожно ответил Вурм.
— О, я не о том, не о том! — воскликнул я.
Я объяснил Вурму свою мысль. Он взглянул на меня с сострадательной улыбкой.:
— Деньги, все деньги в голове! Неужели вы думаете, что в них все спасение?.: Надо о душе подумать. Но прежде всего надо, чтобы Женя не делала сцен…
— Это свыше ея сил, — заметил я горячо. — Ее так потрясла эта смерть… Вы ведь знаете все…
— Но она должна пересилить себя! — решительно сказал он. — Я пойду к ней и вразумлю ее.
Его голос был тверд и звучал самоуверенностью. Казалось, Вурм глубоко верил, что ему стоит только приказать, и Женя не будет биться в истерических припадках.
— Она не должна позорить в эти минуты дорогого покойника, — продолжал он. — Если люди и подозревают что-нибудь, то она не должна подтверждать этих подозрений.
И опять сострадательно усмехаясь, он прибавил:
— Это нужно и для ея выгод, если оне имеют какое-нибудь значение… Если Анна Ивановна поправится, то я первый постараюсь разсеять все подозрения. Этого будет нельзя сделать, если молодая девушка не соберется с силами, не победит своих чувств. В таком состоянии, в каком мы видели ее сегодня, она способна сама, в конце-концов, наделать глупостей, так или иначе во всем сознаться. Тогда никакия заступничества за нее не помогут…
— Но, Рейнгольд Карлович, неужели вы надеетесь, что вам удастся, — я не находил подходящаго выражения: — вразумить ее?
— Я ее вразумлю, — коротко и твердо ответил он.
— В таком случае я буду лишний, идите одни, — сказал я.
Я понимал, что он прав, что Женя способна в порыве отчаяния наделать Бог знает каких безтактностей.
Мы простились., Вурм направился неторопливо из залы в комнату Жени. Я пошел домой. Я не верил в душе, чтобы Вурму удалась его попытка. В моей голове вертелась неотвязная мысль, что тут не наставления нужны, а какия-нибудь лавровишневыя капли или что-то в этом роде.
Вечером я снова отправился на панихиду. Народу на этой панихиде было гораздо больше, чем утром. Все знакомые Шельхеров уже были извещены о смерти Левы. В доме была сутолока, тихий говор, шли разспросы о смерти Левы, о болезни Анны Ивановны. На всех лицах было одно выражение — выражение любопытства. Все, казалось, думали: «что-то будет дальше?» При входе в зал я отыскал глазами Женю. Бледная, как мертвец, она стояла у стены с широко открытыми глазами, но без слез. Вурм поместился там же, где стоял утром. Панихида началась. Во время ея я заметил, что Вурм в известныя минуты пристально взглядывал на Женю неотразимо властным взором, и она, встречаясь растерянными глазами с этим взглядом, торопливо отирала слезы, опускала веки и стихала. Я видел, как дрожали ея руки, как подергивались ея губы, но до истерики не доходило. Скорбь была подавлена страхом. Подметив более спокойное выражение на лице девушки, Вурм поднимал глаза к небу, и я видел, как его губы едва шевелились, шепча молитву. В зале раздавались последние звуки заунывнаго пения, глаза Вурма буквально впились в Женю, у нея рука совсем повисла со свечой, она всем корпусом прислонилась к стене, но ни одного рыдания не вырвалось из ея груди. Это была какая-то статуя безсилия, покорности чужой воле. Когда последний звук пения замер, когда стали гаситься свечи, и Женя, шатаясь, вышла из залы, Вурм глубоко вздохнул, точно почувствовал облегчение; он подошел снова к Леве, положил руки ему на голову и поднял к небу глаза. Меня охватило странное чувство какого-то непонятнаго страха перед этим человеком. Я сознавал, что с такой страшной силой воли, с такой безпредельной верой в эту силу, можно было считать себя пророком, можно было считать себя выше других людей, мелких, безхарактерных, пошлых, не верящих ни в других, ни в себя.
До этого дня я смотрел на Вурма только с точки зрения своей ребяческой ненависти к нему; теперь я как-то мимовольно с искренним любопытством взрослаго человека вглядывался в новыя открывавшияся мне черты его характера. Я сознавал, что это была сила — не симпатичная, может-быть, для многих, как и для меня, но все же сила. В былые дни я хотел только бежать от Вурма, теперь мне хотелось поближе всмотреться в него, заглянуть в его душу. К тому же я сознавал, что именно он может помочь в будущем Жене, защитив ее перед Анной Ивановной, а мне больше всего хотелось именно этого; я понимал, что родные Шельхеров могут довести старуху до того, что она выгонит Женю безо всего, сделает то, чего так боялся когда-то Лева. Тотчас по окончании панихиды, перекинувшись со мною несколькими фразами, Вурм снова направился в комнату Жени…
На четвертый день были назначены похороны Левы. Когда все собрались в зал, где стоял гроб, Ольга Дмитриевна возбудила вопрос, не следует ли как-нибудь вынести на кресле Анну Ивановну, чтобы она «хоть взглянула на сына». Она ужасно сильно хлопотала об этом, и какия-то, Бог знает откуда, появившияся барыни из купечества вздыхали и охали вместе с нею при мысли, что «как же это родная мать и не увидит даже, как уносят гроб сына». Мой отец, очень мало принимавший участия во всем совершавшемся в зале и посещавший только по несколько раз в день Анну Ивановну, ожидая наступления энцефалита, волей-неволей должен был явиться на сцену, когда вопрос зашел о перенесении Анны Ивановны в залу.
— Она не умрет от этого, — коротко и резко сказал он Ольге Дмитриевне, точно желая сказать ей, что она напрасно об этом хлопочет. — Но я все же не позволю этого сделать.
— Аннет не поблагодарит вас за то, что вы лишите ее этого последняго утешения, — горячо возразила Ольга Дмитриевна.
— Это уж не ваше дело, поблагодарит или не поблагодарит, — сказал отец. — Но распоряжаться я все же буду по-своему, как доктор.
— А кто при Анне Ивановне останется, когда все уедут? — спросил Вурм и, не дожидаясь ответа моего отца, поискал глазами Женю. — Евгения Александровна, — сказал он: — не останетесь ли вы с больною?
Женя, сделав над собою страшное усилие, проговорила:
— Я могу…
— Ах, Боже мой! Нашли кого оставлять! Она сама нуждается в уходе, — воскликнула Ольга Дмитриевна. — Давно ли истерики были?
— Я думаю, родные все одинаково огорчены, — сказал Вурм: — ведь не истуканы же люди, — но Евгении Александровне удобнее всего остаться, как живущей здесь…
— Да, да, Миннушка слабый человек, не ей же оставаться, — сказал дядя Карл, вмешиваясь в разговор.
— Я думаю, можно обойтись и без Жени, и без Минны, — начала Ольга Дмитриевна. — Для чего оне тут?
Дядя Карл разсердился, что вмешиваются в его распоряжения. Он никому этого не позволял. Он резво оборвал Ольгу Дмитриевну:
— Сказано, что Евгения Александровна останется, чего же тут и толковать.
Мой отец немного недоумевал, зачем непременно хотят кого-нибудь оставить при Анне Ивановне, когда есть и сиделка, и слуги.
— Да можно и так, — начал он. — Сиделка…
Вурм перебил его:
— На чужих нельзя полагаться…
— Как это можно! — воскликнул и дядя Карл.
— Я могу остаться, — сказала Ольга Дмитриевна.
Вурм ответил:
— Зачем же двоим, когда решено, что остается Евгения Александровна? Вы же и не знаете всех порядков в доме.
Он видимо боялся пустить Женю на кладбище и, может-быть, не без основания. Там и его влияние на бедную девушку могло оказаться безсильным. Последнее отпевание, опускание гроба в могилу, все это были такие моменты, когда трудно владеть собою. Я это понял, когда началась служба. Женя на этот раз едва сдерживала свои рыдания. Кажется, это заметил и Вурм. Он тревожно осмотрелся, нашел глазами меня и указал мне едва заметно, но выразительно на Женю. Я перешел к ней. Видя, что она слегка начинает вздрагивать, я тихо проговорил:
— Воздержись хоть на несколько минут! Сейчас все кончится…
Она точно очнулась, и ея лицо приняло снова пугливое выражение, глаза инстинктивно обратились к Вурму…
Служба кончилась, началась неизбежная суета, все толпились, спеша проститься с покойником, отставлялись подсвечники, налой, снимался покров, в дверях показался гробовщик с крышей гроба.
— Женя, простись! — тихо сказал я Жене.
Она машинально пошла к гробу, поднялась по ступеням катафалка, готовая склониться над лицом покойника. Я чувствовал, поддерживая ее, что она начинает судорожно биться в моих руках; но ея голова еще не наклонилась, как она увидала по другую сторону исхудалое, строгое, неподвижное лицо Вурма. Что с ней сделалось, поцеловала ли она Леву, наклонилась ли к нему, я не знаю, — помню только, что я снял ее со ступеней катафалка, как труп. В это время уже подносили крышку к гробу, и все спешили в переднюю за верхним платьем, за калошами, толкаясь и переговариваясь: «вы пешком?» «вы с кем поедете?» — едва ли кто-нибудь заметил, как я вынес Женю в гостиную…
Когда я вышел от Жени в залу — здесь уже шла торопливая деятельность, уносили катафалк, прибирали подсвечники, сдергивали простыни с зеркал, полотеры в красных рубахах сдвигали мебель, готовясь приняться за мытье пола. Старый лакей Шельхеров, Иван, покрикивал:
— Живее, живее, ребята! Чтобы все было на своем месте к концу обедни. Тоже живо отпоют…
И с расторопностью опытнаго слуги, он указывал:
— Вот сюда, сюда составляйте мебель, в гостиную. Разом принимайтесь за весь зал. Ишь ведь, как наследили.
И, нагнувшись немного, всматриваясь в пол, он увидал капли воска.
— Воск-то ототрите, вон как накапало около этого места. Это читальщики. Тоже заплевали весь пол!
Полотеры уже засыпали паркет опилками, принесенными в мешках, и ползали на коленях по полу, засучив рукава на мускулистых руках.
— Не очень мочите, — командовал Иван: — а то не ототрете потом.
Будничная жизнь вступала в свои права в доме, где прошла смерть…
XII.
Мой отец не надеялся не только на полное выздоровление Анны Ивановны, но даже на то, что она выживет. Почти пять дней прошло без всяких изменений в ея положении. Наконец, началось лихорадочное состояние, больная была тревожна, ее мучила головная боль, появилось что-то в роде неразборчиваго бреда. Воспалительный процесс был во всей силе. Это положение длилось с перерывами несколько дней. Отец со дня на день ждал, что этот тяжелый процесс кончится смертью. Однако, больная вынесла и это и потом точно застыла в одном и том же положении.
— Кажется, ей лучше? — говорили отцу окружающие.
Он пожимал плечами.
— Теперь я уже потерял всякую надежду, — отвечал он.
Действительно, разстройство ума, движений и чувствительности оставалось прежнее, улучшений не замечалось никаких. Отец предчувствовал, что начинаются поражения в спинном мозгу. Окружающие же видели только покуда отсутствие внешних болезненных признаков, тревоги и бреда, радовались, что это окончилось, и думали, что это начало выздоровления…
За больной ходили теперь неустанно Марина Осиповна, Миннушка, Женя. По распоряжению моего отца и дяди Карла, к больной и даже в дом не допускался никто из родных. Даже Ольга Дмитриевна, несмотря на все ея протесты, не впускалась к Шельхерам. Из-за этого чуть не произошла битва. Ольга Дмитриевна объясняла прислуге, что «они хамы, а она родня», что они не смеют ее не впускать, но с дядей Карлом было не легко сладить. Он был не только упрям и тверд, но даже умел ругаться чисто по-русски, когда это было нужно. Ольга Дмитриевна узнала это по личному опыту, услышав от него, что он ее «вышвырнет». Его крупная мужицкая фигура делала эту угрозу еще более внушительной. Этим здоровым кулакам, вероятно, приходилось не раз расправляться с людьми. Не даром же он выбился из кузнецов в заводчики. Оберегая спокойствие Анны Ивановны, дядя Карл все приставал к отцу с тревожными вопросами:
— Как вы думаете, Константин Федорович, придет она в полное сознание?
Отец пожимал плечами.
— Я думаю, что она едва ли протянет четыре или пять месяцев.
— Ну, ну да, но насчет сознания… Она придет в сознание?
— Да позвольте вас спросить, на что вам это? — раздражительно сказал отец. — Говорю я вам, что она не выживет. Ну, так при чем тут сознание? Исповедывать ее надо, что ли? Так вы лютеранин…
— Как при чем сознание? У нея нет духовной, — сказал дядя Карл.
И его тупой взгляд стал еще более тупым.
— А! вот вы о чем! С духовной или без духовной умрет, денег с собой все равно не унесет.
— Вы ошибаетесь, тут дело не в том, что унесет с собой деньги, а в том, кому все достанется, — разгорячился дядя Карл.
Отец махнул рукою, все еще не понимая сущности дела. Очень уж мало сам-то он думал о подобных вопросах.
— Кому-ж достаться, как не родным. На это есть закон.
— Да, но родные Романа ничего не получат…
Отец только тут понял, что дядя Карл заботится о себе. Он с свойственною ему откровенностью брезгливо сказал:
— Да разве вам нужно? Стыдитесь!..
— О, о, не мне! — воскликнул но без обидчивости дядя Карл: — но Миннушка… потом у нас есть бедные родные в Саксонии… им ничего не достанется!
— Миннушке не достанется, зато Жене достанется, это все равно, — сказал отец. — Женя не оставит Миннушку. Оне живут, как две родныя сестры.
— Ну, это далеко не все равно… И кроме того наши родные в Саксонии… Ах, как необдуманно поступил Роман, оставив все жене… Но неужели нет средств, чтобы Аннет…
— Пришла в сознание? — шутливо спросил отец. — Кажется нет.
— Но я слышал, дают шампанское, — начал дядя Карл.
— Чепуху вы городите, — перебил его отец.
Дядя Карл предложил снова созвать консилиум. Отец не противоречил, хотя очень хорошо сознавал, что пользы не будет никакой. Начались хлопоты с приглашением новых докторов. Толку из этого не вышло никакого. Но, не надеясь на выздоровление больной, отец, однако, делал все возможное для поддержания этой угасавшей жизни, и хлопот ухаживавшим за Анной Ивановной женщинам было не мало. Отец старался, чтобы она чувствовала, что за нею ходят, что о ней заботятся, что ее не считают безнадежно больной. Это были последния отчаянныя попытки спасти больную. Труднее всего приходилось Жене.
Она страшно изменилась после смерти Левы. Ея маленький, чисто детский ум переработывал теперь новыя, опять непосильныя для него мысли. Даже ея похудевшее личико казалось теперь каким-то маленьким, точно личико ребенка. Только оторопелый взгляд напоминал не взгляд ребенка, а взгляд потрясеннаго горем взрослаго человека. Вурм после первой панихиды зашел к ней и сказал ей:
— Если вы не дорожите своей репутацией, то пощадите память дорогого вам покойника. Или вы хотите, чтобы и теперь, у его гроба, в него бросали грязью?
Она оторопела, смутилась, а Вурм продолжал:
— Вы думаете только о своей утрате, вы отдаетесь только своему горю, но есть нечто более важное, о чем следует думать именно вам.
И он выяснил ей снова то, что она слышала и от Левы. Она сделала великий грех, она вовлекла в этот грех и Леву; она должна замаливать этот грех, должна убить в себе свои греховныя воспоминания; она должна во имя памяти покойнаго сдерживать при людях свои слезы и плакать только перед Богом, но не о Леве, а о своем грехе. Как она жила до этой поры? Не заботясь ни о ком и ни о чем, только для себя. Это животная жизнь, недостойная человека, еще менее достойная христианина… Он говорил ей все это так, как только он умел говорить: театрально, внушительно, резко и твердо. Он с уверенностью фанатика говорил:
— За это ждет проклятие Божие! Господь жестоко покарает вас за это здесь и не простит там! Опомнитесь, пока еще не поздно! Милосердие Божие велико и от вас зависит, чтобы Он не отвратил от вас Своего лица.
Эта уверенность наводила невольный страх на слабыя души; ею он покорял людей. Женя тоже испугалась его, точно он был ея судья, точно Бог говорил его устами; она испугалась и того, что она позорит память Левы. На ея лице появилось то пугливое выражение, которое я подметил во время второй панихиды. Ей достаточно было взглянуть на Вурма, чтобы чувство скорби сменилось чувством боязни. Само по себе это состояние было ужасно, но еще ужаснее стало положение Жени, когда ей пришлось ухаживать за Анной Ивановной. Анна Ивановна, страшно искаженная параличом, едва владевшая языком, с трудом поднимавшая только левую руку, иногда как будто узнавала окружающих, всматриваясь в них, следя за их движениями одним глазом; когда она узнавала Женю, по ней пробегало что-то в роде дрожи, и она что-то бормотала, как бы стараясь отстранить бедную девушку рукой. Раз или два эти движения были вполне сознательны, потом они повторялись, может-быть, безсознательно и даже, может-быть, просто Жене уже казалось, что Анна Ивановна отстраняет ее. Женя плакала, шепча:
— Тетя гонит меня, гонит!
Я успокаивал ее, говорил, что ей это так кажется, но она была неутешна. Она порой говорила мне:
— Ты взгляни, как она на меня смотрит! Я с ума сойду от этого взгляда!..
— Ты ошибаешься, Женя, — возражал я. — Она на всех так смотрит.
— Нет, нет, это она на меня только так глядит. Проклинаегь за Леву.
Иногда она пугливо взглядывала на Анну Ивановну: та в полусидячем положении, с высоко поднятой головой, казалось, действительно впивалась взглядом в молодую девушку.
Тогда Женя забывалась и говорила при Миннушке:
— Она меня ненавидит, проклинает!.. Это невыносимо!
Миннушка делала удивленное лицо.
— Женя, за что же? Тетя так любила тебя…
Женя приходила в себя, смолкала. Миннушка переводила вопросительные взгляды на кого-нибудь из присутствующих, точно спрашивала: «Так значит это правда, что говорила Ольга Дмитриевна». Бедная старая дева-ребенок не могла дать себе яснаго отчета, правда это или нет. Она вглядывалась в Женю вопросительным взглядом, и Женя раздражалась, отворачивалась от нея почти с ненавистью.
Я не без тяжелаго чувства замечал страшное настроение Женя и раз сказал ей:
— Ты бы не ходила за Анной Ивановной…
— Что ты! что ты! — воскликнула она. — Как это можно!
— Скажись нездоровой или… ну, ходи за ней, когда она спит… Это тебе так тяжело.
— Нет, нет! Что же скажет Рейнгольд Карлович…
Я понял, что он приказал ей усердно ходить за теткой.
Вероятно, это была своего рода епитимья. Мне казалось, что Вурм слишком безжалостно относится к несчастной девушке. Он, пожалуй, доведет ее этим до сумасшествия. В моей душе поднимался протест против этого безсердечия; ничего не говоря Жене, я, наконец, решился заехать к Вурму и объясниться с ним откровенно насчет Жени. Отчасти меня подталкивало на это и любопытство. Мне хотелось взглянуть на Вурма у него «дома». До этой норы я не переступал порога его жилища…
Я застал пророка в его кабинете за книгами. Кабинет Вурма был отделан просто, почти бедно; жесткие стулья, жесткий диван, служивший и постелью, письменный стол и пара шкапов с книгами составляли всю обстановку. Все здесь было темно, тускло, старомодно, может-быть, умышленно бедно и просто. Увидав меня, Вурм поднялся с места, поднял на минуту глаза к небу, как бы благодаря Бога за появление в его доме новаго ученика, и протянул мне руку. Я поздоровался с ним и сказал:
— Извините, что я хочу побезпокоить вас. У меня дело.
— Я рад всегда служить ближним, — скромно ответил он.
И, подойдя к столу, чтобы закрыть лежащее открытым евангелие, он проговорил:
— А я только-что читал: «Когда выходил Он в путь, подбежал некто, пал перед Ним на колени и спросил Его: Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?»
И прочитав это, он неторопливо закрыл книгу, но я успел заметить, что она была открыта действительно на десятой главе евангелия Св. Марка. Что это было: комедия или случайность? Вурм указал мне рукою на жесткий, обтянутый темно-зеленой, почти черной, местами прорванной кожей, диван. Мы сели.
— Чем могу служить? — спросил он.
— Я не о себе… я хотел поговорить с вами о Жене…
Он вздохнул и заметил:
— И все же я рад, что Господь привел вас в дом мой хоть ради чужого дела…
Я стал передавать ему подробно мои наблюдения над Женей и закончил:
— Мне кажется, если она еще будет продолжать ходить за Анной Ивановной, то она сойдет с ума.
— Пусть потеряет ум, лишь бы спасла душу, — ответил он тихо.
Мне вдруг вспомнились слова, слышанныя мною когда-то от Левы.
— Ну, тогда и о спасении души нечего думать, — горячо сказал я.
Он покачал головой.
— Вы думаете? А те блаженные, а те юродивые, те σαλοι, которых признают святыми, — они потеряли ум или то, что мы называем умом, но стали же святыми?
И остановив мое возражение неторопливым жестом руки, он продолжал:
— Вы ошибаетесь, мой друг; она потеряет не ум, а самоуверенность, вот что потеряет она в этом искусе.. Он ей необходим.
Я опять хотел протестовать, опять был остановлен им.
— Я знаю, что вы на многое смотрите не так, как следует, но выслушайте меня терпеливо, — сказал Вурм. — Самомненье и своеволие — это два страшные врага человечества. Чтобы сделаться истинно хорошим человеком, нужно смириться, нужно подвергнуться нравственным бичеваниям, и если можно, подвергнуть свою плоть физическим испытаниям, чтобы она не господствовала над нами… Я знаю вас, вы нравственный человек. Но почему? Потому что вы выросли в суровой школе лишений, в честной семье тружеников. Вы можете ошибаться еще, но это следствие молодости — придет время, пройдет и это. О, я читаю в вашей душе и знаю: ее ждет просветление!.. А это люди, росшие в изобилии, привыкшие угождать только себе, что выйдет из них, если не напоминать им, что Бог видит их сердца, если не показывать им той бездны, в которую они идут? Они будут не только не христианами, но даже и не людьми, а животными, не знающими никаких законов, кроме законов страстей и похотей.
— Так учите же их любви к ближним, — воскликнул я порывисто.
Он сосредоточенно усмехнулся в ответ на мою вспышку.
— Надо начинать учить с азбуки, а не со складов. Первая заповедь: возлюби Господа Бога твоего… Ей нужно сначала научить их. Кто возлюбит Бога, возлюбить и ближних…
Мне казалось, что я могу захватить врасплох Вурма, напомнив ему о Леве.
— Однако, покойный Лева пришел только к тому, что с ужасом думал об аде и загробных муках, — сказал я.
Вурм сдвинул брови. На минуту его лицо омрачилось.
— Да, вы правы, — проговорил он. — Но это не моя вина, а следствие его натуры, его обстановки, его домашняго воспитания. Без моих советов и наставлений из него, может-быть, вышел бы один из тех гнусных кутил и развратников, какими делаются люди в его положении. Наши богачи и аристократы убеждены, что религия нужна, как узда для народа. О, они глубоко ошибаются. Эта узда нужна прежде всего им, так как без нея у них не будет ни совести, ни чести, ни стыда. Если где нужно искать всей мерзости, так это среди них. Только страх перед Богом может еще содержать их разнузданность, их жестокость, их корыстолюбие, их низость. Вот от чего спасал я Леву! Я научил его любви к Богу, я его укрепил в вере в Бога, и он вышел честнее людей, стоящих в его положении, он отдавал, по крайней мере, себе отчет в своих поступках. Без этого из него вышел бы развратный тунеядец в одну сторону, безсердечный грабитель в другую… Правда, он весь сосредоточился на одной мысли о загробной жизни, но в этом виновата его болезненная натура.
И с горечью в голосе он добавил:
— Без меня он также думал бы о смерти и, может-быть, прожигал бы жизнь, благо, эта жизнь казалась бы ему не долгим даром природы. О, сколько людей я знал, говоривших: «хоть день да мой» и бросавшихся во всякия излишества…
Потом тоном раздумья он прибавил:
— Вы мне сказали, что надо учить любви к ближним. Да, надо. Но верьте мне, что ближних может полюбить только тот, кто уже возлюбил Бога. Не возлюбивший еще Бога никогда не полюбит ближних, особенно в том случае, если он сам не перестрадал с этими ближними, не мучился их муками, не болел их недугами. Что такое ближний неверующему богачу? Вьючное животное, которое можно эксплоатировать, пока оно способно к работе — вот и все.
В его голосе послышались мягкия ноты.
— Вы судите, как юноша, по себе, по своим чувствам, — сказал он. — Вы любите, вероятно, бедняков. Но почему? Потому что это ваши братья по судьбе, потому что вы переживали, может-быть, то, что переживали они. В вашей любви к ним, может-быть, есть даже частица злого чувства — желание вместе с ними отомстить за свои личныя обиды, поднять этих друзей наперекор их и своим врагам, поднять одних для унижения других… Но, как бы то ни было и ради чего бы то ни было, вы любите и можете любить ближних…
По его лицу скользнула улыбка:
— Вы родились зрячим, я стараюсь дать зрение слепцам…
Я, взволнованный, удивленный речью Вурма, очнулся и в раздумьи о Жене ответил:
— Всегда ли удачны выходят операции? Я вам повторяю, что я боюсь за Женю. Мне просто кажется, что она помешается от испытания. Вы запугаете ее, представляя весь ужас ея падения, заставляя искупать его тяжелой пыткой.
— Ну, а вы думаете, ей было бы легче, если бы отдать ее на растерзание всем этим женщинам в роде Ольги Дмитриевны?
— О, кто же это говорит! — воскликнул я.
— Так вы, верно, хотели бы, чтобы я взял ее под свою защиту, сказав ей: «все это пустяки, никакого греха нет в падении, все это в порядке вещей»? Сказать ей это и поощрить делать и дальше то же, жить так же, как она жила?
Мне вдруг вспомнилось, что, утешая Женю, я сам еще недавно говорил ей: «Полно, Женя, терзать себя; кто же не грешил, кто не падал». Это воспоминание смутило меня помимо моей воли. Вурм, пристально вглядываясь в мое лицо, точно читая мои мысли, продолжал:
— Нет, если я и указываю ей на ужас греха, если я и указываю на необходимость тяжелаго искупления, то я ей даю и утешение — надежду на прощение Бога.
Он опять стал суров, что-то безпощадное было теперь в выражении его сухого лица.
— Я человек серьезной веры, а не модный доктор, прописывающий лекарства на сахарном сиропе, — ответах он строго. — И если вы сами в чем-нибудь глубоко убеждены, то — помните это всегда — проводите свои убеждения без пощады, без ложных снисхождений, без малодушных сделок. Эти малодушныя сделки — язва нашего века и особенно здешняго общества. Глубоко убежденный человек должен иметь силу вести на костер других и идти на костер. Если он на это не способен, у него нет убеждений, нет веры в свою правоту!
На минуту его лицо напомнило мне того безпощаднаго Вурма, каким я знал его в школе, не прощающаго ни малейшаго проступка, не делающаго никаких поблажек. В его глазах сверкал мрачный огонь фанатичной ненависти. Может-быть, он прочел на моем лице неприятное впечатление, произведенное на меня его последними словами. По его лицу скользнула горькая, презрительная усмешка.
— Вы русский и потому вам, более чем кому-нибудь, позволительно не понимать этих взглядов, — сказал он. — У вас всему есть оправдания, на все есть снисхождение. Так вас ведут дома и в школе, так идет все в общественной жизни и в общественной деятельности. Люди сами не исполняют свято своих обязанностей и снисходительно глядят на других, когда те делают то же. Негодяй и честный сидят рядом, жмут друг другу руки, пользуются одним и тем же почетом. Другие народы Европы давно уже пережили времена этой нравственной распущенности и нравственности безразличия. Русския дети и русские работники везде покажутся самыми недисциплинированными; нравственные идеалы и общественныя отношения русских везде покажутся самыми шаткими.
И почти с презрением он добавил:
— У вас ведь каждый способен взять и дать взятку, и принять ласково мошенника, потому что тот милый человек, и, наконец, произнести на суде «не виновен» ограбившему и зарезавшему ближняго человеку…
Он снова усмехнулся.
— Вы ведь сами еще недавно ненавидели меня за мою суровую строгость… и любили за мягкость того русскаго учителя, который иногда являлся в класс прямо из кабака…
Он не выдержал и в волнения, с сверкающими глазами поднялся с места.
— Да, я был суров, безпощаден, я мог исковеркать; сломать испорченнаго и распущеннаго ребенка, но принятая мною на себя обязанность была для меня святыней. Я мог вас исключить из школы, но я не мог вас вести за собою в кабаки и публичные дома…
Я заметил, как во время этой речи у него конвульсивно сжимались кулаки. Казалось, его охватывало бешенством при воспоминании об этих «мягких» учителях.
Я проговорил с Вурмом до поздней ночи и увидал, что я вовсе не знал до этой поры этого человека.
В нем была масса несимпатичных и даже прямо антипатичных для меня сторон; но это был цельный, точно изсеченный из гранита человек, жесткий, суровый, прямолинейный фанатик. Он был из той породы людей, к числу которых принадлежали Торквемады и Арбуесы, канонизированные католическою церковью инквизиторы и палачи. Его обстановка, его образ жизни были более чем просты, несмотря на то, что он мог бы добиться разных удобств при помощи своих поклонников и последователей, жертвовавших на его общину не мало денег. Но он не позволял себе излишеств и употреблял деньги на пропаганду своего учения. В этом учении, полном разных богословских тонкостей, было много страннаго и даже нелепаго, в роде того, что французская революция была первым симптомом приближения страшнаго суда, или того, что после страшнаго суда настанет на земле царство святых и праведных. Вурм одинаково твердо верил во все это, как он верил и в то, что он действительно пророк, получающий откровения свыше. Рядом с этим в его голове умещались стремления истиннаго демократа, гордаго и презирающаго богачей, и светлыя идеи о необходимости свято исполнять принятыя на себя обязанности, о безусловной честности и неподкупности, о твердости убеждений, о братстве всех людей…
Выходя от него и вспоминая все мелочи нашей беседы, я невольно подумал, что с такими людьми не дай Бог столкнуться враждебно на одной дороге. Он и в теории, и на практике держался одного правила: кто не с нами, тот против нас: или вести на костер, или погибнуть на костре… При этом мне невольно вспоминалась Женя. Точно ли он прав, что он дает ей утешение? И мне представлялась ея маленькая, худенькая детская фигурка, с ребяческим выражением лица, с испуганно открытыми, недоумевающими глазами. Мое сердце болезненно сжалось от предчувствия чего-то недобраго…
XIII.
Тяжело проводить безсонные часы днем и ночью у постели опасно больного человека, в полумраке, в одиночестве, в тишине, прислушиваясь к трудному дыханию больного, к мерному тиканью часов, к доносящимся с улицы отрывочным звукам. Вид постепенно угасающей человеческой жизни разстраивает нервы, наводит на мысль о смерти вообще — о своей собственной смерти. Берется ли книга или работа, оне вываливаются из рук, на них нет силы сосредоточиться… Женя узнала по опыту это мучительное состояние и, без того измученная всеми предшествовавшими событиями, дошла до страшно тяжелаго настроения. Ея детский ум не мог придти к каким-нибудь определенным выводам. Порою ея душа возмущалась, протестовала.
— Неужели я такая грешница, — говорила мне бедная девушка: — что на меня должны обрушиться все наказания? Разве я виновата, что я полюбила? Другие Бог знает как всю жизнь, всю жизнь живут и — ничего! А я сделала одну ошибку и нет минуты покоя…
И чисто по-детски она жаловалась мне. В глазах Анны Ивановны читает она упреки. Ольга Дмитриевна ей несколько раз бросила в лицо оскорбления. Рейнгольд Карлович грозит ей наказанием за ея грех и здесь, и там. Лева говорил то же. Даже Миннушка и та мучит ее.
— Тоже вздумала спрашивать, — плакала она: — «Скажи, Женя, неужели это правда? Я не верю, что это правда! Мне страшно и подумать об этом!» Что я ей стану рассказывать? Что она поймет? Никогда она никого не любила!.. О, Господи, какое это мученье. Хоть бы сознавать, что он, Лева, сохранил ко мне любовь: так нет, и он…
Рыдая, она заканчивала свои жалобы:
— Проклинал, умирая!..
Я, как мог, успокаивал ее.
— Не слушай ты никого, заботься о своем здоровье; укрепятся нервы, и все уляжется, пройдет. Но главное, Женя, старайся поменьше думать и говорить о разных загробных муках и наказаниях… Не в этом дело.
Ея лицо принимало испуганное выражение.
— Что ты, что ты! Как же об этом не думать! Я же верю в Бога…
— Верь в Него, но не считай Его таким, каким изображает Его Вурм. Ты же сама не раз называла Вурма фанатиком.
— Нет, нет, ты это оставь, — прерывала она меня пугливо. — Это я прежде говорила от легкомыслия! Теперь я не такая! Я знаю, что Бог наказывает за каждый грех… Вот я жалуюсь — это потому, что я еще не умею верить в Бога, как следует, это я тоже грешу…
Я осторожно советовал ей одно — поменьше говорить с Вурмом. Она, качая головой, отвечала мне, что она и так редко беседует с ним. Это не он влияет на нее. Она и без него поняла многое, чего не понимала прежде. Недаром же она столько пережила. Любовь к Леве, сознание сделаннаго греха, рождение и смерть ребенка, смерть Левы, все это не прошло безследно. Одно ея утешение — это вера. Но она, Женя, слишком слаба и потому она еще ропщет на Бога, вот что и сокрушает ее, так как ропот — новый грех. Мне становилось жутко за нее: я сознавал, что ея мысли направлены в ту область, о которой трудно разсуждать и спорить спокойно и трезво. Я говорил ей, что нужно прежде всего укрепить нервы, — она говорила, что прежде всего нужно думать о душе; я указывал ей на милосердие Божие, — она со страхом говорила, что этому милосердию есть пределы, и горе тому, кто истощает его; я говорил ей, что загладить прошлое можно только перерождением, добрыми делами, — она говорила, что прежде всего нужна вера и что только в вере вся ея опора…
Иногда она казалась мне просто помешанной. Мы виделись все реже и реже. Дни же, тяжелые и мучительные для нея, шли обычной чередой. Мой отец, заходивший ежедневно к Анне Ивановне, говорил о близкой «развязке».
Наконец, развязка настала.
У дома Шельхеров стояло несколько дрожек, когда к нему подкатил в собственном экипаже дядя Карл. Высокий, толстый, с лицом немца-пивовара, он грузно вылез из коляски и не без удивления взглянул тупыми оловянными глазами на съезд извозчиков. Он, насколько мог, торопливо пошел к крыльцу.
— Что за съезд? — коротко спросил он у стараго Ивана, отворившаго ему дверь параднаго подъезда.
Иван махнул безнадежно рукой.
— И не говорите, сударь! Все налетели! Содом!
— Кто? Родные? — перебил его дядя Карл, сбрасывая пальто. — Старый болван! Тебе приказано никого не пускать! Анна Ивановна больна, а ты…
— Анна Ивановна изволили отдать Богу душу, — ответил Иван.
Дядю Карла точно пришибло. Он запыхтел, открыл широко глаза и задыхающимся голосом проговорил:
— Как отдала Богу душу?
— Известно-с, как: померли! — ответил Иван.
Толстяк все еще не мог придти в себя. Он все еще не терял надежды, что она придет в сознание.
— Как же так? Когда? Мне почему не дали знать? — заговорил он.
И, не дожидаясь ответа, он ринулся вперед.
— Разграбят все… Может-быть, духовная есть…
Он шагнул в комнату и тотчас же услышал десяток голосов, переругивающихся между собою в соседней комнате.
Он грозно сдвинул брови и прикрикнул, входя во вторую комнату:
— Господа, что все это значит! Грабить вы собрались, что ли? Что за гвалт?
— А, это вы, это вы! — визгливо воскликнула Ольга Дмитриевна, выдвигаясь ему навстречу. — Вам что здесь угодно? Распоряжаться приехали? Опоздали-с! Можете избавить себя от труда. Мы теперь наследники! Мы! Или за своей идиоткой, Миннушкой, изволили приехать! Пожалуйста, берите эту драгоценность! Это ваше наследство!.. Ха-ха-ха!
— Молчать! — крикнул дядя Карл, багровея от гнева и сжимая кулаки.
— Ну, ну, полегче! — произнес насмешливо мужской голос, и родственник Анны Ивановны, плотовщик, худой и длинный, в мещанском длиннополом сюртуке, выделился из толпы; его изрытое оспой, тощее и желтое лицо смотрело насмешливо и нагло. — На заводе у себя мастеровщину унимай, а здесь — от ворот да и поворот… Коли что успел стибрить, так и благословляй Господа Бога, что к суду не потянем… Не мало тоже сестрицу обивали…
— Да как ты смеешь! — грозно прохрипел, надвигаясь на него, дядя Карл.
— Не драться ли хочешь? — спросил мещанин, сощурив глаза.
И, обращаясь к остальным, прибавил не без юмора:
— Ишь, давно бит не был, истосковался…
— Господа, господа, перестаньте! Здесь не место и не время! — вмешались какие-то франтоватые молодые люди в ссору.
Это были два адвоката, которых притащили «на случай» в дом Шельхеров «наследники».
— Судебный пристав, судебный пристав приехал! — раздалось чье-то восклицание. — Полиция с ним…
Все хлынули к дверям навстречу судебному приставу и полицейским офицерам. Раздались голоса наперебой:
— Надо, господин пристав, тотчас же все описать. Тут чужие люди могут все разграбить! Опечатать все комнаты надо! Полиция должна охранить…
— Позвольте, может-быть, духовное завещание есть, — вмешался дядя Карл.
С несвойственною ему живостью он начал объяснять прибывшим, что в сущности все принадлежало его брату, что у них есть родные в Саксонии, что Анна Ивановна только временно владела всем, что, может-быть, в духовной все это выяснено.
— Ждите, ждите! При втором пришествии дождетесь, — с язвительной усмешкой воскликнула Ольга Дмитриевна.
Она как-то судорожно смеялась, возбужденная, почти обезумевшая от мысли, что дни ея лишений кончены, что она стоит в преддверии к богатству.
Пристав чуть не отбивался.
— Успокойтесь, успокойтесь, господа! — уговаривал он родных, надевая цепь.
Один из полицейских офицеров тоже счел долгом явиться успокоителем страстей и внушал присутствующим уважение к закону:
— Все будет сделано по порядку, на все есть законы!.. Успокойтесь, господа, надо знать приличие!..
— И никому, никому не позволяйте оставаться в доме! Весь дом запечатать надо! — кричала Ольга Дмитриевна, не слушая никого и перебивая всех. — Вы ответите за все, если что разграбят… за все ответите! Тут тысячи…
Пристав пожал плечами.
— Я ничего не опишу, господа, если вы будете кругом меня кричать.
— Начинайте, начинайте! — поднялись голоса.
Дядя Карл не выдержал и заметил:
— Это возмутительно! Не успели похоронить..
Его перебила Ольга Дмитриевна ядовитым голосом:
— А вы хотели бы, чтобы вам дали время все ограбить?.. Знаем мы вас!.. Во что Левины-то похороны вскочили?.. На чужое добро щедры!.. Миннушку-то свою лучше возьмите, а то на улице околеет с голоду! Поцарствовала на чужих хлебах…
И, увлекая за собой пристава, толпа двинулась в столовую. Здесь пристав приступил к накладыванию печатей. Ольга Дмитриевна увидала проходившую из залы Женю, бледную, с осунувшимся лицом, с мрачным, обезумевшим взглядом.
— А, Евгения Александровна, к тетечке своей ходили вымаливать прощения в грехах! — воскликнула она. — Счастливы вы, что старуха умерла без сознания. Ах, как счастливы! Уж я бы заставила ее пустить вас по-миру, если бы она хоть на минуту пришла в себя. Теперь-то вам хорошо, у честных родных их долю урвете! Вы ведь главная наследница! Только уж извините, здесь вас не оставят, не оставят, довольно куролесили…
Женя даже не повернула головы. Она шла точно во сне, точно окаменевшая от ужаса. Ольга Дмитриевна послала ей вслед какое-то ругательство и опять, обращаясь к приставу и полицейским, горячо проговорила:
— Я требую, чтобы ни одна душа не смела оставаться в доме!
И, точно сумасшедшая, она обратилась к родным:
— Господа, да долго ли он будет копаться? Ведь, может-быть, в других комнатах грабят. От Женьки и Минки всего можно ждать. Мы тут, а оне там грабят, карманы набивают!.. Да я их обыщу, обыщу! Володечка, Володечка, — крикнула она сыну: — поди, обойди комнаты, посмотри, что там делается…
— Мамашечка, успокойтесь, успокойтесь, ключи ведь все здесь, отобраны ключи, — успокоивал ее сын мягким голосом. — Как только умерла Анна Ивановна, мы тотчас же отобрали ключи…
В сереньких брючках, в черненьком пиджачке, в красненьком галстучке, он со своим одутловатым личиком и завитыми волосами смотрел херувимчиком, глупо улыбаясь от мысли о наследстве. Вдруг мать схватила его за рукав так, что он вздрогнул, и с широко раскрытыми глазами прошептала ему:
— Ложку, серебряную ложку стянул кто-то! Ей-Богу, сама видела, что ложка серебряная, из которой лекарство давали, была еще утром на буфете.
Володя, красный, как рак, быстро заморгав глазами, так же тихо ответил ей смиренным голосом:
— Оставьте, мамашечка, Бог с ней, Бог с ней! Ради Бога, не поднимайте, мамашечка, скандала из-за ложки…
— Как? Так так и позволять грабить? — сказала она, с удивлением взглянув на него. — Володечка, что ты говоришь!
Он скромно потупил глаза и уже совсем молящим тоном добраго заступника за несчастных прошептал:
— Что-ж делать, мамашечка, если человеку понадобилась эта безделица… Может-быть, просто память… о бабушке на память…
Он стоял с смиренным видом, засунув руку в брючки, моля и говоря безсвязныя фразы. Мать взглянула на него и потом, сообразив что-то, спросила:
— Ты?
Он сконфуженно опустил головку.
Она с чувством грусти вздохнула:
— Володечка, зачем же ты не сказал мне, если ты взял… Ах, Володечка, разве я для тебя пожалела бы!
Он совсем опустил глаза в землю:
— Я на память о бабушке…
— Бедный мальчик! — со вздохом прошептала она и нежно поцеловала его в голову. — Доброе сердце, доброе сердце!
Он скромно придерживал карман брюк, боясь, что в них зазвенят скраденныя им мелкия вещи.
Опись и опечатыванье столовой кончились, все перешли в следующую комнату.
— Я пойду, мамашечка, посмотреть, что делают Женя и Минна, — встрепенувшись, сказал Володя и направился к дверям.
Его нагнал в них плотовщик.
— Вот и я с тобой, паренек! — потрепав его по плечу, сказал с улыбкой мещанин. — Может, одному боязно? Тоже покойница в доме… Покойников-то не боишься?
Володя оторопел, поднял глаза на своего родственника Это рябое и желтое лицо было совершенно серьезно, даже ласково, только в сощуренных узких глазках было что-то в роде насмешки.
— Покойников? — спросил Владимир с недоумением. — Нет, не боюсь.
— То-то! Чего их бояться, не крикнут, за полы не схватят… А то есть такие, что боятся! — продолжал тем же шутливым тоном плотовщик. — А ты это хорошо делаешь, что не боишься. Чего их бояться?
И, войдя с Володей в нарядную спальню Анны Ивановны, где теперь все было в страшном безпорядке, после обмывания покойницы, он продолжал:
— Ишь как ведь вещи поразбросаны. Бери, что хочешь. Беда, коли вора пустить, все прикарманить… Хе-хе! Правда? А?
Он ударил по плечу Володю. Тот, придерживая рукою карман брюк, поспешил согласиться:
— Да, да!.. Прикарманит!
У него теперь зуб на зуб не попадал.
— Молодец! Понимаешь тоже дела, — засмеялся мещанин.
Он взял со стола серебряную чарку и повертел ее в руках.
— Ишь, какая славная штучка! Посмотри, нравится?
— Да, красивая…
— Да, да, красивая… Ну, и пусть ее тут стоить. Мы, брат, с тобой ее не возьмем. Пусть опишут!
Пристав, полицейские и толпа родных вошли в эту комнату. Мещанин стоял около Володи, теперь сумрачнаго и сконфуженнаго, с- растерянным выражением лица. Мать подошла к нему.
— Что с тобой, Володечка? — проговорила она.
— Чорт знает, что этот дурак на мной таскается. О ворах толкует! — обидчиво сказал Володя. — Кажется, я не подал повода!
— Ах. Володечка, воры всегда толкуют о ворах, — громко ответила Ольга Дмитриевна. — Они, эти воры, думают этим отвести глаза.
Она многозначительно и свысока бросила взгляд на плотовщика.
По лицу мещанина скользнула усмешка.
— Это ты правду говоришь, Ольга Дмитриевна. Воры завсегда о ворах толкуют. Иной так и пыжится, чтобы его вором-то не признали.
Его лицо стало совсем нахальным.
— А конечно, иной раз и спустишь, чтобы шкандала не поднимать… Час на час не приходится, иной раз и спустишь… Тьфу!
Он громко сплюнул. Ольга Дмитриевна отвернулась
— Теперь сюда надо перейти? — сказал пристав, направляясь к двери.
Присутствующие не успели остановить его, и он, распахнув дверь, остановился на пороге. Остановились и все остальные: перед ними была большая роскошная белая зала с мебелью в белых чехлах, с люстрой в таком же чехле. В углу залы на столе, накрытом кое-как белою простынею, лежал труп, прикрытый тоже кое-как, другой простыней. Его отражение и отражение стульев к кресел, как бы одетых в саваны, повторялось в десятк простеночных и каминных зеркал. Казалась, эта была мертвецкая с десятками трупов, закутанных в простыни и саваны, а не шельхеровский парадный зал. Все вздрогнули, трусливо попятились назад. Раздался пугливый суеверный шопот: «Зеркала не завесили!» «Покойник будет!» «Кто же?» «Чего же смотрела прислуга?» «Где же простыни?» Никто не решался переступить порога. Толпа, за минуту перед тем говорливая и наглая, теперь была тиха, труслива. Несколько рук поднялось как-то безсознательно, чтобы сотворить крестное знамение.
— Господин пристав, — наконец, растерянно проговорила Ольга Дмитриевна. — Простыни тут нужны…
Пристав повернул к ней голову и пожал плечами.
— При чем же я-то тут? — спросил он.
— Мы… вы… сейчас запечатали шифоньер… оне там должно-быть…
Все растерянно, смутно заговорили разом.
— Надо распечатать! Достать! На что это похоже! Подумали бы прежде о покойнице…
И, отступив назад, затворив двери, все вдруг стали упрекать друг друга, сваливая с себя вину на других…
— Мы ведь только приехали сюда, а хороши жившия тут, Миннушка и Женя, хороши, — волновалась Ольга Дмитриевна. — Бросили покойницу… Вот и отплата Аннете за то, что она их пригрела… Неблагодарныя…
— Позвольте, позвольте, да ведь вы первая прискакали сюда и отобрали ключи у них! — перебил ее кто-то из родни.
— А оне не могли разве сказать, что простыни нужно достать? — огрызалась Ольга Дмитриевна.
— А у самих догадки не было?
И заварилась опять каша упреков и брани…
XIV.
Когда я пришел на вторую панихиду в семь часов вечера, я застал в зале всю родню покойной Анны Ивановны. Все эти люди шумели, точно рой встревоженных пчел. Во всех углах шли споры о правах на наследство и среди этих споров с ожесточением произносилось имя Жени. Ее забрасывали теперь беззастенчиво грязью за то, что она была главной наследницей. Она невольно урывала у этих людей львиную часть добычи. Вся таившаяся прежде злоба на любимицу богатой родственницы прорвалась теперь наружу. Ольга Дмитриевна бранилась громче всех и даже грозила, что она доведет до сведения «правительства», что Женя жила с двоюродным братом. Слышались восклицания: «ее в монастырь упечь, а не богатством наделять; церковному покаянию подвергнуть, а не наследницей делать; это возмутительно, что правительство не обращает внимания на подобный разврат». Я почти со страхом искал глазами Женю. Ея не было в зале. Я пошел ее искать и застал ее в ея комнате. Бледная, исхудалая, она сидела у стола, опустив на руки голову и смотря сухими, горящими глазами вперед. Она вздрогнула, когда я окликнул ее.
— А, это ты! — сказала она сдавленным голосом. — Ты был там? Слышал?
Я молча кивнул головой.
— Позорят! Кричат на весь город! С грязью смешали! — воскликнула она отрывисто.
— Успокойся, — тихо сказал я. — Потерпи еще…
— Нет, нет, ты скажи, за что это наказание? — воскликнула она страстно, и ея лицо стало мрачно, глаза сверкали гневом. — Ну да, я согрешила, пала! А они? разве они лучше меня? За что же меня одну терзают, преследуют? Я и так наказана. Все отнято, все — надежды, радости, счастие, молодость, покой… Что же Бог?.. Где Его милосердие?..
Она как-то мрачно взглянула на меня и неожиданно спросила:
— Ты видел ее?
— Кого? — спросил я.
— Ее, тетю…. О, я не могу ее видеть! Это раздутое тело, эти полуоткрытые свинцовые глаза… Я утром была там… Господи, из всех зеркал она смотрела на меня… Хотела я молиться… Не могу… не могу!..
И упавшим голосом она закончила:
— Всю жизнь, всю жизнь она будет стоять перед моими глазами!.. Лучше бы я ушла тогда, после смерти Левы, чтобы не видать… не слыхать…
Она не выдержала и тихо заплакала слезами безпомощнаго ребенка. Страстное возбуждение, протестующий порыв прошли, и она снова была беззащитным существом с маленьким, подавленным непосильной работой умом. Я подошел к ней и обнял ее одною рукою; она припала к моему плечу, тихо плача. В комнату вошел Вурм.
— Евгения Александровна, — сказал он. — Панихида началась.
Она быстро очнулась. Опять к ней возвратились силы, опять в душе поднялся протест. С блестящими, уже сухими глазами она взглянула на пророка, выпрямившись во весь рост.
— Я не пойду на панихиду! — резко ответила она. — Ни за что! ни за что!
— Как не пойдете? — удивился он.
— Я не хочу слышать, как меня бранят, позорят, как указывают на меня пальцами!
Он вздохнул.
— Грехи искупаются испытаниями.
— А! так пусть мой грех останется на мне, если я должна искупить его этим! Да, да, пусть он останется на мне! Довольно, довольно я терпела! Пять месяцев… нет, что я говорю… не месяцы, а годы я терпела за минуту увлечения… Они хуже меня, а топчут меня в грязь. Они…
— Евгения Александровна! — сурово произнес пророк. — Не искушайте Господа, подумайте.
Она страстно перебила его.
— Оставьте, оставьте меня! Что вам за дело до моей души? Ну, и погибну, а терпеть этого я не в силах!
И, обращаясь ко мне уже другим тоном — тоном горькой жалобы, она воскликнула:
— Хотят, чтобы шла сама к позорному столбу! Хотят, чтобы перед ними унижалась!
— Бог… — начал Вурм.
— Не говорите, не говорите мне о Боге! Верить не стану в Него, если Он этого требует! — точно помешанная закричала она. — Да, да, не стану верить, если у Него милосердия нет!.. Не смущайте меня, оставьте меня!.. Истерзали меня все, все!
Ея голос замер в рыданиях. Я подошел к Вурму и тихо сказал ему:
— Рейнгольд Карлович, вы видите, что ей прежде всего нужен покой…
Он сурово, но в то же время растерянно взглянул на меня.
— Ей прежде всего нужно спасти свою душу…
Дверь отворилась, и в комнату легкой походкой вошла моя мать. Увидав рыдающую Женю, она подошла к ней и мягким, ласковым голосом окликнула ее. Женя бросилась к ней в объятия, как обиженный ребенок, ищущий защиты.
— Я не пойду туда… Я не могу видеть ее… Мне страшно… И все они там… Я не могу, я скорее руки на себя наложу…
Мать, кротко гладя ее по голове, тихим, ласкающим голосом сказала ей:
— Полно, полно! Панихида кончилась! Теперь пора ехать! Поедем к нам! Не оставаться же тебе здесь. Миннушка тоже поедет к нам…
Женя, прижимаясь к ней, подняла на нее глаза, как бы не веря ея словам.
— Вы… точно… возьмете меня?.. О, ради Бога, ради Бога!.. Я не вернусь более сюда… никогда… никогда…
— И не надо… Зачем же?
Вурм был мрачен. Впервые он колебался, что делать. Но он все же попробовал протестовать.
— Евгения Александровна должна же исполнить обязанность, присутствовать на панихидах, на отпевании, — сказал он. — Этого требует христианский долг…
Моя мать посмотрела на него своим обычным неотразимо добрым взглядом.
— Девочка и без того много намучилась, — коротко сказала она, как бы прося его оставить это несчастное создание. — Ей нужен отдых. А для покойников и Бога, право, эти церемонии не имеют, значения. Женя помолится и дома…
Вурм хотел еще возражать, но мать остановила его.
— Чем меньше будет Женя напоминать о себе, тем меньше будет скандалов со стороны этих родных…
И, уж не обращая более на него внимания, она начала торопить Женю собираться. Вурм, против ожидания, не настаивал более. Он понял, должно-быть, что настойчивостью теперь можно погубить свое собственное дело. На минуту я подумал, что теперь все пойдет отлично, что Женя освободится от его влияния, успокоится…
Я жестоко ошибся.
Приехав к нам, Женя действительно как будто успокоилась. По крайней мере, она не говорила о тревоживших ее вопросах. Молчаливая, затихшая, сосредоточенная, она, казалось, хотела только одного, чтобы ее оставили в покое и не трогали. Я, мать и отец не считали возможным непрошенно врываться в ея душевный мир и не касались ничего, что могло бы взволновать ее. Матушка тихонько говорила: «пусть отдохнет бедная девочка; ей только отдых и нужен; молодость возьмет свое». Но никто из нас не мог сообразить, как непривычен и тяжел должен показаться Жене склад нашей жизни. Мы все по целым дням были в работе, отбывая свои привычныя обязанности бодро и весело. Иногда мы встречались и болтали между собою только за завтраками, обедами и вечерним чаем. Женя волей-неволей оставалась одна: она видела, что мы заняты делом, и не мешала нам; она могла бы читать или говорить с Миннушкой, но ни то, ни другое не шло ей на ум. Мать раза два заметила Жене, чтобы она принялась за какую-нибудь работу, но Женя коротко ответила, что у нея все валится из рук. Непривычка к какому-нибудь труду, к какой-нибудь деятельности у нея была полная. Теперь сказывалось вполне это воспитание барышни, умеющей только играть на фортепиано, читать книги, вышивать в крайнем случае какия-нибудь ненужныя подушки… Так прошло три недели. На четвертой мы однажды увидели, что Женя куда-то собирается.
— Куда ты, Женя? — спросила моя мать.
Женя немного смутилась и в замешательстве ответила:
— Мне надо сходить… по делу…
— Ты же не привыкла ходить одна, — сказала матушка. — Не хочешь ли, я пойду с тобой?
— Нет, нет!.. Я не маленькая…
И, улыбаясь горькой улыбкой, она прибавила:
— Мне надо же привыкать ходить одной…
Она ушла. Тотчас по ея уходе, Миннушка начала рассказывать, что Женя плакала всю ночь. Плакала и молилась. И в предыдущия ночи она иногда плакала и молилась. но нынче, кажется, не спала всю ночь напролет. Матушка встревожилась. Что с ней? Что она плачет, это естественно, у нея не мало на душе горя, но куда она пошла? Уж не пришла ли ей в голову мысль о самоубийстве? Этого можно ждать при ея разстроенных нервах. Не следовало ее отпускать одну. Но к обеду Женя вернулась. Ея лицо было теперь спокойнее, на нем даже появилась улыбка. Моя мать успокоилась. Никто не спрашивал Женю, куда она ходила. Но не прошло и часа после ея возвращения домой, как Миннушка сообщила моей матери, что Женя принесла домой несколько иммортелей. Мать догадалась, что Женя ходила на могилы Левы и Анны Ивановны. В этом не было ничего удивительнаго. Это даже хороший знак: она посетила могилы близких и вернулась более спокойною. Значит острая боль прошла. Через день Женя снова ушла с самаго ранняго утра и опять вернулась только к обеду. Опять ея лицо улыбалось какой-то полубезмысленной улыбкой. В следующие дни повторилось та же. Не слишком ли часты эти посещения? Не разстроят ли они снова нервов? Едва ли полезны для здоровья молодой девушки эти memento mori. Наконец, моя мать неожиданно спросила ее:
— Хорошо на кладбище?
Женя вся вспыхнула.
— Да… хорошо!..
Матушка ласково заметила:
— Но не ходи туда так часто, Женя; ты утомишь себя…
— Ах, нет, нет! Я так счастлива там!.. Я готова там целые дни сидеть…
Миннушка вздохнула.
— Нет, я бы не могла. Это производит тяжелое впечатление…
Женя сдвинула брови, видимо сердясь на Минну.
— Изнежила ты себя слишком, — сказала она почти сурово: — нельзя же вечно делать только то, что нам легко…
Мы переглянулись между собою, точно ища, нет ли между нами Вурма.
— Миннушка человек больной, — сказала матушка: — было бы странно, если бы она стала еще более надрывать свое здоровье.
— И я тоже не особенно здорова, — резко сказала Женя: — а все же…
Матушка перебила ее:
— Потому-то я и не советую тебе так часто ходить на кладбище. Покойникам это вовсе не нужно.
— Это мне нужно, Елена Андреевна, — коротко ответила Женя. — И так я много воли и поблажек себе дала…
Моя мать улыбнулась и постаралась обратить разговор в шутку:
— А теперь вымуштровать себя хочешь?
Женя нахмурилась, но не возразила ничего.
На следующий день вечером совершенно неожиданно зашел к нам Вурм. До этой поры он не бывал у нас. Здороваясь со всеми, объясняя, что он хотел навестить «девиц», он между прочим спросил Женю:
— Вы еще долго оставались после меня сегодня на кладбище?
Она сконфузилась и ответила:
— Нет, я сейчас же после вас ушла…
Мы переглянулись между собою. Значит, она виделась с Вурмом? Зачем? Была ли это случайность или нет? Из его слов мы узнали, что она заходила к нему. Женя сидела, как на иголках, порываясь уйти. Когда она вышла из комнаты, он сказал:
— Я рад, что в ея душу нисходят успокоение и примирение с Богом. Последния искушения и протесты плоти отошли прочь. Нужно только поддержать ее в этом настроении, вера просветлит ее и очистит от грехов…
Нам было как-то не по себе.
Вурм, между прочим, осторожно приступил к главной цели своего визита. Он заявил, что Евгении Александровне нужно бы устроиться прочно, не на бивуаках. Притом ея присутствие и присутствие Миннушки стесняет нас. Моя мать довольно резко, что было не в ея характере, возразила ему, что нас это не стесняет, что мы никому не жаловались, кажется, на стеснение. Кроме того, Жене и не на что покуда устроиться иначе. Вурм заявил, что все можно уладить. Дядя Карл соглашается выдать заимообразно нужныя для устройства Евгении Александровны и Миннушки деньги. Он, Вурм, ездил на-днях к Шельхеру, уговорил его. Впрочем, было не трудно уговорить. За его одолжение Евгения Александровна приютит у себя Миннушку. Иначе ему придется содержать Миннушку. Это, впрочем, и для Евгении Александровы хорошо: она сделает первое доброе дело, разделят свой достаток с нуждающейся сестрой. Потом он начал как бы оправдываясь, объяснять, что нельзя же чтобы девушки сидели у нас на шее в течение нескольких месяцев, пока кончится дележ наследства. Чем скорее устроить их, тем лучше, спокойнее для нас. Мы чувствовали, что он спешит спасти Женю из семьи язычников. В душе поднималась прежняя враждебность к этому человеку. Когда вошла Женя, мы заметили, что она вопросительно взглянула на Вурха. Он едва заметно склонил голову, как бы говоря: «объяснил!» Нам стало вполне ясно, что все его объяснение было обусловлено с Женей. Это она просила его, чтобы он ее устроил не у нас. Ея душу теперь снова охватывал страх перед адскими муками; ее опять мучили суеверныя представления загробных ужасов. Моя мать вздохнула и проговорила холодным тоном:
— Если Женя считает это более удобным для себя, то тут и говорить нечего…
Женя покраснела, но не возразила ничего. Она только пробормотала что-то трусливо и смущенно, желая объяснить «что это не она хлопочет, а впрочем… она тоже поймает, что нам не легко содержать ее и Минну». Никто не обратил внимания на это трусливое желание вывернуться, хотя это была новая черта в характере Жени. До этой поры она была прямодушна. Разговор сделался каким-то натянутым и неловким. Через полчаса Вурм поднялся с места и откланялся, чинный. сдержанный, сухой. Моя мать по его уходе не обмолвилась ни одним словом упрека Жене. И на что были нужны упреки. За что? У каждаго свои убеждения, свои взгляды. Только дня через три, когда Женя и Минна переезжали от нас в нанятую для них квартиру, моя мать заметила со вздохом Миннушке:
— Тяжело тебе будет, Миннушка! Не забывай нас, когда взгрустнется. Наш дом всегда открыт для тебя.
Миннушка расплакалась. И моя мать, и сама Миннушка предчувствовали, что жить с Женей будет не легко…
XV.
Понеслись дни за днями, стирая воспоминания о прошлых событиях, о сошедших со сцены лицах.
Как-то чутьем члены моей семьи угадывали, что мы будем всегда лишними гостями у Жени, и заходили к ней все реже и реже. Она тоже сначала посещала нас только изредка, потом перестала вовсе заходить к нам, даже более — начала избегать встреч с нами. Отчасти она избегала нас потому, что именно мы лучше всех знали все мелкия события ея прошлаго; отчасти она боялась встреч с нами, как с людьми, не придающими значения тому, чему придавала теперь значение она. Преобладающим чувством в ней теперь явился страх — страх перед людьми, которые знали о ея связи с Левой, страх перед Богом, Который может ее наказать после смерти, страх перед Вурмом, который всецело захватил ея душу и мог казнить и миловать ее, как неразумное дитя. Ея лицо стало как будто меньше, ея губы постоянно кривились не то в слащавую, не то в кислую улыбку, ея глаза стали бегать и моргать, избегая встречи с посторонними взглядами. Так смотрят глуповатыя, забитыя и потому старающияся хитрить дети.
О ней мы узнавали чаще всего от Миннушки, заходившей иногда к нам отвести душу и поплакать.
По словам Миннушки, Женя ежедневно посещала или кладбище, или церковь, или Вурма. Если она не заходила несколько дней к нему, он приходил к ней сам.
— Как она выносит эту жизнь, — жаловалась нам однажды бедная, больная старая дева-ребенок. — Лишает себя всего необходимаго, утомляет себя стояньем у обеден, у всенощных, у заутрен, на панихидах, на молебнах. И, Господи, сколько у вас, у русских, этих служб! Я прежде и не знала. Тетя ведь никогда не могла удосужиться съездить в церковь… А теперь уж я знаю все эти службы. Да это что, пусть бы молилась только. Так нет! Верите ли, моет полы и печи топит у Вурма в зале, где собираются члены его общины. За счастие это считает. Все, чтобы душу спасти!
И уже совсем слезливым тоном она продолжала рассказывать о себе:
— На меня все нападает она за то, что я неженка, что я ничего не делаю, что я только о своем теле и забочусь. Да ведь я больной человек, я рада, когда я могу полежать. У меня все кости болят, живого места нет! И разве можно при нашей пище быть здоровой? Ведь мы во всем себя урезываем, каждый кусок хлеба на счету, только кашами и питаемся…
Действительно, длинное лицо Миннушки, худощавое и прежде, теперь было совсем обтянуто кожей, пожелтевшей, сморщенной. Это было лицо постоянно голодающаго человека. Ея горбатенькая фигурка скривилась еще более на бок, и старая дева казалась теперь меньше ростом.
— Но ведь Жене большой капитал достался? — заметила моя мать, возмущенная рассказом Миннушки.
— Шестьдесят тысяч слишком пришлось на ея долю, — ответила Миннушка со вздохом. — Господи, какия деньги…
— Уж не отдает ли она деньги Вурму? — сказал я.
Миннушка махнула рукой.
— Нет! На его общину дает она немного. Себе ведь он почти никогда ничего не берет. Если что и берет, так на дела общины. Нет, в деньгах недостатка у Жени нет. А так уж это у нея такой теперь характер. Все она нищей боится остаться. «Знаю я, говорит, что на улице мне пришлось бы умереть, если бы не было у меня денег». Да, кроме того, она все считает лишним. Плоть, говорит, надо убивать.
Я с грустью вспомнил, что когда-то и Миннушка говорила то же со слов Вурма. Живо мне припомнился тот ясный летний день, когда убогая девушка, с наслаждением впивая аромат сорванных ею левкоев, поучала меня теориям Вурма о сладости и необходимости страданий. Как далеко было теперь это время, когда она могла мечтать и фантазировать на эту тему, утешая себя за свое убожество и за свои недуги. Она с каким-то упоением развивала эти мысли тогда, когда ей только птичьяго молока недоставало, когда даже в дни легких недугов было так сладко нежиться на пуховой постели под шелковыми одеялами среди прихотливой обстановки богатой девической спальни. Миннушка молчала и впала в раздумье. Может-быть, ей тоже припомнились далекие годы ея счастья. Молчание прервала моя мать.
— Но верно она помогает бедным? — спросила она про Женю, ища инстинктивно каких-то оправданий для Жени.
— Да, да, помогает! — страстно воскликнула Миннушка с горькой усмешкой. — Но не дай Бог никому получать ея помощь! Измучит человека наставлениями, прежде чем даст пособие. «Все, говорит, терпеть должны. Терпенья у нас нет, выносливости нет. Жаловаться мы только умеем. Иные и не такия страдания вынесли и никогда не ропщут на Бога. Лишения и бедность ничего не значат. Есть посильнее мучения, а и их иные люди безропотно переносят…» Это все своими страданиями гордится, думает, что больше их уж ничего и быть не может… А разве она испытала бедность? разве она оставалась без куска хлеба. О, о, она никогда не испытала настоящаго голода! Если она лишает себя необходимаго, так это по доброй воле. Бедняки же и рады бы поесть, да где взять? Как же можно их так оскорблять?..
Миннушка смолкла и тяжело вздохнула. Я никогда не видал ее такой возбужденной и красноречивой.
— Точно у нея сердца нет!.. — прибавила она после минутнаго молчания. — Да, да, нет сердца!
Мне показалось, что Миннушка особенно горячо теперь относится к вопросу бедняков о хлебе именно потому, что этот вопрос имеет такое громадное значение и для нея. На ея исхудалом лице теперь особенно сильно выдавались здоровыя крупныя челюсти и большой рогь, как бы говорившие о сильной потребности хорошей и обильной пищи, нужной для поддержки этого худосочнаго организма. Впервые я заметил в этот день, как жадно и как много она ела, торопливо раскусывая и перемалывая пищу крупными зубами и звучно работая сильными челюстями. Эти челюсти и эти зубы, сильно выдававшиеся вперед, придавали теперь ея исхудалому лицу сходство с белой лошадиной головой. Да, вопрос о хлебе был для нея первым и главным вопросом…
Раз она зашла к нам, более обыкновеннаго взволнованная. Моя мать с участием стала ее разспрашивать, что с ней. Несчастная девушка расплакалась.
— Житья мне нет у Жени! Просто она ненавидит меня! Только я и слышу от нея: «Ты, верно, думаешь, что ты святая; что тебе и Богу не надо молиться, и каяться не надо?» А я молюсь и каюсь, но что же мне делать, если у протестантов ни вечерен, ни всенощных, ни молебнов нет, если я больная и убогая, если мне покой нужен? Разве я виновата, что я не наделала таких грехов, как она?
Как ни было нам жаль Миннушку, у нас мелькнула улыбка при этих наивных словах. Миннушка, озабоченная и не заметившая скользнувших по нашим лицам улыбок, продолжала:
— Она теперь всех ненавидит, кто не наделал таких грехов, как она, или кто знает, что она наделала грехов. Вас всех, тетю Маришу…
— А Вурма? — спросили мы шутливо.
— Его она боится… Право, только боится. А в душе, кажется, и его ненавидит… Вот уж надела сама на себя петлю и клянет всех за это… Ну, да Бог с ней, я не о ней говорю, а о себе… Заест она меня заживо. Захворай я серьезно, она, как собаку, меня бросит в доме одну, без помощи…
— Ты бы, Миннушка, погостила у нас, — сказала моя мать: — отдохнешь хоть здесь…
Миннушка даже испугалась и замахала рукой.
— Нет, нет, тогда еще хуже будет! Она и то, когда я ухожу из дому, говорит: «что, жаловаться на меня идешь? Тебе бы только по гостям бегать, чтобы сплетничать. В твои годы другая Богу молилась бы, а не по гостям бегала бы…»
— Так брось ее, — посоветовала матушка.
— Чем же я жить буду? Работать? Разве у меня есть силы?
— Ты бы поговорила с дядей Карлом…
— Он говорит, что у него своя семья… И меня же там бранят… Вурм меня не любит и говорит дяде Карлу, что я ветреная девушка…
Мы разразились смехом и сконфуженно стали извиняться за этот смех. Миннушка добродушно улыбнулась:
— Да я и сама знаю, что это смешно! Но они говорят это про меня…
И совсем конфузливо она прибавила:
— А я вот бантик розовый, так и тот не дома надеваю, а в кармане уношу и уж в гостях его привешиваю… А то скажут: кокетничаешь!.. А разве это кокетство? Я с детства у тети привыкла прилично одеваться…
Потом, задумавшись на минуту, она со вздохом проговорила:
— Господи, каких-каких нарядов у нас не было тогда… И все пропало, исчезло…
По ея желтым щекам медленно потекли слезы.
Когда Миннушка ушла, моя мать заговорила о том, что надо бы взять ее к нам в дом.
— Тяжело тебе будет. Она больной человек, — возразил осторожно отец и тотчас же торопливо прибавил:
— А впрочем, делай, как знаешь. Не я с ней буду няньчиться. Хлеба же хватит на всех…
Но, прежде чем матушка известила Миннушку о том, что она может поселиться у нас в доме, к нам зашла Марина Осиповна. Ея вечно красненькое, безформенное, как комочек свежаго мяса, личико улыбалось. Приседая и целуясь со всеми нами, она заявила:
— А сейчас придет и Миннушка! Она ведь теперь у меня живет, со вчерашняго дня поселилась…
— Что вы, тетя Мариша, неужели? — обрадовалась моя мать. — А я уж думала пригласить ее к нам.
— Ну, вот еще! У меня же странноприимный дом и без того, целый полк калек и убогих, — добродушно пошутила тетя Мариша.
И уже серьезно продолжала:
— Не вынесла, не вынесла Миннушка! Господи, что с Женей сталось? Ни сострадания, ни участия! И ведь можете представить: не хотела отпустить от себя Миннушку; мучила и терзала, а отпустить не хотела. «Ты, говорит, это из злобы ко мне, из зависти к тому, что я душу свою спасаю, хочешь очернить меня, выставить злодейкой перед, людьми; вот почему ты бежишь от меня». А потом, когда Миннушка не послушалась, не осталась у нея, она и говорить: «уходи, уходи, это новое испытание мне Бог посылает, новый крест дает. Я благословляю Его за это… Я счастлива. Праведных всех поносят и бранят, потому и мне Он этот крест посылает. Я счастлива».
Пришла Миннушка, заметно оживившаяся, точно воскресшая к новой жизни. Как бы в знак своей радости, она нацепила себе на грудь большой и яркий красный бант. Он был несколько помят; очевидно, что Миннушка старательно прятала его от Жени. Теперь эти предосторожности были не нужны. Она, видимо, никого больше не боялась, — не боялась прослыть кокеткой. Она стала в свою очередь рассказывать про Женю:
— Каких-то падших женщин теперь стала отыскивать, на путь истины обращает, — рассказывала она. — У нея теперь, что год, то новыя затеи… Да что я говорю о годах! У нея чуть не каждый день новыя фантазии… Теперь падшия у нея в моде… Найдет какую-нибудь девочку, приведет к себе, сперва проповеди и наставления ей читает, впроголодь держит, потом заставит полы мыть и белье стирать, а там прикажет молиться на коленях, земные поклоны класть. Поживет та у нея неделю или две и сбежит. Тут-то и начнет она говорить о разврате рода человеческаго, об ожидающей всех гибели. «Я, говорит, добровольно свой крест несу, а эти негодницы хотят тунеядствовать!» А Вурм благословляет ее и говорит, что это потому все делается, что близится конец мира…
— На все у них есть объяснения, — с улыбкой сказала моя мать. — Счастливые люди!..
— Да, но не дай, Господи, иметь с ними дело, — проговорила Миннушка.
— Ну, да уж Бог с ним и со счастьем-то этим, — наметила тетя Мариша.
Я подразнил Миннушку, напомнив ей, как в былые годы она заступалась за Вурма и говорила о сладостях физических страданий.
Она вздохнула.
— Разве я, Коля, что-нибудь испытала и знала тогда!.. Ах, какое чудное было тогда время!..
——-
Изредка, раз или два в год, встречая Вурма и Женю, мы и наши общие знакомые слышали всегда одно и то же. Он называл ее «девушкой святой жизни»; она говорила: «я безконечно счастлива». Первому можно было поверить, второе казалось невероятным, при взгляде на нее: она хотя ей было не более тридцати лет, смотрела уже старухой, была желта, худа, морщиниста, с блуждающим выражением глаз, с строго сжатыми губами. О прежней улыбочке не было и помину; что-то жесткое и суровое было в ея лице. О святости жизни это могло свидетельствовать, о счастии тут не могло быть и речи.
Встретив как-то ее на улице, я решился прямо заметить ей:
— Неужели, Женя, счастие производит в людях всегда такую перемену, как в тебе?
Она взглянула на меня почти со злобой.
— А! а по-твоему счастливы только ваши румяныя и смеющияся развратницы? — резко и как то хрипло сказала она, и ея лицо на минуту искривилось насмешливой гримасой.
— Но разве счастие делает людей злыми? — продолжал я.
Она еще суровее взглянула на меня.
— Что тебе от меня нужно? Кажется, я к вам не иду? Могли бы оставить меня в покое.
И, опять как-то судорожно скривив рот, она прибавила тем же хриплым голосом:
— Вот увидим, что-то вы, счастливые, заговорите, когда вас позовут к ответу! Тогда увидим, как-то будете вы смеяться над нами с скрежетом зубов…
Не прощаясь, она торопливо пошла далее. Меня поразили в ней блуждающие глаза и ея странно хриплый голос.
Опять я долгое время не встречал ее и только слышал о ней, что она совершает разныя странныя выходки, то врывается в публичные дома с какими-то брошюрами и книжечками, то является свидетельницей по делам о жестоком обращении с животными, то устраивает какую-то лечебницу для безприютных собак.
С год тому назад мое внимание остановила на себе одна из обычных уличных сцен. На улице упала лошадь ломовика. По обыкновению он принялся ее бить, приправляя удары крупною бранью. Кругом слышался смех, и раздавались крики: «Ай-да барыня! Вот так барыня!» Я остановился и увидел странную фигуру женщины. Это было исхудалое создание в заношенной, не столько старой, сколько неряшливой одежде. Женщина держала в руках два красных шнурка, к которым были привязаны две облезлыя, больныя собачонки в щеголеватых суконных попонах, и ругала ломовика довольно безцеремонной бранью, прерывая эту брань и угрозы восклицаниями: «Жолька! Бибишка! сюда! Бибишка! Жолька! сюда!» Толпа вышучивала ее, ломовик тоже, стегая лошадь, отвечал барыне отрывочными фразами: «Не надорвись! Деток-то своих не упусти! Ишь собачьи матери на людей лезут?» Наконец, лошадь поднялась, и барыня, все еще бранясь и клича своих собачек, в сдвинутой на затылок шляпе, обернулась лицом к тротуару. Я узнал в ней Женю, исхудалую, морщинистую, но с странно румяными щеками, с неестественно широкими и черными бровями. Это лицо теперь походило на карикатурную маску. Толпа зевак, посмеиваясь над ней, провожала ее к тротуару. Я поспешил к ней, желая оградить ее от оскорблений и насмешек.
— Женя! — воскликнул я.
Она подняла на меня мутные глаза и замотала головой.
— Я вас не имею удовольствия знать-с, — совсем хриплым голосом ответила она.
Я остолбенел от изумления, не доверяя самому себе.
— Я Коля… Жданов, — сказал я, наклоняясь ближе к ея лицу.
— Извините-с. Никакого Коли я не знаю, — насмешливо ответила она.
И засмеялась странным смехом:
— Коля! С бородой!
Я уже совершенно ясно ощущал, что от нея пахло вином.
— Жолька, Бибишка, назад! — крикнула она своим собачкам.
Оне рвались вперед, и она поспешно, не особенно твердым шагом пустилась дальше, увлекаемая ими, сопровождаемая шутками и остротами уличной толпы…
Блаженная!..
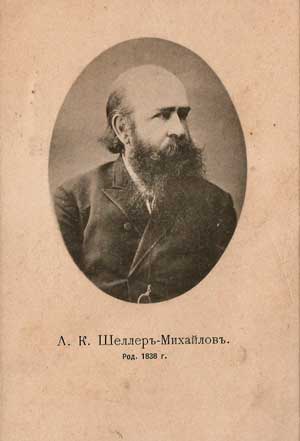
Комментировать