Оглавление
Часть первая. Примеры благочестия из житий святых
Чудный помощник
Я вижу, братья, новое солнце, восходящее над землею и приносящее сладостное утешение скорбящим. Он будет усердным помощником всем бедствующим.
Житие Святителя Николая
1
Святителя Николая Мирликийского очень почитал один старый константинопольский ремесленник.
Его жизнь была трудна. Нелегко доставался ему кусок хлеба, и не обилен, не сладок был этот кусок.
Весь свой век перебивался он изо дня в день. То работы было мало, то платили плохо, то вовсе не платили. И во всех горестях ремесленник обращался к Святителю и Чудотворцу Николаю. Рассказы о том, как святитель жалел бедных и спасал несчастных, запали глубоко в душу бедняги.
За то, что святитель при жизни был близок всем обездоленным, утешал всякую скорбь, ремесленник любил его так, как будто он помогал ему самому.
И эти добродетели, какие труженик жаждал найти в людях и которые он нашел в Святителе Николае, сделали никогда не виденного им, давно отошедшего человека самым близким и дорогим.
Каждый год ремесленник с нетерпением ждал дня этого святого. Казалось, что милосердный помощник был тогда особенно близок к тем, для которых жизнь была злой мачехой.
Приближался праздник Святителя Николая. В этот день бедняк привык жертвовать в церковь свечи, делиться, чем мог, с другими, более бедными людьми. Но теперь праздник было нечем ознаменовать – и старик грустил.
Наконец, он сказал жене:
– Близок день заступника нашего, Святителя Николая, а нам нечем его отпраздновать.
Его жена была всю жизнь верной спутницей мужа и разделяла с ним благоговение к святителю:
– Нам недолго жить на свете, детей у нас нет, не для кого беречь наследство. Продадим же последнее, чтобы угодить Богу и Его Чудотворцу. У нас есть ковер – продай его на рынке и купи все нужное для праздника.
Старик согласился и пошел продавать ковер.
На торговой площади ему навстречу попался старец. Он был одет просто, но во всяком его движении чувствовалось достоинство. Глаза старца выражали и волю, и строгость, но вместе с тем смотрели прямо и сочувственно. Старец спросил ремесленника:
– Куда идешь, любезный друг?
– На торг, – отвечал тот, – продать ковер.
– Сколько просишь? – спросил старец.
– Стоил он восемь золотых, а теперь возьму, что дадут.
Старец дал ему шесть золотых, взял ковер и ушел.
Вскоре тот же величавый старец явился к жене ремесленника, принес ей ковер и сказал:
– Твой муж – мой давнишний друг. Я встретил его на торгу, и он просил меня занести тебе этот ковер. Вот, возьми его. – И старец поспешно вышел.
Женщина была и озадачена, и рассержена поступком мужа. Значит, он не пожелал расстаться с ковром даже для того, чтобы почтить праздник святителя.
Когда муж вернулся, она встретила его упреками.
– Лучше бы ты продал его, – причитала она. – Твой ковер с тобой, но где теперь твоя честная жизнь?
Старик в изумлении не мог выговорить ни слова. Наконец, он заставил жену рассказать, как ковер снова попал к ним. И во время ее рассказа у него будто открылись глаза. Он взглянул на икону в углу: с иконы ему в душу смотрели те же сочувственные и строгие глаза, которые он видел, продавая ковер. Слезы застилали перед ним этот образ, и он закричал, полный невыразимого восторга и умиления:
– Сам святитель купил у нас этот ковер и возвратил его в убогую хижину!
Быстро разнеслась по городу молва о чуде.
Когда ремесленник поговорил с теми, с кем, продавая ковер, стоял на торге, то бывшие неподалеку люди видели ремесленника и думали, что он разговаривает сам с собой. Никакого старца они не видели и не слышали.
Когда о чуде узнал патриарх, то назначил старому ремесленнику содержание из доходов Софийской церкви.
2
Не так, как у ремесленника, протекала жизнь Василия, единственного сына состоятельного Агрика.
Ни в чем мальчику не было отказа. Все богатство отца, множество зависевших от него людей – все было готово ему угождать. В постоянном празднике легко бы загордилась его душа, если бы мать Василия не поддерживала в нем христианскую веру. Через Евангелие вошло в мальчика сострадание к слабым, приветливость, осознание равенства людей. Много хорошего дал мальчику пример Святителя Николая, которого чтили в доме его отца и о котором он слышал с детства.
Каждый год в день святителя Николая, поминая его милосердие к людям, Агрик устраивал две трапезы для убогих и для друзей.
Однажды, когда Василию было шестнадцать лет и наступал праздник Святителя Николая, Агрик поручил сыну со слугами сходить в церковь, отстоять Литургию и вернуться к трапезе домой.
Во время службы церковь окружили сарацины, забрали всех молившихся и отвезли на остров Крит.
Василий был назначен ко двору князя Амиры, и ему поручена была должность виночерпия.
…Уже два года не было вестей от сына.
Наконец, родителям Агрика сказали:
– Что вы горюете, точно нет помощника! Великий Святитель Николай совершил столько чудес на море и на суше, избавил от смерти столько неповинных, поможет и вам.
И очнулся тогда Агрик от непомерной скорби.
– Уже два года мы в печали, – сказал он жене, – и что пользы от слез? Забыли мы о святителе, не ходим к нему на праздник.
Послушай меня, возьмем свечи, елей, пойдем к святому, помолимся ему.
И он вернет нам сына!
Горячо молились они в тот день в храме Святителя Николая, а на чужбине тосковал по родине, молился святителю их сын Василий.
Вернувшись домой из церкви, Агрик с женой вдруг услышали громкий лай собак. Они с гостями вышли во двор. Там стоял человек в сарацинской одежде, в руке он держал бокал, полный вина.
Агрик не верил своим глазам и еле смог выговорить:
– Сын, ты ли это, или тень твоя?
– Это я, – сказал Василий, и отец раскрыл ему объятия.
Когда они немного пришли в себя, Агрик спросил сына, как ему удалось бежать.
– Я не бежал, – отвечал Василий. – Я только что стоял перед Амирой и наливал ему в этот бокал вино. Вдруг кто-то сильный подхватил меня, и я понесся, точно по ветру, и только тогда узнал великого Чудотворца Николая.
Обидчик инока
Из жизни преподобного Варлаама Хутынского
Много с тех пор минуло времени. На берегу широкой реки, недалеко от ее истока из зеркальных вод глубокого озера, среди густого девственного леса, приютилась скромная обитель, основанная одним из великих русских святых.
Пустынно было место, избранное подвижником для обители, ничто не нарушало молитвенных трудов здешних иноков.
Обитель была вдали от суетного мира, но знали об аскетической жизни ее братии и великих подвигах старца-игумена и в стольном граде, и в окрестных селениях. Нередко паломники и знатные, и бедные посещали пустынь для молитв и духовных бесед с игуменом, жертвовали от своего достатка на монастырь.
Не по сердцу были старцу эти посещения, нарушали они иноческое уединение, но все же искренно и радушно он встречал каждого.
Принимая посильные жертвы богомольцев, игумен не копил их, а тотчас же отсылал с одним из иноков в соседние селения неимущим или отдавал беднякам, приходившим поклониться святыням обители. Берег старец только дар одного из именитых граждан стольного града – небольшое стадо овец. Оно давало шерсть для выделывания теплой одежды, которой он снабжал всех обездоленных, запрещая пользоваться этой одеждой монастырской братии. Рубище должно быть одеждой инока, давшего обет нестяжания.
Но вскоре горе постигло обитель и окрестные селения. В монастырском лесу появился медведь, и стада крестьян, а вместе с ними и овцы обители становились добычей ненасытного зверя.
Селяне охотились за медведем, но тот каждый раз уходил в лесную чащу, а через несколько дней опять нападал на стада.
Страх охватил селян и братию.
– Отче, – молили они старца, – помоги нам одолеть зверя, верно, за грехи наши послан он.
Улыбнулся старец.
– Маловерные! Ищите помощи в молитве!
А сам после утреннего богослужения, взяв посох, отправился в лес.
Пурпурные лучи раннего солнца позолотили верхушки векового монастырского леса, синеющую даль, гладкую тишь озера и едва заметную зыбь реки.
* * *
…Из лесной чащи вышел игумен; за ним покорно следовал огромный медведь – грозный враг окрестных стад.
– Иди, иди! – говорил ему старец. – Умел зло творить, так умей смиренно и наказание епископское получить. Я, грешный, недостойный инок, не могу, запретить тебе злобствовать, но велика власть святительская!
Казалось, зверь понимал слова старца. Обладавший страшной силой, он, как ягненок, шел за человеком, тело которого было слабо, но дух велик.
Путь был неблизкий. Не один день сменился ночью, пока они вышли на дорогу к стольному граду.
Путники, встречавшиеся им, с ужасом предавались бегству. Ворчал на них зверь, но кроткий взгляд старца усмирял его, и он, несмотря на голод, ибо старец не позволял ему сломать по дороге даже ветку дерева, продолжал следовать за дивным иноком.
Проходили они и селения. И странно, медведя боялись только люди, а животные бестрепетно оставались на месте, точно понимая, что их страшный враг – раб старца, и не посмеет напасть.
Но вот и стольный град.
У ворот смятение: огромный медведь сидит посреди дороги, и никто не решается пройти мимо зверя. Но и здесь, как и в селениях, боятся его только люди; шедшее же в город стадо овец будто и не заметило его.
Смирно сидит зверь. Оставил его старец и не велел идти за ним, пока не позовет на владычный суд. Бросился, было, зверь за иноком, но неведомая сила удержала его.
– Владыка! – Докладывал седой иеромонах, ближайший советник святителя. – Тебя хочет видеть игумен того монастыря, где так процветает жизнь иноческая!
– Зови его! Или нет… я сам встречу игумена, слава о подвигах которого так велика!
И святитель вышел на крыльцо, где смиренно ожидал его старец.
– Благослови, владыка, – сказал он, кланяясь до земли.
– Бог благословит тебя, возлюбленное чадо!
Что привело тебя ко мне? Знаю – не любишь ты покидать свою обитель.
– Обидели меня, владыка! И пришел я искать твоего суда вместе с моим обидчиком!
– Ты ли это, – удивился святитель, – известный смирением и подвигами, питаешь вражду к обидевшему тебя!
– Он обидчик не только мой, но и обители моей и окрест ее живущих крестьян!
Еще большее удивился святитель и спросил старца:
– Кто же этот обидчик, и где он?
– Он здесь, у городских ворот, я приведу его к тебе.
Но не успел старец оставить владычный двор, как примчались к крыльцу слуги и, соскочив с коней, бросились к ногам архипастыря.
– Дивное дело в городе нашем, владыка! Медведь у городских ворот, и нет возможности отогнать его!
Пускали стрелы, но и тех не страшится!
– Не бойтесь! – тихо сказал старец. – Я приведу его сюда!
И святитель, и слуги в удивлении безмолвствовали, а старец спокойно пошел к воротам.
Привел старец своего обидчика к крыльцу святительскому. Ужаснулся владыка и все окружавшие его.
– Отче игумен, – сказал владыка, – не мне судить обидчика твоего! Если он покорно шел за тобой и повиновался тебе, то над ним властен лишь ты!
– Не во власти моей это.
Ты облечен высоким саном, а я – недостойный инок!
– Какая же обида нанесена тебе этим зверем?
– Нет от него пощады ни монастырскому стаду, ни стадам окрестных селян.
Накажи его запрещением, чтобы он не смел нападать на стада и навсегда оставил пределы моей обители!
И запретил владыка зверю нападать на стада обители и окрестных сел. Вновь до земли поклонился старец и вышел из города вместе со своим обидчиком.
Зверь ушел в лес, и с тех пор и стада поселян, и монастырские овцы были в безопасности.
Благодатный отрок
Нередко можно встретить примеры детского благочестия, стремления подражать подвигам святых отцов. Это бывает в тех благочестивых семьях, где дети воспитываются на чтении житий святых, под покровом храма Божия.
И такое воспитание вносит в юную душу отрадную тишину и спокойствие. В душе ребенка закладываются светлые образы святой жизни по Евангелию Христову, они становятся для него на всю жизнь заветной святыней, к которой с теплым чувством обращается потом человек даже в глубокой старости. И чем сильнее эти святые стремления в детстве, тем больше они освещают впоследствии несовершенство жизни. Они примиряют человека с невзгодами земной жизни, утешают его в трудном пути к Отечеству Небесному.
Таким был Преподобный Сергий Радонежский. В его душе, воспитанной на уроках благочестия, рано раскрылось чувство любви к молитве и готовность к подвигам для угождения Богу. Простое доброе сердце дитяти – это открытая дверь для благодати Божией, потому-то и сказал Господь: «таковых есть Царство Небесное (Мф. 19:14).
Рано снизошла благодать Божия в сердце отрока Варфоломея (мирское имя Преподобного Сергия). Всей душой Варфоломей полюбил богослужение и не пропускал ни одной церковной службы, а дома проводил время в чтении духовных книг, помогал родителям. Черпая из книг уроки духовной мудрости, он тотчас же старался прилагать их к своей жизни. Варфоломей понял, что еще в отроческом возрасте страсти уже начинают проявлять свою губительную силу, и сдержать их стоит немалого труда. А кто хоть раз в юности поддается их влечению, тому тяжело преодолеть их.
И вот благоразумный отрок уклоняется от детских игр, смеха и пустословия, помня, что «со строптивым и сам развратишься» (Пс. 17:27). Потом, сознавая, что воздержание – лучшее средство сдерживать страсти, святой отрок налагает на себя строгий пост: по средам и пятницам он не позволяет себе вкушать ничего, а в остальные дни питается только хлебом и водой. О каких-нибудь других напитках, не говоря уже о вине, он не позволял себе и помыслить всю свою жизнь.
Заботливая мать старалась умерить строгость его поста.
– Не изнуряй себя излишним воздержанием, сын мой, – говорила она, – чтобы тебе не заболеть от истощения сил: тогда и нам немалую скорбь причинишь. Ты еще дитя, твое тело растет; другие дети семь раз на дню поедят, а ты, дитя мое, ешь только раз в день, а то и через день; это тебе не по силам: всякое добро хорошо в меру и в свое время. Вкушай пищу, по крайней мере, вместе с нами.
Но благоразумный отрок кротко отвечал на увещания любящей матери:
– Не стесняй меня в этом, родная моя, чтобы не пришлось поступать против твоей воли. Не отклоняй меня от воздержания, которое так сладостно моей душе; зачем ты советуешь своему сыну неполезное? Ведь вы же сказывали мне, что я еще в колыбели постился по средам и пятницам; как же я могу не понуждать себя угождать Богу, чтобы Он избавил меня от грехов моих?
– Тебе нет еще и двенадцати лет от роду, – возражала ему мать, – а ты говоришь о грехах! Ты избрал благую часть, которая не отнимется у тебя, – что у тебя за грехи?
– Перестань, матушка, – со сдержанным огорчением отвечал ей сын. – Послушай, что говорит Святое Писание: «никто не чист перед Богом, аще и един день жития его будет на земли» (Иов. 14:5).
Мать удивлялась разумным речам сына и, не желая препятствовать, говорила ему:
– Если так, то Господь с тобой, я не хочу стеснять тебя в добром, дитя мое!..
И святой отрок никогда не позволял себе даже отведать каких-нибудь сладких блюд или напитков, следуя мудрому наставлению святителя Василия Великого: «Если хочешь войти в рай, воздержи чрево, избегай пьянства».
Так, укрощая юную плоть воздержанием и трудами для сохранения чистоты душевной и телесной, он ни в чем не выходил из воли своих родителей. Как кроткий и послушный сын, он был истинным утешением для них. «И виден был в нем прежде иноческого образа совершенный инок», – говорит блаженный Епифаний. Поступь его была полна скромности и целомудрия; никто не видел его смеющимся, а если и появлялась иногда кроткая улыбка на его лице, то и она была сдержанна. А чаще лицо его было задумчиво и серьезно; на глазах нередко заметны были слезы – свидетели его сердечного умиления. Его уста никогда не оставляли боговдохновенные псалмы Давида. Всегда тихий и молчаливый, кроткий и смиренный, он со всеми был ласков и обходителен, ни на кого не раздражался, от всех с любовью принимал случайные неприятности. Ходил он в скромной одежде, и если встречал бедняка, то охотно отдавал ему и ее.
Благоговейное устроение юной души Варфоломея, естественно, располагало его искать уединения, где бы он мог, наедине с Богом, изливать в слезной молитве перед Ним святые чувства невинного сердца. Особенно любил он молиться по ночам, иногда совсем проводя их без сна, и все это старался тщательно укрыть от домашних. И какой же детской доверчивостью и пламенной любовью к Богу, какой мудрой простотой дышала его чистая молитва! «Господи, – так взывал он в умилении сердечном, – дай же мне смолоду возлюбить Тебя всем сердцем моим и всей душой моей и поработать единому Тебе, яко к Тебе привержен я от утробы матери моей. Отец мой и мать моя – придет время – оставят меня, а Ты прими меня, сделай меня Своим, причти меня к избранному Твоему стаду! Избави меня, Господи, от всякой нечистоты, от всякой скверны душевной и телесной, сподоби меня творить святыню во страхе Твоем, Господи! К Тебе единому пусть стремится сердце мое; да не усладят меня все сладости мира сего; да не прельстят меня все красоты житейские; к Тебе единому пусть прилепится душа моя, и да восприимет меня десница Твоя… Не попусти мне когда-нибудь возрадоваться радостью мира сего, но исполни меня, Господи, радостью духовной и неизреченной сладостью Божественною; Дух Твой благой да наставит мя на землю праву!»
И каждый, глядя на Варфоломея, любовался им и невольно говорил с удивлением: «Что-то выйдет из этого отрока, которого Бог сподобил такой благодати с раннего детства?»
А отрок становился юношей и, возрастая летами, возрастал и в благочестии. И зарождалось в нем желание иноческого подвига.
Молитва и труд
Однажды преподобный Антоний Великий впал в уныние и предался суетным помыслам. Но, вскоре увидев себя в таком смущенном состоянии духа, он пришел в страх и с пламенною молитвою обратился ко Господу Богу, чтобы Он вразумил и наставил его, как избавиться от смущающих помыслов, как спастись.
Усердная молитва его была услышана. Спустя некоторое время, выйдя из кельи, он увидел незнакомого инока, который сидел за рукоделием, потом встал и молился; помолившись, снова сел за работу; после опять встал и молился. Это был ангел в образе инока, ниспосланный от Бога для наставления преподобного Антония. Святой Антоний внимательно смотрел на действия его, и ангел сказал: «Так поступай и спасешься». Услышав это, преподобный исполнился радости и надежды и с того времени никогда не нарушал правила, преподанного ему ангелом: молился – и вместе с тем трудился и достиг высокой степени совершенства в духовной жизни.
Читатель! Наставление, данное ангелом преподобному Антонию, относится и к тебе. Без молитвы и труда никто не может надеяться получить спасение. Молись и трудись, занимай душу богомыслием и трудись на пользу ближних, во славу Божию.
Святое место
Святой Алипий, диакон Адрианопольской церкви, за свое благочестие, благоразумие и кротость нрава пользовался необыкновенной любовью и доверием епископа, духовенства и прихожан. Ему, несмотря на молодость, поручено было управление церковным имуществом и попечение о бедных. Но сердце Алипия стремилось к безмолвному уединению. Следуя внутреннему влечению, он выпросил благословение у своей матери и тайно ушел из Адрианополя, чтобы скрыться в одной из отдаленных пустынь.
Епископ, узнав об этом, чрезвычайно опечалился, и всё духовенство, равно как и граждане, скорбели о том, что лишились человека, который своим добродетельным житием служил украшением Церкви Божией и приносил ей большую пользу, располагая своим примером и других к добродетельной, богоугодной жизни. Долго искали его и наконец, нашли и убедили – или, правильнее сказать, заставили возвратиться в отечество к прежней общеполезной службе.
Возвратившись против своей воли, преподобный долго и сильно скорбел о том, что его желание не исполнилось, но, наконец, Господь утешил и успокоил его. В сновидении ему явился ангел Божий и сказал: «Не скорби, Алипий, что ты возвращен с желанного тебе пути; знай, что место святое там, где человек живет свято и богоугодно». Утешенный видением, преподобный Алипий перестал скорбеть и с усердием продолжал трудиться в своем звании на пользу ближних.
Небесная стража
Когда преподобный Кирилл строил Белозерский монастырь, некоторые жители окрестных селений удивлялись скорой работе и воображали, что старец обладает большим богатством. Один помещик, движимый корыстолюбием, вооружил своих людей и послал их ограбить монастырь.
Разбойники дождались ночи, чтобы внезапно напасть на спящих иноков. Когда они подходили к монастырю, то увидели вокруг него множество вооруженных людей. Они решили выждать, но воины не уходили, и разбойники, тщетно прождав до полуночи, ни с чем возвратились домой. Они пришли в следующую ночь, но увидели вокруг монастыря еще больше воинов. Испугавшись, они пошли домой и рассказали обо всем своему помещику. Корыстолюбец, полагая, что в монастырь приходил кто-то из вельмож со свитой, чтобы помолиться и принять благословение от преподобного, послал в монастырь одного из слуг. Он должен был тайно выведать у монахов о вооруженных людях. Когда слуга возвратился с известием, что в монастыре не было ни богомольцев, ни посетителей, помещик испугался. Он понял, что Господь охраняет угодников Своих, и страшась праведного гнева Божия, тотчас отправился к святому Кириллу, со слезами исповедал перед ним свой грех и рассказал ему о чудном видении. Поблагодарив Бога, преподобный простил заблудшего и сказал: «Поверь мне, и другим скажи, что я с самого пострига в монашество ничего не имею, кроме одежды, которую ты видишь на мне, и книг». Помещик, удивленный кротостью преподобного Кирилла, возвратился домой, радуясь и благодаря Бога, что Он не допустил его оскорбить угодника Своего. С того времени помещик стал щедрым благотворителем обители.
Надежда непостыдная
Благочестивый отец семейства собрался по купеческим делам отлучиться из Александрии в Царьград. Опечаленная отъездом мужа жена спросила его: «Кому же ты поручаешь меня и дочь?» – «Госпоже нашей, Пресвятой Богородице», – отвечал он с несомненной надеждой на Заступницу Небесную.
Прошло несколько дней. Когда мать с дочерью сидели за рукоделием, их слуге пришла сатанинская мысль убить госпожу и, захватив дорогие вещи и деньги, бежать. И вот он берет из поварни нож и идет в горницу. Едва он коснулся порога, как вдруг поражен был слепотою и никак не мог двинуться с места. Слуга начал звать к себе госпожу, но она, удивившись такому странному поступку, сказала, что он сам должен прийти к ней. Слуга умолял ее, чтобы она подошла к нему или послала свою дочь; но госпожа, назвав его безумцем, не хотела говорить с ним. Тогда слуга в отчаянии выхватил из-за пазухи нож и поразил себя. На крик госпожи немедленно сбежались соседи; пришла стража и, застав злодея еще в живых, узнала, что с ним случилось. И все прославили Бога и Заступницу верных, Царицу Небесную.
Сила крестного знамения
Святой Никон в молодости служил в римском войске начальником отряда и отличался необыкновенной храбростью. Отец его воспитан был в язычестве, но мать приняла христианство. Любя военную службу, Никон продолжал ее и после смерти отца. Богобоязненная мать, страшась, чтобы он не умер идолопоклонником, старалась расположить его к христианской вере, но всё было напрасно. Никон ни о чем другом не думал, как только о славе и военных подвигах. Наконец, добрая мать, предавая его на волю Божию, сказала ему от всей полноты любящего сердца: «Сын мой! Если на войне случится тебе быть в опасности, то оградись крестным знамением – и тогда не поразит тебя ни стрела, ни копье, ни меч».
Слова матери имели спасительное действие и вскоре подтвердились. Римские войска выступили против варваров. Сражение было кровопролитное, и победа начинала уже склоняться на сторону неприятеля. Неустрашимый Никон, движимый славою отечества, сражался с необыкновенной храбростью – и вдруг очутился один среди неприятелей. Находясь в столь явной опасности, он вспомнил слова матери и, устремив глаза на небо, перекрестился и воскликнул из глубины сердца: «Христос, Боже всесильный! Яви надо мною в час сей силу Креста Твоего, чтобы отныне и я был рабом Твоим». Он почувствовал в себе необыкновенную силу и, поразив множество неприятелей, ободрил и воодушевил своих. Победа была на стороне римлян, и все войско прославило геройские подвиги Никона. По окончании войны войска были распущены. Никон, возвратившись домой в объятия нежной матери и рассказав ей все случившееся с ним, исполнил данное им обещание и сделался рабом Христовым.
Полководец-отшельник
Преподобный Афанасий, пустынножитель Афонской горы, столь прославился благочестием и даром чудотворений, что в монастырь его стекались отовсюду не только простолюдины, но и вельможи, и архиереи, чтобы учиться у него богоугодной жизни. В числе многих прибыл на Афонскую гору грузинский князь Торникий, который долгое время с честью служил в греческих войсках и пользовался славою опытного полководца. Уединенная и строгая жизнь отшельников пленила Торникия; он решил принять монашество и остаток своих дней провести в обители преподобного Афанасия. Греческие воины долго жалели о разлуке с добрым, мужественным и опытным начальником.
После смерти греческого императора Романа II управление государством приняла вдовствующая императрица Зоя. В это время персы стали делать набеги на соседние греческие области и, опустошая их, угрожали всему государству. В этих трудных обстоятельствах императрица, решая, кому поручить войска для отражения персов, вспомнила о Торникии и хотела опять призвать его на службу, но пустынник отказался. Тогда преподобный Афанасий, в присутствии старейших и уважаемых иноков, с отеческою властью сказал ему: «Мы все дети одного отечества, и потому все обязаны защищать его. Обязанность наша – молиться о победе над врагами и молитвами отражать их; но если верховная власть признает нужным употребить на пользу общую и руки наши, и грудь – мы беспрекословно должны повиноваться. Брат возлюбленный, кто думает и поступает иначе, тот прогневляет Бога. Если ты не послушаешь царя, устами которого вещает Сам Господь, то будешь отвечать перед Ним за кровь твоих соотечественников, которых ты мог, но не хотел спасти; будешь отвечать и за разорение и поругания храмов Божиих. Итак, иди с миром и, защищая отечество, охраняй Святую Церковь. Не бойся утратить сладостные для нас часы богомыслия. Моисей предводительствовал войском и беседовал с Богом. В любви к ближнему заключается и любовь к Богу. Дерзну сказать, что любовь к ближнему приятнее Богу, нежели ревностное попечение о спасении только своей души; ибо «никтоже из нас себе живет, и никтоже себе умирает».
Торникий повиновался и, сложив на время монашескую одежду, принял начальство над войском. Поход его был успешен. Разбив в нескольких сражениях персов, он принудил их заключить выгодный для Греции мир. Он возвратился в Царьград. Императрица предлагала ему различные награды, но Торникий просил только средств на устроение Иверского монастыря на Афонской горе. Признательная государыня с радостью исполнила его желание и повелела поставить его архимандритом новосозидаемой обители.
Иверский монастырь существует и доселе. В его ризнице хранятся воинские доспехи Торникия, замечательные по их тяжести и драгоценным украшениям, и свидетельствуют каждому, что можно служить вместе и Царю Небесному, и царю земному.
Чудотворная сила святых икон
В сирийском городе Раммелии один из знатных сарацин вошел вместе с другими из любопытства в церковь Святого Георгия и, увидев священника, читавшего молитвы перед иконою великомученика, сказал: «Посмотрите на безумного, что он делает? Доске поклоняется. Но дайте мне лук и стрелу, я прострелю доску». И тотчас пустил стрелу в икону. Но стрела, вопреки данному ей направлению, поднялась вверх и, падая, пронзила сарацину руку. Рука опухла, и он, стоная от сильной боли, кричал, что умирает.
К счастью, у него в услужении была одна христианка. Призвав ее, он сказал: «Я был в церкви и хотел прострелить икону Георгия, но не получилось, стрела вонзилась мне в руку, и я от нестерпимой боли умираю». Она сказала ему: «И ты думаешь, что хорошо сделал, дерзнув против иконы святого мученика?» – «Да неужели икона имеет такую силу, что я теперь страдаю?» – спросил сарацин. На это служанка отвечала: «Я человек неграмотный и отвечать тебе на это не умею; но позови священника: он даст тебе ответ». По ее совету сарацин, призвав священника, сказал ему: «Я желал бы знать, какую силу имеет та доска, или икона, которой ты в церкви поклонялся?» Священник отвечал: «Я поклонялся не доске, но Богу моему, Создателю всех, и молил изображенного на доске святого великомученика Георгия, чтобы он был ходатаем обо мне пред Богом». – «Если же Георгий не Бог ваш, – спросил сарацин, – то кто же он такой?» – «Он слуга Бога и Господа нашего Иисуса Христа, – сказал священник. – Был человек, нам подобный, но за исповедание имени Христова, мужественно претерпев мучения и смерть, получил от Него благодать творить чудеса. Любя его, мы почитаем и его икону и, глядя как бы на него самого, поклоняемся ей и целуем, подобно тому, как и ты делаешь по смерти твоих родителей и братьев, когда, смотря на их одежды, плачешь и целуешь их. А что иконы, как изображения слуг Божиих, имеют силу, это ты испытал на себе, дерзнув выстрелить в икону святого мученика». – «Что же мне делать? – спросил сарацин. – Посмотри на мою руку: я умираю». – «Если хочешь жить, – сказал священник, – то вели принести икону святого Георгия, поставь ее над постелью и засвети лампаду, пусть она горит всю ночь, а утром возьми из лампады масла и помажь руку. И веруй, что получишь исцеление».
Немедленно святая икона была принесена. Сарацин с радостью встретил ее и, исполнив все, что советовал ему священник, получил исцеление. Удивленный и обрадованный чудом, он спросил священника: «Нет ли чего написанного в книгах о святом Георгии?» Когда же священник принес книгу и читал ему о жизни и страданиях святого, сарацин, слушая со вниманием и держа в руках икону мученика, со слезами обратился к святому: «Святой Георгий! Ты был юн, но разумен; я стар, но безумен; ты жил немного, но угодил Богу; я дожил до старости и отвержен Всевышним. Помолись Богу своему, чтобы и я был рабом Его». Потом припал к ногам священника и умолял его сподобить его святого крещения. Священник, видя его веру и искреннее желание, но и опасаясь сарацин, крестил его ночью. Приняв крещение, он начал открыто проповедовать Иисуса Христа и принял мученическую смерть от озлобившихся сарацин.
Родительское наставление и Суд Божий
Из-за страшной нужды один отец – для спасения семейства от голодной смерти – решил продать единственного своего сына, юношу благонравного и сильно им любимого. Залившись слезами, он говорил ему: «Сын мой, ты видишь тяжкое наше положение, видишь угрожающую нам голодную смерть. Одно только остается средство к спасению всех нас – продать тебя». Добрый сын спокойно и твердо отвечал: «Родитель, я готов». Когда настало время вести его к одному вельможе, чтобы продать, отец, благословив сына и дав ему наставление служить господину с усердием и верностью, в заключение сказал: «Много горя придется тебе испытать в чужом доме, потому держись крепко Церкви Божией, этой тихой пристани в бурном море жизни, и, сколько будет возможно, не оставляй церковного богослужения; в нем ты найдешь и утешение, и наставление, и подкрепление».
Строго соблюдая родительские наставления, сын приобрел доброе расположение господина своего. Но однажды он нечаянно увидел свою госпожу в преступном и постыдном действии. И хотя он сдержал это в тайне, все равно стал с этой минуты ненавистен и нестерпим для госпожи. Чтобы избавиться от слуги, женщина решила оклеветать его перед своим мужем. Притворившись испуганной, она сказала супругу, что раб имеет злой умысел на жизнь его, и разными хитростями убедила предать слугу смерти. Муж согласился. По тогдашним законам, купивший раба имел полную власть над ним – как над своей собственностью – и без всякого суда мог лишить его жизни.
Встретившись с судьей, господин сказал ему: «Я пришлю к тебе одного из рабов моих с платком; прикажи отсечь ему голову и, завернув в платок, отдай тому, кто придет к тебе за ответом». И тотчас послал осужденного на смерть слугу своего к судье, приказав отдать ему платок.
Юноша, ничего не подозревая, спокойно пошел к судье, но, проходя мимо церкви, услышал богослужение и, согласно родительскому наставлению, зашел помолиться. Богослужение продолжалось, а между тем госпожа, нетерпеливо желая видеть голову ненавистного ей слуги, поспешила послать к судье за ответом любимца своего, участника ее преступления. Этот слуга, проходя мимо церкви и услышав в ней богослужение, тоже остановился – из любопытства. Добрый юноша, увидев своего товарища, спросил его, куда он идет. Тот отвечал: «К судье за ответом. Ты был у него?» – «Нет еще, – отвечал он, – мне хочется дослушать службу. Сделай милость, отнеси ему этот платок вместо меня, а я схожу за ответом». Товарищ, взяв у него платок, поспешил к судье, – и судья тотчас приказал отсечь ему голову. По окончании божественной службы приходит к судье осужденный на смерть слуга и получает от него что-то завернутое в платок. Как же изумились господин и госпожа, когда увидели в живых того, кого послали на смерть! Но они ужаснулись, когда увидели в платке голову любимого слуги. Узнав, как это произошло, они увидели в этом провидение Божие. И преступная жена раскаялась.
Пути Провидения
В Царьграде жил знаменитый вельможа, Ксенофонт. Он обладал большим богатством и был человеком благочестивым: отличался смирением, кротостью и благотворительностью. Богобоязненная жена его Мария во всем подражала ему. Сыновья их, Иоанн и Аркадий, обучаясь разным наукам, воспитывались также в страхе Божием. Знатность их рода и высокие должности, на которые предназначались дети вельмож, требовали хорошего образования, и родители отправили их в Финикию, в город Берит, в котором в то время находилось знаменитое училище правоведения.
При отплытии море было спокойным, но вскоре поднялась сильная буря, и корабельщики должны были спустить паруса. Корабль, обуреваемый волнами, стал наполняться водой. Все пришли в смятение и ужас. Аркадий и Иоанн, представляя себе, что они уже не увидят своих родителей, заливались слезами и молили Бога о спасении. Между тем буря не утихала, а становилась еще сильнее. Тогда корабельщики, не видя никакой надежды на спасение корабля, пересели в лодки. Иоанн и Аркадий, видя бегство корабельщиков и гибель, сняли с себя одежды, чтобы удобнее было плыть, и бросились в море. Слуги последовали их примеру. Ухватившись за обломки корабля, они разнесены были волнами в разные стороны.
Провидению угодно было явить над благочестивыми юношами свою заботу и спасти их. Иоанн был выброшен на берег. Когда он очнулся и увидел себя нагим, то не знал, что ему делать и как явиться в таком виде перед людьми. В раздумье, идя берегом, он увидел монастырь и обрадовался, надеясь там найти пристанище. В монастыре он принят был с братскою любовью и участием в постигшем его бедствии. Там, размышляя о чудном своем спасении и о тихой богоугодной иноческой жизни, он почувствовал к ней расположение. Иноки, полюбившие его, старались еще более утвердить его в этом. И он постригся в монашество. Упражняясь в посте и молитве, он скорбел о брате своем Аркадии, считая его погибшим в море.
Но та же всемощная десница Божия сохранила и Аркадия. Выйдя на берег, он от всего сердца принес благодарение Господу Богу за свое чудное спасение, но сокрушался о неизвестной судьбе брата. Один крестьянин из ближнего селения дал ему одежду и привел к себе в дом. Подкрепившись пищей, он пошел в ближайшую церковь и долго со слезами молился о своем брате. Потом от усталости сел подле церкви и заснул. В сновидении является ему брат Иоанн и говорит: «Зачем ты, любезный брат, так сокрушаешься обо мне? По милости Божией я жив и здоров!» Проснувшись и поверив сновидению, Аркадий Чрезвычайно обрадовался и, воссылая благодарение Богу, хотел было возвратиться в Царьград, но мысль, что он придет без брата и крайне опечалит своих родителей, остановила его. Припоминая, как отец уважал иноческую жизнь, он сказал себе: «Пойду в монастырь». И он отправился в Иерусалим поклониться святым местам. Выйдя из Иерусалима с намерением поселиться в каком-либо монастыре, он встретил благочестивого, украшенного сединами инока и просил его помолиться о нем, потому что он в большом горе. На это старец сказал: «Не печалься, чадо; брат твой жив, и ты увидишь его, он в монастыре». Изумленный прозорливостью старца, Аркадий сказал: «Если так, то прошу тебя, введи и меня в иноческий чин». И старец взял Аркадия с собой в лавру Святого Харитона, постриг его и, преподав юноше наставление, как проходить иноческую жизнь, удалился, обещая увидеться с ним через три года.
Прошло два года по отбытии из Царьграда Иоанна и Аркадия. Родители, не получая о них никакого известия, послали одного из рабов своих в Берит, чтобы узнать, здоровы ли они. В Берите посланный узнал, что они там вовсе не были, и решил отправиться в Афины, поискать там. Но их не было и в Афинах. Возвращаясь в Царьград в смущении и печали, он встретил инока. Всматриваясь в лицо инока, он узнал в нем своего собрата, одного из числа тех рабов Ксенофонтовых, которые вместе с Иоанном и Аркадием отправились в Берит. После радостного свидания посланный спросил инока: «Что с тобой сделалось, почему ты облекся в иноческий образ, и где господа наши, которых я нигде не мог отыскать?» Инок вздохнул и, прослезившись, рассказал ему, что все, кроме него, потонули в море, и что поэтому он решил лучше скрыться навсегда в монастыре, нежели возвратиться к господам своим с такой ужасной вестью, а теперь он идет в Иерусалим на поклонение святым местам. Верный раб поражен был этой вестью и не знал, как ему явиться домой. Но тут посторонние люди посоветовали ему непременно идти и рассказать все господам.
Кто может изобразить скорбь Ксенофонта и Марии, когда они узнали о смерти своих детей! Но благочестивая чета не предалась скорби, а излила ее в слезах пред Богом. Целую ночь они молились и плакали. Когда же под утро заснули, то во сне увидели детей, предстоящих Иисусу Христу с великою славою. Пробудившись от сна и рассказав друг другу свои сновидения, они заключили, что дети их живы и служат Господу Богу в иноческом звании. И в то время как они взаимно старались друг друга утешить в печали и подкрепить, Ксенофонт сказал Марии: «Друг мой! Мне думается, что наши дети в Иерусалиме; пойдем и мы туда, поклонимся святым местам: может быть, мы там найдем их». И вот они, раздав много милостыни, отправились в Иерусалим и обошли святые места. Затем пошли и по всем окрестным монастырям в надежде найти детей; но нигде не находили их. Когда же они отправились в страны Иорданские, то на дороге встретили того прозорливого старца, который постриг в монашество Аркадия, и просили его помолиться за них. Старец, сотворив молитвы, сказал: «Кто привел Ксенофонта и Марию в Иерусалим, как не любовь к детям? Но не скорбите: дети ваши живы; идите, куда вы идете. А когда воротитесь во Святой град, тогда увидите детей ваших». После этого Ксенофонт и Мария пошли на Иордан, а прозорливый старец пошел во Святой град. Когда же он в Иерусалиме, помолившись в церкви Воскресения Христова, сидел близ Голгофы и отдыхал, тогда инок Иоанн, сын Ксенофонта и Марии, пришедший из своего монастыря на поклонение Гробу Господню, подошел к нему и поклонился. Старец, благословляя его, сказал: «Где ты был доселе, Иоанн? Родители твои ищут тебя, как и ты ищешь брата своего». Иоанн удивился, что этот старец все знает, и стал умолять его, чтобы он открыл ему, жив ли брат его, а если жив, то где находится. Тогда старец сказал: «Сядь подле меня и скоро увидишь брата». Спустя немного времени пришел другой брат – инок Аркадий, бледный и сухой от строгого воздержания и иноческих трудов и, упав к ногам своего старца, сказал: «Отче! Ты оставил свою ниву, не посещая ее уже третье лето; много выросло на ней без тебя терний и волчцов, и немало надобно будет потрудиться, чтобы очистить ее». – «Нет, – отвечал старец, – я посещаю ее и верую Господу, что на ней не терния, не волчцы, а зрелая пшеница, достойная трапезы Царя царствующих. Сядь подле меня». Когда Аркадий сел, старец, помолчав немного, спросил Иоанна: «Из какого ты места, брат Иоанн, и из какого рода?»
Когда Иоанн начал рассказывать о своей родне, то Аркадий, всматриваясь в его лицо, узнал в нем своего брата и от сильного чувства братской любви, не дав ему окончить рассказ, воскликнул: «Отче! Это брат мой, Иоанн!» И бросились братья обнимать и целовать друг друга.
Через два дня возвратились от Иордана в Иерусалим Ксенофонт и Мария и, встретив у Гроба Господня того прозорливого старца, просили его исполнить обещание и показать им детей. Дети были подле старца, но старец приказал им ничего не говорить и стоять, потупя глаза в землю, чтобы их не узнали. Братья тотчас узнали своих родителей и несказанно обрадовались, но родители не могли узнать их, потому что они были в монашеской одежде и даже лица их изменились от иноческих подвигов. Старец сказал Ксенофонту и Марии: «Пойдите в вашу гостиницу и приготовьте трапезу; мы придем разделить ее с вами, и тогда я скажу вам, где ваши дети». Обрадованные родители поспешили исполнить его волю.
За трапезой Ксенофонт и Мария, занимаясь со старцем спасительной беседой, спросили его, как живут их дети. «Хорошо, трудятся для своего спасения», – отвечал старец. «Ах! Какие прекрасные у тебя ученики, – сказал ему Ксенофонт. – Как только мы увидели их, то обрадовались им, как родным детям. О, если бы и наши дети были такие!»
Тогда старец сказал Аркадию: «Чадо, расскажи нам, где ты родился и воспитался и откуда пришел сюда?» Когда Аркадий начал рассказывать, то родители тотчас узнали в них своих детей и воскликнули: «Это наши дети! О, наши дети!» И обнимая их, целовали и плакали от радости. Прослезился и старец.
Насладившись лицезрением своих детей и воссылая сердечное благодарение Богу за ниспосланную им радость, Ксенофонт и Мария начали рассуждать между собой, для кого им теперь жить на свете и для кого сберегать имение. И, наконец, решили последовать примеру детей. Продали свое имение и раздали бедным; рабам дали свободу и от руки прозорливого старца приняли пострижение в иночество. Все они просияли верою и святою жизнью, а Ксенофонт и Мария сподобились от Бога и дара чудотворения.
Истинная дружба
В царствование Декия были в Армении два благородных воина, Неарх и Полиевкт, которых скрепляла такая дружба, какая не встречается и между родными братьями. Неарх был христианин, твердый в вере и благочестии, а Полиевкт – язычник. Впрочем, он был человек добродетельный, имел большое уважение к христианству и соблюдал даже христианские обычаи, но не принадлежал к Церкви Христовой, без которой нет спасения. Желая обратить его к христианской вере, Неарх часто читал ему Божественное Писание, а также открывал пред ним языческие заблуждения; но час его обращения на путь еще не пришел. Между тем началось гонение на христиан: везде по улицам читали повеление Декия, чтобы все поклонялись идолам и чтобы ослушников повеления принуждать к тому жестокими муками. Неарх, как верный раб Христов, приготовляясь к смерти, начал скорбеть и сокрушаться о друге своем, думая, что он убоится мук и навсегда останется в языческом нечестии. Скорбь его была велика. Сколько ни спрашивал его Полиевкт, о чем он так сокрушается, Неарх не открывал ему причины своей скорби. Наконец, после настоятельных просьб Полиевкт сказал ему: «Чем я так жестоко оскорбил тебя и что сделать, чтобы ты простил меня – своего друга?» Тогда Неарх, со слезами на глазах и с глубоким вздохом, отвечал ему: «Друг мой! Мысль о разрыве нашей дружбы приводит меня в уныние». Огорченный до глубины сердца, Полиевкт сказал: «Как может это статься и зачем говоришь такие слова? Наша дружба так крепка, что и смерть не может разлучить нас». – «Но, любезнейший друг мой, – отвечал Неарх, – то, что приводит меня в смущение и скорбь, что должно разлучить нас, ужаснее естественной смерти». Полиевкт не понял сказанного и бросился обнимать и умолять друга: «Неарх! Скажи мне ясно, не могу более выносить твоего молчания. Или скажи, или тотчас увидишь меня лежащего на земле бездыханным». – «Царское повеление, любезный Полиевкт, должно разлучить нас, – сказал Неарх. – Я – христианин, а ты – поклонник идолов. Когда возьмут меня, чтобы предать смерти, ты отречешься от меня». Услышав это, Полиевкт, озаренный светом благодати Божией, сказал: «Не бойся, любезный друг! Мы не разлучимся. Слава Христу, Богу истинному! С этой минуты я исповедую себя рабом Его».
Ни уговоры, ни угрозы начальников, ни слезы жены и родных не могли склонить его к отречению от Христа, за исповедание Которого он осужден был на смерть. Когда его вели на казнь, он, увидев в народе Неарха, радостно воскликнул: «Спасайся, возлюбленный мой друг; помни завет любви, утвержденный между нами!»
Доброе слово
Однажды преподобный Макарий отправился со своим учеником на гору Нитрийскую посетить тамошних братьев. Когда они подходили к горе, он послал ученика вперед. Дорогою ученик встретил языческого жреца, несущего на плечах большое бревно, и по неразумной ревности закричал: «Послушай, послушай, демон, куда идешь?» Жрец, рассердившись, так сильно ударил его, что поверг на землю и оставил едва живого. Подняв бревно и продолжая путь, жрец вскоре встретился со святым Макарием. «Будь здрав, будь здрав, трудолюбче!» – приветствовал его святой Макарий. Удивленный таким приветствием, жрец спросил его: «Что ты находишь во мне доброго, почему приветствуешь такими словами?» – «Я вижу, – отвечал старец, – что ты трудишься». – «Твои слова, отче, привели меня в умиление, – сказал жрец. – Я познаю в тебе человека Божия. Напротив, другой инок, встретившись со мною, так озлобил меня, что я прибил его». Жрец припал к ногам преподобного и сказал: «Не отойду от тебя, отче, доколе не сделаешь меня христианином и иноком». Продолжая путь, они нашли едва живого ученика и принесли его в церковь. Нитрийские старцы, увидев преподобного Макария, идущего со жрецом идольским, удивились, но, когда узнали о случившемся, прославили Бога. Вскоре жрец принял святое крещение и сделался иноком, и многие из язычников, последовав его примеру, сделались христианами.
Преподобный Макарий часто говаривал братии, что злое слово и добрых людей делает иногда злыми, а доброе слово и злых делает добрыми.
Разница между врагами личными и общественными
Если Христос – Бог ваш, – сказали сарацинские мудрецы святому Константину, – то отчего вы не поступаете так, как Он повелевает вам? Он повелевает вам молиться за врагов, добро творить ненавидящим и гонящим вас; а вы поступаете напротив того. Если кто обидит вас, то вы берете оружие, Константин спросил у них: «Если в каком-либо законе будут написаны две заповеди, то кого можно назвать истинным исполнителем закона? Того ли, кто исполняет одну заповедь, или того, кто исполняет обе?» – «Конечно, тот лучше, – отвечали сарацины, – кто исполняет обе заповеди».
Тогда святой Константин сказал им: «Христос Бог наш, повелев нам молиться за обидящих нас, сказал также, что большей любви не может показать в этой жизни тот, кто положит душу свою за друзей своих. Поэтому мы терпим обиды, причиняемые каждому из нас лично, но наших друзей и братьев, наше отечество – защищаем, полагая за него, по заповеди Спасителя, души свои».
Грех непослушания
Когда пустынная обитель преподобного Евфимия обратилась в многолюдную лавру эконом, закупив для монастыря домашних животных, просил одного из братий, по имени Авксентий, принять на себя должность пастуха, находя его более других способным к этому. Авксентий отказался. Пригласив двух пресвитеров, эконом вместе с ними упрашивал Авксентия принять предлагаемую ему должность, но он не послушался и их. Эконом рассказал о непослушании Авксентия преподобному Евфимию. Преподобный, призвав непослушного инока, в присутствии старцев сказал ему: «Послушай нас, чадо, прими предлагаемую тебе службу». Но он отвечал: «Не могу, честный отче, потому что при этой должности я не могу быть в безмолвии и богомыслии и, оставаясь долгое время вне монастыря, могу впасть в грехи». – «Мы будем за тебя молиться Богу, – сказал преподобный Евфимий, – чтобы Он сохранил тебя от всякого зла. Он знает, что ты из угождения Ему служишь рабам Его. Послушай Господа, Который говорит: «не приидох, да послужат Ми, но да послужу им». Но Авксентий остался непреклонным. Тогда преподобный сказал ему: «Чадо! Мы советуем тебе то, что послужило бы тебе на пользу; ты не слушаешься – так увидишь, какие последствия бывают от непослушания». Не успел еще преподобный выговорить это, как Авксентий упал на землю и затрясся. Предстоящие старцы, испугавшись, начали умолять преподобного Евфимия, чтобы он испросил ему прощение от Бога.
Преподобный поднял Авксентия и, оградив крестным знамением, исцелил его. Когда же Авксентий пришел в себя, то упал к ногам старца и просил прощения. Тогда преподобный сказал ему: «Послушания Бог требует больше, чем жертвы; ослушание же причиняет смерть». И потом, помолившись о нем, благословил его и сказал: се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше ти что будет. Авксентий со всем усердием принялся за пастушескую работу на общую пользу.
Мудрый совет
Мануил, один из цареградских вельмож, тяжко занемог и, не получая долгое время никакой пользы от врачей, уже отчаивался в своем выздоровлении. Тогда, желая прежде смерти отречься от мира, он призвал к себе преподобного Николая, игумена Студийского монастыря, и просил облечь его в ангельский образ. Но прозорливый Николай отвечал ему: «Чадо! Это не будет тебе на пользу. Скоро Бог исцелит тебя от болезни, ты будешь проходить высокие должности и много сделаешь добра; после того я постригу тебя в иноческий образ, чтобы ты отошел ко Господу с добрыми делами».
И сбылось предсказание святого. Вскоре Мануил выздоровел и много лет исправлял важные государственные должности с усердием и ревностью на пользу отечеству и совершил много добрых дел. Когда же достиг преклонных лет и почувствовал ослабление сил, тогда был пострижен преподобным Николаем.
Ревность святого апостола Иоанна о спасении ближнего
Святой апостол Иоанн, обходя малоазийские церкви со словом назидания и утешения, заметил в одном городе, недалеко от Ефеса, среди своих слушателей юношу, видного собой, прекрасного лицом, с огненным взором – и, по окончании беседы обратившись к местному епископу, сказал: «Этого юношу я особенно поручаю тебе в присутствии Церкви и пред Христом-свидетелем».
Епископ обещал приложить все старания: взял юношу к себе в дом, воспитывал его, заботился о нем с отеческой нежностью и наконец просветил его святым крещением. Со временем, доверяя ему и считая его утвержденным в правилах веры, он уже меньше стал смотреть за ним и заботиться о нем.
Оставшись без надзора, юноша имел несчастье познакомиться с молодыми людьми одних с ним лет, неблаговоспитанными, праздными и буйными. Сначала они завлекли его в свое общество тем, что устраивали для него богатые пиры и приучали к разным играм, потом к пьянству и распутству, затем к воровству, и, наконец, вовлекли его в страшные преступления. Он, как дикий и могучий конь, сбившись однажды с прямого пути и закусив удила, все быстрее и быстрее несся к пропасти. Будучи уверен в своей погибели, он решился на самые ужасные злодеяния, чтобы вполне уже разделить страшную судьбу с сообщниками. Покорив их своей власти и составив из них шайку разбойников, он стал начальствовать над ней и всех превзошел зверством, кровожадностью и бесчеловечием.
Спустя некоторое время святой апостол Иоанн приглашен был в тот город. Устроив все важные дела, он обратился к епископу: «Отдай же нам залог, который я и Спаситель вручили тебе в присутствии Церкви, тобою управляемой».
Епископ сначала изумился, думая, не оклеветали ли его в присвоении каких-либо денег, в чем он совершенно был неповинен. Видя его недоумение, святой Иоанн сказал: «Я хочу знать о юноше, о душе брата нашего». Тогда старец тяжко вздохнул и со слезами произнес: «Он умер!» – «Как? Какой смертью?» – спросил апостол. «Для Бога умер! – отвечал епископ. – Сделался развратным, злым и даже главарем разбойников. И теперь, совсем оставив Церковь, он поселился на соседней горе со своей шайкой».
Пораженный горестной вестью, апостол вздохнул и воскликнул: «Доброго же стража оставил я душе брата нашего! Дай мне коня! Пусть кто-нибудь проводит меня».
Тотчас же он отправился в путь. Недалеко от указанного места разбойники схватили его и повели к главарю, но он не сопротивлялся: «Я за тем и пришел, чтобы вы отвели меня к своему начальнику». Юноша, увидев святого Иоанна, от стыда бросился бежать.
Апостол, несмотря на старость, собрал все силы, погнался за ним и кричал: «Что ты бежишь от меня, сын мой, – от своего отца, от безоружного, от старика? Пожалей меня! Еще есть надежда спастись: сам буду отвечать за тебя Христу Я готов, если нужно, умереть за тебя, как и Господь умер за нас! Остановись!»
Услышав это, юноша остановился, бросил оружие и горько заплакал. Апостол уверял его, что грехи прощаются всем, умолял покаяться, даже пал на колени. И таким образом опять привел юношу в Церковь.
После этого святой апостол Иоанн начал усердно молиться за него Богу, вместе с ним проходил подвиги покаяния, успокаивал его назидательными беседами и не удалился, пока совершенно уже не возвратил его в лоно Церкви.
Мученическая кончина святого апостола Андрея
Когда святой апостол Андрей за проповедь евангельскую осужден был на крестную смерть и его вели на место казни, то он, увидев издали приготовленный для него крест, воззвал к нему: «Радуйся, кресте, плотию Христа освященный, и членами Его, как маргаритами, украшенный! Прежде нежели взошел на тебя Господь мой, ты страшен был для земных; но теперь, когда ты вместил в себя любовь небесную, быть распростертым на тебе есть дар. Знают верные, сколько сокрыто в тебе щедрот, сколько уготовано наград! Безбоязненно и весело я иду к тебе, но и ты с весельем и радостью прими меня – ученика, распявшегося на тебе. О блаженный кресте, приявший великолепие и красоту от членов Господа! Возьми меня от среды человеков и вручи Учителю моему. Пусть от тебя получит меня Тот, Кто через тебя искупил меня». Сказав это, он скинул с себя одежду и отдал ее исполнителям казни. Они подняли его на крест.
На это зрелище стеклось множество народа, и все кричали: «Неправедная казнь!» – и начали возмущаться. Но святой Андрей утишил волнение. Среди ужасных страданий на кресте он увещевал верных хранить тишину и спокойствие и не возмущаться против власти, но безропотно переносить временные страдания, потому что они ничего не значат в сравнении с вечным воздаянием. Не переставал поучать, доколе смерть не сомкнула его уст.
Мученическая кончина святителя Поликарпа, епископа Смирнского
Поликарп, епископ Смирнский, ученик святого Иоанна Богослова, принял мученическую кончину в 167 году, во время гонения, воздвигнутого на христиан при Марке Аврелии. Подражая Господу, он не искал смерти и не вызывался на мучения, но и не страшился их. Когда гонение достигло Смирны, и народ с криком требовал смерти Поликарпа, он сначала хотел остаться в городе и спокойно ожидал воли Божией. Но смирнские христиане, любившие своего архипастыря, убедили его укрыться, – и он удалился в недалеко лежащее от города селение. Здесь с немногими друзьями он день и ночь проводил в молитве о мире и благостоянии святых Божиих Церквей во всем мире. За три дня до смерти, во время молитвы, ему виделось, что возглавие его горело. Тогда, обратясь к бывшим при нем, он сказал: «Меня сожгут живого».
Когда он узнал, что его ищут, он перешел в другое селение. Но местопребывание его было открыто. Стража приблизилась к дому, в котором он находился. Он мог бы еще скрыться, но не захотел и, промолвив: «Да будет воля Господня!», вышел и сказал свое имя. Глядя на девяностолетнего старца, на кроткое и светлое его лицо, некоторые из них сказали: «Зачем было искать такого немощного человека?»
Предложив им угощение, Поликарп попросил дать ему час на молитву. Ему позволили. Затем повели старца в город. Это было в Великую Субботу. На дороге встретил его префект с отцом своим. Взяв его к себе в коляску, они дружески уговаривали его принести жертву идолам и этим избавить себя от жестоких мучений и смерти. Поликарп сначала молчал, но, когда они постарались убедить его отречься от Христа, он сказал им в ответ: «Я не последую вашему совету». Такой ответ разозлил их. Они выбросили старца из коляски, и он вывихнул себе ногу.
Когда он представлен был на суд, проконсул спросил его: «Ты ли Поликарп?» – и, получив утвердительный ответ, старался убедить его отречься от Христа и поберечь свою старость, а в заключение сказал: «Похули Христа – и я отпущу тебя». Святой старец отвечал ему: «Уже восемьдесят шесть лет я служу Ему, и Он ничем не обидел меня, как же могу я похулить Господа и Спасителя моего?»
Когда же проконсул продолжал уговаривать его, он сказал: «Если хочешь знать, кто я, то открыто объявляю, что я христианин. Если же хочешь знать, в чем состоит учение христианское, то назначь час и выслушай». Проконсул, не принимая живого участие в делах, относящихся к религии, желал бы спасти почтенного старца, если бы только он мог усмирить народ, жаждавший его смерти, и потому сказал ему: «Уговори народ». Поликарп с полным достоинством отвечал: «Тебе я обязан отвечать, потому что наша вера учит нас оказывать почтение и покорность поставленным от Бога властям, сколько это не вредит нашему спасению; но народ я не считаю достойным того, чтобы защищаться перед ним». После сего проконсул угрожал ему зверями и огнем. Поликарп на все угрозы отвечал ему: «Что же медлишь? Делай, что намерен». Проконсул велел провозгласить перед собравшимся народом: «Поликарп объявил себя христианином». В этих словах заключался смертный приговор, и народ неистово закричал: «Это учитель безбожия, отец христиан, враг наших богов, который учит не поклоняться им и не приносить жертв», – и все требовали, чтобы на Поликарпа выпустили льва. Когда же проконсул объявил, что бой со зверями уже кончился, то все в один голос закричали: «Сжечь Поликарпа!» Проконсул согласился – и сбылось предсказание Поликарпа: «Меня сожгут живого». Тогда язычники и иудеи тотчас бросились собирать хворост и дрова для костра.
Когда все было готово, и Поликарп снял с себя одежду и обувь, его хотели прикрепить на костре к столбу. Но он сказал: «Оставьте так: Тот, Кто даст мне силы вытерпеть огонь, подаст мне и мужество неподвижно устоять среди пламени».
Перед зажжением костра он, воззрев на небо, молился: «Благодарю Тебя, Господи Боже Вседержителю, что Ты сподобил меня в сей день (в Великую Субботу) и час стать в числе мучеников Твоих для воскресения в жизнь вечную. Прими меня с ними в жертву, благоприятную Тебе, которую Ты Сам предназначил, приготовил и ныне совершил. Славлю Тебя и Иисуса Христа, Сына Твоего, Архиерея вечного; с Ним же и со Святым Духом подобает Тебе всякая честь и слава ныне и всегда и во веки веков. Аминь». Когда он произнес: «аминь», тотчас запылал костер; но Поликарп, подкрепляемый силою свыше, долго стоял среди пламени неподвижно, так что народ, жаждавший его смерти, потребовал наконец от исполнителя казни, чтобы он пронзил его мечом, – и тогда святая многолетняя жизнь пресеклась на земле для продолжения в селениях горних.
Иудеи, а по наущению их – и язычники, не желая отдать христианам тело для погребения, сожгли его так, что остались одни кости. Смирнские христиане, из любви и благоговейного уважения к своему святителю, сподобившемуся мученического венца, собрали останки его – драгоценное для них сокровище – и положили в подобающем месте, чтобы в день мученической смерти святого Поликарпа собираться там для воспоминания и прославления подвигов, совершенных им во славу Божию.
Ревность святителя Василия Великого в спасении ближнего
В Кесарии Каппадокийской во времена Василия Великого был искусный врач из евреев, по имени Иосиф, который по биению пульса за несколько дней предузнавал час смерти больных. Святой Василий, замечая в нем добрые качества и имея надежду на обращение ко Христу, любил его и часто, приглашая его к себе для беседы, старался расположить его к христианству; но Иосиф всегда отвечал, что, в какой вере он рожден, в той и умереть хочет. На это угодник Божий говорил: «Поверь мне, что ни я, ни ты не умрем, доколе ты не будешь просвещен святым крещением. Без этой благодати невозможно войти в Царство Божие». Но еврей оставался в своем неверии.
И вот, наконец, настало время отшествия святого Василия к Богу. Он тяжко занемог и послал за Иосифом, как будто для своего врачевания. Когда Иосиф пришел, святитель спросил его: «Что ты думаешь обо мне?» Еврей, пощупав пульс, сказал служителям: «Приготовьте все нужное для погребения, святитель скоро умрет». – «Не знаешь, что говоришь», – возразил святой Василий. Но еврей с полной уверенностью сказал ему: «Поверь мне, владыка! Еще не зайдет солнце, как ты умрешь». – «А если я доживу до утра – до шестого часа, что тогда сделаешь?» – спросил его святой Василий. «Готов умереть», – отвечал Иосиф. «Да, умри греху, чтобы жить для Бога», – сказал святитель. «Знаю, о чем говоришь, владыка, – отвечал еврей, – и клянусь тебе, что если ты доживешь до утра, то исполню твою волю». Отпустив Иосифа, святой Василий обратился с усердной молитвою к Богу, чтобы продлилась жизнь его до утра, для спасения Иосифа, – и молитва праведника была услышана.
Утром святитель послал за Иосифом, но тот никак не хотел верить, что он был еще жив; и тотчас пошел, чтобы увидеть умершего. Но как он изумился, увидев его живым! Он упал к его ногам и воскликнул: «Велик Бог христианский, и нет иного, кроме Бога! Повели, святый отче, не отлагая, преподать мне и всему семейству моему святое крещение». «Я сам, своими руками буду крестить тебя», – отвечал святитель, тотчас встал с постели и пошел в церковь. Там, в присутствии народа, крестил Иосифа и все семейство его, сам совершил литургию, причастил новокрещенных и сказал поучение, и наконец в десятом часу, простившись со всеми и воссылая благодарение Богу за все неизреченные Его благодеяния, предал дух свой в руки Божии.
Повиновение власти
Греческий император Валент, держась ереси Ария, гнал православных и, преимущественно, епископов. Епископ Спамосатский Евсевий был осужден им на заточение во Фракию; и уже прибыл чиновник, чтобы объявить царское повеление и отправить епископа в назначенное место. Как скоро Евсевий узнал о прибытии присланного с царским указом, то, зная народную любовь к себе и боясь возмущения, он пригласил к себе чиновника и сказал ему: «Не объявляй до утра о причине твоего прибытия. Если народ узнает, то может возмутиться и умертвить тебя, и тогда я буду виновником твоей смерти. Я постараюсь все устроить».
Так как это было перед наступлением вечера, то Евсевий совершил вечернее славословие и с наступлением ночи открыл свое намерение одному верному слуге. Когда все легли спать, он тайно вышел из дома со слугой. Дойдя до реки Евфрат, протекающей близ городских стен, он сел в лодку и отправился в город Зевгму.
Узнав об уходе святителя, жители города всячески старались узнать, в какую сторону отправился архипастырь. Когда же узнали, то пустились догонять его и успели застать еще в Зевгме. Но как ни упрашивали, как ни убеждали его возвратиться к ним, плача, рыдая и повергаясь к ногам его, – все было напрасно. На все их убеждения святитель отвечал им, что никак не может противиться царскому повелению, потому что апостол ясно говорит: «Всяка душа властем предержащим да повинуется; несть бо власть, аще не от Бога: сущия же власти от Бога учинены суть. Темже противляйся власти, Божию повелению противляется»
Видя непреклонность архипастыря, жители просили принять от них на дорогу кто золото, кто серебро, кто одежды, но святой Евсевий принял самую малость, единственно для того, чтобы не огорчить их; увещевал твердо держаться православной веры и, благословив жителей, отправился в дальний путь, к месту своего заточения.
Не осуждай – не осужден будешь
Один инок не отличался особенным усердием к иноческим подвигам и был небрежен в исполнении монастырских уставов, поста и молитвы. Когда же настал час его смерти и братия собралась вокруг его постели, то удивилась, что этот, по мнению их, беспечный инок умирает не только без страха, но и с благодарностью Богу и даже с радостным выражением лица. «Скажи нам, – спросили они, – отчего ты так покоен и бесстрастен в страшный час суда Божия? Мы знаем твою жизнь и не можем понять этого». Тогда умирающий, немного приподнявшись, сказал: «Так, отцы и братия! Я жил нерадиво, и ныне все дела мои прочитаны были мне ангелами Божиими. Я с сокрушенным сердцем признался в них и ожидал всей строгости суда Божия. Но вдруг ангелы объявили мне: “Ты был небрежен, но незлобив и не осуждал других”, – и после этого тотчас разодрали рукописание грехов моих. Вот отчего я так спокойно умираю».
Инок скончался в мире и тем засвидетельствовал, какое великое значение пред очами Божиими имеет незлобие и неосуждение других.
Читатель! Все мы грешники, все нерадивы пред Богом, и все подлежим суду Божию и осуждению. Будем же чаще напоминать себе наставление Спасителя: не осуждайте, и не будете осуждены.
Иосиф, или Пути Провидения
У Иакова, сына Исаака, внука Авраама, было двенадцать сыновей. Из них более всех он любил Иосифа за кротость нрава и добросердечие и сделал ему разноцветную одежду. Братьям это не нравилось. Иосиф, видя дурные поступки братьев и боясь, чтобы они не привлекли ими на себя гнева Божия, сказал об этом отцу, чтобы он удержал их от того. Братья же, получая от отца выговоры, вместо того, чтобы исправиться, возненавидели Иосифа. Однажды Иосиф видел сон и по простоте своего сердца рассказал его братьям: «Мне снилось, – сказал он, – будто мы вязали снопы посреди поля, и вот, мой сноп встал и стал прямо, а ваши снопы окружили его и поклонились ему». На это братья сказали ему: «Неужели ты будешь господином над нами?» И с того времени они возненавидели его еще больше.
Спустя несколько времени Иосиф видел другой сон. Ему снилось, что солнце, луна и одиннадцать звезд поклонились ему. Когда он рассказал этот сон отцу и братьям, отец с некоторым неудовольствием заметил ему: «Что за сны видишь ты, Иосиф! Неужели я, и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?»
Братья Иосифа пошли в Сихем пасти стада, а Иосиф остался с отцом. Сихем находился довольно далеко. Через несколько дней Иаков послал к братьям Иосифа, чтобы узнать, здоровы ли они и все ли у них благополучно. Братья, увидев его издали, сказали друг другу: «Вот идет наш сновидец; убьем его, а отцу скажем, что хищный зверь съел, – и тогда посмотрим, как сбудутся сны». Но Рувим, старший из братьев, сказал: «Не проливайте крови, бросьте его лучше в ров». Он говорил с надеждой спасти брата и потом возвратить отцу. Братья согласились и, сняв с Иосифа разноцветную одежду, бросили его в глубокий безводный ров. Тогда Рувим со своим стадом отошел от них. В отсутствие его братья увидели, что идет в Египет караван измаильтян с разным товаром. Тогда один из братьев, Иуда, сказал: «Какая нам польза убивать брата, лучше продадим его».
Братья послушались и, вытащив Иосифа из рва, продали его измаильским купцам за двадцать сребреников. Горько плакал Иосиф и со слезами умолял братьев не разлучать его с отцом и не продавать на чужую сторону – в неволю, но они были холодны к его мольбам. Когда же Рувим, после ухода братьев, подошел ко рву и не нашел в нем Иосифа, то от скорби разодрал на себе одежду и не знал, как явиться к отцу. Тогда братья взяли одежду Иосифа и, заколов козленка, смочили ее кровью, принесли к отцу и сказали: «Мы нашли эту одежду, посмотри, уж не сына ли твоего?» Иаков тотчас узнал одежду Иосифа и, рыдая, воскликнул: «Это одежда сына моего!.. Хищный зверь растерзал его!..» И разодрал Иаков на себе одежду, и оделся во вретище, и горько плакал о сыне своем. Собрались вокруг него сыновья и дочери, чтобы утешить его, но он сказал, что дотоле не утешится, доколе не увидит своего сына.
Измаильтяне отвели Иосифа в Египет и там продали его Пентефрию, начальнику телохранителей фараона. Бедный Иосиф! Любимый сын богатого отца сделался рабом и стал одиноким на чужой стороне. Но Господь оставался с Иосифом, потому что он был юноша богобоязненный и старался жить по заповедям Божиим. Пентефрий, видя, что Иосиф отличается усердием и честностью и все идет у него благоуспешно, полюбил его и вскоре вверил ему управление своим домом. Иосиф был статен и красив и очень понравился жене Пентефрия. Неверная своему мужу, она старалась склонить Иосифа к неверности его господину; но Господь был с Иосифом, и он всякий раз отвечал ей: «Как сделаю я такое великое зло и согрешу пред Богом?»
Наконец, когда она, в отсутствие мужа, решительно потребовала от него исполнения ее желания, и Иосиф решительно отказал ей в том, тогда оскорбленная госпожа решила отомстить ему. Как только Пентефрий возвратился домой, жена, притворившись встревоженной, сказала ему: «Еврей, которого ты привел к нам, пришел ко мне, чтобы оскорбить меня; но, когда я стала кричать, он испугался и убежал, а в испуге забыл свою одежду». Пентефрий воспылал гневом и тотчас отослал Иосифа в темницу. Но Господь не оставил верного раба Своего.
Начальник темничного дома, узнав прекрасные качества ума и сердца Иосифа, полюбил его и поручил надзор над всеми заключенными в темнице. В это время там содержались двое из придворных сановников, главный виночерпий и главный хлебодар. Однажды Иосиф, войдя к ним, нашел их в задумчивости и унынии и спросил, отчего у них такие мрачные лица. Они сказали ему: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». – «Объяснять сны может один Бог, – сказал Иосиф, – впрочем, расскажите мне их».
Виночерпий сказал: «Мне снилась виноградная лоза с тремя ветками: она росла, на ней показались цветы и созрели ягоды. У меня в руках была чаша, я взял ягод, выжал в нее сок и подал фараону». Иосиф сказал ему: «Три ветки означают три дня; через три дня фараон вспомнит о тебе и поставит тебя на прежнее место – и ты снова будешь подавать ему чашу. Когда тебе будет хорошо, то вспомни обо мне и выведи из темницы: я невинно заключен в нее».
Такое истолкование сна виночерпия понравилось хлебодару, и он сказал Иосифу: «А мне виделось, будто на голове у меня три решетчатых корзины; в верхней были разного рода хлеба, и птицы клевали из нее». – «Нехорош твой сон, – сказал ему Иосиф. – Три корзины означают три дня; через три дня фараон велит снять с тебя голову и повесить на дереве, и птицы будут клевать тело твое».
Так и сбылось. Через три дня виночерпий был возвращен на прежнее место, а хлебодар был повешен. Но виночерпий забыл об Иосифе, и он еще два года оставался в темнице.
Однажды фараон увидел два замечательных сна, которые никто не мог истолковать ему. Тогда виночерпий вспомнил свою вину перед Иосифом и сказал фараону, что когда он и главный хлебодар содержались в темнице, там был с ними один молодой еврей, который истолковал виденные ими сны, и это в точности сбылось. Фараон послал за Иосифом, и когда Иосиф был представлен ему, то он сказал: «Мне виделся сон, а о тебе я слышал, что ты можешь истолковать его». – «Это не мое; Бог даст ответ во благо фараону», – отвечал Иосиф. Тогда фараон сказал: «Мне снилось, будто я стоял на берегу реки, – и вот, вышли из реки семь коров тучных, а за ними вышли семь коров таких тощих, каких я никогда не видел; и эти тощие коровы съели тучных и остались такими же, как и были, тощими. Я проснулся, но вскоре опять заснул; мне виделось, будто из одного стебля вышло семь колосьев полных и хороших, а после них выросло семь колосьев тонких, которые поели семь колосьев хороших и полных». Иосиф сказал: «Семь коров тучных и семь колосьев полных означают семь лет плодородных, а семь коров тощих и семь колосьев тонких – семь лет голода. Наступают семь лет изобилия по всей земле египетской, а после них настанут семь лет голода. А что сон повторился дважды, это значит, что Бог вскоре непременно исполнит это». Истолковав сон, Иосиф предложил фараону, для предотвращения угрожающего всему государству бедствия, избрать мудрого мужа и поручить ему в семь лет плодородия заготовить столько хлеба, сколько нужно для пропитания всей египетской земли в продолжение семи лет голода. Фараон, представив себе все бедствие, которое постигло бы Египет, если бы семь лет голода настали неожиданно, так обрадован был, что сказал окружавшим его: «Найдем ли мы для исполнения этого дела такого человека, в котором был бы Дух Божий, как в нем?» И потом, обратившись к Иосифу, сказал: «Если Бог открыл тебе все это, то нет мудрее тебя, и я поставлю тебя над всей землей египетской, и весь народ мой будет исполнять приказания твои; только престолом я буду больше тебя». Сказав это, он снял перстень с руки и отдал его Иосифу, одел его в богатые одежды и возложил на него золотую цепь. Иосифу было тридцать лет от рождения, когда он предстал пред фараоном.
Прошли семь лет плодородных, в которые Иосиф собрал множество хлеба, и настали годы голода, который распространился и по соседним странам. Иосиф отворил житницы, и отовсюду стали приходить к нему покупать хлеб. Иаков, узнав, что в Египте продается хлеб, послал туда сыновей купить зерна, оставив при себе одного младшего, Вениамина. Придя в Египет, они явились к Иосифу и поклонились ему до земли. Он тотчас узнал братьев и вспомнил свои сны, но они не узнали его. Не желая до времени быть узнанным, он говорил с ними через переводчика на египетском языке и обошелся довольно сурово. «Откуда вы пришли?» – спросил он их. «Из земли Ханаанской, – отвечали они, – пришли купить у тебя хлеба». – «Вы шпионы, вы пришли не за хлебом, а посмотреть нашу землю», – возразил им Иосиф. «Нет, господин, – отвечали они, – мы пришли купить хлеба, мы люди честные: все дети одного отца; всех нас было двенадцать братьев; младший остался дома с отцом, а одного не стало». – «Хорошо, – сказал им Иосиф, – я узнаю, правду ли вы говорите: пошлите одного из вас за меньшим братом, а остальных я прикажу задержать, и когда увижу младшего брата вашего, тогда удостоверюсь, что вы честные люди, и освобожу вас».
Он приказал отвести их под стражу, но потом, смягчив приговор, сказал им: «Я боюсь Бога и не желаю делать вам никакого зла. Если вы, как говорите, люди честные, пусть один из вас останется под стражей, а прочие отвезут хлеб для семейств ваших; брата же меньшего приведите ко мне, чтобы оправдать ваши слова». Так они и сделали. Между тем они говорили друг другу: «Точно, мы наказываемся за брата нашего, мы видели скорбь души его, когда он умолял нас, но мы не послушали его, за то и постигло нас это несчастье». – «Да, – сказал им Рувим, – не уговаривал ли я вас не делать брату никакого зла, но вы не послушались. Вот, теперь кровь его взыскивается».
Разговаривая между собой, они полагали, что Иосиф не понимал их языка. Иосиф же так растроган был их сознанием виновности своей пред Богом, что не мог удержаться от слез и, отвернувшись от них, плакал. Потом говорил с ними и велел Симеона взять под стражу, а прочих отпустить, приказав наполнить мешки их хлебом, а взятое с них серебро тайно положил каждому в мешок и дал им запас в дорогу.
По доброте своего сердца Иосиф уже давно простил братьев, но по той же доброте сердца он желал, чтобы и Бог простил им тяжкий грех против брата. И потому, как ни сильно хотелось ему тотчас открыться братьям, но он до времени удерживался и даже принимал на себя совсем несвойственный ему вид суровости при обращении с ними, чтобы побудить их полнее осознать грех перед Богом и чистосердечным раскаянием загладить его.
Возвратившись домой, сыновья Иакова рассказали отцу все случившееся с ними. Тогда Иаков сказал им: «Вы хотите совсем осиротить меня! Иосифа не стало, нет и Симеона, и Вениамина взять хотите? Нет! Не пойдет сын мой с вами, потому что если случится с ним несчастье, то вы сведете меня с печалью во гроб». Когда же они стали высыпать мешки с зерном и увидели в каждом серебро, которым расплатились, то испугались и в изумлении говорили: «Что это Бог сделал с нами?»
Между тем привезенный из Египта хлеб весь вышел, а голод не прекращался. Иаков снова посылает сыновей своих за хлебом, но они отвечают ему, что без Вениамина они не могут явиться к начальствующему над Египтом. Тогда Иаков сказал: «Если так, то возьмите с собой лучших плодов нашей земли и отвезите в дар начальствующему, а серебро, положенное в мешки, возвратите; может быть, это была ошибка».
Иосиф узнал, что братья пришли к нему с Вениамином, и приказал приготовить для них у себя в доме обед. Когда их ввели в дом Иосифа, они испугались, думая, что их накажут за серебро, которое они нашли в мешках, и потому, подойдя к управляющему домом Иосифа, сказали ему: «Господин! Мы приходили уже прежде покупать хлеба, и случилось, что когда мы, возвратившись домой, открыли мешки, то нашли в них серебро, уплаченное за хлеб. Мы не знаем, кто положил его в них, и мы возвращаем его тебе, а для покупки хлеба мы принесли другое серебро». Управляющий отвечал им: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш дал вам клад; серебро же ваше получено мною».
Когда Иосиф вышел к братьям, они поднесли ему дары и поклонились до земли. Он спросил об их здоровье и о здоровье отца и, сказав Вениамину несколько ласковых слов, тотчас удалился, потому что при виде младшего брата не мог удержаться от слез. Потом, умывшись и скрепив сердце, он вышел к ним и приказал подавать кушанье. За стол они были посажены по старшинству, и это удивляло их. По окончании обеда Иосиф тайно отпустил им хлеба, серебро каждого положил в их мешки, а Вениамину положил, кроме того, свою серебряную чашу. На другой день они отправились домой. Но едва только вышли из города, как были настигнуты домоправителем Иосифа, который, остановив их, гневно сказал им: «Зачем вы за добро платите злом? Зачем вы украли серебряную Чашу господина моего? Вы, конечно, думали, что он не догадается; худо это вы сделали». – «Что это ты говоришь, – отвечали они, испуганные. – Мы никогда не решимся на такое дело. Серебро, найденное нами в мешках, мы обратно принесли тебе: как же мы можем украсть из дома господина твоего серебро или золото? Нет, этого мы не сделаем. Если у кого из нас найдется чаша, тот пусть будет наказан смертью, а мы все будем рабами господину твоему». – «Хорошо, – сказал домоправитель, – у кого найдется чаша, тот будет рабом господина моего, а вы будете не виноваты».
Начался обыск со старшего, и когда дошло до младшего и в мешке его нашлась чаша, тогда братья в ужасе разодрали на себе одежды и возвратились в город. Пришли к Иосифу и пали перед ним на землю. «Как это вы сделали такое?» – сказал им Иосиф. Иуда выступил из среды братьев и отвечал: «Что сказать господину нашему?.. Что отвечать?.. Чем оправдываться?.. Бог наказал нас за грехи наши, и вот мы все твои рабы!» – «Нет, – сказал Иосиф, – этого я не сделаю. Тот, у кого нашлась чаша, будет моим рабом, а вы пойдите с миром к своему отцу». Тогда Иуда стал просить, чтобы вместо младшего брата Иосиф взял рабом его, потому что если отец не увидит с ними Вениамина, то не переживет этого горя.
Тут Иосиф не мог более удерживаться и, выслав от себя всех египтян, залился слезами и воскликнул: «Я – Иосиф! Жив ли еще отец мой?» Но братья так были смущены, что не могли ответить ему ни слова. «Подойдите ко мне», – сказал Иосиф. Они подошли. «Я – Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, – сказал он им. Но не печальтесь о том, не вы послали меня сюда. Бог послал меня для сохранения нашей жизни, потому что еще пять лет продолжится голод. Идите к отцу моему и скорее приведите его сюда. Скажите ему, что сын его, Иосиф, которого Бог поставил над всем Египтом, зовет его к себе со всем семейством и имуществом и отведет ему прекрасную землю». И целовал Иосиф Вениамина и всех братьев и, обнимая их, плакал. Тогда и братья начали мало-помалу говорить с ним. В радости Иосифа принял участие фараон, повелел от своего имени пригласить Иакова со всем семейством в Египет и послал за ним колесницы.
Возвратившись домой, сыновья Иакова радостно возвестили ему, что Иосиф жив и владычествует над всей землей египетской. Но сердце Иакова, испытавшее много горя, было холодно: он не верил им. Когда же они пересказали ему слова, которые говорил Иосиф, и когда они увидели богатые колесницы, тогда ожил духом – и в сердечной радости воскликнул: «Довольно для меня!.. Еще жив сын мой, Иосиф, пойду и увижу его, пока я не умер». И потом, принеся жертву Богу, они отправились всем семейством в Египет.
Иосиф выехал навстречу отцу, пал ему на грудь и долго плакал. Глядя на сына, которого столько лет оплакивал, почитая его растерзанным зверями, Иаков сказал: «Теперь я спокойно умру: я увидел тебя в живых». Услышав о прибытии Иакова, фараон, из уважения к Иосифу, пожелал видеть старца. Когда Иаков представлен был фараону, тот спросил его: «Сколько тебе лет?» Иаков ответил: «Дней странствования моего сто тридцать лет; кратки и несчастны дни жизни моей; они не достигли до лет жизни отцов моих».
Иаков с детьми поселился в земле Раамсес, лучшей во всей земле египетской, и прожил там семнадцать лет. Чувствуя приближение смерти, он призвал Иосифа и завещал похоронить себя в земле Ханаанской, в семейной могиле. Иосиф свято исполнил волю отца: с великими почестями проводил бренные останки его в землю Ханаанскую и похоронил их в пещере, в которой похоронены были Авраам и Исаак.
По смерти Иакова братья Иосифа, припоминая свою вину перед ним, стали говорить между собой: «Что, если Иосиф захочет отомстить нам?» Они передали Иосифу через других, что отец их перед смертию своей завещал: «Скажите Иосифу, чтобы он простил братьям своим вину их». Иосиф плакал, когда ему говорили об этом, а потом братья сами пришли и упали перед ним на землю, и сказали: «Вот, мы рабы тебе». Он, желая успокоить их, сказал: «Не бойтесь; я не сделаю вам никакого зла. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». Тогда братья успокоились.
Иосиф жил сто десять лет. Перед кончиной он сказал братьям и детям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет из Египта в землю, которую обещал отцам нашим, Аврааму, Исааку и Иакову; тогда вынесете отсюда кости мои с собою». Это завещание, которое, как святыня, переходило из рода в род в потомстве Иакова, исполнено было Моисеем, когда он по повелению Божию вывел народ еврейский из Египта.
Печальна и мрачна история Иосифа в ее начале, но радостно и светло продолжение и окончание ее. В ней сначала мы видим, что богобоязненный Иосиф тринадцать лет страдает невинно за то, что был лучше своих братьев и не мог равнодушно смотреть на их дурные поступки. За это он и был продан ими на чужую сторону в неволю. Зато, что не захотел нарушить верности своему господину, он заключен был в темницу. Грустно и тяжело было бы читать такую историю. Но вы читаете далее, и становится на душе легко и отрадно, мрак исчезает, и вы усматриваете в ней всеблагое, бодрствующее над судьбами человеческими Провидение, Которое путем несчастий вело Иосифа к величайшему счастью. Из темницы он возведен был на высокую степень земного величия, сделался спасителем целой страны и всего своего семейства, имел счастье покоить отца своего в старости и, что еще вожделеннее для богобоязненной, возвышенной души, заплатить братьям своим за зло добром.
Не всегда будущее так ясно открывает нам тайные пути Провидения, но будем жить той блаженной верой, что любящим Бога все идет во благо.
Да послужит история Иосифа утешением и подкреплением для всех невинных и страдальцев! Да будет она поучением для тех, кто, причиняя зло ближним, остаются ненаказанными. Рано или поздно и они, подобно братьям Иосифа, принуждены будут сказать себе: «Мы наказываемся за грех против ближнего, брата нашего».
Во всяком звании можно спастись
Однажды преподобный Макарий, великий подвижник, стоя на молитве, услышал голос: «Макарий! Ты еще не сравнялся с двумя женщинами, живущими в ближнем городе».
Смиренный пустынник тотчас отправился в город и, отыскав этих женщин, сказал им: «Я пришел к вам из отдаленной пустыни, чтобы узнать дела ваши, которыми вы угождаете Богу». На это они отвечали: «Святой отец! Каких дел ты ищешь у нас? Мы живем, как обычно живут все замужние женщины, какие же могут быть у нас особенные дела?» Но преподобный просил рассказать про их жизнь. Тогда одна из них сказала: «Мы пятнадцать лет живем в одном доме в замужестве за двумя братьями, и все это время мы не слышали одна от другой ни одного дурного слова и никогда не ссорились между собой. Прожив несколько лет со своими мужьями, мы хотели удалиться от мира и посвятить себя в монастыре на служение Богу, но мужья наши не согласились, и мы положили завет перед Богом никогда не начинать пустых речей и не произносить ни одного нескромного мирского слова».
Выслушав это, святой Макарий сказал: «По-истине, Бог не смотрит на то, инок ли кто или мирянин, дева или замужняя женщина, но смотрит на благие намерения сердечные и подает благодать Свою всем, хотящим спастись».
Неразумная молитва
Преподобный Даниил, отправляясь с одним из своих учеников в Фиваиду, зашел в одно селение и остановился посреди его. Был вечер. Тут подошел к нему старик, весь седой и сгорбленный, и, поклонившись до земли, со слезами начал целовать его и ученика. Потом пригласил их в свой дом и угостил. Вместе с ними были угощаемы и другие странники и нищие. В доме у него никого не было, и он всем служил сам. Преподобный и старец-хозяин, уединившись, беседовали до утра, и беседа их растворяема была многими слезами.
Утром преподобный Даниил отправился в путь. Ученик спросил преподобного, кто был тот старец, но он сначала не хотел говорить. Когда же ученик стал усиленно просить, тогда преподобный Даниил сказал: «Это старец Евлогий, художник, резчик по камню. Он работает весь день и ничего не ест до вечера. Вечером, возвращаясь домой, он отыскивает бедных и странников, вводит их в дом свой и питает их, как ты это видел. Художеством своим он занимается от самой юности. Ему теперь более ста лет, а Господь подает ему силы трудиться, как и в юности, и он в день зарабатывает по одной златнице. Когда я был еще молод, то однажды пришел в это селение продать мое рукоделие. Он, возвращаясь вечером с работы, взял меня и несколько других в дом свой и по обычаю угостил нас. Удивляясь его добродетели, я сказал себе: “Если бы он был богат! Сколько бы он делал тогда добра всем!” И я начал поститься по целой неделе и молить Бога, чтобы Он дал Евлогию богатство.
Постившись более трех недель, я изнемог до того, что был едва жив, и увидел во сне светозарного отрока, подле которого стоял Евлогий.
“Лучше для Евлогия оставаться тем, кто он теперь, – сказал мне отрок, – но, раз ты неотступно просишь о нем, я наделю его богатством, если только ты поручишься мне за его душу”. – “От рук моих взыщи душу его”, – отвечал я и потом увидел, что два человека начали сыпать золото за пазуху Евлогия. Пробудившись, я понял, что молитва моя услышана, и возблагодарил Бога.
Однажды Евлогий, по обыкновению занимаясь своей работой, ударил в камень и почувствовал, что он пустой, ударил в другой раз – и открылась скважина, ударил в третий раз – и увидел пещеру, наполненную золотом. Ужаснулся Евлогий и не знал, что ему делать с золотом, как его сберечь. И в тот вечер он уже не принимал нищих. Наняв лошадей, под видом перевозки камней он ночью перевез сокровище в дом, а утром нанял корабль и отправился в Царьград. Там он познакомился с вельможами, наконец сам сделался вельможей и купил себе великолепный дом.
По прошествии двух лет я опять увидел во сне святолепного отрока и Евлогия, которого кто-то злообразный отогнал от отрока и влачил по земле. Пробудившись от сна, я сказал себе: “Увы мне, грешнику! Что я сделал? Погубил мою душу”. Потом оделся и под предлогом продажи рукоделия пошел в то селение, где жил Евлогий, и ожидал, что он придет и возьмет меня по обыкновению в дом свой; но я ждал напрасно. Наконец, я спросил у одной старушки: нет ли здесь кого-нибудь, кто принимал бы странников. “Нет, – вздохнув, отвечала она. – Был у нас каменосечец, который любил принимать странников и питать нищих, но Бог за добрые дела его дал ему благодать Свою, и слышно, что он теперь вельможею в Царьграде”. Услышав это, я немедленно отправился в столицу. Там узнал, где живет Евлогий, сел у ворот дома и ожидал, когда он выйдет. И вот, наконец, он выходит с гордым видом. “Будь милостив, – воскликнул я, – выслушай меня!” Но он не только не обратил на меня внимания, но и приказал своим рабам прогнать меня. Я побежал вперед и снова стал умолять его, чтобы он выслушал меня; но он велел меня бить. Целых четыре недели простоял я у ворот дома, несмотря на снег и дождь; но не мог поговорить с ним. В сильной горести я повергся пред образом Спасителя и со слезами молился Ему, чтобы Он разрешил меня от поручительства. Но в сновидении мне было открыто, что я должен выполнить поручительство. Тогда я решился возвратиться домой в свой скит, предоставив Евлогия воле Божией. Когда же я взошел на корабль, то повергся в такое малодушие и отчаяние, что был как мертвый, и в этом состоянии задремал, – и после многих мучительных сновидений я услышал от святолепного отрока: “Иди в свою келью и никогда впредь не предпринимай ничего выше сил своих; я возвращу Евлогия в прежнее его звание”.
Пробудившись, я чрезвычайно обрадовался, что избавился от такого поручительства, и благодарил Бога. Спустя три месяца, услышал я, что император Иустин, который благоволил к Евлогию, умер; что новый император начал гнать прежних вельмож и что двое из них преданы смерти, а Евлогий спасся бегством.
Лишившись всего имущества, Евлогий возвратился на прежнее место и надел прежнюю одежду. Пришли к нему все жители селения и сказали: мы слышали, что ты сделался вельможей. Но он отвечал им: если бы я был вельможей, то вы уже не увидели бы меня. Вы слышали о другом; а я ходил на поклонение святым местам. И взял Евлогий свои орудия и пошел на прежнюю работу, думая: найдется ли опять золото? Но сколько ни стучал он об камни, ничего не нашел. И он начал тужить, вспоминая о жизни в Царь-граде, о своей знатности и о своем великолепном доме. Но Господь, воспомянув прежние его добродетели, умилосердился над ним, вывел его из заблуждения и возвратил в прежнее его звание. И Евлогий забыл сан вельможи и принялся по-прежнему работать и трудами рук своих питать нищих. Это продолжает он и доселе, как мы это с тобой вчера и видели».
Рассказав о Евлогии, старец дал своему ученику такое наставление: «Не только не должно желать большего богатства, но и к малому, что имеем, не должно иметь пристрастия и считать его своим».
Терпение и трудолюбие Преподобного Сергия Радонежского
В обители Преподобного Сергия случилась однажды великая скудость в пище; а у самого преподобного не было ни хлеба, ни соли. Три дня провел Преподобный Сергий без пищи, а на рассвете четвертого пришел к одному из братии, по имени Даниил, и сказал ему: «Слышал я, что ты хочешь пристроить сени в твоей келье, дай, я построю тебе их, чтобы руки мои не были без дела». – «Мне очень хотелось бы сделать эту пристройку, – отвечал ему Даниил, – и у меня уже давно все приготовлено для работы, но я ожидаю плотника из села, тебе же боюсь поручить это, чтобы ты не взял с меня большой платы». – «Эта работа недорого тебе станет, – возразил Сергий, – я хочу гнилого хлеба, а у тебя он есть, – и больше ничего от тебя не потребую». Тогда Даниил вынес ему несколько кусков хлеба и сказал: «Если ты хочешь такого хлеба, то возьми его даром». – «Нет, – отвечал Сергий, – я хочу приобрести его трудами: побереги его для меня до девятого часа». Он начал усердно работать с утра и продолжал до вечера, несмотря на голод, – и, с помощью Божией, к заходу солнца работа была окончена. Было уже поздно. Когда старец Даниил вынес ему куски гнилого хлеба – условленную плату за труд, – тогда, положив их перед собою, святой Сергий помолился, благословил их и начал есть с одной водой, даже без соли. Видя это, некоторые из братии изумились и прославили терпение и трудолюбие своего старца, который и такой дурной пищи не хотел принять без труда.
Но другие, также не евшие два дня, потеряли терпение, начали роптать на преподобного и говорить ему: «Ты запрещаешь нам выходить в мир, чтобы просить хлеба; и вот, слушаясь тебя, мы умираем с голоду, завтра же уйдем отсюда, не можем более выносить здешней скудости». Преподобный Сергий, желая подкрепить их примером своего долготерпения, собрал всю братию, с кротостью увещевал не изнемогать в искушении и в заключение сказал им: «Верую, что Бог не оставит места сего и живущих в нем».
Действительно, когда он еще беседовал с братией, услышали, что кто-то стучит в монастырские ворота. Привратник, посмотрев в скважину, увидел, что привезено множество хлебов, и, будучи сам очень голоден, от радости не отворил ворот, но побежал к преподобному и сказал ему: «Отче! Благослови привезших хлебы; твои-ми молитвами много их у ворот». Святой Сергий велел принять их, и все прославили Бога, увидев, как много привезено было хлеба. Преподобный велел собраться всей братии и пригласить на общую трапезу и привезших хлеб; но прежде велел всем идти в церковь и соборно отслужил благодарственный молебен. После молитвы сели за трапезу. Хлеб был мягкий и необыкновенно вкусный. Когда же преподобный, не видя за трапезой привезших хлеб, спросил, отчего нет их, то иноки отвечали, что неизвестные благотворители в ответ на приглашение сказали, что христолюбец, пославший их, дал им еще другое поручение, которое они должны исполнить немедля, и с этими словами скрылись. Изумился преподобный и вместе с братией прославил Бога. «Видите ли теперь, – сказал он, – что Господь не оставляет места сего и рабов Своих».
С того времени братия уже терпеливо и безропотно переносила недостатки в пище; а это вначале нередко случалось в обители Преподобного Сергия, которая была окружена непроходимыми лесами.
Болезнь и исцеление сребролюбца
Некогда святитель Христов Парфений посетил Ираклийского архиепископа Ипатиа-на и, найдя его очень больным, беседовал с ним о причине болезни. Ночью в сновидении Бог открыл угоднику Своему Парфению, что Ипатиан тяжкой болезнью наказывается за свою скупость и любостяжание.
Придя на другой день к архиепископу, он сказал: «Владыка! Ты одержим недугом душевным и за него наказываешься болезнью; сбрось его с себя и будешь здоров». Болящий отвечал: «Я и сам знаю, что я грешник и наказываюсь Богом; но прошу тебя, помолись за меня, чтобы я очистился от беззаконий моих». На это Парфений сказал: «Возврати нищим то, что им принадлежит, и будешь здоров душой и телом».
Тогда архиепископ сказал: «Отче! Согрешил я пред Господом моим и праведно наказан Им». Потом, призвав эконома, велел принести к себе все собранное им имение и умолял Парфения, чтобы он роздал его нищим, но Парфений советовал самому это сделать.
Ипатиан последовал совету праведника, – и премилосердный Господь, приняв покаяние, подал ему исцеление от болезни.
Читатель! Когда постигнет тебя болезнь, то, желая получить от Господа исцеление, вспомни о содеянных тобой грехах и принеси в них чистосердечное покаяние – и тогда ты можешь взывать к Господу Богу о помощи, с надеждой, что Он или Сам подаст тебе исцеление, или умудрит врача к твоему исцелению. «Чадо, – поучает Премудрый, – в болезни твоей не презирай, но молися Господеви, и Той тя исцелит: отступи от прегрешения и от всякого греха очисти сердце твое, и даждь место врачу» (Сир. 38:9-12).
Непрестанная молитва
Некогда к преподобному Лукию пришли так называемые евхиты, или молитвенники, которые, неправильно толкуя слова апостола: «непрестанно молитеся», отвергали все добродетели и даже силу Святых Таинств, а всю важность приписывали одним молитвам.
– Каким занимаетесь рукоделием? – спросил у них Лукий.
– Мы не занимаемся работой, – отвечали они, – но, по заповеди апостольской, непрестанно молимся.
– А едите ли? – спросил старец.
– Едим, – отвечали они.
– А спите ли?
– Как же не спать!
– Итак, когда вы едите и когда спите, кто тогда за вас молится? – опять спросил их старец.
Пришельцы не могли дать ему никакого ответа.
Тогда преподобный сказал им:
– Простите мою откровенность! Вы сами себе противоречите и говорите неправду. Я, напротив, докажу вам, что и, занимаясь рукоделием, молюсь непрестанно. Например, плету из камыша корзины и читаю: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Не молитва ли это?
– Конечно, – отвечали евхиты.
– Таким образом, проведя день в труде и молитве, – продолжал старец, – я зарабатываю немного денег и половину из них отдаю нищим, а другую употребляю на свои надобности. Когда же ем или сплю, тогда молятся за меня те, для которых я трудился, то есть получившие от меня милостыню. Видите, что я с помощью Божией и, занимаясь рукоделием, соблюдаю наставления святого апостола о непрестанной молитве.
Блажен, кто с усердием и ревностью проходит свое звание, в которое он поставлен Богом, и трудится на общую пользу, забывая часто о своем покое, здоровье и о своих выгодах! Если служба или другие обстоятельства не дозволяют ему иногда помолиться так, как ему хотелось бы и как следовало бы, то он имеет утешение, что другие за него молятся.
Страх Суда Божия
Преподобный Агафон в продолжение трех дней до своей смерти лежал и, не смыкая глаз, смотрел вверх. Сидящая вокруг него братия спросила у него: «Что ты так смотришь, отче Агафоне?» – «Стою пред судилищем Христовым», – отвечал Агафон. «Неужели и ты боишься суда?» – спросили старцы. «Сколько мог, я старался соблюдать заповеди Господни, – отвечал им преподобный, – но я человек и как могу знать, угодны ли Богу дела мои?» – «Как? Ты не надеешься на добрые дела свои, которые ты делал из угождения Богу?» – возразила ему братия. «Не надеюсь, – отвечал святой Агафон, – доколе не увижу Самого Господа: ибо есть Суд Божий, и суд человеческий». Сказав это, он преставился.
Примиритель
Один пустынник пришел на некоторое время в скит. Он не нашел для себя кельи, и один из скитских старцев, имея у себя лишнюю келью, предложил ему занять ее, доколе он не найдет себе другой.
К пришельцу стали приходить для беседы. Это не понравилось старцу, который дал ему свою келью. Он начал роптать и даже злословить о нем. «Я столько лет провел здесь в великом посте, – сказал он своему ученику, – и никто не приходил ко мне, а этот пришелец только несколько дней живет здесь, и все идут к нему. Пойди и скажи ему, чтобы он оставил нашу келью, потому что она нам нужна». Ученик же, придя к пустыннику, сказал: «Отец мой желает знать, здоров ли ты?» – «Скажи отцу своему, – отвечал пустынник, – чтобы он помолился обо мне, я немного болен». Ученик, придя к своему старцу, сказал, что пустынник нашел себе келью и скоро уйдет. Спустя несколько дней старец опять посылает ученика сказать гостю, что если тот скоро не выйдет, то он выгонит его. Ученик, придя к пустыннику, сказал: «Отец мой слышал, что ты очень болен, и послал меня навестить тебя». Пустынник отвечал: «Скажи отцу своему, что я, по молитвам его, теперь здоров». Возвратившись, ученик сказал старцу, что гость на этой неделе уйдет.
Прошла неделя, а пустынник не уходил, тогда старец взял посох и пошел выгонять его. Но ученик сказал: «Подожди, я пойду вперед и посмотрю, нет ли там кого из посторонних, чтобы не сделать соблазна». И, придя к пустыннику, сказал ему: «Отец мой идет звать тебя на ужин». Услышав это, гость поспешил навстречу к старцу и, кланяясь ему издали, сказал: «Не трудись, отче, я приду к тебе». Умиленный его кротостью и добросердечием, старец обнял и целовал его, как будто бы ничего не произошло между ними, и ввел его в свою келью. Угостив и проводив гостя, старец спросил ученика: «Ты не говорил ему, что я тебе приказывал?» – «Нет», – отвечал ученик. Обрадовавшись и познав в своей неприязни к пришельцу действие вражеской зависти, старец упал к ногам ученика и сказал: «Отныне ты отец мой, а я ученик твой, потому что через твое мудрое и благое действие спасены души обоих нас».
Покаяние грешницы
Однажды архиепископ Антиохийский созвал для совещания о делах церковных окрестных епископов, в числе которых был епископ Илиопольский Нон, уважаемый всеми за просвещенный ум и святую жизнь. Прочие епископы любили слушать его. Когда, сидя у церковных дверей, они внимали назидательной беседе, проходила мимо женщина, известная во всей Антиохии своей красотой и распутством. Она шла с гордостью и бесстыдством, с открытой грудью, окруженная толпой девиц и юношей. Все они были одеты роскошно, но она отличалась особой красотой и пышностью наряда. Золото и драгоценные камни блистали на ней, и где она проходила, воздух наполнялся благоуханием. Увидев ее, епископы отвернулись и вздохнули, но святой Нон долго смотрел на нее, доколе она не скрылась из виду. После того он заплакал и сказал: «Многому можно научиться от этой женщины! Как вы думаете? Сколько времени употребляет она на то, чтобы появиться в таком наряде, и с таким тщанием старается понравиться временным почитателям своим? А мы, имея Жениха, на Которого не дерзают взирать и Ангелы, не заботимся так украшать души наши! Не омываем их слезами покаяния, не облекаем их красотой добродетели, чтобы явиться благоугодными пред очами Божиими!»
Сказав это, святой удалился в свою келью. Там, повергшись на землю, он со слезами молился: «Господи! Прости меня, что попечения этой женщины о телесном украшении своем превзошли мое попечение о бедной душе моей, и я, предстоя алтарю Твоему, не приношу Тебе душевной красоты, которой Ты желаешь от меня. Эта женщина, по суетности своей, обещала угождать смертным людям своей красотой – и исполняет свое обещание, а я обещал угождать Тебе, Богу моему, и не исполнил обещания по лености моей, не сохранил повелений Твоих, и по делам моим нет мне надежды на спасение, но уповаю на одно милосердие Твое!» Так, рыдая, взывал к Богу святой Нон и молился о своем помиловании. Но в то же время он молился и о той женщине: «Господи! Не погуби создания рук Твоих, да перестанет она работать сатане, и да обратится к Тебе, да и в ней прославится святое имя Твое, Господи! Тебе это возможно».
Однажды архиепископ, совершая литургию, поручил блаженному Нону сказать поучение к народу. Он говорил о Страшном суде и воздаянии, говорил просто, но убедительно и всех привел в умиление и слезы. В это время проходила мимо церкви та грешница, о которой молился святой Нон, и из любопытства вошла в нее. Она была идолопоклонница, в церкви никогда не бывала и не помышляла о грехах своих. Выслушав поучение святого Нона, она пришла в страх. Представляя себе грехи свои и вечную за них муку о которой говорил епископ, она пришла в отчаяние, и слезы полились из ее глаз. Не переставая плакать и дома, она решила, наконец, написать следующее: «Святому ученику Христову – грешница и ученица диавола. Я слышала о Боге твоем, что Он преклонил небеса и сошел на землю не для праведников, но чтобы спасти грешников, и что Он до того смирил Себя, что ел с мытарями, жил с грешниками и беседовал с блудницами. И если ты, как я слышала от христиан, истинный раб Христов, то не отринь меня, желающую с твоей помощью прийти к Спасителю мира и видеть пресвятое лицо Его!»
На это письмо святой Нон отвечал, что если она действительно хочет веровать в истинного Бога, то он примет ее в присутствии других епископов. Получив ответ, грешница обрадовалась и немедленно отправилась к святому Нону. Когда она вошла, то в слезах упала к ногам святого и сказала: «Умоляю тебя, окажи мне милость и сделай меня христианкой. Во мне море грехов, бездна беззакония, омой меня от них крещением!»
Все епископы прослезились, увидев блудницу, пришедшую с таким покаянием и верой, но святой Нон, поднимая ее, сказал, что церковные правила запрещают крестить женщину зазорного поведения без испытания и поручителей, дабы она не обратилась к прежней жизни. Услышав это, она опять бросилась к нему в ноги и сказала: «Если ты ныне не окрестишь меня, то дашь Богу ответ за мою душу и будешь виновен в блудной жизни моей». Видя, как сердце грешницы воспламенилось желанием святого крещения, святой Нон послал спросить совета архиепископа, который с радостью благословил его совершить крещение и прислал благочестивую Роману, первую диакониссу, чтобы быть ей восприемницей.
Когда Романа вошла в собрание епископов, кающаяся грешница лежала еще у ног блаженного Нона. Он велел ей встать и прежде исповедать свои грехи. Она с плачем отвечала: «Если я испытаю совесть мою, то не найду в себе ни одного доброго дела: грехи мои многочисленнее песка речного, и целого моря недостаточно к омытию скверных дел моих, но я надеюсь на Бога. Он облегчит бремя моих беззаконий, Он милостиво призрит на меня». На вопрос епископа об имени ее она отвечала: «Родители назвали меня Пелагией, но в Антиохии переименовали меня Маргаритою (жемчужиной), по причине блестящих и дорогих нарядов, которыми украсили меня грехи мои». По кратком оглашении епископ крестил ее, помазал святым миром и причастил Святых Таин во оставление грехов. Романа, воспринявшая ее в купели крещения, руководствовала ее в вере и в жизни христианской.
В третий день после крещения Пелагия велела служителю своему переписать свое имение, призвала к себе своих рабов, щедро наградила их и, отпуская, сказала: «Я освобождаю вас от рабства временного, и вы постарайтесь освободить меня от рабства греховного, чтобы нам, как мы здесь жили вместе, так сподобиться быть вместе и в блаженной жизни». Потом она все имение передала в распоряжение святому Нону, который велел раздать его нищим. Пелагия не оставила себе даже необходимого для пропитания: опротивело ей все, нажитое грехом, и она получала пищу от Романы.
Когда настал восьмой день, в который ново-крещенные, по тогдашнему обычаю, снимали с себя белую одежду, полученную ими при крещении, Пелагия надела власяницу и, взяв старое платье святого Нона, рано утром вышла из Антиохии. Никто не знал, куда она скрылась, и Романа много плакала о ней. Но святой Нон, утешая ее, сказал: «Не плачь, Пелагия избрала благую Часть, которая не отымется от нее».
Прошло три года. Диакон Иаков, который был в Антиохии со святым Ноном и потом написал житие преподобной Пелагии, возымел желание сходить в Иерусалим на поклонение Гробу Господню и просил епископа отпустить его. Святой Нон, благословляя его, сказал: «Когда ты придешь во Святой град, то отыщи там инока Пелагия; он святой жизни и живет в затворе, ты можешь с большой пользой для себя побеседовать с ним».
Поклонившись Гробу Господню, Иаков пошел отыскивать затворника и нашел келью его на горе Елеонской. Он постучал в окошко, оно тотчас открылось, и он увидел отшельника, который назвал его по имени и расспросил о святом Ноне.
Иаков обошел многие монастыри и перед возвращением хотел еще раз побеседовать с затворником и принять от него благословение. Но когда он пришел к его келье, то напрасно стучал в окошко: оно не отворилось. Наконец он сам решился открыть его и увидел отшельника, лежащего мертвым. Он пошел объявить о том в соседние монастыри, и множество монахов, знавших святую жизнь затворника, стеклось на погребение. Когда же стали приготовлять его к погребению, тогда узнали, что это была Пелагия. И пришли монахи из окрестных монастырей и с подобающей честью похоронили ее в той же келье, где она спасалась в затворничестве.
Дивны дела Твои, Господи!
Сыновья покорность
Святитель Иоанн Златоуст еще в юношеских летах хотел поступить в монастырь. Искренний друг его и товарищ по учению Василий, сделавшись иноком, всячески старался еще более расположить его к иноческой жизни. Святой Иоанн уже готов был последовать примеру и убеждению друга, но мать удержала его. Узнав о намерении сына, она сквозь слезы сказала: «Сын мой! Недолго наслаждалась я счастьем супружеским. Смерть отца последовала вскоре за твоим рождением. Много горя испытала я от раннего вдовства, но ничто не могло принудить меня ко второму супружеству. С помощью Божией я все перенесла и в целости сохранила для тебя имение отца. Единственной моей отрадой в горестной жизни было смотреть на тебя и видеть в твоем лице большое сходство с отцом. Умоляю тебя, сын мой! Не ввергай меня своим удалением от мира во второе вдовство и не растравляй в сердце моем прежних ран, которые уже зажили. Дождись моей смерти, недолго мне жить на свете. Когда похоронишь меня подле отца твоего, тогда делай что хочешь. Но пока я жива, не оставляй меня».
Святой Иоанн повиновался и, несмотря на убеждения своего друга и собственное расположение к уединенной иноческой жизни, остался при матери до самой кончины ее, проходя должность чтеца при одном из храмов антиохийских.
Сила родительских молитв
Преподобный Лука Елладский, память которого совершается 7 февраля (по старому стилю), с юных лет отличался необыкновенным воздержанием и постничеством и чувствовал в себе наклонность к иноческой и подвижнической жизни. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он тайно от матери ушел в один из афонских монастырей. При поступлении в монастырь он объявил настоятелю, что у него нет родителей, и вскоре за кротость нрава, смирение и послушание был пострижен в монахи.
Между тем его мать, вдова, имея в нем единственное утешение и отраду, хотя и догадывалась по благонравию сына своего, что он находится в каком-нибудь монастыре и ведет там жизнь богоугодную, но не могла перенести разлуки с ним и неутешно плакала и жаловалась Богу: «Господи! Ты свидетель вдовства моего и всех горестей! Одну отраду имела я в жизни и той лишилась. Господи! Ты знаешь, подала ли я какую-нибудь причину сыну моему оставить меня? Препятствовала ли я ему служить Тебе и жить по заповедям Твоим? Учила ли его предпочитать земное небесному, временное – вечному? Я научилась от родителей моих быть ему матерью не только по плоти, но и по душе – и хотела видеть его совершенным в добродетелях. Господи! Не призри слез моих: возврати мне сына – я прославлю Тебя во все дни жизни моей». Так молилась осиротевшая мать, и Господь внял ее молитве.
Игумен монастыря, в котором подвизался Лука, увидел во сне плачущую мать, которая жаловалась: «За что ты обидел меня, бедную вдову, зачем отнял у меня последнюю отраду в жизни моей, сына моего? Отдай мне его, или я не перестану жаловаться на тебя Богу». Устрашенный сновидением, игумен пробудился, но счел его за пустую грезу. Но на другую и третью ночь он видел то же. Тогда он познал, что это не действие духа-искусителя, но явление, Богом устрояемое. Долго перебирая в уме всех иноков монастыря, он наконец уверился, что сновидение относится к Луке. Он призвал его к себе и сказал ему с гневом: «Для чего ты обманул нас, сказав, что у тебя нет родителей? И как дерзнул приступить к иноческой жизни, исполненный лжи? Уйди от нас и возвратись к своей матери, которая уже третью ночь мне не дает покоя». Устрашенный и смущенный словами игумена, юный инок стоял безмолвно, потупя глаза в землю и заливаясь слезами. Не хотелось ему расставаться с монастырем. Тогда игумен, видя его слезы и смирение, сжалился над ним и начал ласково говорить ему: «Сын мой! Теперь ты непременно должен возвратиться к своей матери. Видно, ее молитва сильна пред Богом».
Выслушав это, святой Лука поклонился настоятелю и, приняв от него благословение, вышел из монастыря и отправился в путь.
Дома он нашел свою мать в печали. Но когда она увидела его, то чрезвычайно изумилась и обрадовалась. Впрочем, не тотчас бросилась обнимать его, а прежде принесла из глубины обрадованного сердца благодарение Господу, внявшему слезным мольбам.
Святой Лука пробыл у матери четыре месяца. Но любовь к иноческой жизни нисколько не охладела в нем, и богобоязненная мать, утешившись лицезрением сына, уже не удерживала его более у себя. Святой Лука, получив от нее благословение и напутствуемый ее молитвами, отправился на приморскую гору, и там, построив себе келью, продолжал снова иноческие подвиги и достиг в них высокой степени совершенства.
Вражда против ближнего лишает помощи Божией
Во время гонения на христиан были заключены в темницу за исповедание Христа два брата, которые находились во вражде между собой. Их мучили, принуждая отречься от Христа и поклониться идолам, но, несмотря на все мучения, они остались твердыми в своей вере.
Тогда их осудили на смерть. Находясь в темнице в ожидании смерти, один брат раскаялся и сказал другому: «Помиримся, любезный брат! Завтра мы должны будем умереть и предстать пред Богом». Но другой брат не хотел и слушать его.
Настало утро, их вывели из темницы, чтобы вести на место казни. Тот, который не хотел примириться с братом, убоялся смерти и отрекся от Христа, а другой небоязненно принял мученическую смерть. Когда судья спросил отрекшегося от Христа, почему он это сделал, то он отвечал: «В то время, как я решительно отказал брату моему в примирении, о котором он умолял меня, помощь Божия оставила меня, я убоялся смерти и отрекся».
Терпение
Один инок в общежительном монастыре был любим пятью братьями, но один из братьев не любил его и нередко наносил ему оскорбления. Это не понравилось иноку, он оставил монастырь и пошел в другой. Там восемь братьев любили его, а пять были не расположены к нему. Инок оставил и этот монастырь и пошел в третий, но, не доходя до монастыря, он сел на дороге и стал размышлять о своем положении – и наконец сказал себе: «Если ты будешь следовать своим помыслам, то не хватит и всего мира для переходов, и потому не лучше ли терпеть?»
Убедившись в необходимости терпения, он взял листок бумаги и написал: «Во имя Иисуса Христа, Сына Божия, буду терпеть». Он положил листок в свой пояс, помолился и вошел в монастырь. И здесь, как и в прежних монастырях, он вскоре встретил неудовольствие от некоторых братьев. Но когда это огорчало его, инок брал листок и вновь читал: «Во имя Иисуса Христа, Сына Божия, буду терпеть». Это успокоило его, и он, несмотря ни на какие неприятности от братьев, никогда более не помышлял о перемене монастыря и своим терпением приобрел большую пользу для души и всеобщее уважение братии.
Побеждай зло добром
Инок Феодот, наслышавшись о преподобном Кирилле, пришел в его обитель и решил навсегда остаться в ней. Но, спустя немного времени, он, сам не зная за что, до того возненавидел преподобного, что не хотел ни видеть его, ни даже слышать его голоса и уже помышлял оставить обитель. Он боролся с лукавым помыслом и исповедал его всеми уважаемому старцу. Старец, утешая его, говорил: «Терпи, брат, для Бога, потому что мы обет дали Христу, нашему Владыке, все терпеть из любви к Нему. Верь, что этот помысл тебе от врага, ибо что ты находишь в нашем настоятеле достойного ненависти? Это Ангел Божий. И так говорю тебе: если послушаешь лукавого помысла и уйдешь отсюда, то погибнешь». Утешившись немного, Феодот сказал: «Потерплю еще лето». Но вскоре опять начал смущаться тем же помыслом, потому что враг не переставал возбуждать в нем ненависть к преподобному Кириллу. Борясь все лето с лукавым помыслом и не имея покоя, он решил, наконец, исповедать смущение мыслей самому преподобному. Придя к нему в келью и взглянув на его святое лицо, он устыдился седин его и от стыда ничего не мог сказать. Когда же хотел уходить, то преподобный остановил его и сказал:
«Поскольку ты сам не хочешь исповедать мне своих помыслов, то я скажу их тебе». И тотчас начал открывать ему все, что он имел в тайне сердца своего.
Услышав это, инок испугался и удивился прозорливости святого и, упав к ногам его, просил прощения. Тогда преподобный Кирилл, утешая его, сказал: «Не скорби, брат Феодот! Все обманулись во мне, почитая меня добрым, один ты правильно судил обо мне, почитая меня злым и грешным, ибо кто я? Грешный и непотребный!» Инок, видя такое смирение в преподобном, умилился, заплакал и раскаялся, что неправедно ненавидел праведного мужа. Преподобный же, видя раскаяние Феодота, простил его и, отпуская, сказал: «Иди с миром, брат, в свою келью, такая брань больше не восстанет на тебя». С того времени инок нашел покой в своем сердце и возымел к святому большую любовь.
Такова сила добра над сердцем человеческим!
Наказанный обман
Святитель Григорий чудотворец, епископ Кесарийский, возвращался из города Коман, куда был приглашен для избрания и рукоположения епископа. Несколько евреев решили посмеяться над ним и доказать, что он не имеет в себе Духа Божия, как верили тому христиане. Для этого они придумали следующее: один из них разделся и лег нагой на дороге, притворившись мертвым, а прочие стояли над ним и плакали. Когда святитель Григорий приблизился к ним, они начали просить, чтобы он оказал милость умершему и дал ему что-нибудь – прикрыть тело.
Святитель снял с себя верхнюю одежду и покрыл лежащего. Евреи были вне себя от радости, что обман удался, и говорили: «Если бы он имел в себе Духа Божия, то знал бы, что лежит не мертвый, а живой человек». Они сказали лежащему, чтобы он встал, но он оставался неподвижным. Когда же они, полагая, что он заснул, начали будить его, то увидели, что он заснул сном беспробудным. И злая радость обратилась в горькие слезы.
Наказание за ложную клятву
Два киевских боярина, Иоанн и Сергий, живя дружно, заключили между собой в печорской церкви перед иконой Пресвятой Богородицы духовный союз братства. Спустя несколько лет, Иоанн сильно занемог. Чувствуя приближение смерти, он призвал к себе печорского игумена Никона и, в присутствии его, поручил Сергию своего пятилетнего сына Захария и вручил ему тысячу гривен серебра и сто гривен золота, с тем чтобы тот отдал их сыну, когда ему исполнился пятнадцать лет. Вскоре Иоанн скончался.
Когда Захарий, по достижении пятнадцатилетнего возраста, стал требовать от Сергия родительское серебро и золото, Сергий, из корыстолюбия, никак не хотел расстаться с порученным ему сокровищем и отвечал юноше: «Отец твой все имение отдал Богу, и потому проси у Бога. Он твой должник, а я не должен тебе ни одной златницы, жалуйся на отца своего, который имел безумие раздать все имение другим, а тебя оставил нищим». Услышав это, юноша заплакал и стал умолять Сергия, чтобы тот отдал хотя бы половину принадлежащих ему денег или третью часть. Наконец, попросил десятую часть. Когда Сергий решительно отказал юноше во всем, а преподобного Никона, который мог бы обличить его во лжи, уже не было в живых, Захарий сказал Сергию, что если он ничего не взял у отца, то пусть придет в церковь и поклянется пред чудотворной иконой Пресвятой Богородицы, пред которой он заключил союз братской любви с его отцом. Сергий, нисколько не смущаясь, пришел в церковь и, став пред иконою, поклялся, что не брал от Иоанна никаких денег на сохранение. Но когда хотел приложиться к иконе, то никак не мог подойти к ней и испугался.
Когда же он выходил из церкви, такой страх напал на него, что он, объявив, где находится серебро и золото, принадлежащее Захарию, воскликнул: «Преподобные отцы Антоние и Феодо-сие! Не дайте погубить меня; помолитесь за меня Госпоже Пресвятой Богородице, да отразит от меня бесов!» Поизнося эти слова, он весь трясся. Все пришли в ужас и увидели, как страшно произносить пред Богом ложную клятву.
Смирение
Сказывал преподобный Антоний Великий: «Видел я некогда все сети, раскинутые по земле врагом человеческого рода, и с глубоким вздохом сказал себе: кто может избежать их? И услышал в ответ голос, который произнес: смирение!»
Однажды преподобный Макарий, набрав финиковых ветвей для плетения корзин, возвращался в свою келью. На дороге встретил его диавол с серпом в руке и хотел им ударить его, но никак не мог.
Тогда он сказал преподобному Макарию: «Макарий! Как много ты досаждаешь мне тем, что я никак не могу одолеть тебя! Что делаешь ты, то и я делаю, и еще больше, нежели ты. Ты постишься, а я никогда ничего не ем; ты бодрствуешь, а я никогда не сплю. Одно только есть в тебе, чем ты побеждаешь меня». – «Что же это такое?» – спросил преподобный Макарий. «Смирение, – отвечал диавол. – Вот против чего я устоять не могу».
Всяк возносяйся – смирится
Преподобный Иоанн, затворник египетский, поучал пришедших к нему иноков смирению и внушал им, как пагубны самонадеянность и высокое о себе мнение, а в подтверждение своих слов рассказал им следующий случай.
Был один инок, который много лет спасался в пустыне. Дни и ночи проводил он в молитвах, в псалмопении и богомыслии и столь объят был желанием духовной жизни, что не заботился уже о пище телесной и не обрабатывал землю. Забывая все земное, он наслаждался благами небесными, ожидаемыми, – и за свою крепкую веру и упование на Бога сподобился получать пищу от невидимой руки Его, так что когда он входил вечером в малую свою келью или пещеру, то находил на столе чистый хлеб. Возвышаясь непрестанно в молитве и богомыслии и предаваясь чаянию будущих благ, он так твердо надеялся на воздаяние себе от Бога за свои подвиги, что как бы имел его уже в руках. И это было причиной его падения, потому что в нем родилась мысль, что он лучше других и больше других достоин небесных благ, и он был уверен, что уже не может упасть с высоты духовной жизни. Когда инок так думал о себе, то в нем незаметно рождалось некое уныние, а к унынию присоединилась леность. Он стал вставать от сна к псалмопению уже позже обыкновенного, и молитвы его становились короче. У него возникла мысль, что нужно немного отдохнуть, и вот он начал смущаться различными помыслами. Когда же наступил вечер и он, после обычных молитв, вошел в свою келью, то нашел посылаемый ему от Бога хлеб, но уже не такой чистый, как прежде. Подкрепив себя пищей, он не отразил нечистых помыслов, но находил в них даже некоторое услаждение. На другой день вечером, когда он, после обычных, хотя уже и рассеянных, молитв и псалмопений пришел в келью, чтобы подкрепиться пищей, то нашел хлеб уже грязный и черствый. Это удивило и опечалило его. Ночью помыслы до того усилились, что нечистые грезы не давали ему покоя. Когда же на третий день вечером он пришел в келью, то нашел только разбросанные по полу куски грязного хлеба. Тогда он вздохнул и прослезился; но чувство сокрушения скоро прошло. Собрав валявшиеся по полу грязные куски, он немного поел и лег спать. Вдруг нашло на него темное облако суетных и нечистых помыслов, которые влекли его из пустыни в мир, и он до того объят был плотской похотью, что не в силах был оставаться в пустыне. Целую ночь он шел, но не встретил ни одного селения.
Когда наступило утро и солнечные лучи начали палить, он изнемог и высматривал какой-нибудь монастырь, в котором мог бы отдохнуть. Наконец он увидел монастырь и вошел в него. Братия приняла его с любовью и почтением. Ему умыли ноги и предложили трапезу. Когда же старец подкрепился, его просили рассказать о спасении, как избегать диавольских сетей, как избавляться от нечистых помыслов. Он начал наставлять и увещевать их, как отец детей, чтобы они были тверды и постоянны в трудах, говорил очень много о постничестве и о других иноческих подвигах и своей беседой доставил инокам большую пользу.
Окончив беседу и немного отдохнув, он начал размышлять, как он, поучая других, не радеет о себе; других наставляет на путь спасения, а сам идет в бездну погибели. Он увидел себя побежденным злыми помыслами и побежал назад в свою пустыню, плача о своем обольщении и взывая: «Аще не Господь помог бы ми, вмале вселилася бы во ад душа моя; мале не впадох во вся злая». Возвратившись в свою келью, он пал на землю, плакал и рыдал несколько дней, доколе не сподобился получить известие от ангела, что Господь принял его покаяние. Покаяние было принято, но хлеба, ниспосылаемого от Бога, он уже навсегда был лишен и должен был доставать себе пропитание трудами рук своих.
И сбылось над ним слово Спасителя: всяк возносяйся – смирится!
Помощь свыше
Святой благоверный великий князь Александр Невский, во время княжения своего в Новгороде, получил неожиданное известие, что шведы вступили в пределы русские и идут к Ладоге. Вслед за тем и сам военачальник шведский, надеясь на многочисленность своего войска, прислал к нему послов с дерзким известием: «Если можешь и здесь – и непременно пленю землю твою».
Внезапность нападения и дерзость неприятеля смутили святого Александра, потому что войско новгородское было в разных местах, а в самом Новгороде было его очень мало.
Но, возложив упование на Бога, он приготовился с малою дружиною к сражению. Прежде всего, он поспешил в храм Божий, где уже святитель, окруженный плачущим народом, молил Бога даровать помощь благоверному князю и христолюбивому воинству его. К молитве народа князь присоединил и свою молитву, в которой выразил упование на небесную помощь: суди, Господи, обидящие мя, побори борющия мя: приими оружие и щит, и возстани в помощь мою. Потом, приняв благословение от святителя, князь идет к малочисленному своему войску со слезами, но и ободряет его словами веры: «Не в силе Бог, а в правде!» – и с надеждой на помощь свыше выступает против шведов.
В ночь с 15 на 16 июля один ижорянин по имени Филипп, которому поручено было наблюдать за движением неприятеля, муж благочестивый, удостоился видения, которым подкрепил и святого Александра. Когда святой Александр приблизился к месту брани, Филипп, высмотревший наперед расположение шведских войск, сообщил ему нужные сведения о неприятельском стане. Князь поручил ему наблюдать за движением врагов. На этой-то страже сподобился он видения. Простояв всю ночь, к утру, при восхождении солнца, вдруг слышит он шум от плывущего по воде судна. Мысль, что это, может быть, плывут враги, заставляет его пристальнее всматриваться в плывущее судно. И вот, видит он: гребцы как будто покрыты мглою; ясно видны только два стоящих витязя: светлые, небесные лица кажутся знакомыми и напоминают страстотерпцев Бориса и Глеба. Он слышит, как один витязь говорит другому: «Брат Глеб! Повели грести, да поможем сроднику своему Александру». Обрадованный Филипп рассказал об этом утешительном видении князю. Князь в тот же день напал на шведов. Сражение было упорным и продолжалось до самого вечера. Шведы бежали со стыдом. Их пало на месте сражения так много, что сподвижники Александра единодушно признали: поражением шведов они обязаны помощи свыше.
Смирение преподобного Феодосия
Однажды преподобный Феодосий, игумен Печорский, по делам отправился к великому князю Изяславу, который тогда жил далеко от Киева. Пробыв у него до вечера, преподобный хотел возвратиться в обитель пешком, но великий князь, уважая старца, приказал отвезти его в коляске. Провожатый, видя его в скудном одеянии, никак не мог подумать, что это был игумен, и счел его за простого инока. Ему хотелось спать, и он, обратясь к преподобному, сказал:
«Чернец! Ты всегда живешь в покое, а я непрестанно в трудах и не могу больше ехать на коне; дай мне отдохнуть в коляске, а ты езжай на коне». Преподобный с радостью исполнил его требование. Слуга залез в коляску и уснул. Преподобный же то ехал на коне, то шел пешком.
На рассвете начали встречаться преподобному вельможи, которые ехали к великому князю и, увидев старца издали, сходили с коней и кланялись ему. Тогда преподобный сказал провожатому: «Чадо, уже день, сядь на своего коня». Слуга, видя, что все кланяются старцу, испугался и сел на коня. Когда же подъехали к монастырю, то вся братия вышла навстречу преподобному и поклонилась ему до земли. Слуга еще больше испугался и думал: кто же это такой, что все кланяются ему? Но преподобный успокоил его. Он ласково взял своего провожатого за руку, ввел в трапезную и приказал угостить, потом дал ему немного денег и отпустил с миром.
Искушение свыше
В царствование императора Траяна был в Риме знаменитый полководец Плакида. При воинских доблестях своих он был человек очень добродушный и отличался благотворительностью. И когда случалось ему оказать несчастному помощь, то он радовался этому больше, чем победе, одержанной над врагами. Жена его была ему самой усердной помощницей во всех добрых делах. Но им недоставало самого необходимого, без чего все добрые дела мертвы и не могут доставить вечной блаженной жизни: они были язычники. Милосердый Господь, хотящий всем спастись, смотря на добрые дела супругов, не оставил их во тьме идолопоклонства и указал им пути спасения. Плакида познал истинную веру и вместе с женой и двумя малолетними сыновьями принял святое крещение и наречен был Евстафием. С этого времени новая благодатная жизнь проникла в души их, оживила и осветила добродетели их, и они немного больше прежнего помогали другим, потому что, отказывая себе во многом, и соблюдая строгое воздержание, имели гораздо больше средств к благотворению. Жизнь их была тихая и счастливая. Но недолго продолжалось их счастье. Господу угодно было послать им тяжкое испытание, которое, впрочем, Он помог им перенести.
Болезнь и смерть водворились в их доме, и в короткое время пал весь домашний скот и умерло много рабов. Спустя некоторое время злые люди расхитили их имение, и Евстафий обеднел. Но крепка была его вера: все эти несчастья он перенес безропотно, с покорностью воле Божией. Когда же размыслил, что ему, при недостаточных средствах, нельзя жить в Риме и продолжать прежнее знакомство, то решил оставить Рим и поселиться в какой-нибудь отдаленной стране, среди простого народа. Жена одобрила его намерение. И ночью – в простой одежде – они тайно вышли с детьми из города и направились в Египет.
Император, узнав, что храбрый и любимый всеми полководец скрылся неизвестно куда, опечалился и приказал найти его. Но все поиски были напрасны.
Через несколько дней Евстафий с семейством нашел корабль, приготовляемый к отплытию в Египет. Корабельщик согласился взять их. К несчастью, впоследствии открылось, что это был морской разбойник. Он прельстился красотой жены Евстафия и решил отнять ее у мужа. Скоро корабль пристал к берегу, где надлежало выйти Евстафию. Разбойник высадил его с двумя сыновьями, а жену удержал на корабле. Напрасно Евстафий умолял его – злодей остался непреклонным и, подняв паруса, отплыл от берега. Тяжка была разлука Евстафия с верной женой; горько плакал он, стоя с детьми на берегу. Горько рыдала жена на корабле, простирая к нему свои руки. Корабль уже скрылся из виду, а несчастный Евстафий долго оставался на берегу. Наконец, скрепив сердце, он с детьми пошел, сам не зная куда. Жестокая скорбь раздирала его сердце, но он не возроптал на Бога. Он не постигал судеб Божиих, но крепко верил в милосердие Его, и эта вера поддерживала Евстафия.
Долго шел Евстафий с детьми по пустынному месту и, наконец, пришел к реке – неглубокой, но быстрой. Решившись перейти ее вброд, он оставил старшего сына на берегу, а младшего взял на руки и понес через реку. Оставив его на другой стороне, он пошел за старшим. Но едва дошел до середины реки, как услышал крик ребенка; оглянувшись, увидел, что волк, схватив мальчика, бежал с ним в пустыню. Евстафий бросился бежать за зверем, но тот скрылся. Вспомнив о другом сыне, он поспешил к нему, но когда переходил через реку, то увидел, что та же участь постигла и старшего сына. Здесь Евстафий совершенно изнемог и, стоя посреди реки в отчаянии, не знал, что ему делать, – идти ли далее или прекратить жизнь свою в реке. Но Господь благодатью подкрепил верного раба Своего и спас его от смерти. Евстафий, излив скорбь в слезах пред Богом, одинокий и бездомный, продолжал свой путь в надежде найти какое-либо пристанище. Наконец пришел в селение и нанялся в работники к одному из жителей. Пятнадцать лет прожил он там, проводя дни в постоянных трудах, посте и молитве, в слезах и воздыханиях. И Господь, глядя на его смирение, послал ему утешение.
В то время иноплеменники напали на римское государство, разоряли города и многих граждан отвели в плен. Посланные против них римские войска были разбиты. Император вспомнил о Плакиде и всем окружающим сказал: «Если бы с нами был наш Плакида, не посмеялись бы над нами враги наши».
Тотчас два воина, Антиох и Акакий, друзья Плакиды, вызвались отыскать его. Долго ходили они из страны в страну, спрашивая о Плакиде, и, наконец, пришли в то селение, где он жил. Евстафий в это время был на работе в поле. Увидев римских воинов, он очень обрадовался, а когда узнал друзей, то едва не вскрикнул, но удержался, не желая тотчас быть узнанным. Они спросили его, как называется это селение, под чьим оно управлением и не проживает ли в нем странник Плакида. «Зачем он вам нужен?» – спросил Евстафий. «Он друг наш, – отвечали воины, – мы дорого бы заплатили тому, кто сказал бы, где он». Тогда Евстафий сказал: «Я не видел его и никогда не слыхал о нем, но вы утомились, и я прошу вас зайти ко мне отдохнуть в моей хижине, а между тем спросите других: может быть, и найдутся такие, которые знают Плакиду». Воины согласились и пошли с ним в селение. Евстафий попросил своего хозяина накормить их, обещая ему отработать угощение. Хозяин исполнил его просьбу, и Евстафий прислуживал своим друзьям, подавая им кушанье и напитки. Тут вспомнил он о прежней своей жизни и о том, как некогда служили ему те, которым он теперь служит, и прослезился. Воины заметили это и, присмотревшись, нашли в нем сходство с Плакидой. Когда же заметили на его шее след глубокой раны, полученной Плакидой в сражении, тотчас узнали его и от радости бросились к ногам его, восклицая: «Ты – Плакида, которого мы ищем! Ты храбрый вождь, о котором император и все воины сетуют!» Ефстафий, залившись слезами и обнимая друзей, сказал: «Да, я Плакида, некогда славный воин, а ныне нищий и убогий».
Воины вручили ему письмо от императора и умоляли немедленно отправиться в путь, чтобы принять начальство над войсками. Прочитав письмо императора, Евстафий повиновался. Возвращение его в Рим было радостным событием для всех. Император щедро наделил его имением и деньгами, возвел в прежнее звание и просил немедленно идти на врагов и возвратить взятые ими города. Евстафий принял начальство над войском и вскоре с Божьей помощью не только отнял у врагов взятые ими города, но и завоевал много городов неприятельских.
Война кончилась, и Евстафий с войском возвращался в отечество. Встретив по дороге селение на прекрасном месте у реки, Евстафий назначил здесь войскам трехдневный отдых. Два молодых воина раскинули палатку у изгороди небольшого сада. Среди разговоров один спросил другого, из какого он места и кто его родители. Тот отвечал: «Я родился в Риме и помню, что отец мой был человек знатный и богатый, но однажды он взял мою мать и меня с младшим братом и вышел с нами из города. Наконец мы дошли до моря, сели на корабль и отплыли. Когда корабль пристал к берегу, отец со мной и с моим братом вышел на землю, но мать, неизвестно зачем, осталась на корабле; помню только, что мы много плакали о ней. С тех пор я не видел ее. Потом мы с отцом пришли к реке. Отец оставил меня на берегу, а младшего брата, взяв на руки, понес на другую сторону. Когда же возвращался за мной, чтобы и меня перенести на ту сторону, волк схватил меня и побежал. Но пастухи отбили меня и воспитали в своем селении, и я ничего не знаю ни об отце, ни о брате и живу одинокий в мире». Выслушав этот рассказ, другой воин бросился к нему на шею, обнимая его, и восклицал: «Ты брат мой! Ты брат мой!.. Та же участь постигла и меня, но Господь, Который сохранил твою жизнь, спас и меня от смерти. И я едва не сделался добычей зверя, но земледельцы, бывшие в поле, отбили меня и привели в свое селение. Там я принят был в одном добром семействе и жил до поступления на службу». Долго проливали они слезы радости, прославляя неизреченное милосердие Божие. Но их ожидала новая радость.
Хозяйка сада, занимаясь работой, слышала разговор молодых воинов и узнала своих детей. Это была жена Евстафия Плакиды. Бог сохранил верную рабу Свою: варвар, разлучивший ее с мужем, вскоре по отплытии от берега впал в тяжкую болезнь, от которой через несколько дней и умер. Получив свободу, она долго скиталась из страны в страну в надежде встретиться с мужем и детьми и, наконец, поселилась в этом селении, построила себе хижину и развела небольшой сад, от которого приобретала себе скудное пропитание.
Она тотчас хотела бежать к детям и заключить их в свои объятья, но, взглянув на свое убогое одеяние, остановилась. Мысль, что молодым и благородным воинам трудно будет признать бедную поселянку своей матерью, удержала ее, и она решилась идти к военачальнику и выпросить у него позволение следовать за войском до Рима, думая, что там, может быть, она найдет более удобное время и случай открыться перед ними. Когда она пришла к военачальнику, то тотчас узнала в нем своего мужа, но он, совершенно отчаявшись увидеться со своей женой в этой жизни, не узнал ее. В это время у него было очень много воинских начальников, и она не осмелилась в присутствии их открыться ему и тотчас вышла. Придя домой, она упала на землю и, обливаясь слезами радости, искренне и пламенно благодарила Господа Бога, что Он привел ей увидеться с мужем и детьми в этой жизни, и молила Его расположить к ней сердце мужа, с которым она прожила много счастливых лет, чтобы он не отверг ее. Сначала она думала отложить свидание с мужем до утра, но сердце влекло ее к нему, и она, не в силах противиться сердечному влечению, пошла к Плакиде и чрезвычайно обрадовалась, что застала его одного.
Увидев ее, Плакида спросил: «Что тебе еще надобно, старушка?» Она же, поклонившись ему до земли, сказала: «Не прогневайся на меня, господин мой, что я докучаю тебе; я желала бы спросить тебя об одном деле». – «Хорошо, говори», – сказал ей Плакида. «Не ты ли Плакида, нареченный во крещении Евстафием? Не ты ли тайно ночью вышел из Рима с женой и детьми? Не у тебя ли разбойник отнял жену?» – «Да», – отвечал Плакида, пристально всматриваясь в ее лицо. «Я жена твоя, – сказала она тогда. – Господь не попустил злодею оскорбить меня; его вскоре постигла тяжкая болезнь, и он умер, а я получила свободу, и с того времени не проходило ни одного дня, когда бы я не проливала слез о тебе и о детях».
Пораженный Плакида не скоро пришел в ясное сознание – действительность это или сон. Все прошедшее ожило в его памяти, он воскликнул: «Боже Милосердный!» – и бросился в объятия верного друга своего, зарыдав, как дитя. Сколько пролито было ими слез при этом радостном свидании! Сколько искренних благодарений вознесено ими к Всевышнему подателю радости!.. Когда первые восторги утихли, жена спросила Евстафия: «Где же наши дети?» – «Увы! – с глубоким вздохом отвечал Евстафий, – лютые звери растерзали их».
Но она, утешая его, сказала: «Бог милостив, верно, найдутся также и наши дети». – «Я уже сказал тебе, что звери растерзали их», – возразил Евстафий. Тогда жена рассказала ему о двух молодых воинах. Они немедленно были призваны, и лишь только старший из них начал рассказывать свою историю, родители тотчас открылись им и заключили их в объятия. Так утешил Господь верных рабов Своих!
Великое утешение и радость послал Господь верным рабам Своим! Но эта радость не столько была им наградою за совершенные ими подвиги, сколько подкреплением для новых великих подвигов. При преемнике Траяна, императоре Адриане, они за исповедание своей веры во Христа мужественно претерпели жестокие страдания и смерть.
Бедность и честность
Один богатый купец после крушения корабля, который нагружен был товарами, пришел в крайнюю нищету и за долги посажен был в темницу. Добрая жена его должна была приобретать себе и ему скудное пропитание трудами рук своих. Когда она принесла мужу пищу и ела с ним, пришел в темницу богатый человек для раздачи милостыни. Увидев жену обнищавшего купца, он прельстился красотою и вызвал ее. В надежде получить от него милостыню она тотчас вышла, и он, отведя ее в сторону, спросил, зачем она сидит в темнице. Когда же она рассказала ему все случившееся с ними, то он сказал ей, что заплатит все долги, если только она согласится пожить у него немного времени. Целомудренная жена ответила ему: «Господин! Ты знаешь, что, по учению апостола, жена состоит в зависимости от мужа, и потому я пойду и спрошу о том мужа своего». Пошла и рассказала мужу о сделанном ей предложении. Богобоязненный муж, дорожа верностью своей жены, не захотел таким бесчестным делом искупить себя из темницы:
«Пойди и скажи богачу, что мы о таком освобождении и слышать не хотим».
Вместе с обнищавшим купцом содержался в темнице разбойник, который отделен был от него тонкой стенкой. Подслушав разговор жены с мужем, он вздохнул и сказал себе: «Вот в какой нужде находятся эти люди и, несмотря на то, никак не захотели для освобождения своего из темницы нарушить целомудрия, почитая его дороже всякого богатства, и готовы все перенести в этой жизни, только бы угодить Богу. А я, окаянный, никогда и не помыслил в уме своем, что есть Бог, отчего впал во многие злодеяния». И потом, подозвав их к своему окошку, он сказал: «Я – разбойник, учинил много злодейств и знаю, что скоро поведут меня из темницы и отсекут голову. Ваше целомудрие привело меня в умиление, и я прошу вас, чтобы вы по смерти моей взяли себе зарытое мною в землю золото, уплатили долги и молились за меня Богу».
Через несколько дней разбойник был казнен. Жена пришла вечером на указанное место и, раскопав землю, нашла глиняный сосуд с золотом. Они уплатили все долги и освободились из темницы.
Благочестивый художник
Очень богатый человек заказал молодому художнику сделать золотой крест и украсить его драгоценными камнями, с тем, чтобы пожертвовать его в церковь, и для этого дал ему золото. Приступив к работе, художник сказал себе: «Какой счастливый человек, он может принести Богу такую богатую жертву! Приложу и я часть своего золота ко кресту: Господь, милостиво призревший на две лепты вдовицы, не отвергнет и моего малого приношения». И приложил своего золота десять золотников. Когда же он принес крест богачу, тот, взвесив его, увидел, что в нем золота больше, чем дано было, и подумал, что художник, утаив часть данного ему золота, сделал какую-то примесь. И богач сказал: «Что это значит, в кресте более веса, нежели я дал тебе золота? Ты слукавил и, желая воспользоваться частью моего золота, сделал какую-нибудь примесь?» – «Нет, – отвечал художник, – Бог свидетель, что я не воспользовался ни малейшей частью твоего золота». И потом открыл ему всю правду. Когда богач удостоверился в истине слов художника, то устыдился своего подозрения, которым напрасно оскорбил честного молодого человека, и сказал ему: «Ты желал участвовать в моей жертве Богу, так участвуй же и в милости Божией ко мне – во всем, чем Бог благословил меня. Отныне я усыновляю тебя и делаю наследником всего моего имения».
Истинная награда за добрые дела и наказание за дела беззаконные – в вечности. Но иногда Господь видимо награждает и наказывает и в этой жизни, и этим напоминает нам о праведном суде Своем.
Пример благотворения
Вликийском городе Патарах жил один человек, который, по стечению несчастных обстоятельств, лишился всего имущества и из богача неожиданно сделался нищим. У него были три дочери-девицы, известные во всем городе своей красотой. Претерпевая недостаток в самом необходимом – в пище и одежде, – несчастный отец находился в трудном положении и, не видя никакой возможности выйти из убийственной нищеты, он в отчаянии помышлял и уже решился пожертвовать честью своих дочерей и красотой их приобретать пропитание. Но милосердый Господь не допустил ужасного преступления.
Святитель Христов Николай был в это время в Патарах пресвитером и, получив от родителей богатое наследство, расточал его надела милосердия. Когда он узнал о бедственном положении обнищавшего семейства, то не замедлил подать ему руку помощи, но, желая оказать несчастным благотворение тайно, он в полночь подошел к их дому и, опустив в окно мешок с золотом, тотчас удалился. Когда утром несчастный отец развязал мешок и увидел в нем золото, то изумился и не хотел верить своим глазам, доколе не ощупал золотые монеты. Тогда со слезами радости он принес благодарение Богу и положил в сердце своем устроить судьбу старшей дочери законным супружеством. Господь, послав к нему угодника Своего с щедрой милостыней, послал и доброго жениха его дочери.
Святой Николай, узнав об этом, радовался не менее отца и через некоторое время вновь ночью подошел к его дому и опустил в окно другой мешок с золотом. Счастливый отец, растроганный новым щедрым благотворением до глубины сердца, пал пред образом Спасителя и, обливаясь слезами, воскликнул: «Милосердый Господь, искупивший нас Кровью Твоей и ныне искупляющий нас! Покажи мне земного Твоего ангела, который сохраняет нас от погибели, выводит из убийственной нищеты и избавляет от преступных помыслов!» Принеся искреннее благодарение Господу, он воспользовался новым благотворением для выдачи второй дочери замуж и был уже уверен, что Господь не оставит и последней его дочери. В этой уверенности он проводил ночи без сна, ожидая прихода своего тайного благотворителя. Ожидание его было не напрасно. Угодник Божий в третий раз тихо подошел к дому, опустил в окно, как и прежде, мешок с золотом и поспешил назад. Отец бросился бежать за ним, догнал и, узнав его, пал к ногам и целовал их со слезами благодарности, называя святого Николая спасителем душ, бывших уже на краю погибели. «Если бы милосердый Господь не послал к нам тебя, – сказал он, – погиб бы я с дочерями своими в огне содомском!» Святой Николай едва мог поднять его с земли. Так проникнут был отец чувством благодарности к своему благодетелю! Угодник Божий, преподав ему полезное наставление, обязал его клятвою никому не говорить о произошедшем до самой его смерти.
Сохранение целомудрия
Во время гонения на христиан, в царствование Максимилиана, Евфрасия, дочь благородных родителей, отличавшаяся красотой и благонравием, за веру во Христа подвергнута была жестоким мукам. Когда же мучениями не могли принудить ее к отречению от Иисуса Христа и к поклонению идолам, тогда, для посрамления, отдали ее грубому воину на беззаконное сожитие, зная, как высоко ценят свое целомудрие христианки. Для Евфрасии целомудрие было дороже всего на свете, дороже самой жизни. Она пламенно молилась, чтобы Господь избавил ее от поругания и сподобил предстать перед Ним в чистоте и непорочности, – и вдруг представилась ей в мыслях возможность потерей жизни сохранить целомудрие. Она ободрилась. Когда воин привел ее в свой дом, она приняла вид спокойный, как бы покоренная судьбе и довольная тем, что избавилась от мук, – и говорила с ним ласково. Когда же он хотел лишить ее целомудрия, она сказала ему: «Подожди, у меня есть важная для тебя тайна. Я занимаюсь волшебством, знаю силу всех трав и хочу дать тебе одну такую траву Если ты будешь иметь при себе, то никакое оружие не причинит тебе ни малейшего вреда». Он сказал ей: «Ты после дашь мне эту траву». – «Нет, – ответила Евфрасия, – эта трава только тогда имеет свое действие, когда принята будет из рук целомудренной девицы, а иначе она не будет иметь никакой силы». Воин охотно согласился, – и они пошли в сад. Евфрасия сорвала какую-то траву и сказала: «Вот эта трава». – «А как мне узнать, – сказал он ей. – Что ты говоришь правду?» Евфрасия положила траву себе на шею и говорит ему: «Возьми острый меч и со всего размаха, сколько есть сил, ударь им меня – и ты увидишь, что меч твой не причинит мне никакого вреда». Он так и сделал и одним ударом отсек ей голову.
Заскрежетал зубами грубый идолопоклонник, увидев себя осмеянным девицей, но целомудренная Евфрасия уже отошла к Небесному Жениху своему для принятия от Него венца нетления.
Воин – защитник целомудрия
Девица Феодора, во время гонения на христиан при Диоклетиане и Максимилиане, за исповедание имени Христова заключена была в темницу, а потом представлена была на суд к Евстратию, градоначальнику александрийскому. Узнав, что Феодора была из честного и благородного семейства, Евстратий сказал ей: «Императоры повелели вас – девиц, которые дорожат своим целомудрием, – отдавать в бесчестные дома, если вы не будете поклоняться богам». На это Феодора отвечала: «Думаю, ты знаешь, что Бог, как сердцеведец, смотрит на сердечные намерения и принимает их за сами дела, если не в нашей воле привести их в исполнение. Он знает мое искреннее желание сохранить девство мое в чистоте и непорочности, поэтому, если ты велишь растлить меня насильно, то это будет для меня не бесчестием, а страданием, и ты чрез это сделаешь меня не блудницей, а мученицей за Христа, точно так же как если бы ты велел отсечь мне голову или руку. Впрочем, Господь мой, Которому я обещала мое девство, силен сохранить его». Евстратий убеждал ее, чтобы она, как дочь честных и благородных родителей, не отдавала себя на поругание и посмеяние, потому что если она будет отведена в бесчестный дом, то уже не выйдет оттуда чистой и целомудренной. «Верую Христу моему, – отвечала Феодора, – что сохранит меня, верную рабу Свою, чистой и непорочной». Евстратий приказал отвести ее в темницу и дал ей три дня на размышление, но она сказала, что намерение ее умереть за Христа никогда не изменится. Когда она представлена была к Евстратию и, несмотря на все убеждения и угрозы, осталась твердой и непоколебимой в исповедании своей веры, то отведена была в бесчестный дом. Как усердно молилась она Господу Богу, чтобы Он всемощной силой Своей спас ее от рук нечестивых развратников!
В то время как перед бесчестным домом собралось несколько развратных людей, приходит молодой воин, видный собой, крепкого телосложения и, оттолкнув прочих, входит к девице. Ужаснулась Феодора. Но молодой воин сказал ей: «Не бойся, сестра, я брат твой по вере и пришел спасти тебя. Поменяемся одеждами: ты надень мою и выйди отсюда, а я в твоей останусь здесь. И когда будешь выходить, то, чтобы не узнали тебя, закрой лицо, как будто от стыда, потому что отсюда все выходят со стыдом». Феодора, познав в молодом воине человека, посланного Богом для спасения, сделала все, что он советовал, и вышла из дома. Тотчас затем вошел в дом один из развратных юношей и, найдя в нем вместо девицы мужчину, испугался и, выбежав из дома, закричал своим товарищам: «Бежим отсюда, чтобы волшебство христиан не обратило нас в женщин». Об этом узнало начальство. Воин приведен был в суд и на вопрос судьи кто он, отвечал: «Я раб Христов, Дидим». – «Отчего же мы видим тебя не в мужской, а в женской одежде?» – спросил судья. «Я взял эту одежду от Феодоры, а ей отдал свою, чтобы она могла спастись от развратников», – отвечал Дидим. «Но кто же приказал тебе это сделать?» – «Бог мой, Иисус Христос», – отвечал Дидим. «Где же теперь Феодора?» – «Не знаю, – сказал Дидим. – Я знаю только одно о ней, что она добрая и верная раба Христова». Тогда судья приговорил отсечь ему голову и бросить тело в огонь.
Когда Дидим приведен был на место казни, явилась Феодора и сказала ему: «Ты защитил мое девство, но я не хочу, чтобы ты защитил меня от смерти. Довольно для тебя награды от Господа за сохранение моего девства, я не хочу, чтобы ты умер за меня». – «Любезная сестра, – сказал ей Дидим, – не препятствуй мне, осужденному на смерть, умереть за Христа и кровью моею омыть грехи мои». – «По крайней мере, дай мне умереть прежде тебя, – сказала Феодора, – Чтобы быть в безопасности от насилия». На это Дидим сказал ей: «Господь, Который однажды сохранил тебя от растления, может сохранить твою непорочность». Приказано было отсечь им обоим головы и тела бросить в огонь.
И долго вспоминали о Дидиме и Феодоре богобоязненные юноши и девицы, ублажая мученическую кончину их, воодушевлялись их примером.
Делись с ближним твоим всем, чем Бог благословил тебя
Один инок, родом из Италии, по имени Косма, был захвачен сарацинами, жившими в Дамаске, и выведен ими вместе с другими пленниками на продажу. Стоя на торжище, он горько плакал. Здесь увидел его один из знатных дамасских граждан, богобоязненный христианин, и, подойдя к нему, чтобы утешить его в постигшем несчастье, сказал: «Что ты так плачешь, человек Божий, о лишении этого мира? Твой вид и твоя одежда показывают мне, что ты уже давно отрекся мира и умер для него». Инок отвечал: «Не о лишении этого мира плачу, для него, как ты сказал, я действительно умер. Я плачу о том, что отхожу из этого мира бездетным и не оставляю наследников». Гражданин удивился и сказал: «Отец! Ты инок, давший Богу обет безбрачной жизни, как же ты можешь плакать о бездетстве». На это инок отвечал: «Ты не понял меня, господин, не о плотских наследниках говорю, а о духовных. Хотя я, как ты видишь, и нищий, но у меня есть некое имущество, которое собирал я от юности своими трудами.
Я учился риторике, поэзии, философии, астрономии и богословию и, приобретя столько познаний, никому не передал их. Теперь передать уже не могу, и когда умру от меча агарян, то явлюсь пред Господом моим как бесплодное дерево и как раб, скрывший в землю талант господина своего. Вот о чем я плачу».
Дамасский гражданин, услышав это, чрезвычайно обрадовался, что нашел желаемое сокровище, и сказал иноку: «Не плачь, отец, Бог может исполнить желание твоего сердца». Он отправился к сарацинскому князю и просил отдать пленника. Взяв Коему, он с радостью привел его в свой дом, представил ему двух сыновей и сказал: «Бог не только даровал тебе свободу, но и исполнил желание твоего сердца: вот мои сыновья, один родной, а другой, оставшись в детстве сиротой, принят мною вместо сына. Прошу тебя, отец, научи их твоей мудрости и благонравию и наставь их на добрые дела: сделай их твоими духовными детьми и наследниками приобретенного тобою духовного сокровища». Со всем усердием и ревностью и с искренней благодарностью к Богу принялся инок за порученное ему дело, – и Бог благословил труды его. Его воспитанники не только сделались наследниками приобретенного им духовного сокровища, но и своим прилежанием умножили его. Это были знаменитые впоследствии Иоанн Дамаскин и Косма Маиумский.
Когда инок-воспитатель исполнил возложенную на него обязанность, то сказал отцу: «Твои дети не имеют более во мне надобности, потому что через свои дарования и прилежание они не только сравнялись со мною в науках, но уже и превосходят меня и могут быть хорошими наставниками других. Поэтому прошу тебя отпустить меня в монастырь, чтобы там я мог научиться от совершенных иноков высшей мудрости».
Жаль было отцу расстаться с мудрым и благочестивым иноком, но он не хотел удерживать его от святого намерения и отпустил, напутствовав щедро. Косма поселился в Лавре преподобного Саввы и, прожив там до конца жизни, перешел к созерцанию совершеннейшей премудрости Бога.
Так смотрит просвещенный христианин на свои дарования и познания и старается употреблять их на пользу ближних!
Необыкновенная милостыня
Святой Павлин, епископ Ноланский, был прежде римским сенатором и имел большое состояние, но все расточил на дела милосердия, потому что был необыкновенно милостив и сострадателен к бедным. Когда же он стал епископом в Нолане и вандалы, напав на Италию, захватили в плен и отвели в Африку многих из принадлежащих к его епархии, тогда он все, что имел и что было в епископии, роздал для выкупа пленных и на пропитание обнищавшим от варварского нашествия, так что у него уже решительно ничего не осталось. В это время приходит к нему одна бедная вдова и, рыдая, говорит: «Мой сын, единственная опора в старости, взят в плен вандалами и, как слышно, находится у вандальского князя, зятя царского: умоляю, дай мне что-нибудь на выкуп его».
Растроганный горем бедной матери до глубины сердца, святой Павлин не знал, что ему делать. Доселе он никому не отказывал в милостыне и никого не отпускал без утешения. И вдруг родилась у него необыкновенная мысль, а с мыслью соединилась и твердая решимость, и он сказал: «Нечего мне дать тебе, кроме себя самого; итак, я отдаю себя в твою власть; возьми и отдай меня, как бы своего раба, за сына своего». Услышав от него такие слова, вдова приняла их за насмешку, но святитель уверил ее, что он говорит правду. И вот они отправились к вандалам. Там вдова пала к ногам князя, у которого находился ее единственный сын, и со слезами умоляла отдать его, но князь и слышать не хотел о том. Когда же она, указав ему на угодника Божия Павлина, сказала, что она отдаст его вместо сына, тогда князь, спросив его, какое он знает ремесло, и узнав от него, что он искусный садовник, согласился принять его вместо юноши.
Вдова с сыном возвратилась домой, а святой Павлин остался работать в саду князя. Князь часто начал ходить в сад и, разговаривая с новым садовником, видел в нем большой разум.
Однажды святой Павлин открыл ему, что в скором времени совершатся важные для него события, и советовал ему не отлучаться из столицы. Князь сообщил об этом царю. Царь, подумав, сказал: «Я хотел бы видеть этого человека». Когда же святой Павлин, по приказанию князя, принес к царскому столу зелень и плоды, царь увидел его, смутился и, подозвав к себе зятя, сказал: «Я видел этого человека во сне, узнай от него, кто он такой. Мне кажется, он не из простых, потому что я видел его в великом сане». Князь, отведя его в сторону, спросил его, кто он. Человек Божий отвечал: «Я раб твой, принятый тобою вместо сына вдовы». – «Я не о том спрашиваю тебя, кто ты ныне, но кто ты был в своей стороне», – сказал князь и заклинал его сказать всю правду. Тогда человек Божий, хотя и с прискорбием, открыл ему, что он епископ. Услышав это, господин испугался и со смирением сказал ему: «Проси у меня, чего ты хочешь, я желал бы отпустить тебя на твою сторону с великими дарами». На это угодник Божий отвечал ему: «Одной милости прошу я у тебя: отпусти всех пленников страны моей».
Просьба святого Павлина была исполнена: собраны были все пленники из его паствы и переданы ему. Добрый пастырь отправился в отечество со своим словесным стадом и был встречен с торжеством и радостью.
Так благословляет Господь и венчает успехом все подвиги, предпринимаемые нами ко благу ближних во славу всесвятого имени Его!
Мыслители с холодным умом и сердцем, быть может, не сочтут поступок святого Павлина вполне благоразумным, но все высокое, прекрасное и святое в действиях человеческих выходит из телесных пределов благоразумия житейского и становится понятным только для немногих возвышенных душ, любящих добро независимо от добрых последствий, от него проистекающих, но единственно потому, что оно добро.
Один Господь есть праведный Судья и Воздаятель, и Ему да будет честь и слава, благодарение и поклонение во веки веков. Аминь.
Часть вторая. Чудесные случаи из жизни православных христиан
В трущобах
Глубокий и узкий овраг, постепенно разветвляясь, заходил в лес. Там он оканчивался рытвинами, которые в народе назывались трущобами. Люди боялись заходить сюда, здесь скрывались воры и бродяги со всей округи.
В Страстную пятницу по трущобам пробирались трое. Они были смуглы, как цыгане, одеты небрежно, бедно.
Старший, Назар, говорил товарищам:
– Нынче, ребята, день святой. Надо нам посидеть в трущобах смирно. Нагулялись мы… В Страстную пятницу православные даже хлеба не едят, авось – и мы не татары! Тоже во Христа веруем…
Товарищи Назара засмеялись.
– Веруем! Эх, ты – святоша! Про Христа вспомнил. А что вчерашней ночью натворил?
Назара от этого напоминания покоробило, скверное дело было вчера.
Он устало опустился на землю. Огромные деревья качали над ним своими длинными ветвями. Чудилось ему, будто они старались «подцепить» его и сейчас же вознести на суд к Богу…
По-своему Назар веровал и боялся Бога.
«Да, – думал он, – страшно мне сейчас явиться пред Господом. Страшно развернуть перед Ним грязную одежду моей души. Что я покажу Господу? Веру, добрые дела? Да их у меня нет. Я давно не живу по-христиански. Нам велено любить ближних, а я такое творю».
Назару вдруг почудились человеческие шаги, и мысль о каторге промелькнула. Ему представился далекий край со страшными холодами, жизнь впроголодь, в кандалах.
– Страшно, а заслужил ведь! – прошептал Назар. – Вот в прошлую ночь…
Он погрузился в мрачные воспоминания. На дворе было темно, хлестал крупный дождь. Втроем ввалились они в лавку к сельскому богачу, обшарили ее, но денег не нашли. Тогда Назар решил заглянуть в комнату к хозяевам. На беду его заметил отец лавочника, старик больной. Крикнуть сыну он не смог, а только застонал жалобно, давая знать, что в доме творится что-то неладное. Спасая свою шкуру, Назар ударил старика кистенем. Кажется, наповал убил беднягу!
– Эх, грехи! – вздохнул он.
Назару припомнилось, как он однажды залез в церковь и обокрал свечной ящик.
«И утащил-то всего двадцать рублей, а греха-то сколько на душу принял!»
– Да, ребята, – сказал Назар, – трудно нам будет отвечать перед Господом за свои подвиги!
– Распустил слюни! – хохотнули бродяги. – Про Бога вспомнил, далеко до Него.
Это откровенное замечание товарищей испугало Назара.
– Неужели для вас нет возврата к Богу? Это невозможно. Нам с детства твердили, что Бог прощает человеку всякие грехи, только покайся в них и дай обет впредь не грешить. Нам читали, как Христос разбойника на кресте миловал за то, что тот уверовал в Него. Неужели Господь оттолкнет нас, когда мы придем к Нему с плачем и с сокрушением о грехах?
В это время донесся слабый звук церковного благовеста. Товарищи Назара не обратили внимания, а он снял шапку и перекрестился.
– Что такое? – удивились они.
Назар ответил:
– Ай оглохли и не слышите колокола? На вынос Плащаницы христиан созывают.
Бродяги беспечно продолжали лежать, а Назар поднялся и сокрушенно произнес:
– Господи, помилуй душу мою грешную!
Он снова стал перебирать в памяти события своей буйной жизни. Вот представилось Назару, как жил он еще честным человеком у одного богатого купца. Хорошо тогда было! Идешь или едешь куда, никто тебя не тронет.
Теперь того и гляди свяжут и в острог засадят.
И с чего пошла такая мерзкая жизнь?
Давно это было. Назар служил у купца и однажды украл 20 копеек. Хозяин узнал и при всех дал ему пощечину. Он взял расчет и затаил злобу на хозяина, размышляя так: «Что я сделал? Украл жалкий двугривенный. А разве жестокий купец мой не обманывал народ, сбывая негодный товар? Однако покупатели не бьют его, а меня он ударил, да как ударил, при народе!»
Купец тогда дорого заплатил за пощечину. Назар живо припомнил, как ночью запалил ненавистную лавку. Пожар быстро затушили, больших убытков купец не потерпел, а Назара упрятали в острог.
С тех пор он озлобился.
– Будут они вспоминать Назара! – сказал он гневно.
– Что с тобой? – спросили его товарищи.
– Я жизнь свою перебираю, черна она, белить ее нужно.
Он понимал, что трущобная жизнь превращала его в зверя, однако как уйти с путей воровских?
Назар шептал:
– Боже Милостивый! Как хорошо людям, которые эти святые дни перед Пасхой проводят по-христиански…
Назару припомнилось, как, бывало, в их семье к обедне ходили. Батюшка у них был старенький, служил тихо, но как-то проникновенно.
Не помнит Назар, что тогда читали и пели. Одно осталось в его памяти: певчие уж больно жалобно выводили: «Благообразный Иосиф»… Эту песнь затянул тихонько Назар и прослезился. Ему показалось, что вместе с другими он хоронит Христа. Господь умер за грехи наши, за грехи всех блудников, воров и разбойников. Своей смертью Спаситель хочет оживить людей и открыть им Царство Божие…Слышишь, Назар? И за тебя Господь умер, и тебя Он спасет, а ты бродишь по трущобам, разбойничаешь и скрываешься от Лика Божия!
Назар теперь ясно понял, что он – злодей, он убил больного старика, который ему ничего дурного не сделал.
– О, Господи! – взмолился Назар, – Я недостоин Твоей милости.
Он заплакал и продолжил рыться в воспоминаниях. – Вот Плащаница Христова. Прихожане со слезами подходят целовать ее. Они ужасаются, смотря на страдальческий Лик Господень. Они со страхом думают о том, сколько мучений претерпел Он, чтобы сделать нас хорошими людьми…
Не помнит Назар, в каких словах батюшка говорил проповедь у Плащаницы, но общий смысл этих поучений глубоко запал ему в сердце. Батюшка говаривал, что грехи людские перед пришествием Христовым дошли до края. Люди гибли в пороках и никак сами собой не могли остепениться. Вот и явился Господь, чтобы избавить их от власти демонской…
– Что же нам радоваться? – спрашивал батюшка. И отвечал: – Да, радоваться, благодарить Бога за избавление нужно, но и плакать. Плакать о злобе людской, которая не пощадила Самого Господа; плакать об окаянстве нашем, о том, что мы, вытащенные из грязи греховной, опять лезем в нее добровольно. Мы опять с наслаждением пьянствуем, сквернословим, развратничаем, крадем, убиваем…
– Ох, Господи! – вздохнул Назар. – Не попусти меня, окаянного, погибнуть…
Он зарыдал. Теперь он не заботился о том, что подумают про него товарищи-оборванцы. Он дал волю своему тоскующему сердцу и плакал радостно. Отчаяния не было в слезах его. Он вспомнил и просто уцепился за евангельский рассказ о разбойнике благоразумном. Он говорил себе:
– У Бога милости много. Я – падший человек. Я обагрил руки в неповинной крови. Я – изверг. Но, Господи, не отчаиваюсь я в своем спасении! Ты помиловал разбойника на кресте. Ты простил блудницу, прости и меня – непотребного раба Твоего… Прости, помилуй и спаси! Поставь меня на дорогу правильную и дай мне сил загладить грешную жизнь мою…
Назар плакал тихими слезами умиления. Потом снял с шеи крест, положил его на камень и серьезно сказал товарищам:
– Вот вам, ребята, Плащаница! На кресте изображен распятый Христос. То же обозначено на Плащанице. Давайте прикладываться к язвам Господним!..
Товарищи Назара рассмеялись:
– Вот так Плащаницу нашел! Мы уже своего попа завели…
Но Назар не смутился и с молитвой стал целовать Распятие Христово. Он долго не отрывался от камня, а, поднявшись, сказал:
– Смотрите же, ребята, на Назара и казнитесь. Он – убийца, вор. Он недостоин целовать это святое Распятие. Однако запомните: с нынешнего дня нет прежнего Назара. Господь стучится ко мне в сердце, призывая меня к покаянию, и я приму Его. Слезами омою грехи мои и верю, что Господь меня простит.
Товарищи уныло смотрели на Назара. Один из них, зевнув, сказал:
– Назар ума лишился, полечить бы беднягу.
Вскоре Назар убежал из трущоб. Слух прошел, что захотел он «выбелить» смрадную душу, опороченную воровством, разбоем и беспутной жизнью.
Семейный раздел
У крестьянина Федора Куликова было два женатых сына: Федор и Филипп. Старший – Федор, коренастый, обладал немалой силой; он был очень прилежен в крестьянской работе, которая спорилась в его могучих руках, как на пашне, так и на гумне. Филипп же был слабого здоровья от рождения, после военной службы оно еще более расстроилось, и он частенько прихварывал. Он имел скромный характер, был набожным, к своему отцу всегда относился с почтением и любовью, за что тот любил его гораздо больше старшего сына. Федор нередко упрекал отца за это, а брата Филиппа часто называл лентяем и лежебокой. Федор был характера вспыльчивого и сварливого, от этого в доме нередко происходили семейные перебранки и ссоры. Он очень редко бывал в церкви даже и в великие праздники, за что часто получал от отца строгие выговоры. Но Федор не вразумлялся. Он обыкновенно грубо отвечал отцу: «Хорошо вам с Филиппом, твоим любимым сынком, ходить в церковь и размаливаться, когда обоим лень работать, я почти один веду все наше хозяйство, а вы с ним едите готовый хлеб. Мне размаливаться Богу нет времени, у меня работе дома и на пашне конца нет». Дерзость старшего сына оскорбляла отца, и он нередко плакал. Федор не раз уже высказывал отцу, чтобы он его с семьей отделил. «Пока я жив, – отвечал отец, – этого никогда не будет; нет тебе на это моего родительского благословения; когда умру, тогда, как знаете, делитесь с братом, хотя я и желал бы, чтобы вы до смерти жили с ним вместе; но только жили бы в мире и согласии, а не смешили добрых людей семейными перебранками и ссорами, да не грешили бы пред Господом Богом и не гневили Его».
На эти наставления своего родителя Федор непочтительно и дерзко возражал: «Ну, нет, я не желаю быть всегда батраком в доме; я буду работать до поту и до мозолей на руках, а твой любимый сыночек будет лежебокой; будет лежать на палатях да читать разные книжки, которых у него целая полка. Нет уж, спасибо, этого не будет».
Отец, бывало, махнет рукою и скажет: «Ну, как там знаешь, а все-таки при жизни моей тебе раздела не будет».
Часто происходили пререкания между отцом и сыном, часто в доме Федора Куликова происходили перебранки и ссоры между невестками – женами Федора и Филиппа. Все это тяжестью ложилось на сердце отца, и он горько плакал…
К Федору Куликову частенько захаживал его сосед – старичок Парамон, которого все односельчане уважали и любили, часто обращались к нему за советами в тяжелых обстоятельствах.
Дедушка Парамон, слыша дерзкие и оскорбительные речи Федора, говаривал: «Ох, Федор, Федор, перестань накликать на свою голову гнев Божий; перестань оскорблять и обижать своего отца-старика!.. Помни, кто прогневит и не утешит своего земного – родного отца, тот прогневит и Отца Небесного!.. Кому Бог обещает благо – счастье в жизни и долговечность? Только детям почтительным к своим родителям. Помни это, не забывай, одумайся и исправься!»
Благие наставления дедушки Парамона не нравились черствому сердцем Федору, – и он возражал: «Что тут, дедушка Парамон, мне начитывать разные наставления? Ты вот их почитай нашему монаху – богомольцу Филиппу, а мы сами не меньше тебя знаем, а ученого учить, как говорится, только портить».
«Ну, сам знаешь, – бывало, ответит дедушка Парамон, – ныне молодые не любят слушать нашего брата – стариков. Нет, милый, век прожить – не поле перейти; после, может быть, и вспомнишь слова старика, – да будет, пожалуй, уже поздно. Мы в старину всегда слушались своих родителей и боялись их оскорблять, а потому и милосердный Господь миловал нас, несмотря на наши вольные и невольные прегрешения, и благословлял долговечностью, вот я, слава милосердному Господу, доживаю до девяти десятков».
Эти последние слова дедушки Парамона окончательно выводили из терпения Федора, и он, нахлобучив шапку, убегал из горницы на двор, сильно хлопнув дверью.
«Не знаю, как ты, Федор, думаешь жить свой век!» – скажет, бывало, дедушка Парамон вслед Федору.
Такие сцены нередко случались в доме Федора Куликова, и они поселяли глубокую скорбь в отцовском сердце.
Федор Куликов умер от холеры. После смерти отца Федор еще – больше начать обижать брата Филиппа: он часто язвительно называл его монахом и богомольцем за то, что тот в праздники всегда ходил к службам церковным. Бывая в церкви, Филипп становился на клиросе, где принимал участие в церковном чтении и пении, за что батюшка Иоанн всегда хвалил Филиппа. Часто отец Иоанн защищал Филиппа от оскорблений брата.
Наконец, Федор окончательно задумал разделиться с братом Филиппом. При разделе Федор очень обидел брата: он отвел себе новую горницу, а ему оставил ветхую избу, взял лучших лошадей и коров и лучшую крестьянскую снасть и утварь. Филипп «смиренник», как его называли все односельчане, погоревав и поплакав, начал жить со своей женой собственным хозяйством.
Филипп занимался хозяйством очень прилежно, в чем ему усердно помогала его трудолюбивая жена. Хотя он нередко и прихварывал, но все-таки хозяйство его заметно начало поправляться. Хлеб у него ежегодно родился хороший, домашний скот размножался. Из всего ясно усматривалось, что милосердный Господь за любовь к храму Божию и усердные молитвы наградил его Своими благами и щедротами.
Напротив, Федор Куликов не имел успеха в своих крестьянских трудах, хотя и трудился неусыпно, не покладая рук ни днем, ни ночью, не разбирая ни воскресных, ни праздничных дней. Скот, отобранный у брата, весь попадал, спустя год после смерти отца, урожай хлеба у него был плохой. Видя, как благоустроилось хозяйство брата, Федор с завистью говорил: «Богомольному монаху все удается, несмотря на его лежебокость».
В Ильин день отец Иоанн шел служить обедню и встретил Федора Куликова, который ехал на пашню. Он остановил его и сказал: «Одумайся, Федор! Сегодня следует оставить всякие работы и идти в храм Божий, чтобы там прославить святого пророка Илию, нашего молитвенника и помощника в делах. Сегодня, как тебе хорошо известно, у нас на селе будет крестный ход. Я тебе скажу, что работа в праздник никогда не будет иметь желанного успеха. Сам Бог говорил: без Меня не можете делать ничего. Без Божия благословения мы всегда будем безуспешны в наших трудах и предприятиях. За последнее время ты, Федор, совсем забыл храм Божий, никогда не бываешь у служб церковных. Одумайся, Федор, пока правосудный Господь не наказал тебя за явное нарушение заповеди Божией, которая повелевает нам помнить воскресные и праздничные дни.
«Что же, батюшка, я сделаю, – отвечал Федор, – когда нужда и бедность меня заели? Тружусь я усиленно до пота и мозолей, не знаю покоя ни днем, ни ночью, а успеха в своих трудах не вижу, остаюсь с одним горем на своем сердце».
«А потому и остаешься без желанного успеха в своих трудах, – сказал отец Иоанн, – что ты забыл Писание: приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам, а если отречемся от Бога, и Он отречется от нас. Одумайся, Федор, и исправься! Помни всегда, что у Бога милосердие и гнев, и на грешниках пребывает ярость Его».
Отец Иоанн отправился в церковь, а Федор не внял пастырскому наставлению, он стегнул свою лошадь и поехал на пашню.
Жаркий день клонился к вечеру, черные тучи надвигались на деревню. Через час гроза усилилась, частые раскаты грома с треском раздавались над деревней, сопровождаемые молнией. Наконец, последовал сильнейший удар грома, после которого на деревне послышались крики крестьян: «Пожар, пожар!» Горел дом Федора Куликова со всеми пристройками. Когда Федор приехал к своему дому, то увидел, что от него остались одни тлеющие головни. Федор пал безмолвно на землю и громко зарыдал, а рядом с ним, лежа на земле, голосила его жена. Крестьяне, находившиеся на пожарище, как умели, утешали их. Подошел, опираясь на посох, и дедушка Парамон. Он сказал рыдающему Федору: «Федор, правосудный Бог наказал тебя Своим праведным гневом за твою дерзость и непочтительность к твоему покойному отцу, от чего нередко он проливал горькие слезы. Бог наказал тебя и за то, что ты, делясь с братом своим, сильно обидел его; а знаешь, что говорит премудрый Соломон? Он говорит: “Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии”».
Стоявшие на пожарище крестьяне, склонив головы, со вниманием слушали мудрые речи дедушки Парамона, а Федор, всхлипывая, говорил: «Правда, дедушка Парамон, что Бог наказал меня за грехи мои».
Бог помиловал
Два только дня оставалось до того великого праздника, который с радостью и трепетом душевным ждется всем православным миром…
Темная апрельская ночка спустилась над рекой. Перевоз на ночь прекратился, и сотни мастерового люда, спешившего к празднику в свои деревушки, коротали время до рассвета на прибрежном лугу, под открытым небом, откуда ласково мигали далекие звездочки. Тихо… Усталые путники дремали около тлевших костров, только у одного из них сидел слесарь Сергей – ему что-то не спалось… Думы одолели, но, видно, не печальны были они: улыбка не сходила с его доброго загорелого лица; весело посматривал он то на яркий огонек костра, то на белый высокий, выделявшийся из ночного мрака, храм села Я., длинной лентой раскинувшегося на другом берегу реки. «Слава Тебе, Господи! Вот и Караваевку свою скоро увижу – с небольшим верст 30 осталось, – думал Сергей. – Как-то там мои?.. Поди, чай, уже ждут, ребятишки, гляди, на задворки начали бегать – тятьку встречать… Ну что ж… в жилетке зашито красненьких три… хватит про всех, хватит и старосте поплатиться и праздничек справить. То-то рада будет моя Акулина новым полусапожкам, – промолвил вслух Сергей, ощупывая свою большую сумку – Да и жена, чай, не откажется от полушалка да от сарафана… Носи, скажу, жена, на здоровье, ты у меня хорошая, работящая… А пуще всех обрадуется мой сынок Сеня, – как игрушку-то я дам ему, так и кинется на шею: малый-то ласковый. Ну и матушка родимая спасибо скажет, отведав куличика да калачиков-то московских… Пускай их порадуются, родные… Мне Батюшка Царь Небесный помог заработать… Все ведь для них старался, все трудовое, потом нажитое… Господь бы дал только подобру-поздорову домой добраться… Небось, соседи тоже к празднику готовятся… хлопочут; дядя Григорий, поди, товарцу уж припас… Как-то горюха наша, кума Степанида? Шибко, гляди, бьется; подмоги-то не от кого ждать, никто на праздничек не припасет, а там и хлебушек-то, пожалуй, весь приели… орава ребятишек, а добытчиков – никого. Ох, бесталанная!.. Бог даст, нельзя же – кума, а пуще того сироток жаль, пусть их в Христов день моей пасочки покушают. Жена будет говорить: “У самого, мол, не весть какое богатство”… А как же, скажу ей, Спаситель-Батюшка велел последним делиться? Неужели для такого праздника жадничать и своим не пособить? Она у меня баба разумная – поймет и перестанет… Однако поздно, хоть прикорнуть малость, скоро и к заутрени ударят, перевозить начнут… Вот бы у заутрени Господь сподобил побывать. Велик день-то завтра: Пятница святая, про Страсти Господни читают за службой. До слез жалко станет Христа, как послушаешь, бывало, у себя в церкви Караваевской. Евангелие батюшка наш, покойник, царство ему небесное, читал громко, складно – все, бывало, поймешь и не увидишь, как утреня кончится, а на колокольне двенадцать раз ударят…»
– Ты что же не спишь, дядя Сергей? – прервал его размышления проснувшийся сосед.
– Да вот, малость раздумался насчет домашних: про Пятницу Великую вспомнил, как бы завтра к заутрене в село попасть… уж давненько я не бывал у ней. Как в людях не жил, все сходишь; бывало, за грех считаешь пропустить не только такую службу, а и всякую воскресную; ну, а в люди пошел, известно, всяко случается: то в дороге, то в мастерской Великие дни проводишь; известно, дело наше мастеровое, подневольное, – и рад бы душой, да не вырвешься. Ничего, если хозяин попадется хороший, помнящий Бога. Вот хоть жил у одного, – Царство Небесное ему, теперь уж помер, Прохор Иваныч звали, – так тот, бывало, ни за что не успокоится, пока нас, ребят, в праздничное время к обедне не пошлет. «Ступайте, ступайте, – скажет, – или вы Бога позабыли?.. Вам бы только по трактирам шнырять, а храмы Божии, видно, не про вас строены…» Глядишь, и усовестит. На что был у нас сорванец один малый, так и звали Андрюша Лихой, а и тот поломается-поломается, а все-таки послушается, пойдет. А до Пасхи-то за пять дней работу в мастерской кончал. Выйдет, бывало, к нам во вторник на Страстной Прохор Иваныч. «Ну, ребятушки, голубчики, – скажет, – работе шабаш, ступайте-ка с Богом по домам… про Страсти Спасителя послушайте в своем родном храме и праздничек, отдохнув с дороги, вольготнее встретите…
Только смотрите – дорогой не шалить, заработок чтобы весь в дом попал; сохрани Бог, если услышу про кого что нехорошее – и на глаза не показывайся тот». Добрейшая душа был; не хозяин, а отец родной, и кончину ему хорошую послал Господь: в самый Светлый день… Я больше и не встречал таких хозяев…
– Где теперь таких найдешь? – заметил Сергеев сосед. – Им бы все только барыши поболее, а об мастерах они мало заботятся… Ну, да Бог им судья… Давай-ка, дядя Сергей, уснем до утра еще маленько…
Заря окрасила край неба, с востока потянул свежий ветерок, прозябшие путники стали подниматься, выползли из своего шалаша перевозчики и начали отвязывать паром, в селе звучно раздался удар в колокол, гулко покатился звук его по реке, вот за ним другой, третий – и полился звон в свежем утреннем воздухе, призывая православных в храм послушать про страдания Господа.
Едва только паром причалил к берегу, как несколько десятков продрогших путников бросились на него, весь заполонили.
– Слазьте, ребята, кто-нибудь с парома, а то, чего доброго, греха наживешь с вами, – упрашивал перевозчик. – Смотрите, весь паром уж в воде… Слазьте, ради Бога…
– Ладно, ладно, – слышалось с парома, – тебе хорошо было в теплом шалаше выспаться, а мы как в лихорадке дрожим, небось, и чайком побаловаться захотелось.
– А мне, – балагурил один молодой мужик, хватаясь за канат, – и похмелиться пора: голова смерть болит со вчерашнего, а вон в трактирах и печки затопили, стало быть, ждут нас, дорогих гостей.
– Смотри ты, вострый, – заметил ему с берега старичок, – не такие слова бы говорить следовало в такой день, аль не слышишь, к чему благовестят-то? Прогневишь Господа для такого дня – худо будет… Обасурманился ныне народ по этим фабрикам, – им все нипочем.
– Ты чего раскаркался там, старая ворона! – сердито ответил балагур. – Потонем, туда нам и дорога. Двух смертей не будет, одной не миновать… Сиди себе да дрогни на берегу, а мы чайку хлебнем в трактирчике, а насчет Божьего дела, уж лучше сам на старости лет похлопочи за нас, а наше дело молодое; и нагрешим, и замолить успеем… Эй, ребята, трогай дружней! Чего их слушать, шевели веселей!
– Слазьте же, православные, – умолял перевозчик. – Беды с вами наживешь для праздника.
«Уж не сойти ли мне? – подумал Сергей, очутившийся в числе других на пароме. – Перевозчик-то правильно толкует: река глубокая, быстрая, долго ли до греха… А ну как заутреню прозеваешь? Как сойдешь-то, теперь давка эта не скоро кончится, народу-то ишь сколько, а паромишка-то дрянь, скоро ли всех перевозить… нет, лучше пойду у службы побывало… Твори Бог волю Свою».
Под крики толпы и перебранку ее с перевозчиком (который сам не поехал) тронулся паром, но едва успел он проплыть саженей пять, как начал все глубже и глубже погружаться в воду. Все стояли по колени мокрые; растерявшийся народ вместо того, чтобы воротиться назад к берегу, налег на канат в надежде поскорее переплыть реку, еще минута – и они на средине ее, по шею в воде… Еще секунда – и половина путников плыла уже около парома, который, как только схлынул с него народ, поднялся, и оставшиеся на нем благополучно начали достигать берега. В реке же десятки людей боролись с волнами: кто силился ухватиться за канат, кто напрягал все усилия, чтобы подплыть к парому. Окрестность огласили жалобные, раздирающие душу крики: «Спаситель Батюшка!.. Мать Пресвятая Богородица! Не дай умереть без покаяния… Светлое Христово Воскресение… Караул! Тонем, Христа ради помогите, отцы родные, батюшка, погибаем!..» Оставшиеся на берегу в ужасе не знали, что делать; на их глазах гибли товарищи, а помочь им не могли, так как лодка была на другой стороне; бревнышка и того не было под руками, чтобы бросить погибающим. Но вот крики услыхали на селе… Народ бежит, отвязали лодку и взяли в нее всех, кто еще боролся с волнами…
Ниже на реке что-то чернелось, – это голова Сергея. Столкнутый с парома, он ухватился за плывшую доску и понесся с быстрыми волнами вниз по реке…
– Господи милостивый, помоги мне! Спаси меня окаянного ради моих детушек! Милые мои детушки!.. Помолите хоть вы за меня! – кричал Сергей, но только один благовест гулко отвечал ему…
Смолк и звон; из-за леса выплыло яркое солнышко и осветило печальную картину.
«Пришел мой конец, не слыхать мне больше благовеста церковного, не видать красного солнышка!» – мелькало в голове Сергея…
Вот уже и село скрылось, а он все несется на своей дощечке, из сил выбивается, руки окоченели, вот-вот выскользнет последняя надежда – дощечка; сумка давит книзу, хоть бы снять ее, но она крепко захлестнута на спине.
«Господи, перекреститься бы в последний раз на сем свете», – шепчут холодеющие уста Сергея, и обессилев, отпустил он доску, выскользнула последняя соломинка. «Вот она, смерть-матушка, как скоро подкралась. Простите, сроднички… детушки… прост…» – и волна захлестнула ему лицо…
– Господи Иисусе Христе! – крикнул, собрав последние силы, Сергей: – Ты Сам страдал на кресте, помилуй же меня, окаянного!..
Вдруг… что же это такое?.. Сердце Сергея радостно встрепенулось от надежды. Река в том месте, куда он подплывал, круто поворачивала, и его глазам предстала узкая полоска земли, врезавшаяся в реку и доходившая почти до середины ее. Течение несло Сергея прямо к этому неожиданному полуострову, на котором стоял парень и, не подозревая о случившемся, спокойно ловил рыбу.
– Ба! Да никак это человек кувыркается в воде, – сказал парень, заметив в волнах Сергея и услышав его слабые крики: «Милый человек, погибаю… пожалей малых дету…»
Парень оказался не из робких и тотчас, очутившись в воде по пояс, подал Сергею длинный шест…
– Ну теперь поймал, не выпущу, – весело говорил он, хватая за руку выбивавшегося из сил и потерявшего сознание Сергея…
Через час Сергей очнулся в крестьянской избе и удивленно осматривался кругом: перед ним стояла старушка.
– Слава Богу, очнулся! На-ка рубашечку переодень, бедняжка, ты весь издрог и измок; а ты, Ваня, помоги ему, – обратилась она к сыну, спасшему Сергея.
* * *
На берегу реки было шумно. Народ, услышав про беду, так и валил со всех окрестных деревень. Крик, говор, плач, ругательства, оханье слились в несмолкаемый гам; одни тужили, крестясь, радостно благодарили Бога за спасение; кое-кто из местных крестьян повел к себе обогреть измученных, иззябших путников. Кто-то не находил родственника, другой не досчитывался товарища. На трех лодках разыскивали погибших.
– Нашли… нашли… – пронеслось в толпе.
Гам мигом стих. Лодочник багром вытаскивает из реки тело, другой, тут же рядом, – другое… Вся толпа, сняв шапки, перекрестилась, как один человек.
– Упокой, Господи, души несчастных! – слышалось отовсюду…
– Смотрите, братцы, ведь это тот, что давеча все балагурил! – говорил кто-то, узнав в утопленнике того самого парня, обругавшего старика. – Вот вам и молодое дело! А хотел замолить грехи-то после, ан и не успел… Вот оно что значит, гнилое слово человеческое!.. Эх, видно, непутевый парень-то был…
– Бог с ним, – заметил опять кто-то из толпы, – не нам его теперь судить… Бог ему судья… Наше дело помолиться о упокоении его грешной души.
Долго искали в реке погибших, но уже больше не нашлось… Толпа стала редеть. Весь день в селе только и было разговору, что о случившемся несчастий. Дивились спасению Сергея.
– Поди ж ты, нужно же было парню пойти в этакую рань рыбки половить, – рассуждали старушки. – Говорят, мужик-то очень хороший, домовитый, пуще всего все о семье убивался, когда тонул-то. Да и на паром поспешил из того, чтобы к службе поспеть. Что и говорить! Из всего видно – мужик хороший. Вот и не дал ему Господь без покаяния погибнуть: послал доброго человека.
Другие печально качали головой, говоря о безвременной кончине двух молодых мужиков.
– Знает Царь Небесный, кого помиловать, кого покарать, – заключили сельские люди, расходясь по домам.
В десять часов заблаговестили на колокольне; церковь наполнилась молящимися. В самом углу ее, не вставая с колен, горячо молился оправившийся Сергей, только на время чтения Евангелия он прерывал земные поклоны и внимательно слушал святые слова.
Не позабыл он зайти в храм Божий и поблагодарить Господа за спасение.
По молитве матери
Много, много есть необъяснимого на свете. Бывают чудеса и в нынешний смутный век», – произнес наш хозяин, отставной моряк, прохаживаясь взад и вперед по столовой. В подтверждение своих слов он рассказал нам следующий случай из жизни.
– Я был мичманом, молодым, веселым юношей. Плавание наше в тот раз было очень трудное и опасное. Океан угрюмо шумел… Я отчетливо помню тот вечер. Наш командир был очень добрый человек, но суровый в деле и взыскательный. Мы страшно боялись его… Все кругом было спокойно. Матрос зажег нам лампу… В окна каюты долетали сердитые брызги океана.
Вдруг мы слышим поспешные, твердые шаги капитана и заключаем по его походке, что он раздражен чем-то.
– Господа, – сказал он, остановившись в дверях каюты, – кто позволил себе сейчас пробраться в мою каюту? Отвечайте.
Мы молчали, недоуменно переглядываясь.
– Кто же? Кто был сейчас там? – грозно повторил он, и вероятно, прочтя полное недоумение на наших лицах, быстро повернулся и ушел наверх. Там грозно зазвучал его голос. Не успели мы опомниться, как нам было приказано явиться наверх. Наверху выстроилась вся команда.
– Кто был у меня в каюте? Кто позволил себе эту дерзкую шутку? Кто? – грозно вопрошал капитан. Общее молчание и изумление было ему ответом.
Тогда капитан рассказал, что лишь только он прилег в своей каюте, как слышит в полузабытьи чьи-то голоса: «Держи на юго-запад, ради спасения человеческой жизни. Скорость хода должна быть не менее трехсот метров в минуту. Торопись, пока не поздно». Мы слушали рассказ капитана и удивлялись. Решено было идти в указанную сторону.
Рано утром мы все, по обыкновению, были на палубе.
Рулевой молча указал капитану на видневшийся черный предмет. Капитан подозвал боцмана и что-то тихо сказал ему. Когда капитан повернулся к нам, лицо его было бледнее обыкновенного. Через полчаса мы увидели невооруженным глазом, что черный предмет был чем-то вроде плота, а на нем две человеческие фигуры. Это были матрос и ребенок. Волны заливали плот, еще немного – и было бы поздно.
Капитан, как нежная мать, хлопотал около ребенка. Только через два часа матрос пришел в себя и заплакал от радости. Ребенок крепко спал, укутанный и согретый.
– Господи, благодарю Тебя, – воскликнул матрос, простой парень. – Видно, матушкина молитва до Бога дошла.
Мы все обступили его, и он рассказал нам печальную историю корабля, разбившегося о подводные камни и затонувшего. Народа было много, иные успели спастись в лодке, остальные утонули. Он уцелел каким-то чудом на оставшейся части корабля. Ребенок был чужой, но дитя ухватилось за него в минуту опасности и спаслось вместе с ним.
– Матушка, видно, молится за меня, – говорил матрос, благоговейно крестясь и смотря на небо, – ее молитва спасла меня. Вот в кармане и письмо ее ношу при себе… Спасибо родимой моей. – И он вынул письмо, написанное слабой рукой малограмотной женщины. Мы перечитали его все, и оно произвело на нас сильнейшее впечатление. Последние слова его, помню как сейчас, были: «Спасибо, сынок, за твою память да ласку, что не забываешь ты старуху. Бог не оставит тебя. Я день и ночь молюсь за тебя, сынок, и будь здоров и не забывай твою старую мать, которая молится за тебя. Сердце мое всегда с тобой, чую им все твои горести и беды и молюсь за тебя. Да благословит тебя Господь и да спасет и сохранит тебя мне».
Матрос, видимо, глубоко любил свою мать и постоянно вспоминал о ней.
Спасенный ребенок, семилетний мальчик, полюбился капитану, человеку бездетному; он решил оставить его у себя.
– Вот и вся история, господа! Я рассказал вам сущую правду. Все мои товарищи, матросы, были свидетелями этого происшествия.
Дивны пути Провидения! Велика сила материнской молитвы! Много есть на свете таинственного, необъяснимого, непонятного слабому человеческому уму.
Сон наяву
На дворе Духовного училища, в день роспуска перед Рождеством Христовым, было необычайное оживление. Сельское духовенство приезжало и уезжало, забирая своих сыновей на праздники. По коридору расхаживал надзиратель, заложа руки назад, и строгим голосом покрикивал на суетившихся воспитанников: «Тише! Не шуметь!» Шумели и суетились – это те, за которыми приезжали родители или посланные от них, а поджидавшие своих с нетерпением глядели в окна на двор, куда то и дело въезжали деревенские саночки.
– Иорданский! Скорей погляди, это, кажется, твой отец – в овчинном тулупе, с косичкой! – кричал Звонов, прищуривая глаза.
Иорданский, рослый мальчик лет четырнадцати, бросился со всех ног к окну и отошел разочарованный, дав хорошего пинка близорукому товарищу.
– Чего ж дерешься-то, конопатый! – запищал Звонок.
– А ты не обманывай… прежде разгляди хорошенько.
– Тихонов-старший! Тебе письмо и деньги! – крикнул надзиратель, подавая распечатанный конверт одному из глядевших в окно воспитанников.
Его обступили Иорданский, Тихонов-младший и другие школьники.
– От папаши, не приедет! – с тревогой в голосе проговорил Тихонов и передал письмо Иорданскому.
– И я остаюсь: мне 30 копеек прислано… Отец болен. Как же теперь быть?
– Вот разменяем рубль, раздели; нам с братом 70 копеек, а потом подумаем…
– Чего думать, надо ехать одним! – настойчиво сказал Иорданский. – Отец болен – я должен быть дома.
– Легко сказать: ехать, да кто ж повезет троих за рубль 85 верст?
– Ну так пешком… живо отмахаем, решайтесь!
Совещание между товарищами продолжалось до вечера, а на другой день утром, чуть свет, три школьника уже были в дороге, с сумками за плечами. Тихоновы были дети священника, а Иорданский – сын дьячка того же села С… Мальчики шли ходко, чтобы не зябли ноги. Мороз был сильный; носы покраснели, уши побелели, ноги стерли, а прошли не больше 30 верст. Переночевав в какой-то деревушке, они пошли дальше, но уже не так ходко, как в первый день. Считая себя большими, школьники стыдились плакать, а непослушные слезы все-таки катились из глаз. На втором ночлеге Тихоновы отказались идти дальше и упрашивали крестьянина довезти их.
– Ладно, – сказал мужичок, – коли управлюсь с делами, свезу…
«Сегодня уже сочельник. А ну как он их обманет?» – думал Иорданский и пошел один, не желая терять времени.
– Куда же ты, паренек, один-то? Ужо и тебя прихвачу, – сказал хозяин избы, а сам полез на печь.
– Нет, мне нельзя… У меня отец болен; я скорее дойду!..
Этот последний переход от ночлега до родного села был так труден, что Иорданский не только плакал, но и выл в голос. По его расчету до дому оставалось версты четыре или пять, не больше, но где возьмет он силы дойти, когда вьюга с ног валит, мороз сковывает все члены, наступает ночь, а по дороге не видно ни одного человека. «Я умру здесь, в поле, в такую ночь, когда все радуются, славят Христа!» – думал он, едва переступая по занесенной сугробами дороге. Вдруг вьюга с неимоверной силой закрутила вокруг мальчика и швырнула его в сугроб, из которого он не в силах уже был выбраться. Ему захотелось спать, через минуту ужасная действительность сменилась приятным сновидением.
Совсем уже стемнело. На синем небосклоне появились маленькие звездочки, в воздухе повеяло прохладой, а по кремнистой дороге все еще тянулись путники к небольшому городку, утопавшему в обширных садах. К этой разноцветной толпе присоединился Иорданский и постепенно подвигался вперед, в общей массе, присматриваясь к своим спутникам и прислушиваясь к их говору. Все ему казалось в них странно: и одежда и наречие. Одни ехали на ослах, другие на верблюдах, а большинство шло пешком. Одни были в чалмах и широких плащах, другие – в полосатых и белых покрывалах. Некоторые несли на плечах большие кувшины с узкими горлышками, вероятно, наполненные водой. Через хребет ослов и верблюдов были перекинуты на ремнях корзины, наполненные хлебом, фруктами и печеной рыбой. Вот уже близко город. На темном фоне неба рельефно стали выступать зубцы и группы низеньких домов с плоскими крышами, и послышался неясный гул разнообразных звуков. Иорданский не знал, какой это город и зачем туда идут все. Он решился спросить:
– Куда вы идете, добрые люди?
– Как, разве ты не знаешь повеления царя о всеобщей народной переписи? – спросил его в свою очередь старец, ведший под уздцы осла, на котором сидела женщина, закутанная в белое покрывало.
– Мы едем в свой родной город записаться! – прибавил старец, желая удовлетворить любопытство юноши.
Тот не осмелился ничего больше спросить и продолжал путь среди толпы, опираясь на посох. Вот они уже вошли в самый город, улицы его узки и переполнены народом. Когда углублялись внутрь города, становилось все теснее и теснее. Иорданский не отставал от старца и шел по его следам. Вот они приблизились к зданию, выделявшемуся от прочих домов величиной и архитектурой, и протиснулись к самым воротам.
– Остановись, почтенный! – сказал привратник, заграждая путь. – Прибывших так много, что для тебя уже нет места.
– Благословен Бог, сохранивший меня в пути, – произнес старец. – О ночлеге же я забочусь не для себя; моя спутница слишком утомилась, и именем Творца я прошу тебя, друг, приюти нас где-нибудь…
– Твои седины заставляют меня служить тебе, но где я помещу вас, когда все углы заняты? Кто ты таков?
– Я Иосиф, древодел, родом из дома Давида…
Привратник обнажил голову и низко поклонился.
– Привет тебе, почтенный потомок славного царя! Если бы ты прибыл несколько раньше, я устроил бы тебя в лучшем помещении, но теперь я не знаю, что мне делать… Разве согласишься ночевать за оградой, в пещере?..
– Мы бедные люди, не привыкшие к роскоши, и за все, что ты можешь для нас сделать, да наградит тебя Всевышний! – ответил старец.
Привратник взял фонарь и, направляясь через двор, сказал:
– Идите за мной.
Старец взял под уздцы осла и, оберегая свою спутницу пошел за проводником. В ограде было так многолюдно и шумно, что Иорданский ничего не мог разобрать и расслышать; он старался только не отставать от старца. Пробравшись через толпу, они вышли за ограду в поле и увидели каменную пещеру, поросшую мхом.
– Вот приют для тебя и жены твоей, – указал привратник. – Войдите сюда и отдохните до утра; здесь тепло и воздух здоровый… Скот ночует в поле, и вас никто не обеспокоит.
– Да наградит тебя Бог за твою милость! – с чувством признательности сказал старец и, взяв спутницу свою под руку, снял ее с послушного осла, говоря:
– Войди, Госпожа моя, и успокойся здесь от трудного пути. Запах сена не принесет нам вреда.
Она осторожно спустилась на землю и тихо вошла в предложенную пещеру. Иорданский остался под открытым небом и задумался о почтенном потомке славного царя.
В каком веке жил этот царь и отчего его имя так знакомо ему, Иорданскому? Его удивляло и то, что люди царского рода так просты и бедны, так смиренны и невзыскательны.
Он долго стоял с поникшей головой, силясь припомнить что-то, уяснить себе непонятное, как вдруг услышал тихое, сладкогласное пение: «Слава в вышних Богу, и на земли мир». Прислушиваясь, он поднял глаза к небу и замер на месте, прикованный дивным видением. В светлом облике, соединяющем небо с землей, хор ангелов славит Бога, даровавшего грешному миру неизреченную радость. Иорданский мгновенно все понял и в умилении заплакал.
– Слава Богу, оживает! – перекрестилась мать Иорданского, сидевшая уже несколько часов у изголовья сына, привезенного Тихоновыми в бессознательном состоянии.
В это время раздался первый удар колокола, как бы над самой головой Иорданского; он открыл глаза.
– Что это, звон?
– К заутрени, мой милый, сегодня Рождество Христово! – ответила мать Иорданского, лаская его.
– Сон наяву! – радостно воскликнул мальчик и хотел встать, но ломота во всем теле не позволила ему этого сделать.
Он вспомнил свое путешествие и со вздохом огляделся кругом.
– Где же отец?.. Он болен…
– Прихворнул маленько, да теперь, слава Богу, полегчало, в церковь ушел… Надо пойти сказать ему, что ты жив…
– Пойду и я.
– Куда ты, дитятко… совсем больнешенек…
– Нет, я пойду славить Христа!
И он славил.
Дедку убили
На дворе слякоть и ненастье; конец октября. Ветер порывами налетает на ветхий домик Вознесенского батюшки и, как будто охватывая его могучими объятиями, трясет до самого основания. Потоки дождя с мокрыми хлопьями снега бьют в стекла на дворе – темь непроглядная, наткнешься на встречного – не увидишь. «А крыша-то, крыша как плоха, – думал батюшка, прислушиваясь к завыванию непогоды. – Того и гляди раскроет с того боку! Я думал, зиму простоит, ничего! Ведь вот же какую бурю наслал Господь!.. Слышишь, Авдотья Саввишна, скоро ли самовар-то? – крикнул он попадье. – Напиться бы чаю да и спать лечь, ноги у меня что-то, должно быть, к погоде, ломит очень».
Батюшка зевнул, пожимаясь, снял очки, перекрестился, поцеловал то место в старой книге, которое читал, и хотел убрать ее; но в эту минуту ему послышалось, будто кто-то стучится в наружную дверь; батюшка прислушался. На дворе залаяла собака.
«Неужели с требой! Вот уж идти в такую погоду! – подумал батюшка и тут же взглянул на образ в углу, едва освещенный мерцающим светом догоравшей лампады. – Прости меня, Господи, многогрешного!»
– Слышишь, отец? Никак, стучат, – высунулась матушка в дверь.
Стук повторился громче, и в ответ на него собака с озлобленным лаем кинулась к запертым воротам. Батюшка взял со стола сальную свечку в медном подсвечнике, снял с гвоздика на стене старую черную шляпу с широкими полями и пошел через длинные холодные сени, заслоняя рукою пламя свечки.
– Кто там? – крикнул он, подходя к двери, и, не отпирая, приложился ухом к щели.
– Это я, батюшка! Алексей с «чугунки»! Алексей Ермолаев!
Батюшка с шумом отодвинул засов. Прямо в лицо ему пахнуло сырым холодом, и после комнатной теплоты озноб пробежал по спине. Свечу едва не задуло ветром.
– Что ты, Алеша, в такую погоду? – проговорил батюшка, благословляя широким крестом высокого молодого парня, с которого ручьями текла вода. Батюшка посторонился, впуская его в сени. Мужик мокрыми, холодными усами поцеловал руку батюшки, перешагнул через высокий порог и притворил за собой дверь.
– Спешное дело, батюшка, – сказал он несколько торжественно, – несчастье случилось!
– Несчастье!
– Точно так, батюшка. Дедку убили!
– Дедку? Это Степаныча-то?
– Точно так.
– Господи Боже мой! Как это? Машиной, что ли?
– Никак нет, батюшка, не машиной. Должно быть, недобрый человек.
– Что ты, Алеша! Бог с тобой! Да ты взойди, взойди в избу-то, – заторопился батюшка, которого от холода и волнения начинала трясти лихорадка.
– Что случилось? Нездоров, что ли, кто? Здравствуй, Алексей! – говорила матушка, высовывая голову из прихожей в сени.
– Дедушку Степаныча… вот он говорит, – отвечал батюшка, не решаясь договорить.
Они оба взошли в прихожую.
– Я уж, батюшка, здесь вас обожду; уж очень с меня течет! – произнес Алексей с полуулыбкой, оглядывая свой старый, откуда-то добытый клеенчатый кафтан.
– Полно, полно, что ты, взойди, ничего! – поспешно заговорила матушка. – Чаю стакан выпьешь, пока батюшка соберется. Да что случилось-то?
– Не могу знать, матушка, всего доподлинно, только велел мне дорожный мастер взять лошадей у Якова и съездить за батюшкой. «Духом слетай, – говорит, – Алексей! Дедку убили! Только не до смерти, а чуть жив – не успеет ли его батюшка причастить».
– Ах ты, Господи! Царь Небесный! – качала головой матушка.
Батюшка не остановился расспрашивать Алексея, времени терять нельзя было! Забыв и непогоду, и свои немощи, он похолодевшими, дрожащими руками готовил и собирал, что надо было для напутствования умирающего.
А матушка, налив стакан чаю солдату Алексею и присев на край стула, все охала и засыпала солдата разными вопросами, на которые он не мог отвечать. Ему известно было только, что машинист на «дежурстве» (дежурящий на станции запасной локомотив), переводя вагоны на запасной путь, удивился, что в будке старого сторожа на первой версте не видно света; поставив вагоны на запас, машинист послал стрелочника Спиридона узнать, не случилось ли чего с дедкой Степанычем.
Спиридон прибежал бледный, трясется и говорит, что дедка лежит весь в крови в своей коморке, с разрубленной головой. На станции все переполошились. «Я как раз дежурство сдал Петрову, – рассказывал далее Алексей, – проводил пассажирский, лампы гашу. Бежит Ильенко: “Ты что, не знаешь, – говорит, – Степаныча топором зарубили!” Я как держал лампу в руках, так и опустил на пол, сам не помню себя! Ей-богу! Так я испугался, так испугался, – коленки подгибаются! Стою и даже понять не могу, что со мною! Право!»
– Ах! Господи! Ах, Боже мой! – в сотый раз охала матушка. – И кому это было нужно этакого старичка убивать! И жизни какой был, а? Мы часто с батюшкой об нем говорили. Святой жизни человек был, Господи!
– Одно слово, что святой жизни! Благодарим покорно, матушка! – сказал Алексей, опрокинув пустой стакан.
– Пей еще.
– Будет, благодарим покорно! – он верхней стороной руки расправил мокрые усы и поклонился матушке. – Уж про него всякий скажет, – продолжал он, – что святой был человек. И Бог его знает, чем он питался, кажись, одним хлебом да водой! Что-то незаметно было никогда, что б он что варил для себя. Смирный какой! Страсть! Обругает ли его кто грешным делом, обидит ли – улыбнется только, будто даже рад, а то и поклонится и пойдет прочь! Никогда, чтобы слово кому ответил!
– А вот пришлось мне летом, – продолжал Алексей, – дело было в праздник, поздно ночью, а уж лучше сказать – под утро, часу в третьем, уж курьерскому скоро было время пройти; мы, признаться, в деревне гуляли и запоздали маленько; я, да Гаврила-стрелочник, да Курганов с водокачки, и идем – чтобы скорее, по полю тропинкой, как раз на «дедкину» будку выходим, у него в окошечке свет; я и полюбопытствуй. Дай, говорю, взгляну, что дедка поделывает ночным временем! А он, старый, стоит на коленках перед образом, глаза кверху подняты, видно, молится. Да лицо какое у него, матушка, было и рассказать вам не могу! Светлое такое, как святых пишут, право! Так мы с ребятами даже присмирели вовсе. То, было, шли с гармошкой, песни играли, смеялись, а тут – прощай, наше веселье! Так нам совестно стало, не дай Бог! Вот мы, какие грешные! Гулянкой занялись, а тут святой человек, может, всю ночь не ложился, на молитве стоял, ей-богу!
Алексей вздохнул и отвернулся. Матушка достала платок из кармана и тщательно утерла себе глаза.
– Да, многие видали, – продолжал он, – кому случалось по линии ходить ночью, особенно из служащих; в какую пору ни пройдешь – дедка все на молитве стоит, а то стоит да плачет, так плачет! Слезы у него так ручьем и текут из глаз.
– Удивительное дело! – заговорила матушка. – И кому нужно было такого человека, а вдруг… Господи, выговорить даже страшно! Что ж, денег у него искали?
В это время батюшка, уже совсем готовый, вышел в прихожую. Выражение его благообразного лица было серьезное и сосредоточенное, как всегда, когда он имел на себе Святые Дары; он как будто и прямее держался весь в сознании своего высокого призвания.
– Едем, едем, Алексей! – торопливо произнес он, направляясь к двери.
Алексей быстро поднялся и пошел за батюшкой. Перед крыльцом уже нетерпеливо, ударяя копытами по жидкой, размокшей глине, стояла пара здоровых лошадей, запряженных в черную «городскую» тележку, сплошь забрызганную грязью.
– Вы, батюшка, садитесь, – кричал в темноте Алексей, – а я отведу лошадей маленько от крыльца, а то оборотить-то здесь тесно.
– Да ты, Алеша, под гору-то осторожнее! На мост-то! – кричала матушка.
– Не беспокойтесь! – уже едва расслышала она, и тележка, хлопая по грязи, откатила от крыльца. Матушка в темноту, издали, перекрестила мужа в след, потом перекрестилась сама и, дрожа всем телом, вернулась в комнату, вздыхая и покачивая головой.
Батюшка уже подъезжал к станции, миновав которую надо было объехать полем с четверть версты, чтобы подъехать к будке, в которой жил уже лет десять старик, линейный сторож Степаныч. Они ехали против ветра. Батюшка одной рукой придерживал на голове старую меховую шапку, а другой крепко прижимал к себе ватную рясу на том месте, где ощупывал у себя на груди маленький ковчежец. Порывистый ветер рвал шапку с головы и попонку, которой были закутаны ноги батюшки, и его рясу. Дыхание захватывало, в лицо секло дождем и снегом, и вода текла с носа и бороды. Но старый батюшка едва замечал все это. В его душе поднялась буря мучительнее той, которая со всей силой бушевала им навстречу, как будто нарочно мешая лошадям бежать. Батюшка давно уже близко знал и горячо любил дедку Степаныча, считал его ярко горящей свечой благочестия в своем приходе. И вдруг… «За что же, Господи, – с чувством глубокой скорби и недоумения думал батюшка. – Зачем, Боже мой, даешь произволу человеческому такую ужасную силу над избранными Твоими?»
– Уж и погодка же, Господи! – прервал его мысли Алексей. – Даже кони, и те пристают, замучались, из сил выбились! А хорошие кони! Начальник станции велел у Якова нарочно взять, а он сам нездоров, другие ямщики в разгоне.
– Только бы еще нам его в живых застать! – проговорил батюшка.
– Авось, Господь милостив! Эй, вы, соколики! Вот сейчас за дрова заедем, потише будет, – продолжал Алексей, – теперь уж недалеко.
Через четверть часа, наконец, тележка подъехала к будке. Несмотря на погоду и на вечернее время, кругом будки, в дверях ее и в крошечных сенцах толпился народ, почти безмолвно, изредка только перекидываясь шепотом короткими замечаниями. Перед батюшкой сняли шапки и расступились.
– Что, жив? – с тревогой спросил он, вылезая из тележки и не обращаясь ни к кому особенно.
– Жив, жив еще, – ответили все. – Еле дышит, а в памяти! Вас все просит! – отозвались отдельные голоса. – Там дорожный мастер, а начальник сейчас ушел. Станового пристава ждут.
Батюшка наскоро скинул шапку, мокрую ряску, которую тут же подхватило несколько рук, вынул большой ситцевый платок из кармана, вытер мокрое лицо и бороду, провел рукой по седым волосам и взошел в комнату В ожидании составления протокола начальник станции распорядился, чтобы ничего не трогали в будке. Батюшка содрогнулся при виде темневшей на полу огромной лужи крови и кровавого следа до самого угла, где на деревянной скамейке, на каких-то тряпках, тоже залитых кровью, лежал навзничь, весь вытянувшись, накрытый старой солдатской шинелью Степаныч. Лица его не было видно, только нос, весь запачканный кровью, вырисовывался среди тряпок, густо черневших от крови, которыми была обмотана голова. Он громко стонал. При появлении батюшки ему навстречу поднялся дорожный мастер, сидевший в углу на лавке, и еще двое служащих на станции. Батюшка не мог удержать рыданий, давно уже душивших его. Он подошел к старику и наклонился над ним.
– Здравствуй, Степаныч! – с трудом, пересилив себя, выговорил он. – Узнаешь меня?
– Батюшка! – едва слышно пробормотал старик и слабо зашевелил рукой.
Батюшка еще ниже наклонился над ним.
– Глоток бы воды, – произнес дедка.
Ему подали ковшик с водой, стоявший тут же на окошке. Батюшка зачерпнул чашечкой воды и поднес ее к спекшимся губам Степаныча.
– Исповедаться… скорее, – проговорил он яснее, выпив глоток воды.
Батюшка велел всем выйти в сени, сам затворил дверь, подошел к лавке, наскоро надел епитрахиль и, взяв в руки маленький крест, произнес слова молитвы перед исповедью.
– Ты в коротких словах, Архип Степаныч, говори! – сказал батюшка с оттенком нежности в голосе. – Ведь жизнь я твою знаю. Только вот об этом… как случилось? Кто тебя?
– Нет, батюшка, не то… Господи! Кабы сил, все сказать надо… воды глоточек. Кто убил… не скажу, – проговорил Степаныч, выпив из чашечки, – денег думал сыскать, денег просил… Бог с ним… два двугривенных я отдал… прости ему, Создатель! Царь Небесный! Не взыщи… греха… за меня, окаянного… – старик всхлипнул. – Не то, батюшка, тут Божья рука… правда Божья… вот что… Батюшка, вы бы мне хоть малость платочком… водицей уста бы протерли… кровь запеклась около носа.
Дрожащими руками, едва владея собой, взял батюшка свой платок и, обмакнув его в ковшик, промыл, как мог, всю залитую кровью часть лица дедки, которая не была замотана тряпками; свежая, горячая кровь все сочилась из-под тряпок. У батюшки колени дрожали и подгибались, в глазах темнело. Он боялся, что вот сейчас с ним сделается дурно. Несколько освежившись, старик заговорил бодрее, видимо, собирая последние силы с трудом и стараясь говорить кратко.
– Божие правосудие… – начал он. – Я сам – убийца, окаянный убийца, – громко повторил он, – тому лет двадцать был я горьким пьяницей, жили с братом, со старухой матерью… Господи! Сил нет… Пришел я раз… однажды, пьяный; мать стала ругать меня, я осерчал… брат за нее заступился… Господи… Я на него… это спьяну-то… нож сапожный валялся… он сапожник был; я тем ножом его… он и не пикнул… – старик замолчал, он дышал коротко и часто, вся грудь его подымалась. Батюшка выпрямился и отпил сам из ковша глоток воды; вся комната, ему казалось, ходила ходуном у него в глазах, он сел на стоявший рядом стул.
– Водицы! – прошептал Степаныч.
Батюшка поднялся с трудом, расплескал дрожащими руками воду, поднося ковш к губам умирающего; слезы горячим потоком бежали у него по щекам на бороду, но он не замечал их.
– Посадили в острог, – заговорил Степаныч еще тише, и батюшка опять наклонился низко над ним, чтобы не потерять ни слова, – я сознался во всем… как не сознаться! Долго дело тянули… и чего тянули!.. Мать померла, не видал ее больше… Стали судить… присяжные оправдали. Пьян, говорят, был я!
Степаныч застонал. Батюшка подумал, не сказать ли ему, чтобы он более не говорил, но не решился. Ему ясно было, что бедная душа преступника жаждала высказать все, что тяготело на ней столько лет.
– Как оправдали, – заговорил опять старик, – выпустили на свободу, я чуть было руки на себя не наложил… Тоска меня взяла… моченьки нет!..
Думал, сошлют на каторгу… отмучился бы на свете за великий грех… Как же мне жить теперь… убийце?.. Ушел сюда… поступил на линию, – он немножко помолчал, – все Бога молил… со слезами… что б наказал Он меня, Царь Небесный… коли люди не наказали… Сам Бог наказал… не лишил Царства Небесного!..
Степаныч перестал говорить. Батюшка выпрямился и молча смотрел на этого лежащего перед ним, облитого кровью человека, и чувство глубокого сознания своей собственной немощи, человеческой слабости перед путями Божиими захватывало его душу. Никогда еще, как теперь, не сознавал он так глубоко вместе и свою немощь как человека, и величие той силы, которая была ему дана как священнику, вязать и решить грехи на земле, чтобы были «связаны или разрешены» для вечности в Царствии Божием.
– Отчего же ты, Архип Степаныч, мне на духу прежде не каялся? – спросил он, наклоняясь над умирающим. – Что если бы Господь не дал тебе времени покаяться перед смертью?
Старик не ответил, но сделал едва заметное движение и опять застонал. Священник повторил свой вопрос мягким, как бы ласкающим голосом.
– Не мог… – простонал Степаныч. – Решиться не мог… сколько плакал… все хотел… простите меня, окаянного!.. Грешен…
Батюшка заметил, что силы у старика быстро убывали, он поднял епитрахиль, накрыл ею умирающего и громким голосом прочел слова разрешительной молитвы, потом, наскоро приготовив, что было нужно, причастил Степаныча. Когда после причастия батюшка наклонился к нему, осеняя его широким крестом, и, сам рыдая, поздравил его, старик слабым голосом проговорил:
– Скажите всем… кто я таков был… пускай знают… Господь наказал меня… Слава Тебе, Господи!
Он замолк и стал слабо стонать.
В это время в сенях послышался шум, и дверь тихонько отворилась. Батюшка оглянулся.
– Можно, можно, – сказал он.
Явились власти земные для составления протокола, явилось человеческое дело со своими человеческими законами. Следователь наклонился над умирающим, чтобы допросить его, но Степаныч не отвечал, а только стонал все тише, тише. Следователь повторил свой вопрос, но когда он ближе наклонился к нему, то увидал, что Степаныч уже перестал дышать…
Молча ехал батюшка домой на той же тележке. Дождь перестал, и ветер стих, мороз заметно крепчал. По небу все реже, но быстро мчались, будто разорванные, клочья черных туч, а между ними все больше проглядывало ярких, блестящих звезд. Батюшка поднял глаза и смотрел на них.
– Господи, – шептал он про себя, – прости меня, слабого, маловерного, и помилуй! Правда твоя, Господи, правда вовек! И слово Твое – истина!..
Рассказ паломника-семинариста
В 1894 году я был в пятом классе духовной семинарии. У нас только что окончились классные занятия и начались экзамены. В то время подготовки по некоторым предметам были очень продолжительны, и мы иногда ими злоупотребляли.
Помню, я много пробыл на дожде и очень сильно простудился. Первое время я еще крепился, ходил и мог кое-как готовиться к экзаменам, после второго экзамена, разгоряченный, я выпил насколько кружек холодного квасу, еще больше простудился и слег, хотя и не вплотную, как говорится, а все-таки слег. Я заболел сильнейшей лихорадкой. Это было в середине мая.
Болезнь была для меня большим горем. Я очень боялся отстать от своих товарищей, боялся, как бы болезнь не заставила меня отложить экзамены, и старался не падать духом. Кое-как, по мере сил моих и здоровья, я начал готовиться, лежа в спальне на койке. Ходил я очень мало, больше все лежал, – ходил же только в семинарскую больницу к врачу, да разве в столовую выпить стакан чаю, обедать у меня никакого аппетита не было. Врач усердно кормил меня хиной и поил какими-то каплями, но мне ничто не помогало, и болезнь не только не прекращалась, а временами даже усиливалась. Тем не менее, хоть лежа на боку, а я все-таки успевал приготовиться к экзаменам, по крайней мере так, чтобы можно было удовлетворительно ответить.
Я еще с первых дней моей болезни постоянно подумывал о том, что мне необходимо после благополучного окончания экзаменов сходить в Саров и побывать у отца Серафима на его могиле. Когда же болезнь моя оказалась настолько упорной, что в избавлении от нее можно было только рассчитывать на милость Божию, я дал себе обещание непременно побывать у отца Серафима и попросить у него себе благодатной помощи. У меня был в то время маленький фотографический снимок отца Серафима. Он был приобретен мной, когда я ходил в Саров, будучи в первом классе семинарии. Часто я доставал из бокового кармана этот снимок Саровского старца, подолгу смотрел на него, и у меня становилось отрадно и успокоительно на душе; я ободрялся и мысленно просил старца помочь мне, и все более и более воодушевлялся желанием побывать у отца Серафима на могилке и в келейке.
Вскоре после окончания экзаменов я уехал на родину, в мой Темников. Здесь, в покое и неге родительского крова, я думал поправить свое здоровье. В чаще соснового бора со здоровым, чистым и приятном запахом сосны я мечтал освежить и обновить свои силы.
Когда я приехал домой, мой отец, бедный псаломщик города Темникова, сильно был встревожен и моим внешним видом, и моим нездоровьем, так что говорил даже, что для него было бы приятнее видеть меня здоровым и оставшимся на повторный курс, чем больным, но перешедшим в шестой класс. Он боялся, что болезнь сведет меня в могилу.
Дома со мной были те же сильнейшие лихорадочные приступы. Долгое время я принимал хинин, но все без пользы. В течение всего июля приступы повторялись изо дня в день; обыкновенно они были у меня после полудня и на закате солнца. Но все-таки к концу июля болезнь моя несколько уменьшилась, стала не такой мучительной, как прежде; я мог свободно ходить, и приступы не были так сильны и продолжительны, как прежде. И я уже подумывал осуществить свое намерение – побывать у батюшки Серафима.
В Темников приехал гостить к своей замужней сестре мой товарищ, с которым еще во время экзаменов мы уговорились идти в Саров. Мы сразу начали обдумывать наше путешествие, а утром в 6 часов 1 августа мы вышли с товарищем в Саров. Я шел несколько неуверенно, боясь ослабеть. У нас было по небольшой сумочке, мы были в обычной летней одежде. Незаметно, за разговорами, мы прошли проселочную дорогу с 8 верст и с большим удовольствием вступили в девственную чащу соснового леса.
Было уже жарко и томительно в воздухе. Дорога местами была сыпучий песок. Вскоре нас, и в особенности меня, начала мучить жажда. Мы повстречали один лесной источник, в котором вода кишела множеством насекомых. Как ни опасно было для моего здоровья пить сырую воду, жажда все-таки взяла свое: я и товарищ мой много выпили этой плохой воды. Четыре месяца я не пил сырой воды, а тут не выдержал, напился, хотя и боялся, что она повредит мне.
Когда мы присмотрелись к красотам могучего леса, наговорились обо всем, что нас занимало дорогой, мы начали петь церковные песнопения и пели их почти вплоть до самого Сарова. Так, в начале третьего часа мы, усталые сравнительно, пришли к избе лесного объездчика, заказали себе самовар, умылись, полежали несколько времени около одного соснового дерева, продержав ноги на пне в несколько приподнятом состоянии, чтобы они скорее могли отдохнуть, и потом начали пить чай и закусывать.
Я с удивлением заметил: впервые в течение почти трех месяцев послеполуденного приступа со мной не было, и я не чувствовал никакой лихорадочности. В течение долгого времени три часа пополудни были для меня очень мучительным состоянием. Теперь я впервые этого не чувствовал, и это было для меня очень необычно. Я думал, что лихорадка начнется позже. Мы вышли из избы с обычным нашим церковным пением, прошли верст шесть и вступили на лесную просеку, от которой оставалось уже идти менее пяти верст до Сарова. Мы были все так же бодры и веселы, я понял, что тут было что – то необычное, и в мою душу закралась робкая надежда на благодатную помощь великого молитвенника отца Серафима.
Прибыв в монастырь и оправившись от дорожной усталости, мы пошли, прежде всего, на могилку отца Серафима.
На могилке отца Серафима было тихо и никого не было из паломников. Чувствовался какой-то святой покой, и хорошо было помолиться на могилке старца, рассказать ему все, что так мучает в жизни; какое-то святое и трогательное чувство наполняло сердце и охватывало его радостью, что Господь привел исполнить обещание «побывать у отца Серафима». Теперь на могилке его, как у живого, я мог попросить благодатной помощи от своей болезни, и вот потому-то долго-долго угнетенному сердцу не хотелось покидать могилку, а хотелось просить, просить и просить. Стало уже сильно вечереть, солнце уже давно закатилось, и в воздухе чувствовалась прохлада, когда мы с товарищем от могилки отца Серафима пошли пройтись немного по монастырю.
Службы церковные в то время уже окончились. Мы обошли кругом саровские храмы, осмотрели некоторые памятники, были на водокачке и верными воротами вышли из монастыря, полюбовались некоторое время видом храма во имя Богородицы «Живоносный Источник» и низом, мимо высокой монастырской ограды, возвратились в гостиницу.
Тут только я вспомнил, что со мной не было и второго лихорадочного пароксизма, который прежде также изо дня в день на закате солнца повторялся со мной в течение почти трех месяцев. Это был теперь первый день, когда вовсе лихорадки со мной не было, говорю – первый день, и такой знаменательный… я был у отца Серафима…
После ужина нужно было ложиться спать. Перед тем я молился – и не столько молился, сколько стоял в каком-то благоговейном оцепенении, не зная, как благодарить мне Бога за такого благодатного помощника, как отец Серафим.
И помню, тогда мне хотелось молиться отцу Серафиму, но молиться за упокоение души его я как-то не смел, слишком уже великим и святым представлялся он мне, слишком уж он был жив для того, чтобы я, смертный грешник, мог молиться о душе его.
Меня охватило глубокое волнение, когда я уже лег в постель. Ведь прежде я не мог пройти и пяти верст, а тут прошел сорок, пил сырую и мутную воду, и в то же время чувствовал себя здоровым и никакой лихорадки у меня не было в этот день. Очевидно, совершилось чудо благодатной помощи отца Серафима.
С того времени прошло восемь с половиной лет, и теперь, когда вспомнишь об этой болезни, становится жутко. Если бы не благодатная помощь отца Серафима, то, наверное, меня давно бы не было на свете. Велик и свят старец Серафим! Кто знает его и слышал о нем рассказы, тот никогда в жизни не забудет его.
Страшный сон
В своем селе Артем был важный человек. Он держал постоялый двор и лавочку, и редкий из односельчан мог обойтись без него. Праздник ли у кого в семье, свадьба или крестины – идут к Артему за водкой. Припасы ли какие съестные понадобятся или так, что другое для хозяйства – топор, лыко, деготь, посуда – идут к Артему; не ехать же нарочно для этого в город. А больше всего шли к Артему за деньгами. Кому случилось, подойдет трудное время – платеж податей, болезнь или хлеба недостача, – сейчас к Артему, потому что не только торговый человек, но на селе первый богач.
К сожалению, Артем был скупой и безжалостный человек. С каждым годом он становился все хуже и хуже. Сердце его совсем, кажется, очерствело: оно не знало ни жалости, ни милости; нищий никогда не получил куска хлеба из руки Артема. Всякий в селе знал, что Артем поможет в случае нужды, но за свою помощь бедному односельчанину уведет с его двора лошадь, корову, заберет хлеб и совсем разорит его. Только горькая, безысходная нужда заставляла обращаться к Артему.
Не помышлял Артем о небесном и о спасении души своей и, всем сердцем пристрастившись к нажитому богатству, только об одном и думал – как бы его умножить. Так бы он и умер, не воротившись на путь доброй жизни. Человек он был темный, неграмотный – слова умного, честного, что душу и разум просвещает, на путь добра и истины наставляет, он не слушал и не читал по безграмотности своей. В церковь святую он редко ходил, да и здесь немногому поучался, так как имел обычай стоять в храме Божием, не вникая в то, что читал священник и что пели на клиросе. Смотрел он на иконы, а ликов святых перед собой не видел: мысль его и тут занята была прикидыванием и высчитыванием барышей. Но вот милосердный Бог, всегда снисходящий к Своим заблудшим созданиям, посетил и грешную душу Артема и направил его на путь спасения.
Случилось раз Артему заболеть. Лежит он, как прикованный к своей постели, и не в силах помочь ему все собранные им великие богатства. В страшной тоске, одинокий на своем печальном ложе, попросил он однажды сына своего, десятилетнего Ванюшу, учившегося в приходской школе, почитать ему что – нибудь из своих книжек. Ванюша раскрыл Евангелие, подаренное ему учителем за отличные успехи в науке, и стал читать. И дошел он, читая, до притчи о богатом и Лазаре. Вслушивается Артем в святые слова евангельской притчи, и как молнией поражают они его. Затрепетал он весь, и наполнилось сердце его ужасом невообразимым. Слушает Артем евангельскую притчу, и кажется ему, что богач тот, о котором читает ему сын, это он сам, Артем, вкусно евший, спокойно спавший и во всю свою жизнь не сделавший никому добра. И представляется ему на месте убогого Лазаря та нищая братия, которую он ни разу грошом не одарил, а имел обычай гнать со двора с жестокостью, и те горемыки, которых он пустил по миру, забрав у них за долги свои неправедные последнее достояние… Теперь лежит он больной… может быть, пришел его смертный час и скоро настанет время явиться на суд Божий, и там, на небе, ему так же скажут, как сказали тому богачу: «Ты получил уже доброе твое в жизни твоей». И будет он мучиться в аду с грешниками мукой вечной, а те люди, горемыки, несчастные, обиженные им, будут призрены Божиим милосердием и получат место на небе с праведниками. Пожил он здесь, на земле, в роскоши, довольстве и почете несколько десятков лет, а там, в той жизни, придется терпеть муку вечную, от которой не будет избавления.
«Господи! Господи!.. – думает Артем. – На что ж тогда собирал я все мои богатства?.. Какую пользу принесут они мне?.. Зачем делал столько зла людям?.. Не кому же, себе зло готовил, муку адскую на вечное время. И как не подумал я об этом прежде? Как не пришло мне это в голову раньше? Теперь, быть может, уже поздно… поздно…»
Крестится Артем в ужасе слабой, больной рукой, едва заметно шевелятся его губы, призывая имя Божие в помощь, моля Господа о помиловании. Продолжает Ванюша читать святое Евангелие, а Артем уж и не слышит ничего, весь занятый одной страшной мыслью о муках адских, лютых, нескончаемых; стал он метаться по постели. И жар у него, и озноб вместе. Губы пересохли, глаза горят.
– Будет читать, Ванюша, – говорит Артем. – Донял ты меня до живого. Дай воды напиться.
Закрыл Ванюша святую книгу и подал отцу кружку с водой. Пьет Артем с жадностью из той кружки, жажду свою утоляет, а у самого в мыслях все тот же евангельский богач, что просил убогого Лазаря хоть конец перста своего смочить в воде и прохладить язык его, но и того не могший получить, так как между ним и праведниками была пропасть глубокая, непроходимая…
– Ты, Ванюша, смотри, когда вырастешь, – говорит сыну Артем, – люби бедняков, нищих дари, никого не обижай… Слышишь ли?.. Вот тебе мой завет. А мне уж поздно… поздно я одумался… Не простит мне Бог… Не замолить мне грехов моих…
Сказал и стал со стоном метаться по постели. Ванюша испугался и бросился из избы искать своих домашних на помощь отцу.
Артем же, обессиленный муками душевными и телесными, сомкнул, наконец, свои усталые веки и уснул. Но и во сне его совесть не успокоилась. Увидел он страшный, многознаменательный сон, который был продолжением тех мук душевных, что он испытал наяву. Зрелище неописанное представилось его глазам. Видит он в мрачной пропасти, за железными решетками, в исступлении людей ужасного, дикого вида. Они выли, стонали и в страшных муках голода грызли зубами железные прутья своих клеток, глодали собственные пальцы, впивались зубами в свои обнаженные руки и жадно сосали сочившуюся из них кровь… И воздух наполнялся раздирающими душу воплями… Тут между мучившимися грешниками Артем вдруг примечает своего односельчанина, умершего в прошлом году, всем известного скрягу. Он жадно сосал большую обглоданную кость и грыз ее с ожесточением, кровавя рот острыми углами.
– И ты тут, Потап? – вырвалось невольно у Артема.
Потап на миг выпустил изо рта свою кость и уставился на Артема исступленным, горящим взглядом – и тот взгляд был не человеческим, то был взгляд волка хищного, одичавшего в лютости своей.
– Что это за люди мучаются с тобой? – спросил Артем.
– А это те люди, – отвечал Артему Потап, – которые сами когда-то были безжалостны. Это те скареды, что во всю жизнь не подали нищему гроша, не накормили, не напоили голодающего… Сам я когда-то был немилостив к беднякам, гнал от своего порога всякого нищего, затравливал собаками… Раз только в насмешку слепцу одному кинул я вот эту кость…
Сказав это, Потап снова накинулся на кость, которую он не выпускал из судорожно сжатых кулаков.
Ужас проник Артема, когда он глядел на страждущего скрягу, потому что он чувствовал, что и сам не заслуживает лучшей участи, чем та, что досталась Потапу. Он так же был немилостив к бедным и нищим и жил всегда для одного только себя…
От страха дыбом поднялись у него волосы на голове, затрепетал он, заметался и громко вскрикнул в отчаянии: «Господи, Господи, помилуй меня, грешного!.. Не попусти душу мою на погибель лютую!..» Вскрикнул Артем – и проснулся. Глядит на близких своих, окруживших изголовье его постели, и не признает их. Его помутившийся взор все еще продолжает видеть несчастных грешников и их страшные, адские муки, представившиеся ему во сне. Наконец, он пришел в себя и, перекрестившись, проговорил:
– Слава Богу, что это был только сон, что будет еще время спасти мне свою душу…
И стал Артем рассказывать окружавшим его про тот виданный им сон, показавший ему всю бездну ужасающих адских мук. Пришли соседи и знакомые послушать чудных и страшных речей Артема. Он всем рассказывал, каялся в своих грехах, просил простить их ему и отпустить, наперед призывал всех к покаянию и убеждал быть милостивыми. Священника позвал, исповедался, приобщился Святых Таин и отдал на церковь часть своего богатства. Затем стал вспоминать, кого он когда обидел, и, чем мог, старался вознаградить обиженных им и обездоленных; о должниках своих и барышах больше и думать не хотел. Об одном только была теперь у него забота – о покаянии и спасении души своей, о приобретении сокровищ на небе. Он молил Бога о том, чтобы отстранил Он, милосердный, хотя на время его час смертный. И Господь Бог услышал молитву кающегося грешника. Артем встал от одра болезни, встал уже не прежним гордым, властным, злым корыстолюбцем, а совсем новым человеком, перерожденным, с просветленной душой. Ушел он из своего села на время, чтобы походить по святым местам и монастырям, поклониться мощам святых великих угодников Божиих и помолиться о спасении души своей. А как воротился домой, стал жить уже совсем не по-прежнему.
Опять стали прибегать к Артему его односельчане за помощью в трудные минуты жизни. И опять, как и раньше, он никому не отказывал ни в чем. Но уже не за тем, чтобы отнять у них последнее, но, чтобы оказывать бескорыстную помощь нуждающимся и облегчить страдания и несчастья ближних. Он не требовал от них никакого вознаграждения и избегал всякой благодарности от тех, кого он облагодетельствовал.
Бог ему судья
Обед близился к концу; на стол не раз уже была подана увесистая баклага с ароматной густой брагой и игристым медком; громадный серебряный ковш, богато расписанный диковинными узорами, переходил из рук в руки трех трапезников, но беседа, обычная затрапезная беседа, которую так любили московские старинные бояре, все не налаживалась. В большой, расписанной по стенам ликами святых угодников трапезной палате бояр братьев Юрьевых царила та же угрюмая тишина, которая так поразила в начале обеда младшего из братьев, Алексея.
– И впрямь, точно покойника поминаем, – заметил Алексей Юрьев, черпнув из баклаги полный ковш и передавая его старшему брату Михаилу.
Михаил медленно и с расстановкой опорожнил громадный ковш, не спеша отер губы, повесил ковш на край баклаги, но ничего не ответил.
В трапезной снова воцарилась тишина, и трапезники по-прежнему, не глядя друг на друга, казалось, были заняты каждый своей думой.
Изредка тишина нарушалась легким постукиванием наружной «ставни» да жалобным завыванием вьюги в трубе громадной изразцовой печи.
– Видишь ты, как поет, точно молит, – заметил вдруг средний из братьев Юрьевых – Кирик, сидевший на другой стороне стола и до сих пор не проронивший ни слова, – вишь ты, точь-в-точь этот басурман Евсейкау нас, в бане…
С именем Евсейки-басурмана лица трапезников заметно оживились. На губах Михаила появилась злобная усмешка. Он снова черпнул полный ковш из баклаги и осушил его почти залпом.
– А и впрямь так, – живо перебил Алексей, – не бу-у-у-ду, говорит, ей, братцы, не бу-у-у-у-ду, – стал вторить Алексей раздавшемуся в трубе вою ветра.
– Так ему, Богом проклятому басурману-изменнику, и надо; туда ему и дорога, собаке-опричнику, – сквозь зубы процедил Михаил, снова зачерпнув себе из баклаги.
– Оно, конечно, злой извет подал на нас Евсейка, но все же он брат нам, хотя и не родной, а брат, – тихо проронил Алексей, как бы делясь мыслью с самим собой.
– Ну и брат; хорош же брат; обнес нас перед Грозным, того и гляди «слово и дело» над собой услышим, как крамольнику, тебе голову снесут, а туда же, к нам, Юрьевым, в родные братья лезет; я, говорит, хотя и не из Юрьевых, а все же и меня царь любит, почитай, больше, чем вас когда-то. В опочивальне царя, говорит, бываю и разные там мысли его тайные знаю. Слыхал, говорит, от царя, что он гневен на вас, крамольниками обзывает, да только ничего, говорит, не бойтесь, я крепко за вас стою.
– Да, за нас он и стоит, собака; на казну нашу родительскую, да на поемные вяземские луга позарился, ирод-опричник, – перебил среднего брата Михаил, быстро встав из-за стола и зашагав из угла в угол по горнице.
Грузные шаги старшего Юрьева на минуту заглушили грустные завывания вьюги, но, очевидно, не успокоили трапезников: каждый из них по-прежнему казался занятым какой-то особенной тяжелой мыслью.
А призадуматься было над чем… Издавна род бояр Юрьевых пользовался особенным почетом на Москве. Выше старика никто не смел садиться за царским столом, никто не смел не уступить ему дорогу; завидя издали тройку караковых юрьевских жеребцов, всякий москвич – знатный и простолюдин – низко склонял голову при встрече с гордым и властным стариком. Любил старик Юрьев почет и уважение, но любила его и Москва: никто из близких к царю бояр-советников не был так безкорыстен и строго справедлив, как старый боярин Мина Юрьев; нигде так часто и так сытно не кормили московскую голытьбу, как на широком замоскворецком дворе Мины Юрьева. Известны были Москве своей удалью молодецкой и сыновья Мины: никто не посадил на рогатину столько медведей, сколько посадил их старший Михаил; не сыскать было во всей Москве такого смельчака, кто бы решился стать против Кирика Юрьева в кулачном бою; все дети боярские с завистью смотрели на Алексея, лихо мчавшегося с кречетом в руке на «охотное» поле.
Но вдруг закатилась звезда Юрьевых: вступил на престол царь Иван Васильевич Грозный, и началось новое боярское правление. Реже и реже стал заглядывать в боярскую думу Мина Юрьев. «Не по нутру, – говорил старик среди близких бояр и родных, – мне эти подкопы разных голодных и мелких бояр; не к лицу им поднимать предо мной голову». Наконец, пронеслась по Москве весть об упразднении боярской думы и о новом правлении юного самодержца. Воспрянул было старик, но ненадолго: налетевшая на мирную Москву жадной саранчой опричнина скоро свела в могилу старика, – не снес он издевательства, которое позволил себе хмельной царь над стариком по наущению Евсейки-опричника.
– Меня, боярина Юрьева, в скоморохи нарядить?.. – были последние слова старика, возвратившегося с царской пирушки, в залитом вином кафтане и с бородой, обмазанной медом и усыпанной перьями. В тот же вечер старик скончался.
Жестоко поплатился на другой день Евсейка-опричник. Только трапезники-братья, да тесовые стены заброшенной в саду бани знали, сколько невыразимых мучений пережил в последние минуты посягнувший на седины Юрьева молодой опричник… Но этим дело не кончилось: главный виновник должен был изведать предстоявшую ему месть, и не позднее сегодняшнего вечера…
– Ну, так как же будет? – решился, наконец, приступить к делу Кирик.
– Как? Да известно, как… Вчера надумано было ладно: ты с Алексеем станешь на углу, а я насупротив вас прилягу в сугроб, и, как поворотит он от нас, так и пускай ему прямо в спину. Стрелы заготовлены у нас острые, да и зельицем налажены непростым. Ахметка-басурман сказывал, что никто не заговорит его от этого зельица.
– Ой, братцы, ладное ли мы затеяли? Не Евсейку, почитай, порешим мы; он, ведь ой-ой куды больше. Загубим мы, почитай, не его одного, а и Москву, и всю землю Русскую. Нет, братцы, не быть этому! А коли вы стоите на своем, то я первый стану против вас! – вдруг сорвался со своего места Алексей. Глаза его пылали решимостью, в голосе послышалась непоколебимая стойкость.
– Не бывать этому, не бывать! Жаль отца, а родины – еще больше. Бог ему судья! Знайте, коли вы… – Но Алексей не закончил: раздался сильный стук в окно, и скоро на пороге показались три усыпанные снегом фигуры.
– Батюшка, Васильюшка, милости просим, гость дорогой, нечаянный, – в один голос воскликнули братья-трапезники, бросаясь к гостю, одетому в рубище, босому и с тяжкими веригами через плечо.
– А я к вам с братьями, – промолвил гость, которого назвали Васильюшкой, – добрые люди, хорошие люди… Это – братья мои, Христовы дети, хлебушка им, хлебушка, – продолжал Васильюшка, обняв за плечи и целуя Алексея. – А им бы, Михайлушке и Кирику, мясца; но не вареного, а живого мясца, с горем и слезами… А братьям моим – хлебушка, хлебушка, – гость, подводил своих спутников-нищих к столу и наполнял их котомки остатками недавней трапезы.
Прямым и светлым взором окинули братья друг друга и усердно стали потчевать своих нежданных гостей. Две стряпухи-девицы веселее заходили с яствами и питьем у боярского стола.
– Голубь мира, голубь мира, – весело говорил блаженненький, любовно устремляя свой взор на обрадовавшихся вдруг чему-то бояр Юрьевых… Нет крови, не будет и слез… А, это и вы, голубицы мира, – промолвил Васильюшка, оборачиваясь к вошедшим в горницу женам братьев Юрьевых, чтобы послушать блаженненького, – радуйтесь, боярыни милые, крови нет и слез не будет… Вот они хотели разбить это яичко, а я не дал им.
Возьми его, боярыня добрая, сохрани, а боярину твоему Михайлушке не давай его, – и блаженненький взял со стола яйцо и передал его ближайшей боярыне. – Смотри, Михайлушка, при всех говорю: ты его не тронь… Бог ему судья…
– Прости, блаженный ты наш! Не трону, вот и брат Кирик тебе в том порука… – И старший боярин Юрьев пал пред блаженным на колени.
– Спасибо и тебе за хлеб, за соль и за доброе слово. – И Васильюшка вдруг громко запел: «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных твоих благ, не лиши нас и Небесного Твоего Царствия».
Слезы умиления выступили на глазах бояр Юрьевых, когда нежданные гости встали из-за стола и начали прощаться.
«Да, не мы, а Бог ему судья», – думали братья, провожая со слезами на глазах дивного Васильюшку, пока он совсем не скрылся из виду.
Странник
Пасхальный рассказ
Вечерело. Из тайги показался рослый человек и быстрыми шагами направился к лежащему невдалеке от опушки «большому тракту». Выйдя на дорогу, он на минуту остановился и стал осматриваться по сторонам, видимо, недоумевая, куда ему идти дальше. Но это недоумение было непродолжительно: вдали послышалось позвякиванье колокольчика, и путник быстро скрылся.
– Должно быть, почта, – выразил он свою догадку, отойдя несколько шагов от дороги и прячась за толстый ствол пышной сибирской ели, – эх, кабы с товарищем… знатно бы… деньжищ, должно быть, уйма…
Но путник ошибся: в быстро мелькнувших санях он хорошо различил закутанную в меха женскую фигуру.
– Эх ты, пуганая ворона, и бабы-то испугался, – недовольным тоном произнес он, снова выходя на дорогу и поворачивая в ту сторону, куда скрылась лихая сибирская тройка. – Почитай, край этот понаселенней будет, иначе не поехала бы тут «баба» с одним ямщиком… Держи, значит, тут ухо востро… За поворотом дороги тайга действительно стала редеть, а вскоре на пригорке показалось и большое, видимо, зажиточное селение. При виде села путник снова свернул с дороги, скинул с плеч котомку и стал в ней рыться.
«Странником-то поспособней явиться, не то скоро выдаст тебя эта сермяга с кровавыми узорами; ну-ка, дорогой подарок Никитушки, сослужи мне службу, век тебя помнить буду, – подумал путник и стал напяливать на свои широкие плечи темный кафтан, видно, сшитый для другого плеча. – Вишь ты, какие здесь узоры образовались, сразу приметен станешь, – добавил он при виде широких бурых пятен, покрывавших грудь и левый рукав сермяги, – должно быть, Никитушкина память. – Добрый ты был человек, Никитушка: и хлебцем-то ты меня попотчевал, и о граде Иерусалиме рассказал, и на путь правый меня наставил, и по святым местам меня сводил, и грехи мои тяжкие замолил, и деньжонками не обидел, – все ты сделал для меня, праведный человек, только «дружка» моего не вынес; приложил это я его, сердешного, к твоему горлышку, так ты уже и того… «За что? – говоришь. – Бога-то, дескать, ты не боишься». Губы путника скривила злая усмешка.
– Вот уж и готов, – произнес он, вскидывая на плечи связанную котомку.
Уже стемнело, когда бродяга вошел в богатое село Р-ское. Во всех избах светились огоньки. Был канун Пасхи. Странник подошел к первой избе и осторожно заглянул в освещенное окно. В избе царила необыкновенная чистота и опрятность. Темно-желтые сосновые стены были чисто вымыты и казались как бы лакированными. На стене сверкала белизной чистая скатерть. У божницы теплилась лампада и мягким светом озаряла седую бороду сидевшего лицом к окну старика. Подле старика чинно сидело несколько ребятишек в белых чистых рубахах и с гладко причесанными волосами. Празднично одетая молодая женщина хлопотала у печи, поминутно выходя в сени с горшками и сковородами в руках. У шкафа, подле печи, старуха завязала в узелок какие-то предметы и затем передала стоявшему подле нее молодому парню, который бережно положил его на стол.
«Никак, Пасха сегодня», – подумал переодетый беглец, наблюдая за происходившим в избе, и быстро отскочил от освещенного окна, так как на противоположной стороне скрипнула калитка и оттуда показалась какая-то фигура с фонарем в руках. «Должно быть, в церковь идут, – догадался он, – не пойти ли и мне?» – И, что-то сообразив, двинулся следом.
В церкви была полутьма. Страннику почему-то это понравилось, и, став в углу, он внимательно стал осматриваться кругом. Его взор быстро скользил от кружки к кружке, от образа к образу и к тонувшему во тьме алтарю. «Кажется, не особенно высоко, но только есть ли решетки? Вверху нет», – заметил он, и ему стало почему-то свободнее…
«Сотворил же есть от единыя крове весь язык человечь, жити по всему лицу земному, уставив предучиненая времена и пределы селения их, взыскати Господа, да поне осяжут его и обрящут, яко не далече от единаго коегождо нас суща…» – довольно бойко читал в это время из «Деяний» мальчик, окруженный своими товарищами и десятком набожно крестившихся странников.
«А важно, однако, читает мальчуган, – подумал странник, – не хуже, пожалуй, и того, как читывал когда-то я. Вишь ты, и эти, что своей очереди ждут, точь-в-точь как я, бывало… Вот как рад этот черненький, что берет свечу у отчитавшего, – и голос сперва дрожит, и свечу не знает, как держать… Эх вы, ребята, ребята!.. А эта старуха, что протискивается ближе к чтецу, должно быть, мать: вон как рада, даже плачет бедная…», – и странник незаметно подвинулся к чтецам.
Скоро вся церковь наполнилась народом, и он с каким-то затаенным, неясным чувством продолжал оглядывать празднично разодетую толпу богомольцев. Их радостные лица неудержимо приковывали к себе его внимание. «Они веселы, радуются, – точь-в-точь как когда-то…» – Глухой, подавленный вздох свидетельствовал о том, что воспоминания эти были тяжелы для него. От лиц богомольцев перевел он свой взор туда, где неясными силуэтами выступали из золоченых рам темные лики святых. Невольно закрыл он глаза и, все же чувствуя на себе строгий и прикованный взгляд святых подвижников, пал ниц на землю. Окружавшие его богомольцы посторонились.
– Не из наших, кажись, – шепнул один из них, обращаясь к своему соседу.
– Вишь ты, какое на нем одеяние и как молится он, сердешный, не то, что мы, окаянные, – и отвечавший стал быстро креститься.
Но странник не молился; он даже почти перестал сознавать, кто он и где он. Какое-то особенное состояние переживал он. Картины далекого прошлого, одна за другой, воскресали в его памяти. Но эти воспоминания были отрывочны и неясны. Никакой определенной мысли и никакого желания не вызывали они в его душе. Одно только он ясно чувствовал в данную минуту: чувствовал, что со всех сторон устремлены на него чьи-то пытливые, серьезные взоры.
Начавшейся торжественной полунощницы он не слыхал, и когда устремил вверх взор, его неожиданно поразила таинственная тишина. В церкви было пусто, лишь две убогие старухи сидели у задней стены, обратив свои тусклые старческие взоры ко входной двери.
– Что же это, Господи? – со вздохом произнес он, стараясь разобраться в своей памяти. Но нить воспоминаний уже давно ослабела, и, закрыв глаза, он видел – то алую кровь, то мальчугана, читавшего «Деяния», то старуху с полными слез глазами. Мгновение – и чудится ему, что мальчик этот – он сам, а старуха – его родная мать, и незаметная слеза вдруг обожгла его щеку. «Она, она», – бессвязно шептал он, глядя вверх и прислушиваясь к несшемуся, казалось, оттуда напеву. Вдруг совершенно явственно донесся до него радостный голос: «Христос воскресе из мертвых!».
Странник быстро повернулся к входной двери, откуда донесся этот возглас. Дверь широко распахнулась, и в ней показался священник с крестом в руках и в сопровождении радостной толпы богомольцев.
– Христос Воскресе! – приветливо обратился старик-священник сначала к стоявшим у двери старухам. – Христос Воскресе! – приветствовал он затем и «странника».
– Воистину Воскресе! – вдруг вырвалось у странника, и он весь задрожал. Собственный голос показался ему чужим; он впал в какое-то полузабытье.
И чудится ему, что он не в Сибири и не беглый, а у себя на родине, в Курской губернии, среди односельчан. Вон и отец Василий, их приходской священник, стоит на амвоне и с обычной приветливостью и любовью «христосуется» со своими прихожанами. Вот и крест святой так же ярко сияет в руках батюшки, и дивные лики святых также приветливо смотрят на него… И чувствует он, что сегодня – праздников праздник и торжество из торжеств… Бодро выступил он из своего угла и стал в ряду шедших «христосоваться» с батюшкой. «И друг друга обымем», – со спокойной совестью подпевал он клиру, приближаясь к священнику.
– Воистину Воскресе! – ответил он на любовное приветствие священника и вдруг грохнулся наземь. Неудержимые рыдания огласили своды храма и на мгновение заглушили и торжественные пасхальные песнопения, и радостные приветствия богомольцев.
– Прости, прости, странник Божий, прости меня, окаянного; это ты, Никитушка, это твой дивный голос и твой любовный взор, и на ризах – твоя праведная кровь!.. Порази меня, Господи! Я – грешник, великий грешник! Поглоти меня, земля! – слышались бессвязные восклицания странника, лежавшего у ног священника.
– Что ты, что ты, брат мой! Какой ты грешник? Кто кается, тот не грешник; Бог любит кающихся и прощает им. Нет такой вины, которой бы не отпустил нам Отец наш Небесный; встань же, брат мой! Христос Воскресе! – говорил священник.
С неимоверным усилием удалось поднять «странника». Но это уже был не тот человек, который прятался в тайге. Перед священником стоял согбенный старик, со страдальчески искаженным лицом, с трясущими руками и глубоко запавшими глазами. Он долго и пристально глядел в глаза батюшке, видимо, испытывая в душе тяжелую муку.
– Прости, отец честной, прости и ты, народ православный! – наконец глухо произнес он. – Не место мне, грешному, здесь, среди вас: мое место там, откуда я бежал.
И странник круто повернулся.
– Куда же ты бежишь от креста и братского лобызания? Христос воскресе, брат мой! – остановил его священник.
– Воистину воскресе, отец честной!.. Но я не посмею осквернить своим разбойничьим поцелуем святой крест и тебя. Я тяжкий грешник.
– Ты – брат мой, а не грешник; грех же твой известен только Богу и не должен быть скрыт от закона; побудь здесь немного, и потом пойдем ко мне.
Странник тяжело вздохнул и беспрекословно остался. В его глазах искрилась теперь решимость, лишь тяжкие вздохи говорили о том, что он страдает.
Да, грешника знает Господь и должен покарать закон и… покарает!
Утром, после разговенья у священника, беглец шел «по этапу», но только не в одежде странника, а в прежней сермяге. Конвойные едва поспевали за ним: шел он не на каторгу, а за получением своего долга…
В Святую ночь
Стояла чудная апрельская ночь. Небо было усеяно мириадами звезд. Город В. точно замер. Даже главная улица опустела. Вокруг – тишина, лишь изредка нарушаемая звуками шагов запоздалого пешехода, спешившего, как бы стыдясь, поскорее убраться. А между тем не было дома, где бы не светился огонек.
Наступал великий час Воскресения Христова. Все церкви были полны народа, и те, кому не удалось пройти внутрь, стояли на паперти и горячо молились. Время близилось к полуночи. В квартире молодого военного врача, почти на самой окраине города, тоже светился огонек.
Павел Иванович Кривошеенко, любимец В-й публики, был занят своим многосложным туалетом и тщательно осматривал только вчера принесенный от портного новый мундир. Он ему обошелся недешево, но что поделаешь? Павел Иванович был молод, и новый мундир так шел его стройной фигуре. Кривошеенко было всего двадцать три года; имея приятную наружность и веселый нрав, он пользовался всеобщей симпатией. Теперь, одеваясь, он спешил к своему начальнику.
– Я буду вас ждать, – сказала ему еще днем дочь начальника, – слышите, непременно приходите в полночь, а потом вместе – к заутрене.
Павел Иванович, добродушно улыбаясь, уверял, что обязательно придет. Да и в самом деле, куда же ему было идти, как не к Софье Васильевне!
Боязнь опоздать к назначенному сроку заставляла Павла Ивановича торопиться, и потому все у него валилось из рук. Денщик стоял, вытянувшись у дверей, и смотрел на барина. Его удивляла эта поспешность, но, будучи благодушно настроен, он не решался, как раньше, высказаться по этому поводу. Кривошеенко обыкновенно в таких случаях спрашивал мнение денщика: хорошо ли сидит мундир, все ли чисто, и верный человек отвечал, что «их благородие собою красавец, а поэтому, стало быть, какую одежду ни надевай – все едино, а мундир обыкновенно лучше, и говорить нечего!»
Только-только молодой врач хотел было по привычке посоветоваться, как в кухне послышался резкий звонок. Павел Иванович вздрогнул, а денщик стрелой влетел в кухню. На стенных часах в столовой пробило полдвенадцатого. Врач засуетился.
– Ах, опоздаю, и на глаза хоть не показывайся Софье Васильевне, совсем загоняет.
Через несколько минут денщик доложил, что в околоток привезли умирающего солдата, и фельдшер сам ничего не может сделать.
– Почему же ко мне прислали?
– Да вам, ваше благородие, сегодня дежурить, – сказал вошедший фельдшер.
Кривошеенко схватился за голову: он совсем забыл об этом ненавистном сейчас дежурстве. Но раздумывать было некогда. Он быстро сбросил новый мундир, надел тужурку и поспешил в околоток. За ним, едва поспевая, следовал фельдшер.
– Что с больным? – спрашивал доктор на ходу.
– Ангина флегмоноза самая злая, – отвечал фельдшер дрожащим голосом.
Ему тоже хотелось пойти к знакомым разговляться, в околотке лежали выздоравливающие, а тут вдруг неожиданно привезли такого, что о разговенье и думать было нечего.
– Ангина флегмоноза – это скверная штука, – сказал врач. – Почему не послали за Сергеем Петровичем?
Павел Иванович говорил о специалисте по болезням горла.
– Они, ваше благородие… – шепотом проговорил фельдшер, указывая на горло.
– А!.. – вспомнил Павел Иванович своего коллегу, который, не захотев дождаться наступления праздника, принял изрядную долю спиртного. Делать было нечего, и он поднялся по лестнице в душный околоток.
Там при входе, направо от дверей, лежал на постели молодой солдат, около него на коленях стояла пожилая женщина и горько плакала.
– Кто это? – спросил Кривошеенко.
– Его мать, – отвечал фельдшер.
– Ну, матушка, ты выйди пока отсюда, – сказал врач ласково, – а я с Божьей милостью постараюсь помочь твоему сыну. Потом, когда можно будет, войдешь опять.
Женщина, с немой мольбой взглянув на врача, молча поднялась и вышла на балкон. Врач подошел к больному: тот метался и горел, как в огне. Кривошеенко приказал подать лампу и стал осматривать у больного горло.
Рука, державшая подбородок, задрожала: Павел Иванович увидел, что нужна операция, иначе больной может умереть, но не решался рисковать.
Однако, времени оставалось слишком мало. Павел Иванович вдруг почувствовал крепость руки и твердость духа. Глазами приказал он фельдшеру подать ланцет, вложил кольцо в рот больному и, перекрестясь, грубо, сильно разрезал опухоль.
Горячая кровь вместе с гноем хлынула из горла. Больной приподнялся, слабо вскрикнул и опрокинулся навзничь. Павел Иванович еще раз взглянул в горло, и вздох облегчения вырвался у него.
– Слава Богу, – прошептал он, – солдат спасен.
Доктор несколько минут неподвижно глядел в одну точку, совершенно забыв, где он находится. Он сделал то, чего не мог и помыслить. Вечер, где его ждали, больше его нисколько не интересовал.
Загудевшие колокола вывели его из задумчивости.
– Христос Воскресе! – Воистину Воскресе! – послышалось с улицы.
Молодой фельдшер, со слезами на глазах, точно боясь побеспокоить доктора, тихо окликнул его:
– Христос Воскресе, ваше благородие!
Павел Иванович встрепенулся.
– Воистину Воскресе! – ответил он и горячо поцеловал своего помощника.
Кругом ликовали. А из глаз врача катились слезы благодарности Воскресшему…
Больной, очнувшись, открыл глаза и едва слышно прошептал:
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! – произнес доктор. – Воистину Воскресе и тебя воскресил из мертвых, – сказал он, указывая на горло.
Наклонившись над больным и прикладывая компресс к горлу, доктор почувствовал, что кто-то обнимает его ноги. Кривошеенко оглянулся: это была мать солдата, слезы не давали ей говорить, но все хорошо ее понимали.
– Что ты! – конфузливо заговорил врач, поднимая женщину с колен, – все в воле Божией!
– Пожалуйте, ваше благородие, – позвали его выздоравливающие больные, – разговеться с нами.
Павел Иванович с облегченным сердцем вошел в другую комнату, где больные устроили себе пасхальный стол, и, собрав всех больничных вместе, разговелся с ними.
В час ночи он вернулся домой. Он чувствовал сильную усталость, но, несмотря на это, занес в свою записную книжку следующие строки: «Воскресение Христово – один из лучших дней в моей жизни. Бог дал мне возможность спасти ближнего».
Только на другой день узнали об этом случае, и Кривошеенко стал героем дня. Все наперерыв искали его внимания, приглашали к себе. Софья Васильевна гордилась его поступком.
Верь – Бог поможет
Могучим пробуждением долго дремлющих сил приветствует природа вступление в летние права своего владыки – солнца: слетелись из далеких стран певуньи-пташки петь хвалебный гимн его красе и силе.
Живительный свет солнца проник и в жилище мертвых, покоившееся не так еще давно под белым саваном зимы.
Цветет, благоухает и поет кладбище, соответствуя видом своим сегодняшнему дню – дню Святой Троицы – этому зеленому празднику наступившего тепла.
Обедня уже отошла: народ, наполнявший церковь, рассыпался по кладбищу, каждый спешил навестить дорогую ему могилку и украсить ее веткой зелени или букетом цветов.
Но далеко не у всех душевное настроение согласуется со светлой картиной природы. Кто идет к родной могиле с сердцем, успокоенным уже целебной силой времени и потому способным поддаться влиянию радужных картин и ликующих звуков природы; кто – с тихой грустью в душе, примиренный уже со свершившимся фактом, а кто – переживая еще острую боль свежего горя.
Тихо шелестят листья березы над высокой могильной насыпью, здесь, несколько в стороне, вправо от церкви; ложатся их тени затейливым, колеблющимся узором на светлый фон залившего все кладбище солнечного света… Вот медленно качнулись они – и на мгновение расступились, пропуская вперед широкий луч; упал он на деревянный крест, венчающий могилу, и заиграл по прибитой к нему жестяной дощечке, будто вторя живой гаммой перебегающих искр начертанным на ней словам молитвы: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих!»
Сомкнулись под лучом света тени густой листвы дерева: скользнул он дальше – и, выбравшись на простор, остановился на минуту, отдыхая, на двух хорошеньких белокурых головках: девушки и маленькой девочки, молившихся коленопреклоненно у могилы своих родителей.
На обеих простенькие черные платья; они сбросили свои круглые соломенные шляпы на скамеечку, вкопанную под навесом дерева, осеняющего могилу; старшей из них года двадцать три, младшей не более семи.
Вот девочка поднялась с колен и побежала к тропинке, идущей вдоль могил: ее издали поманили к себе пестрые цветы, что так заманчиво выглядывали из окружавшей зелени.
Девушку не развлекают картины природы: не удается им разогнать печалей и забот, теснящих ей грудь; она припала бледным личиком к земле, и тяжелые капли слез оросили родную могилу.
А сестренка уже бегом возвращалась к ней, спеша показать собранные цветы.
– Катя! – радостно позвала она. – Ка… – И вдруг осеклась; беззаботное выражение личика омрачилось; слезы сестры вернули ее к печальной действительности.
Она опустилась на колени подле девушки и прильнула кудрявой головкой к ее плечу.
– Катя, родненькая, голубочка моя! – любовно шептала она, все крепче прижимаясь к сестре.
– Деточка моя! Лидуся моя хорошая! – ответила девушка, обвив рукой плечи сестры.
– Не плачь, не плачь, Катюша! – молил ребенок.
Но как ни старалась девушка исполнить эту просьбу – она не могла осилить потока непослушных слез: волной подступали они к груди, давили горло, застилали глаза.
Она поднялась с колен и села на скамью, все пытаясь успокоиться: привлекла к своей груди голову девочки и покрыла поцелуями ее доброе личико.
«Милая, родная моя мама! – думает девушка, лаская ребенка. – Люб мне твой завет быть не только доброй сестрой, но и матерью для сиротки. И как горячо хотела бы я свято выполнить его! Отец сирот! Утешитель страдающих! Пошли мне крепость духа, ясность разума, помоги выполнить обязанность, близкую моему сердцу, но тяжелую для слабого разума и моих сил!» – обратилась девушка с мольбой к Тому, верить в Кого, на Кого надеяться, Кого любить научила ее с детства покойная мать.
Ее тонкие руки легли, невольным движением, будто благословляя, на светлую головку прильнувшей к ее груди сестренки. Вдумчивое личико девушки было более чем красиво в настоящую минуту: не нежностью кожи, не правильностью черт, ни даже формой и цветом красивых карих глаз пленяло оно теперь – оно прекрасно было тем выражением внутреннего мира, что несло одухотворяющую печать серьезного ума и любящей души.
Сердечная молитва оказалась целебной для горя молодой девушки: легче, все легче становилось бремя, все свободнее дышала ее грудь.
А золотой луч солнца опять пробрался к ее голове, приостановившись, залюбовался ее личиком; нежа и лаская, скользнул по плечам и заиграл у ног, будто силясь развеять грусть своей грациозной игрой с пятнами теней дерева.
Он проник в сердце девушки, осветил ее душу… Улыбнувшись, она указала сестренке на эту полосу света с тенями сучьев и листьев – и долго сидели они обнявшись, следя за шалостями проказника-луча.
Сестры не спешили домой: им так хорошо было здесь, у родной могилки, среди этой чудной природы! День же был праздничный, и Катя не была занята ни уроками, доставлявшими им средства к жизни, ни домашним шитьем.
Девушка трудилась с утра до ночи: занималась она старательно и толково, но плата за уроки была невелика, тем более что она давала их у себя на дому; она отказалась от предложенных ей более выгодных занятий вне дома, решившись лучше работать, не отдыхая, целый день, нежели оставлять Лиду одну в течение нескольких часов.
Лучший заработок дал бы Кате возможность держать недорогую прислугу для присмотра за Лидой и для домашних работ; но девушка боялась поручать сестренку попечениям необразованной и притом незнакомой женщины.
Утомленная занятиями с ребятишками, из которых некоторые были и неспособны, и ленивы, утомленная и физическим трудом, Катя ложилась в постель поздно вечером, совсем обессиленная. Однако и здесь она не всегда могла предаться отдыху: тяжелые мысли не давали ей уснуть; особенно в те часы, когда ко всем ее тревогам присоединялась еще мысль о долгах, сделанных во время болезни и похорон матери.
Ей часто не давала покоя мысль о том, что станется с Лидой, если сама она расхворается. Катя осознавала, что чрезмерные труды и заботы сильно подтачивают ее здоровье.
Близких родственников у сестер не было; из дальних же были люди и состоятельные, но явно старавшиеся устраниться даже от письменных общений с бедными сиротами: они боялись, конечно, чтобы последние не вздумали просить у них помощи. Переписка между ними совершенно прекратилась вскоре после смерти доброго отца Кати и Лиды, внезапно скончавшегося три года тому назад, – прекратилась именно тогда, когда осиротевшая семья, лишившись своего кормильца, стала испытывать серьезные материальные нужды.
В губернском городе П., отстоящем на несколько сот верст от города К., где жили сестры, служил друг покойного отца – их крестный отец – старый холостяк. Катя очень любила и уважала его: это был человек чрезвычайно умный, необыкновенно чуткий ко всему истинно доброму и честному.
Любила его и Лида, но более вследствие рассказов о нем матери и сестры: она была еще очень мала, когда видела крестного в последний раз, три с половиной года тому назад, в день его отъезда отсюда в П., где он получил тогда небольшое местечко в канцелярии губернатора.
В воспоминаниях Лиды осталась картина разлуки. Она помнила, как при последнем поцелуе крупные капли слез скатились с ресниц крестного и повисли на его усах. Более же точное представление о его наружности сохранял в ее памяти его портрет.
Сергей Александрович горячо любил своих крестниц: не будь он беден – они не терпели бы нужды. Катя и не писала крестному подробно о своих нуждах, зная, что он готов отдать последний грош, лишь бы вызволить их из беды. Он и так выслал им во время болезни матери, продолжавшейся около четырех месяцев, рублей пятьдесят, взятых в счет своего маленького жалованья; а это стоило бедному чиновнику многих лишений в продолжение нескольких последующих месяцев. И теперь Сергей Александрович не пропускал праздников Рождества, Пасхи, именин своих крестниц, чтобы прислать им в подарок несколько рублей. Отказываться от этих подарков значило бы обидеть крестного.
Из всех, кого знала Катя, единственная ее надежда была все же на него. Но главное, в чем черпала девушка утешение в минуты тоски и волнений, – была надежда на Бога. «Верь – Бог поможет!» – твердила она часто Лиде, твердила и самой себе. Эта мысль часто успокаивала Катю.
Было уже около трех часов пополудни, когда сестры вошли в ворота дома, флигелек которого они нанимали уже в течение года, со времени смерти их матери; он состоял из комнаты, маленькой кухни и таких же сеней.
Катя собиралась отпереть дверь ключом, который она, уходя вместе с Лидой, всегда брала с собой, – и тут ее окликнула хозяйка квартиры, полная, румяная женщина лет пятидесяти. Добродушная, хотя и несколько ворчливая, она была очень расположена к своим тихим, симпатичным жилицам; притом Катя довольно аккуратно вносила ей свою маленькую квартирую плату.
– Чай, хорошо нагулялись? – крикнула она навстречу сестрам с крыльца своего дома. – Погодка-то какова! Благодать Божия – и только. Откуда путь держите?
– Мы с кладбища, Анфиса Петровна! – ответила Катя.
– С кладбища? То-то и смотрю, у тебя будто глазенки красные. Будет, будет плакать, мать моя! Пора перестать убиваться: плачь не плачь – мертвого слезами не воротишь.
Катя ничего не возразила на это своеобразное утешение и, ласково поклонившись еще раз Анфисе Петровне, собиралась уже войти в комнату, когда хозяйка опять остановила ее восклицанием:
– Ах матушка, чуть было не запамятовала: тебе письмо.
– От кого-либо по делу или с почты? – спросила Катя.
– Заказное, мать моя, заказное! Соседа и расписаться за тебя позвала: почтальон без росписи не давал.
Поблагодарив хозяйку и послав к ней за письмом Лиду, Катя вошла к себе.
– От крестного! – радостно вскричала она минуту спустя, взяв письмо у сестренки и взглянув на адрес. – Я так и думала: он давненько не писал.
– От крестного, крестненького! – подпевала Лида, хлопая в ладоши.
Между тем лицо Кати, смотревшей в исписанный листок, выразило сильное волнение.
«Бесценные детки! – прочла она дрожащим голосом. – Как человек верующий, начинаю радостное послание славословием Богу: благодарение Пресвятой Троице, пославшей нам великую радость к великому дню Своего Святого праздника!
Теперь же слушайте повествование горячо любящего вас крестного…»
Волнение помешало Кате продолжать чтение вслух; то краснея, то бледнея, пробежала она глазами последующие строки письма; еще не докончив его, она осенила себя крестным знамением и упала ниц перед иконами, озаренными розовым светом горевшей лампады.
Лида, глядя на сестру, также перекрестилась; потом тихонько дотронулась до рукава Кати, прося сообщить ей содержание письма.
– Деточка моя милая! – порывисто, сквозь радостные слезы говорила Катя. – Ни крестный, ни мы больше нуждаться не будем! Он уже не бедный человек; он скоро приедет сюда и возьмет нас к себе.
Широко раскрыв большие голубые глаза, слушала девочка эту взволнованную, довольно бессвязную речь сестры. Наконец, Кате удалось овладеть собой и передать малютке содержание письма.
Несколько лет тому назад крестному отцу сестер досталось по наследству от родственников небольшое, но весьма благоустроенное имение, находившееся вблизи города К. Другие родственники покойного – люди богатые, которым оно очень нравилось, затеяли с Сергеем Александровичем процесс, хотя все права были на его стороне. Однако вследствие богатства и связей в обществе его соперников дело затянулось. Сергей Александрович совсем уже не надеялся на благополучный исход, но, к счастью, права на имение были признаны бесповоротно.
Боясь прежде времени порадовать крестниц, Сергей Александрович не писал им о возникших в нем надеждах на благополучное окончание дела, но не замедлил сообщить им, лишь только надежды сбылись.
– Теперь ты, Катюша, не будешь так много работать! – воскликнула Лида, внимательно выслушав сестру: голубые глаза ее так и сияли, и она прижалась головкой к ласкавшей ее девушке. – Милый, добрый крестный! – прибавила она. – Как крепко расцелую я его славные глазки! Мы уже не расстанемся с ним, и он не будет больше плакать, как в тот день, когда он уезжал отсюда.
– Да, мы будем любить, лелеять его, как родного отца! – серьезно ответила Катя. – Будем стараться никогда ничего, кроме радости, не доставлять ему, дорогому, за его любовь и попечение. Крестный любит хозяйство и умеет вести его; служить он больше не будет: мы поселимся в его имении, будем помогать ему хозяйничать, и я буду теперь постоянно с тобой, моя Лидуся! Мы будем учиться, работать, – и при тихой скромной жизни мы будем помогать и тем, кто нуждается. Крестный пишет об этом. Да, он истинно добрый, хороший человек! Его счастье – в счастье других.
Весело закивали сестрам листья березы, когда они на следующее утро снова подходили к родной могиле, спеша поделиться своей радостью.
Опустившись на колени и сняв круглую шляпку, Катя и сегодня припала лицом к могилке, но уже не плача, а целуя дорогую землю, будто здороваясь с прахом своих родных.
А ласкающий луч солнца уже пробирался к ее головке: скользнул пышным золотым снопом по ее густой и длинной косе, поднялся выше к волнистым волосам надо лбом – и вдруг заиграл на них радостно, будто разделяя надежды девушки на чистое, светлое будущее.
Милость Божия
Древнее киевское предание
Это было в давние времена седой древности, когда Русь, еще недавно вкусившая от истины веры христианской, стонала и тряслась в ужасах и междоусобиях удельных князей. Распри эти в такой степени поглощали князей, что ради стяжаний и ложного самолюбия забывались кровные узы родства, брат поднимал на брата преступную руку и, обагренный кровью ближнего, захватывал имущество его, уводил в плен слабых женщин и детей. В те времена, о которых до нас дошли лишь предания, жил на берегу Днепра, среди дремучих лесов, обрамлявших берега его, в Киевском княжестве почтенный старец.
Еще молодым человеком состоял он дружинником Святополка, прозванного за дела свои Окаянным, и в качестве слуги своего князя участвовал в убиении юного князя Глеба, причтенного Церковью к лику святых. Трогательная мученическая кончина страдальца до глубины души потрясла его. Денно и нощно стоял перед ним образ кроткого юноши, молившего убийц о пощаде и испустившего дух с именем Божественного Искупителя на устах, призывая на палачей своих Его всепрощающую милость.
И отказался княжий дружинник Василий Топор от славы бранной, отказался от всяких почестей мирских, отрекся от звания своего, поклонился князю своему поклоном глубоким. И не стал уговаривать и держать его князь, увидел и понял, что твердо решение его и не слуга он ему. И ушел Василий в лес дремучий, на берег реки широкой, быстротечной, собрал себе из сучьев и листвы шалаш и стал усердно молиться Богу и прославлять святое Имя Его. Дни текли за днями. Быстро летели годы, и стал Василий из сильного, доблестного мужа седовласым старцем. Строгий пост и отречение от суеты мирской наложили на него печать свою. Кроме молитвы единственным его занятием было собирание лекарственных трав, пригодных и полезных недугующим, приходившим иногда издалека за помощью к нему и никогда не встречавшим отказа. Но не только немощи телесные врачевал он; убогая хижина его гостеприимно принимала под сень свою и других больных. Случалось ли кому повздорить, поспорить и поссориться – смело шли за разрешением спора к Василию. Кротко, внимательно выслушивал он доводы ссорившихся и, когда те уже вполне выскажутся, говорил: «Теперь, братья мои во Христе, помолимся Творцу Милосердому, да разрешит Он сердца ваши». И станет он с тяжущимися на молитву, и услышит Бог молитву честного, верного раба, прольет на него благодать Свою, подаст ему мысль благую, и люди никогда не уходили от него с сердцем ожесточенным, но всегда со слезами на глазах, благодарили его и, умиленные, искренне помирившиеся, прославляли Имя Божие и благословляли праведного служителя Его. Нередко не только сельские обыватели, но и жители городские, люди, правившие городами, и даже сами князья приходили к Василию. Для всех он был одинаков, со всеми равен. Иной раз и пожурит, иной раз и пост и епитимью наложит, но все-таки всегда обнадежит, успокоит. Так жил Божий праведник, и мирное его житье нарушалось разве только затем, чтобы по мере угасающих уже сил приносить ближнему пользу.
В тех же дебрях лесных, недалеко от шалаша отшельника, скиталась шайка душегубов, промышлявших исключительно разбоем. Некому было остановить, прекратить ее преступления. Поселяне, занятые своим хозяйством, не имели ни времени, ни оружия для борьбы с шайкой. Единственная же в те времена власть – дружина княжеская – была занята либо ратным делом, либо пирами да весельем, да и состояла та шайка из разного сброда да из опальных дружинников. Так что дружине той и не под стать было бы бороться с ней: что, мол, со своими же тягаться. Занятие у дружины и у шайки – почти одно: те же грабежи, то же буйство и пьянство. Разница заключалась в том, что для дружины это проходило безнаказанно, да еще поощрялось, как удаль и молодечество, а для шайки с рук не сходило. Атаманом этой грозной, наводившей ужас шайки грабителей был известный своей жестокостью Иван Кирмяга. Не было преступления, перед которым остановилась бы обагренная кровью рука его. Все равно, был ли то седой старик, или женщина, или дитя малое, нож Кирмяги одинаково, часто без всякой надобности, впивался в тело несчастной жертвы; кровь людская лилась ручьем. Не раз посылал князь часть своей дружины со строгим приказом во чтобы то ни стало изловить Ивана; но всегда дело кончалось тем, что посланные возвращались, не исполнив воли княжеской. На самом же деле при приближении дружинников Иван выходил к ним, гостеприимно приглашал в своей лагерь, где пировали они часто по нескольку дней, пользуясь награбленным добром. В вине и в меду лучшего качества, хоть купайся; ешь вволю, чего только хочешь. Рад был Иван всячески угодить дорогим гостям. Ну, и гости, благодарные за такое радушие, платили ему тем, что оставляли его на свободе продолжать позорное дело свое, а князю доносили:
– Не уловили опять Ивашку. Как вьюн: не дается в руки, да и всё тут.
Так богател себе спокойно Иван с товарищами, и не было на него управы.
Однажды, незадолго до праздника праздников, Светлого Христова Воскресенья, богатый вотчинник, усадьба которого находилась на пол-пути между Киевом и Черниговом, возвращался из Киева (куда ездил со всей семьей поклоняться святыням киевским и исполнить обряд христианского покаяния в грехах), в свою вотчину. Пасха в тот год подошла ранняя, и когда он ехал, Днепр еще скован был крепким, толстым льдом. Ехало семейство его в двух крытых возках, а впереди, в открытых пошевнях, устланных богатым ковром, ехал сам глава семьи со старшим сыном. Перебрались путники через реку близ острова Тугана, и пошла у них дорога лесом. Дело было на Страстной седмице Великого поста, в Великую Среду или в Великий Четверток. Спешил вотчинник, хотелось ему встретить дома праздник великий. Говорили ему в Киеве, что этим путем ехать небезопасно: пошаливает, мол, в лесу Ванька Кирмяга, душегуб жестокий; предупреждали его, уговаривали взять хотя бы несколько человек защиты.
– Что же я буду зря людей тревожить? – отвечал он друзьям своим. – Одно знаю: что я зла никому вольной волей в жизни своей не сделал и не попустит Господь Милосердый надо мной беды какой или глумления разбойничья. И опять же, сколько народу у того Ваньки? Кто его знает? Так мне-то какую силу с собой брать? Нет, поеду на волю Божию. Как угодно Богу, так пусть и будет.
Так и поехал вотчинник; даже оружия-то никакого с собой не захватил. Одно у него было оружие: вера в неизреченную милость Божию. Едут они так час, едут другой. Легкий, приятный морозец играет на утоптанной тропе лесной; солнышко золотит верхушки заиндевевших деревьев и разливает несчетное число блесток на причудливо убранных снежинками ветвях; нет-нет, да и чирикнет птичка – весну встречать. И так весело, радостно на сердце у вотчинников, что и думать о Кирмяге забыли. Мелкой, дробной рысцой трясут лошадки, время от времени пофыркивая; сидит себе на пошевнях закутанный в теплую шубу вотчинник и мурлычет потихоньку под влиянием недавно слышанных им напевов киевских: «Милосердия двери отверзи нам». А лес становится гуще и гуще. Вот поворот у дороги, и опять она сворачивает к Днепру. Задремал вотчинник, согретый дыханием зарождающейся весны…
Страшно было пробуждение его. Внезапно остановившиеся лошади прервали его дремоту.
– А ну-ка, медведь! Вылезай-ка из берлоги! Приехали! – услышал он голос, сопровождавший слова эти грубым, раскатистым смехом, которому вторило еще несколько сиплых, резких голосов.
– Дождались мы наконец тебя! Ну, вот и мы к празднику не без добычи… – продолжал у самых пошевней, с бердышом в руке, рослый, рыжий, широкоплечий детина. – Эге, да сзади еще два возка… Вот запасов-то… Чай – и выпивка и закуска есть. Вот так пожива!.. Ну, полно мешкать… Нам к спеху… Вылезай!
– Что вам от меня нужно? – спросил вотчинник. – Чего вы меня остановили?
– А вот отдавай, что при тебе есть: деньги, платье, вещи. Мы все возьмем… Ничем не побрезгуем…
– Денег у нас при себе нет. А вещи, добрые люди, я домой везу. Зачем же я вам их отдам?
– Ну, чего тут разговаривать, – перебил его атаман шайки, – вылезай да проваливай, по морозцу-то куда как здорово.
– Хорошо ли будет, Иван Васильевич, коли мы его так отпустим, выкупа не взяв, – сказал один из разбойников. – Пусть он предоставит за себя цену. А залог будет у нас живой. Старшая-то боярышня у нас погостит пока, до времени. Оно и нам будет веселей…
Дети вотчинника и жена, услыхав такое предложение, огласили лес громкими рыданиями. Слезы заблестели и в очах отца.
– Братцы! – всхлипывая, молил он разбойников. – Ради грядущего праздника великого пощадите. Берите все, что ни есть при мне, но оставьте мне дочь мою. Выкуп пришлю я вам либо сам привезу… Отпустите!..
– Слыхали мы это не раз, – раздался голос атамана. – Нечего тут хныкать, бобы разводить. Бери их, ребята. Снимай, что есть. А старшенькую-то привязать тут к дереву. Небось не замерзнет за сутки. А мы покараулим и, коли что, коль захочет удрать, – прикончим.
– Не дело, атаман, ты затеял, – сказал другой разбойник. – Этак старик-то с подмогой придет, да и нам тут несдобровать!
– Ну, коли так, так лучше тут их всех прикончить, а ночью и волк серый сыт будет, – решил Кирмяга. – Разложите-ка огонь. Как запылает костер, дело ходчей пойдет. Да поближе к лесу.
Услыхав такое решение, вся семья горько зарыдала. Сбившись в кучу около отца и матери, нежно целовали пленники друг друга, как бы прощаясь, и, опускаясь на колени, горько молили о пощаде.
Между тем костер, разложенный близ самой опушки леса, запылал.
– Ну, старик, – обратился Кирмяга к вотчиннику, – пришел тебе последний конец. Кайся, коли в чем грешен. С тебя начнем… Ребята, раздеть его, связать, раскачать – да и у-ух… Пусть греется.
Несколько человек бросилось исполнить это жестокое приказание. Уже с несчастного сняли одежду, оставив лишь исподнее. Вот уже связали его и готовились подхватить, чтобы бросить в огонь. Вопли семьи огласили окрестность. Великое злое дело исполнилось. Ни в чем не повинного человека бросили в огонь. Но тут совершилось нечто такое, что совершенно изменило ход дела.
Едва лишь брошенный туда негодяями вотчинник попал в костер, как огонь погас и у самого костра появился седой, как лунь, старец. Величаво, властно, как бы повелевая пламени погаснуть, простер он над костром высохшие руки свои:
– Боже, благодарю Тебя, что не попустил нечестивым глумиться над праведным, – раздался голос его. – Доверши же чудо Твое. Накажи их. Покажи силу Твою.
Не успел старец окончить молитву свою, как Кирмяга пал замертво, а два разбойника, бросившие вотчинника в огонь, были сражены тяжким недугом – параличом. Прочие разбойники, видя печальную участь атамана и товарищей, молчали.
– Кайтесь! – гремел старец. – Молитесь Богу о прощении. Близок час ваш.
– К тебе прибегаем. Будь ты заступником нашим, вымоли нам прощение, – просили старца разбойники.
– Оставьте позорное ремесло ваше, явитесь с повинной к князю, он простит вас. Грядущей жизнью и добрыми делами искупите грех свой.
– Как можем мы уповать на милосердие Божие и княжеское? Неисчислима вина наша! – отвечали разбойники, потупив головы.
– Неисчерпаема милость Божия; приемлет Он в лоно Свое искренно кающихся. А вы, как примет вас князь, старайтесь примером своим удержать соратников от всякого злого дела. Помните всегда, что не в силе Бог, а в правде. И, – пророчески закончил он, – будет с вами милость Божия.
– Благослови нас, старец праведный, на жизнь новую! – пали они пред ним на колени.
– Господь да благословит вас! – осенил он их широким крестом.
Изумленные, радостные, еще не смея верить своему спасению, стояли путники и утирали обильно струившиеся слезы умиления.
– Не знаю, как и благодарить тебя, старец святой. Не знаю, как и величать! – вымолвил вотчинник.
– Не меня благодари, а Бога. Я и сам должен благодарить Творца Милосердого, что избрал меня орудием доброму делу. Вот вместе и помолимся, – опустился он на колени.
Стал и вотчинник на колени, стала на колени и вся семья его.
– Господи! – воскликнул старец. – Благодарю Тебя, что простер милосердую десницу Твою и не попустил нечестивым глумиться над верными рабами Твоими. Прости же, по неизреченному милосердию Твоему, ради великих страданий Сына Твоего, людям этим, заблудшим чадам Твоим, – молился он, простирая руки к разбойникам, – тяжкий грех их и направь их, для посрамления дьявола, на путь Твой – истинный. Да будет над ними благословение Твое во веки веков, аминь. Затем он благословил и путников:
– Молитесь за раба Божия, смиренного старца Василия, – сказал он. – Прощайте. Да хранит вас Пресвятая Троица.
С этими словами ушел он в глубину лесной чащи, так же незаметно, как и появился.
Благодарный Господу за чудесное спасение семьи, вотчинник выстроил на месте этом храм во имя Воскресения Христова. Не раз, во время междоусобий и во время нашествия татар и позднее, во время владычества польского, подвергался храм этот опасности. Но хранила его десница Божия. Незыблемо стоял он, радуя взор православных христиан и служа постоянным напоминанием о неизреченной милости Божией.
Под Светлый праздник
Наступила святая ночь, возвестившая всему крещеному миру торжественным благовестом, что страдавший за нас Искупитель воскрес из мертвых. Мириадами огней засветились храмы, переполненные молящимися, а с темного неба, как Господни очи, смотрели на ликующий мир мириады мерцающих звезд.
Улицы столицы, прибранные по-праздничному, были полны ликующего народа. Вот из богатого приходского храма вынесли кресты, народ обнажил головы, засветились и здесь тысячи огонечков. По возвращении крестного хода послышалось радостное пение: «Христос воскресе из мертвых!..»
В сторонке, около церковной паперти, стоял невысокий седой старичок, а рядом с ним – румяная миловидная девочка-малютка. Оба были в жалких рубищах и, видимо, продрогли.
Старик при виде идущих тихо произносил:
– Христос Воскресе!
Ему подавали мелкие монеты.
– Дедушка, купи мне красное яичко, ты обещал! – просила внучка.
– Куплю, куплю, погоди! Тебе куплю и себе тоже, – успокаивал старик.
– Дедушка, а мы с тобой разговляться будем?
– А как же? Сегодня, милая, для всех праздник, и для нас с тобой.
– И чаю дашь?
– И чаю, и всего дам.
На малютку залюбовался какой-то солидный и почтенный старичок, укутанный в дорогое ватное пальто.
– Сиротка, вероятно? – спросил старичок нищего.
– Так точно-с, круглая сиротка!
– Возьми вот от меня яичко! – предложил старичок малютке.
Девочка взяла яичко и как будто смутилась от неожиданности.
– Чтобы я вам предложил? Извините меня, ради великого праздника: не согласитесь ли вы пойти ко мне вместе с вашей внучкой разговеться? Я хотел бы доставить истинное христианское и душевное удовольствие своей жене, – предложил незнакомец нищему.
– Извините, благодарю вас покорно, но… мы плохо одеты, – сказал нищий, указывая на свою ветошь.
– О, не беспокойтесь, это пустяки! У меня найдется платье и для вас. Пойдемте, здесь недалеко, а дома мы только вдвоем, я да жена.
И добрый старичок повел к себе гостей.
Вот дедушка с внучкой оказались в богатой квартире. Их встретили здесь ласково, приветливо, как дорогих гостей.
Дедушке вынесли в отдельную комнату кое-что из гардероба хозяина, не исключая чистого белья и обуви, и попросили переодеться.
Внучку взяла горничная и тоже принялась обряжать, во что было возможно.
Но вот дорогие гости были введены в богатую столовую, где их ожидали гостеприимные хозяин и хозяйка.
– Христос Воскресе! – произнес дедушка.
– Христос Воскресе! – пролепетала малютка.
Хозяин, ответив подобающим возгласом, по-христиански облобызался с гостями.
– Садитесь, прошу! – предложил хозяин.
– Какая ты хорошенькая! – произнесла хозяйка, усаживая девочку возле себя. – Как тебя зовут?
– Любаша! – бойко ответила девочка.
– Ты чего хочешь – чаю или кофе?
– Я хочу яичко.
– Вот яички, бери, кушай.
– А дедушке можно взять?
– Дедушка тоже возьмет. Ты озябла на улице?
– Теперь тепло.
– Ну, вот и отлично. Кушай яичко, а я тебе кофе налью и сладкой булочки дам. Кушай, будь как дома.
– Дома у нас прачки живут, много, много! Мы с дедушкой им дрова носим и в печку кладем.
– А ты дедушку своего любишь?
– Да, и он меня тоже любит. Он мне куколку махонькую такую купил, три копейки стоит, деревянная. Она теперь дома спит.
Пока хозяйка занималась с малюткой, хозяин, угощая гостя, участливо расспрашивал его о том, что довело старика до нужды, заставило просить милостыню.
– Тяжело, знаете, тревожить не зажившие раны, но жизнь так устроена, что представляется для нас омутом, трясиной, которая засасывает нас против желания, – говорил старик, чтобы оправдать себя в глазах этих великодушных людей. – Долго рассказывать мне свою повесть, печальную и невеселую; коротко же она такова: родился и вырос я в далекой провинции. Родители мои, Царство им Небесное, были люди благородные, воспитание дали мне посредственное, да и давно это было, когда за просвещением особенно не гнались. Вырос я, возмужал, на службу поступил, а потом вскоре и женился. Жили мы с женой тихо, мирно, уютно, детей нам Бог не дал. Тридцать с лишком лет прожили мы душа в душу, и казалось мне, нашему счастью и согласию ничто не могло помешать, но случилось так, что я осиротел: потерял свою дорогую подругу, для которой жил; она умерла, голубушка, на моих руках. Как я перенес такую утрату, как рук на себя не наложил, и сказать не умею. С горя ли, с одиночества ли, а только я стал неумеренно предаваться хмелю. Служба для меня потеряла всякий интерес, и я оставил ее. Был у меня небольшой домик, за покойной женой взял, я и его продал: не мил он мне был. Как пес бездомный, влачил я существованье и ночи проводил, где придется, чаще под открытым небом. Про друзей и говорить не стоит: все это были такие же погибшие люди, как и я. Сначала меня жалели, пытались возвратить к трезвой жизни, но потом махнули рукой – пропадай, мол, пропадом, ежели сам себе добра не хочешь. Однажды (это было в середине лета) я точно очнулся после долгого сна, и первое, что мне пришло в голову, – это идти странствовать по святым местам, молиться, просить прощенья и облегченья своей участи. И я ушел из родного города, куда глаза глядят. Года три жил я по монастырям разным и за это время совсем забыл свою пагубную страсть. Вернувшись в свой город, я уже был совсем чужой в нем. Кое-как, при помощи добрых людей, собрался я в Питер, где думал дослужить до пенсии. Здесь мне не суждено было устроиться, и я мало-помалу дошел до жалкого прозябания, пролежал с год в больнице, потерял способность владеть правой рукой и остался один выход – просить милостыню…
– Скажите, и вы с тех пор совсем отрезвились? – спросил хозяин гостя.
– Бесповоротно.
– Ну, а внучку-то откуда вы взяли?
– Чужая она мне, сиротка. Была у нее мать, да умерла, а отца она и совсем не знает. Ради памяти жены своей покойной пригрел я сиротку и полюбил ее, как родное дитя.
– Нехорошо, что вы ее с собой берете, извините меня.
– Не всегда. А сегодня такой праздник…
– Вы из какого города?
– Я полтавец, Переяславльского уезда.
– Из самого Переяславля?
– Так точно.
– Сколько вам лет?
– Под шестьдесят.
– А фамилия ваша?
– Иван Семенович Зеленский, титулярный советник.
– Скажите, не было ли у вас брата?
– Был-с, но я об нем потерял всякие известия.
– Отец ваш кто такой был?
– Губернский казначей.
– А брат ваш где служил?
– Он был землемером и, как теперь помню, уехал на службу в Восточную Сибирь.
– Холостым уехал?
– Нет, женился. Взял он дочь нашего соборного протопопа.
– Павловского?
– А вы почем знаете?
– Ваша невестка сейчас перед вами – вот она! – указал старик на свою жену.
Гость побледнел.
– Неужели я вижу перед собой брата! – произнес он, и слезы радости брызнули из его старческих глаз.
– Ваня, обними меня! – рыдая, старик бросился в объятия своему дорогому гостю.
Братья, не выпуская друг друга из объятий, долго смотрели один на другого, припоминая родные черты.
Старушка-хозяйка тоже плакала, и лишь Любочка, широко раскрыв свои голубые глазки, удивленно озиралась, не понимая такой общей радости.
– Ну, довольно, Ваня, поцелуй свою невестку! – предложил Сергей Семенович брату, подводя его к своей жене.
– Иван Семенович, голубчик, вот каким мы вас встретили! – произнесла старушка.
– Что делать, я никого в этом не виню. Все зависело от Бога, и вот, как видите, Он послал мне Свою милость. Разве я мог ожидать, что в жизни своей встречу в такой великий день подобную радость?
– Будь покоен, ты теперь обеспечен! Все, что ты видишь здесь, всю эту обстановку, даже дом этот, все это принадлежит твоему сегодняшнему другу и брату. Я с тобой больше не расстанусь, – говорил брат с улыбкой полного счастья.
Русский мытарь
Обитель преподобного Никиты, расположенная в трех верстах от Переславля, уже почивала мирным сном. Прохладный сумрак летней ночи навеял успокоение на всех подвижников. Кругом царила тишина, которая нарушалась лишь стуком колотушки ночного сторожа, обходившего с дозором внутри монастырских стен. Но полуночная пора, наконец, смежила очи и этого инока. Казалось, только утренние лучи ясного солнышка воззовут к жизни тихий приют, чуждый житейских бурь и смятений.
Внезапный стон у монастырских ворот разбудил привратника.
– Кто там? – спросил в недоумении инок.
– О, скорей пусти меня! Пусти, многогрешного!
– Кто ты! Что случилось?
– Пусти… ради Христа… умоляю!..
– Кого же нужно тебе в этот поздний час?
– Отца духовного!.. Душу отпустить на покаяние!.. – шептал прибежавший к монастырским воротам путник.
– Ты болен, да? – спросил инок и тотчас же отворил калитку. Но, увидев пред собой статного, с цветущим лицом пришельца, невольно подался назад, подозревая в нем коварный замысел грабителя.
– Зачем же ты нарушаешь мир святой обители! Оставь нас, человек недобрый! Злое дело видно на челе твоем; удались отсюда!..
– О, где же мне найти тогда пристанище, если и здесь мне нет места? Где изгладить эту печать Божия проклятия? – продолжал стонать пришелец.
Привратник внимательно осмотрел его и пригласил в обитель.
– Скажи, с кем ты желаешь видеться, кто твой духовный отец? – допытывался инок. – Да это ты, Никита? – вдруг с каким-то ужасом, отступив назад, произнес инок. – Что же привело тебя сюда, кто изорвал твои одежды, ты хочешь видеть отца игумена? – засыпал он пришельца вопросами.
– Да, как видишь… Скорей доложи настоятелю, – упрашивал пришелец, дрожа, словно в лихорадке.
Как ни дорожили в монастыре покоем старца-игумена, но внезапный и загадочный приход давно известного во всей округе княжеского любимца заставил привратника постучаться в келью настоятеля.
Через несколько минут Никита был уже у ног старца.
– Что за скорбь у тебя, сын мой? – спрашивал игумен.
– О, невыразимая скорбь! Слезы нищих и убогих… Кровь человеческая подступает к моему горлу, душит меня… Я – убийца… Накажи, но дай покой душе моей…
С великим трепетом слушал старец эту бессвязную исповедь и, казалось, не верил ушам своим, но плач и стоны Никиты убеждали его, что это правда.
– Да когда же… На чью жизнь посягнул ты? – спросил он в изумлении.
– Всю жизнь упивался кровью человеческой, веселился слезами детей и вдовиц! Всех, кто попался мне, мытарю корыстному, обирал я, заботясь лишь о наживе! А кругом лились слезы несчастных бедняков, оставленных без крова и пищи, раздавались раздирающие душу крики осиротелых семейств, которых вопиющая нужда доводила до болезней…
Никита был сборщиком податей у князя Юрия Долгорукого, и его признание сразу стало понятным старцу.
«Но что же привлекло Никиту сюда, в обитель?» – подумал игумен.
И, как бы отвечая на этот вопрос, Никита продолжал:
– И сейчас вечером я собирался пировать со своими друзьями, тиунами и десятскими, на деньги, вырванные у беззащитной нищеты, но Господь вразумил мытаря непотребного…
– Значит, и тебе, как мытарю евангельскому, Господь оказал Свою Милость, – молвил отец игумен. – Да будет же Его святая воля!
– Пировать собрался… Жена варила ужин… Но что видел я с ней в котлах… О Боже, пощади Твое погибшее создание! – залился слезами Никита…
– Господь приемлет сердечное покаяние; не отчаивайся! – успокаивал Никиту старец. – Что же видел ты?
– Страшно и вспоминать, отец настоятель! Я видел кровь… человеческую, видел кости, головы, руки… человеческие…
– С нами крестная сила! – сказал игумен. – Да, – тяжело вздохнув, продолжал он, – это Господь наставил тебя, это Он, не желая смерти грешника, ждет твоего покаяния… Молись же Богу Всеблагому.
И старец положил свою руку на голову кающегося грешника.
– Молись Ему, Всеблагому! – продолжал он. – Господь видит немощь души твоей и даст тебе успокоение.
– Отец! – умоляюще обратился к игумену Никита. – Не дай и ты погибнуть мне в грехах моих, прими и меня под кров своей обители, как последнего из грешников, прими меня, блудного…
– Сын мой! – отвечал игумен. – Тяжел наш подвиг: снесешь ли его? Испытай себя, чтобы не был твой шаг последний хуже первых.
– Как верный раб готов исполнить твою волю, отец мой, учитель мой! Что прикажешь мне делать?..
Помолчав минуту, старец встал и, указав на монастырскую стену, уже властно и решительно сказал:
– Там пробудь три дня, там испытай себя!..
И удалился.
А смиренный мытарь, выйдя за ворота, проливал горькие слезы покаяния. С наступлением дня он всем, кого встречал у ворот монастырских, рассказывал о грехе своем. Но этот подвиг внутреннего сокрушения показался ему недостаточным. На следующий день он нашел возле монастыря окруженное камышом болото, снял свои одежды и нагой сел в тростник, предав свою плоть на съедение кровопийцам-насекомым. «Телом грешен я, телом и страдать должен», – думал он и безропотно переносил страдания. Пауки и мошки осыпали Никиту, и кровь его ручьем лилась по всему страдальческому телу.
В крайнем изнеможении предстал он пред настоятелем, когда тот на третий день позвал его к себе. «Спаси, отче, душу мою!» – была единственная и на этот раз просьба Никиты.
И старец не оттолкнул его, приняв в число иноков своей обители.
Много потрудился в этой обители бывший угнетатель беззащитных собратий, и много помогла страждущим молитва праведника. Кроме обычных монастырских подвигов преподобный изнурял себя тяжелыми веригами, а на голове носил каменную шапку. Жил он на столбе, с которого спускался вниз только в подземелье храма Божия через потайной ход, вырытый им от столба. Так и на общественной молитве он был в уединении!
В нужде
1
Мороз все крепчал. В клетушке, отгороженной от конюшенного сарая, служившей дворнику Никифору жильем, становилось все холоднее. Единственное крошечное оконце покрылось толстым слоем льда в виде ветвистого дерева. Никифор, мужик лет тридцати пяти, ежась от холода, злобно посматривал на холодную чугунку: топить ее было нечем.
Жизнь его была соткана из нужды.
Ушел он на заработки за тысячу верст от деревни. Благодаря земляку нанялся к богатому старообрядческому иконописцу в дворники. Дом был небольшой – двухэтажный лицевой флигель; внизу жил семейный купец-кожевник, наверху – сам старый хозяин. Жалованье ему положили шесть рублей в месяц, которые он целиком отсылал в деревню, где оставил жену и малолетку-сына. Видя его бедность, жена кожевника, нижнего жильца, отпускала Никифору от себя пищу.
Кутаясь в залатанный полушубок, прожил он в отведенной ему конуре три зимы и, вот, узнал стороной, что в деревне с Аксиньей – его женой, взятой им в сиротстве без приданого, – обращаются его домашние дурно: попрекают, бранят, а иной раз и поколачивают. Забрал Никифор у хозяина вперед денег и выписал к себе Аксинью с сыном. Но с этого времени повалились на него беда за бедой. Купец-кожевник выехал, подарив ему на прощание старую чугунку и рубль денег; в нижний этаж переехала артель ломовых извозчиков, которая даже дрова колоть заставляла в присутствии своей ключницы. Деньги забраны, и пришлось перебиваться с хлеба на квас.
Зима завертела студеная. Как-то Никифор нес в свою клетушку несколько поленьев и попался на глаза хозяину. Раскричался тот: мол, как смел дрова без спроса взять? Думал Никифор, что со двора сгонит, но кончилось тем, что взял к себе ключи от сарая. К довершению несчастья, его маленький сын не вынес стужи и метался в бреду, укрытый всей одеждой, какая только нашлась в клетушке. Аксинья с побледневшим лицом и ввалившимися щеками стояла около сына.
– Никифор, – проговорила она, – дай я твоим полушубком его укрою, пойдешь дрова колоть – согреешься!
Дворник снял полушубок и пошел через двор к хозяину за ключом от сарая. Он застал старого иконописца в горячем споре с одним из своих заказчиков; старик был не в духе и почти швырнул дворнику ключи.
Никифор не уходил и мялся у порога.
– Чего тебе? – строго спросил хозяин.
– Да вот поленца три хотел у вас попросить, Прохор Савельич…
– Поздно вздумал просить, зачем раньше без спроса брал? Не дам! Не первый год живешь, сам знаешь, без дров тебя нанимал, должен был сам заботиться.
– Эх, эх! Невзгода у меня, вон экие дела! – промычал Никифор.
– Ну, а я при чем? Ты думаешь, мне дрова с неба валятся, небось, семь рублей сажень, а в ней много ли полен?
– Смилостивься, Прохор Савельич; мальчонка у меня помирает, обогреть бы…
Но старик уже снова завязал спор со своим заказчиком и только сурово посмотрел на дворника. «Еще со двора сгонит!» – подумал Никифор и, почесывая в затылке, поплелся к двери.
– Я в окно посмотрю! Попробуй возьми хоть полено! – бросил вслед ему хозяин.
Принеся в мастерскую вязанку расколотых дров, Никифор уже не застал там заказчика. Старый иконописец был один и пересчитывал только что полученные деньги. Потом он подошел к комоду, выдвинул боковой ящик, достал объемистый бумажник и развернул его. Никифор увидел такое необыкновенное для него количество денег, что был ошеломлен. Хозяин запер ящик и сгорбился у стола за работой, а дворник все не мог оторвать глаз от комода, в котором скрывалось так много денег.
«Хоть бы чуточку взять из этого бумажника, на все, на все хватило бы!» – раздумывал он, растапливая печь.
Толстый бумажник весь день не шел из головы бедняка; он колол дрова, носил воду, а в уме рисовались картины довольства при обладании хоть чуточкой денег из этого бумажника.
Придя домой, он невольно поморщился на тюрю, приготовленную к обеду.
«Тогда бы щи горячие ел!» – подумалось ему.
– Что ж дров-то? – с укором спросила его Аксинья.
– Как сычи смотрят, не возьмешь! – уныло ответил Никифор. – Со двора уходить не велит, да и пойдешь, так кто даст в эту пору? Построек теперь нет, что б щепок, например…
2
Наступил ранний зимний вечер.
В доме все успокоилось. Никифор ворочался с боку на бок на жесткой лавке, заменявшей ему постель; в голове его засел хозяйский бумажник.
Хоть бы чуточку из него взять, были бы и дрова, и щи, и молока бы можно купить сыну; может, полегчало бы…
– Пить, пить! – застонал ребенок.
– Никифор, а Никифор! – послышался из темноты голос. – Не поить же мальчонка ледяной водой, ступай, выломай хоть доску!
Дворник вспомнил, что позади дровяного сарая одна из досок еле держится: вынул ее и достал дров.
Он вышел во двор. Морозный ветер крутил снег. В соседнем доме выла на ржавых петлях ставня, соскочившая с крючка.
Вместо того чтобы идти к сараю, Никифор вышел за ворота и вскинул голову на окно хозяина. Мастерская освещалась лампадой.
«Спит, значит! – решил дворник и, пройдя обратно в калитку, остановился на дворе в раздумье. – Взять чуточку дров или чуточку денег – разве не один грех?..»
3
Старый иконописец не спал. С некоторых пор его начала снедать тоска. Она явилась непрошеной, вместе со старостью, и с каждым днем все усиливалась: старик чувствовал себя одиноким. Припомнил он всю свою семидесятилетнюю жизнь, с ранних лет учения в иконописной мастерской, где только слышалось пение псалмов; ни смеха, ни праздных разговоров не допускалось; где он начал с растирания красок на яичном желтке и квасе и слушал пояснение мастера, что краски на яйце долгие годы будут стоять и не полопаются; где он сделался мастером. Все дни его долгой жизни были схожи между собой, как капли воды… Ни одного светлого пятнышка в прошлом. Не было зла, но некому и добром помянуть. К чему послужил труд, куда денутся накопленные деньги, а между тем смерть, может быть, близко…
За дверью на лестнице скрипнула ступень, как бы под тяжестью чьей-то ноги. Старик вздрогнул и прислушался. Дверь тихо отворилась, и вошел Никифор. У старика захватило дух в предчувствии чего-то недоброго. Он понял: что-то должно-таки случиться. Зазвонили колокола; из руки дворника вывалилась стамеска и с грохотом покатилась под стол…
Хозяин опустился на лавку. Звуки благовеста полились, удар за ударом. Никифор бухнулся перед хозяином на колени.
– Прохор Савельич, смилуйся, выслушай меня; ведь я теперь все одно пропащий человек! Мальчонку-то, жену-то неповинных не губи, не выгоняй на мороз, а уж со мной делай, что хочешь!
Старик молчал и порывисто крестился на икону в переднем углу.
– Я сам перед тобой виноват. Давеча в каких пустяках отказал, а ведь знал твою нужду, – значит, я сам и толкнул тебя на такое дело, – проговорил он наконец.
– Прохор Савельич, неужто прощаешь? – прошептал Никифор.
– И со двора не сгоню.
– Спасибо, спасибо, Прохор Савельич; как верный пес буду служить, в огонь за тебя пойду, то есть…
– Погоди! – остановил его старик. – Больше для ребенка делаю; о нем и надо подумать; ты-то сам не совсем прав, благодари Господа, что Он тебя хранит!.. Что за хворь у твоего малыша?
– Горит весь, огненная сыпь, Прохор Савельич. Совсем плох…
– Корь, значит. А сколько ему годков?
– Десятый, хозяин.
– Мальчишка смышленый, я его видел.
Старик задумался. Никифор стоял не шелохнувшись, боясь нарушить его думу. В комнате гудел благовест.
– Бери тулуп! – приказал своим обычным строгим голосом Прохор Савельич. – Заверни мальчика, принеси сюда, я его вылечу.
Никифор сорвал с гвоздя тулуп и бросился в свою клетушку.
Мальчика принесли в теплую комнату уложили в постель. Прохор Савельич велел затопить печь и согреть воды. Он заварил какой-то травы и напоил больного. Мальчик перестал метаться и крепко уснул.
– Вот что, Никифор, – проговорил старик, отпуская дворника домой, – твоего сына я решил взять к себе в ученье, передам ему тайну иконописания, как и мне ее люди добрые передали, а будет из него прок – все ему оставлю, чтобы молился о моей грешной душе… Ну, ступай, ступай, – поспешно проговорил он, заметив, что Никифор опять повалился ему в ноги. – На вот, – добавил он, протянув дворнику ключи от дровяного сарая. – доверишь людям, так меньше возьмут.
И еще, хороший шмат сала дал он бедняку.
«С виду суровый, а какой человек-то!» – раздумывал Никифор, проходя по двору. Метель улеглась. Сияющий счастьем, он спешил обрадовать измученную Аксинью…
Из темной, нетопленой клетушки горячая молитва бедняков вознеслась к небу, сияющим мириадам звезд, из которых одна туманным кружочком заглядывала в морозное стекло крошечного оконца.
Окрестили
Терпеть не могли в Конезерье, глухой деревушке, затерявшейся среди болот и лесов N-ской губернии, лесника Анфима. Мало того что терпеть не могли, врагом его все конезерцы считали, хотя Анфим никоим образом ни вражды, ни озлобления не заслуживал. Был он мужик честный, даже добрый, но жизнь в лесу наложила на него свой отпечаток, сделала его неразговорчивым, угрюмым, сумрачным каким-то.
Не могли простить конезерские крестьяне Анфиму, что у него в лесу «каждое лыко в строку было». Зорко берег он лес, порубщикам потачки не давал, кто бы ни попался – кончено, сцапает – и к начальству.
– Смотри, Ап фи мушка, – предостерегала лесника жена, – была я надысь в деревне, дюже на тебя мужики грозились.
– А пусть их себе! – совершенно равнодушно отвечал Анфим.
Он и в самом деле не страшился никаких угроз, но все-таки они заставляли его отдаляться от людей. Кому же приятно бывать там, где можно встретить к себе одну только ненависть и вражду? Анфим вначале, когда только еще поступил лесником, мучился одиночеством, искал сближения с конезерскими крестьянами, но, встретив отпор, махнул на них рукой, да так и зажил своей совершенно обособленной от всего остального мира жизнью.
Жил Анфим со своей молодой женой Дарьей в глухом лесу, верстах в трех от Конезерья. Глушь там была непроходимая. Сосны да ели кругом стояли высокие, стройные, но безмолвные. Избушка лесника на прогалине ютилась далеко в глубь от опушки. Тут у Анфима с Дарьей все хозяйство было: огородик, птичник, сараюшки, хлев, так что лесник мог жить, ни за чем в Конезерье подолгу не обращаясь, – все у него было.
Случилось в доме Анфима и Дарьи событие, обычное в каждой семье, но всегда вносящее новую струю в заурядный распорядок жизни: родился ребенок – сын…
Это было первое дитя у сурового лесника.
Когда Анфим увидал сморщенное красное личико младенца, услыхал его первый жалобный писк, которым тот заявил о своем появлении на свет Божий, словно просветлело его обычно сумрачное лицо, глаза увлажнились слезами радости, а губы, что бывало очень-очень редко, сложились в довольную счастливую улыбку.
– Живи, расти большой, – тихо-тихо проговорил Анфим, – вырастишь, я тебя на всякого зверя научу ходить, весь лес, каждую тропку в нем, покажу тебе. Как помру – ты за меня лес береги…
Анфим чувствовал себя в эти мгновения счастливым, безконечно счастливым.
Как и всегда, когда его сердце бывало полно каким-то чувством, Анфим быстро оделся, засунул за кушак топор, взял ружье и пошел из избы в лес, который он любил всеми силами своей чуткой простой души.
Так и теперь поспешил он в лес пережить в его чудном одиночестве свое чувство кроткой радости.
– Анфимушка, – как-то тихо и вместе с тем робко позвала мужа Дарья, в то время, когда он был уже на пороге.
Тот остановился, взглянул на жену и спросил:
– Чего тебе?
– Да вот как же быть-то нам… сынишку нам с тобой Господь послал… Окрестить бы теперь нужно.
– Так что же, за чем дело стало?
– Уж не знаю, крестных где найти… Конезерские-то, сам знаешь, как тебя любят: высмеют нас, а пойти не пойдут…
Анфим криво усмехнулся. Его хорошее настроение было испорчено: в словах Дарьи было много правды.
– Первого встречного, кто бы он ни был, позову, никто греха на душу не возьмет, от такого дела отказаться! – проговорил он и, хлопнув дверью, вышел из избы.
Была ясная зимняя ночь, мороз; полная луна лила свой серебристый свет с поднебесной выси, иней на ветках раскидистых елей и пушистых сосен так и сверкал разноцветными огоньками, отражая в своих кристаллах лучи лунного света. Воздух был чист, дышалось необыкновенно легко. Анфим чувствовал, как кроткий мир осенил его душу, наполнил сердце тихой любовью к брату-человеку.
«Господи Ты мой Боже! – думалось ему в то время, когда он шагал по лесу, направляясь по привычке к тому месту, где чаще всего бывали порубки. – Господи, как хорошо, как тихо… Как покойно! И зачем это люди всегда друг на друга злобятся, враждуют!»
Хрустнувшая невдалеке ветка, а затем какой-то шорох на мгновение насторожили лесника, но вокруг стояла такая тишина, что Анфим успокоился и снова погрузился в свои думы.
Он сделал еще несколько шагов. Вдруг сзади раздался треск ветвей, и в тот же момент он почувствовал, что кто-то чем-то очень тяжелым ударил его.
– Попался теперь! – слышал Анфим над собой хриплый злобный шепот. – За все и за всех теперь рассчитаюсь, а тебе, окаянному, живому не быть.
По голосу Анфим сейчас же признал в напавшем на него Паньку Васюткова, своего заклятого врага.
Анфим был очень силен, но Панька был сильнее, притом нападение было так внезапно и положение столь неудобно, что он сейчас был всецело во власти своего врага.
Тряхнувшись, лесник успел освободиться настолько, что мог приподнять голову и вдохнуть.
– Пусти, Панька, не балуй! – крикнул он.
– А, узнал, ирод! – дико засмеялся тот. – Шалишь теперь… Так я тебя и пущу! к Все равно в Сибирь идти… I Так не даром, по крайней мере… А вот он, топор-то твой, им же тебя и укокошу! С ужасом почувствовал лесник, что Панька выдернул у него из-за кушака топор.
«Конец! – промелькнула с быстротой молнии мысль. – Сейчас порешит… И ребеночка окрестить не придется…»
Так вот, словно наяву, представилась ему крохотная фигурка новорожденного сынишки, его безцветные «молочные» глазенки, морщины на красном опухлом личике; в ушах лесника так и зазвенел писк ребячий…
Словно новые силы влились в его тело. В тот самый миг, когда обезумевший Панька уже опускал топор, Анфим с неимоверной ловкостью вывернулся из-под удара. Не ожидавший такого, мужик опустил руку и по инерции кувырнулся в снег. Моментально Анфим уже очутился на нем.
Завязалась борьба. Теперь преимущество было у лесника. Через две-три минуты он уже вязал Паньке кушаком руки. Потом встал, тяжело вздохнул полной грудью и огляделся.
– Что же мне теперь с тобой делать, Панька? – отрывисто спросил у него лесник.
– Что? Хошь убей, прав будешь; ведь я тебя порешить хотел; твой верх, твоя и власть, ирод ты этакий, – хрипло проговорил Панька, – убивай, не я – другой найдется… Всем миром порешили тебя извести! Убивай же!
Анфим коротко засмеялся.
– Нет, зачем тебя баловать! – сказал он. – Убивать я тебя не буду, а к начальству сволоку… Вот посадят в острог-то, я тебе грошик и калачик принесу!
Он, наслаждаясь своим торжеством, опять взглянул на побежденного врага, и сердце как-то болезненно сжалось.
– Ну, Панька, что же мне с тобой делать-то?.. – еще раз спросил он после некоторого раздумья.
– Прости, Анфим Гаврилович, Бога ради!
В голосе Паньки слышалось столько безысходной тоски и муки, что Анфиму стало не по себе. Панька, очевидно, оценил весь ужас своего положения.
Злоба, ослепившая его, утихла, он понял, что лесник может засадить его в тюрьму; страх всецело овладел им, с замиранием сердца ждал он ответа и вдруг услыхал словно чужой голос, совсем не лесника:
– А кумом, Панька, ко мне пойдешь?
Панька в изумлении молчал, думая, что Анфим издевается над ним. Потом, когда первое изумление прошло, он разразился страшной бранью.
– Да ты чего лаешься-то, – остановил его Анфим, – толком в кумовья зову, пойдешь, что ли?
Его голос не допускал сомнений в искренности предложения.
Панька чутьем понял это.
– Ты это как зовешь, нарочно, что ли, в издевку? – все еще не веря себе, спросил он.
– Ну, вот еще! – добродушно рассмеялся Анфим. – Пойми ты, мальчонка у меня народился, окрестить надо, вот тебя и зову, Павел Спиридонович, сделай милость, будь крестным мальцу моему.
– И крестная будет, найду, все найду! – воскликнул Панька.
В самом хорошем настроении, довольные друг другом, умиротворенные, пошли недавние враги по лесу, толкуя о предстоящих крестинах. Дарья не знала, что и подумать, когда увидала мужа, входящего в избу с заклятым врагом.
– Кума, жена, веду! – торжественно объявил, к еще большему изумлению Дарьи, Анфим.
В Конезерье верить не хотели, когда узнали, что Панька намерен покумиться с «иродом-лесником», но когда стало известно, что произошло между ними в лесу, все конезерцы словно нового человека увидали в леснике Анфиме.
В ближайшее воскресенье после вечерни принарядившийся Панька вместе со своей сестрой Матреной важно выступал по дороге из сельской церкви к лесу Сынишка Анфима только чтобыл окрещен, и кум с кумой несли его в отцовскую избу Панька с великой любовью взгядывался в спеленутого ребенка и понимал, что вот этому младенцу, только что присоединившемуся к Церкви Христовой, и он, Панька, и все его соседи-конезерцы обязаны душевным просветлением, которое дало им возможность увидеть в леснике Анфиме не свирепого врага, а доброго, хорошего человека.
Воскресение
Сердце мое страдало безмерно; среди крикливой толпы душа моя изнывала в одиночестве, как узник в темнице, где нет воздуха, света и свободы.
Мне противно было смотреть на свет солнечный, потому что он не озарял души моей; со злобой и болью прислушивался я к шороху и кипению жизни, потому что она гнала меня от себя; я ненавидел людей, ибо они не щадили меня и уязвляли мое самолюбие острием ядовитого слова.
Где было утешение – я не знал; где лежала милость – я не видел, потому что глаза мои разучились видеть, а уши отказались слышать, и тело мое, погруженное в истому печали, как бы распадалось на части.
Как острый нож садовника срезает живые и сочные побеги с распускающихся древесных ветвей, так скорбь моя срывала всякое движение пылкого сердца и выметала вон.
Как вихрь, налетевший из степи, обрушивается на город, срывает прочно положенные крыши, поднимает с земли песок и прах и, крутя, уносит их и бросает вдаль, так сила отчаяния проносилась в моей душе и вырывала из нее с корнем всякую мысль – и думу, и грезу.
И вот, когда буря пришла и подхватила меня, как щепку сорную, и отвеяла из души моей сознание, я ужаснулся сам себе, я возненавидел бесцельность моей жизни и позавидовал жребию Иудину и захотел получить свою долю в нем.
Но кругом были люди. Я знал, что они обрадуются моей смерти, но знал, что они не позволят мне умереть на их глазах. Ибо они были не только злы, но и трусливы.
Тогда я пришел к лавочнику, который торговал поблизости разной мелочью, и попросил у него веревку.
– Вы, вероятно, в дорогу собираетесь? – догадливо спросил он.
– Да, в дальнюю…
– Вам для багажа? Для тяжелого? Для ценного? – осыпал он меня вопросами, суетесь за прилавком.
– О, нет! – ответил я. – Совсем не для ценного и тяжелого: так – дрянь… рухлядь… Если и рассыплется, не жаль будет.
– Вот, извольте – самая крепкая бечевочка…
Выйдя от него, я решил идти за город, где мне была известна роща, редко посещаемая людьми. Там знал я березу, старую, развесистую, с толстыми сучьями. Там казалось мне удобным выполнить свое намерение.
И вот я отправился.
Но странно: пути до рощи было не больше часа, а я шел уже два часа и не видел конца улицы, по которой шел.
И еще казалось мне странным: эту улицу я знал с детства, на ней, бывало, играл со сверстниками, а между тем теперь не узнавал ее.
Быть может, я как-нибудь свернул в незнакомую улицу? Но память говорила мне, что я шел прямо и нигде не сворачивал.
И дома, стоявшие по сторонам, были брошены и забыты людьми. Словно рука проклятия наложила на них силу мышц своих. Даже кошки не ютились под их кровом, и собаки не оглашали лаем двор.
Через настежь открытые двери и окна глядела черная пустота. Впалыми глазами провожала она меня сзади и встречала спереди.
Я шел еще и еще, но та же пустота безжизненным оком встречала и так же провожала меня из каждого окна и двери.
Она дышала враждой. Она бросала в меня заостренные стрелы злобы, глухой, затаенной злобы, и больно ранила мою душу.
Мне стало жутко… А впереди все были дома… дома…
Пустота шла на меня с боков; пустота гнала и теснила меня сзади. Она была не только пустота, но и безмолвие. Грозное безмолвие.
Я начал чувствовать страх.
Я ускорил шаг. Я пошел быстро-быстро. Но пустота наваливалась на мои плечи, как бремя, как кошмар. Она одолевала меня. Ноги мои подкашивались…
А впереди все были дома… дома… пустые дома.
Вдруг я увидел перед собой старца. Волосы его были белы, как снег. Борода его блистала, как чистое крыло лебедя.
Ах, как я обрадовался ему!..
Я схватил его за руку, я сжал ее в своей руке, так что кости старика захрустели. Но он не отнял своей руки, не оттолкнул меня, он только улыбнулся блаженной, святой улыбкой!..
– О, скажи мне, скажи, ради Бога! – воскликнул я. – Что это за улица? Кончится ли она когда-нибудь? И куда ведет она?.. Скажи мне, старик…
Он поднял на меня свой взор. Что это был за взор! Ясный, святой, как отражение неба в морской глубине! Казалось, он проникал на самое дно моей души, и мне становилось хорошо, как больному от лекарства.
Он говорил спокойно и убедительно; он говорил, как мудрец, – каждое слово его было мудро.
– Сказать ли тебе, – говорил он, – что это за улица? Эта улица – путь жизни твоей! И пустота, которая гнетет тебя, есть пустота душевная, которая следует за делами твоими и встречает тебя на каждом шагу. Длинна эта улица, но я послан возвестить тебе, что уже близок ее конец.
– Кто же ты, – спросил я, – и кем поставлен на моем пути?
– Я – утешение. А кто послал меня, ты вскоре увидишь его и без слов узнаешь, и он научит тебя всему, я же открываю тебе, что недалек теперь конец этой улицы. Иди же скорее, спеши, пока можно, пока не погас день и не дохнул вечер. Тогда будет поздно. Ибо не трудятся при свете звезд, но при свете солнца.
Так сказал он. И, побуждаемый внутренним стремлением, я бросился вперед. Я не шел, я не бежал, я летел!
Я позабыл обо всем: я не видел ни домов, ни окон, ни дверей. Они не теснили меня, и безмолвие их не преследовало меня.
Вдруг я опомнился и остановился. Передо мной не было ни улицы, ни домов: я стоял среди пустынного поля, как одинокое дерево.
И увидел я: идет через поле Муж зрелого возраста в белоснежных одеждах. Лицо Его сияло, как солнце. Взгляд Его был, как молния.
И никто не говорил мне, кто Он, но сам я узнал Его, потому что Его знает всякое творение, когда чувствует приближение Его.
И было имя Его – Делатель.
Он шел молча, касаясь ногами крепких стеблей трав и нежных венчиков цветов, но не мял их. Цветы распускались под стопою Его и курились ароматами, как жертвенные благовония, а травы загорались алмазными брызгами рос вечерних.
Над челом Делателя блистала звезда утренняя. В руке Его был топор, отточенный на дело. И знал я, что Он идет делать дело Свое.
И шел Он своим путем, каким ходил от века.
Я звал Его к себе, но не говорил ни слова и жеста не производил. Но Он видел и разумел, что я зову Его и нуждаюсь в Нем, и потому пошел ко мне, легкий, как дым кадильный.
Когда Он приблизился, я не мог вынести славы лица Его, и блеска взора, и силы, которая исходила от одежд Его, как веяние бури.
Я пал перед Ним ниц, на ложе травы, и умолял Его движением сердца:
– О, помилуй меня! Помилуй меня!
Он сказал мне:
– Безумный! Куда ты замыслил бежать от лица Моего и от руки Моей?.. Куда захотел ты унести душу свою от гнева Моего? Отделишь ли тело от костей своих и снимешь ли скорби с души своей?..
Я трепетал от голоса Его и не мог сказать Ему ни слова. Но Он слышал слова мои, которых я не произносил, и внимал мольбе, которой я не высказывал языком моим.
Снова говорил Он:
– Вот я взял топор и отточил на точиле гнева Моего и иду в рощу, которую я насадил рукой Моей на поле Моем: всякое хилое и уродливое дерево, негодное для постройки, Я срублю на дрова и сожгу в печи, и дымом их наполнится воздух.
И, когда я молчал, опять сказал Делатель:
– Если Я не щажу волоса на голове человека, то думаешь ли, что голову его пощажу Я? Не виновнее ли голова, чем волос, растущей на ней?.. Никто не наказывает посоха за то, что он приводит к яме, но сам идущий укоряет себя за то, что не думает, куда идет. А ты думал ли и размышлял ли, куда идешь?..
Так как я был в страхе и не ответил на вопрос, Делатель продолжал:
– Бремя наложил Я на плечи твои, сладкое бремя жизни! Я сказал тебе: неси это бремя к ногам Моим, и Я дам тебе за него награду великую. Ты же задумал бросить его на пути и удалиться, куда хочешь, потому что в безумии своем не видишь, что нет иного пути, кроме Меня. Я – путь для всякой ноги. Но знает это тот, кто несет бремя свое ко Мне, а кто не знает Меня и пути Моего, тот не соблюдает бремени своего.
И опять возгласил Делатель:
– Вот я день и ночь, и утро, и вечер утруждаю Себя и не даю Себе отдыха, хотя бы и мог, а ты кто, что хочешь избегать дела, к которому Я приставил тебя?.. Я веду по пути Моему всякую плоть: и дерево, и птица, и зверь, и самая малая пылинка требуют от Меня заботы, и я пекусь о них, и ни один из них не брошен Мной. А ты не хочешь иметь попечения и о себе самом. Я дал тебе жизнь, как богатство, а ты хочешь развеять ее по ветру, как сор!
Я трепетал и слушал.
– Я радуюсь радостям вашим, скорблю печалями вашими и плачу горько о всех беззакониях ваших, которые вы отмериваете полной мерой, и никогда не подумал Я бросить вас и уйти от лица вашего. Ибо с кем будете вы, если Я вас оставлю? Я питаю и укрепляю дух ваш от изобилия духа Моего, и вы ли ищете покинуть Меня?.. Встань, ленивый и нерадивый раб, сними сон с очей твоих и делай дело твое во всякое время, как и Я делаю! Когда я поднял голову, никого около меня не было. Я находился в роще, в которую шел, и под деревом, которое выбрал заранее.
Солнце уже садилось, и все вокруг меня ликовало в вечерних лучах.
Душа моя была полна сияния, и никогда еще не смотрел я на мир с такими восторженными, с такими пламенными слезами!
Я воскрес, и мир для меня ожил…
Вещее слово
Уже около года прошло, как семнадцати летний великий князь Иван Васильевич венчался на царство и вступил в брак с дочерью умершего окольничего Романа Юрьевича Захарьина-Кошкина Анастасией, но Москва еще торжествовала. Больно диковинными, но вместе и отрадными сердцу москвичей казались первые шаги юного великого князя…
Как известно, в середине XVI века из разрозненных мелких клочков Русской земли выросло могучее и грозное Московское государство. Удельные смуты миновали, в Новгороде и Пскове замолкли бурные веча, и не страшны стали для Московии Литва, дикая орда и другие, грозившие доселе русскому государству «бесермены» и «латины». Русский народ вздохнул спокойнее под возросшей до небывалой высоты властью московского самодержца.
Но умер великий князь Василий Иванович, и спасительная для русского государства власть в руках четырехлетнего наследника Русского престола Ивана Васильевича пошатнулась: во главе правления стала великая княгиня Елена, деля власть со своим братом Михаилом Глинским и другими видными боярами. Скоро начались неурядицы: бояре-правители недолго оставались у власти, под них скоро подкапывались другие искатели власти, и тем обыкновенно приходилось оканчивать свои дни если не под секирой палача, то в заточении или ссылке. Но пока жива была опекунша малолетнего великого князя Елена, бояре-правители все же не решались и не могли вершить все дела государственные по своему личному произволу: мать великого князя Ивана Васильевича не раз отстаивала его царственные права.
Прошло четыре года, и восьмилетний самодержец Московского государства остался круглым сиротой: великая княгиня умерла. Очутился Иван Васильевич под опекой бояр; началось боярское правление, а вместе с ним смуты на Русской земле: временно обретавшие власть бояре самовластно заключали в темницы и казнили по своему усмотрению, расхищали казну; сурово и даже дерзко обходились и с маленьким государем. Никто – особенно из знатных бояр – не мог быть спокоен за свою жизнь, за свое имущество, плохо приходилось и незнатному, «черному» народу, который должен был выносить на своих плечах всю тяжесть грабежей и хищений.
– Где царь – тут и правда, и страх, и гроза; без царя же – земля вдова, – сложилась в это время у русского народа поговорка.
Понятно, с каким восторгом встретила Москва, а с ней и вся Русская земля, радостную весть о том, что боярскому правлению пришел конец и что великий князь желает венчаться на царство…
Вскоре за венчанием на царство с еще большей торжественностью и пышностью отпразднована была и царская свадьба. По словам летописца, митрополит и бояре плакали от умиления, когда семнадцатилетний Иван Васильевич объявил им о своем решении жениться, и притом, не иначе как на русской.
– Если я возьму себе жену из чужой земли и в нравах мы не сойдемся, то между нами дурное житье будет; потому хочу жениться в своем государстве; на ком Бог даст по твоему благословению, – так пояснил митрополиту молодой государь свои побуждения жениться непременно на русской.
– Умный и властный будет наш молодой государь, – говорили торжествующие москвичи, празднуя воцарение и женитьбу своего царя. Вино и меды лились широкой рекой. Пиры следовали за пирами, сменяясь, в свою очередь, разными играми и забавами.
Только в царском тереме это разгульное веселье не находило себе места, и там уже давно текла жизнь своим обычным порядком. Жизнь Анастасии Романовны мало изменилась. Как и в своем девичьем тереме, молодая царица, являя образец настоящей «порядливой» хозяйки, по-прежнему лично вела все хозяйство. С раннего утра и до позднего вечера не знала она покоя, стараясь быть для всех своих слуг примером усердия и трудолюбия. Она не допускала, чтобы ее будили слуги, но сама будила их. Проснувшись с рассветом, молодая царица, жизнь которой в то время почти ничем не отличалась от жизни простой боярыни, давала всем людям работу и указывала порядок на целый день. Сама отличная рукодельница, она не любила сидеть сложа руки. Только по воскресным и праздничным дням работа в царском тереме сменялась скромной девичьей песней да безобидной шуткой царского шута-карлика.
Не веселились от души на московских пиршествах и несколько близких к царю бояр, подметивших, что женитьба мало изменила царя. Для всякого наблюдательного ума становилось заметным, что первые самостоятельные шаги молодого государя – его воцарение и женитьба, – породившие среди настрадавшегося за время боярского правления русского народа столько светлых надежд, могут остаться и последними. Многие видели, что, женившись, царь продолжал прежнюю беспорядочную и разгульную жизнь, что бояре Глинские по-прежнему заправляли всеми делами, что наместники их по-прежнему творили всякие насилия и неправды, что управы на них сыскать по-прежнему было негде…
Стали эти бояре задумываться и всячески умом раскидывать, как бы им половчее остановить молодого и, по-видимому, беспечного царя. И к тому же, крепко запали им в душу таинственные слова Саввушки-блаженненького о каких-то близких зеленых лугах, царевиче-горошинке, молодой жене – ременной узде и т. п. Чаще и чаще стали слышаться в красивом резном тереме молодой царицы сетования, жалобы нескольких близких бояр, являвшихся бить челом на боярский произвол, на отсутствие царского правосуда.
– С моим ли женским умом мешаться в высокие царские дела? – отвечала обыкновенно на эти сетования молодая царица, но царевич-горошинка глубоко запал ей в сердце… Еще более стала она задумываться над этим чудом-царевичем, когда сам Саввушка-блаженненький остановил ее на пути из церкви и заговорил о каком-то царевиче, зеленых лугах и ременной узде.
– И никак-то не выходит у меня из головы этот Саввушка-блаженненький, – говорила почти каждый день молодая царица своей ближней боярыне, уединившись с ней в свою любимую светелку, – не слыхала ли ты, Власьевна, кто он такой?
– Кто он, доподлинно мне неизвестно, – отвечала ближняя боярыня, – сам он называет себя Саввушкой, откуда – никому не говорит, а в народе его зовут блаженненьким; поговаривают также, что знавали некогда блаженненького Саввушку и в Новгороде, и во Пскове.
– Чтобы все это могло значить? На что указывает человек Божий, как ты полагаешь, Власьевна?
– Почитай, тут кроется что-либо вещее. Не стал бы Божий человек с тобой по-пустому заговаривать.
– Уж чудное очень говорил этот странник Божий; ты все упомнила, Власьевна?
– Все, светик мой; все до точности упомнила… Идем, это, мы от ранней обедни, ты, я, две сенные твои девушки, да твои бояре с царскими стрельцами. Идем, это, мы и уже, почитай, к самому терему подходим, как обгоняет, это, нас Саввушка и прямо тебе в ноги… «Свет ты наш красный-распрекрасный; идешь-то ты, – говорит Божий человек, – по зеленому лугу, да и не одна, а с зерном-царевичем, несешь-то ты с собой узду ременную, крепкую; пригодится она для коня – вихря буйного; угомонится наш сокол быстрокрылый». И умолк тут странник Божий… Все, свет мой, помню; все до самой тонкости, – отвечала ближняя боярыня.
– Ах, кажись, все бы я отдала, лишь бы открыл мне Саввушка то, о чем он говорил; родная Власьевна, будь мне кормилицей-матушкой, опроси только Саввушку, человека Божия, обо всем этом; а то, еще лучше, залучи ты его на вечер-другой ко мне в терем.
– Ничего не может быть этого, солнышко ты наше красное; третьего еще дня я посылала за Саввушкой верных людей, но нигде его люди мои сыскать не могли: скрылся он, говорят, из Москвы так же нежданно-неведомо, как и появился в ней. Куда ушел человек Божий, никому неведомо.
– Ах, грех какой, Власьевна. Из ума не выходит у меня этот Саввушка; что-то он, угодник Господень, хотел сказать мне? Какую тайну он имел в мыслях и предвозвещал? Ох, боюсь я этого предвозвестия, Власьевна.
– Чего бояться-то, светик ты наш ясный? Ведь странник-то Господень ничего, почитай, не предвестил тебе опасного. Царевич-зернышко – это от Господа, – дал бы только тебе Господь эту радость неизреченную. А все остальное так похоже на то, о чем тебе часто сказывают ближние бояре… О чем же тужить, солнышко ты наше ненаглядное? Дал бы только Господь Милосердый и тебе, и всем нам ту великую милость, о которой возвестил Саввушка-блаженненький…
– Дал бы Господь, – шепотом отвечала молодая царица и, набожно осенив себя крестным знамением, с тяжелым вздохом удалилась во внутренние покои.
И скромные молитвы в царском тереме были услышаны; вещее слово Саввушки-блаженненького скоро сбылось. Родился у царя Ивана Васильевича первенец – царевич Димитрий; чаще и чаще стал наведываться молодой царь к жене своей любимой; веселые пиры и разные потехи мало-помалу начали сменяться скромными забавами и играми с новорожденным младенцем-царевичем, – и скоро приунывшие было в последнее время москвичи воспрянули духом.
– Действительно, умный и властный у нас молодой государь; дай только Господь его царице много лет здравствовать; крепко, кажись, повернула она его к лучшему! – волнами разносилось по всему необъятному московскому государству, когда Иван Васильевич начал новое свое царствование.
– Люди Божии, дарованные нам Богом, молю вас ради Бога и любви к нам!.. Ведаете сами, что я после отца моего остался четырех лет, а после матери восьми; сильные бояре и вельможи не радели обо мне, властвовали, как хотели… Много корысти и хищений творили; я же, по моей молодости, не слышал, не имел обличения против них… Теперь нам ваших обид исправить нельзя… Отпустите друг другу обиды, кроме очень больших дел. В этих делах и в новых я сам буду вам, насколько можно, судья и оборона; буду неправду уничтожать и похищенное возвращать! – так клялся молодой царь, начиная лучшее время своего царствования.
Сокол быстрокрылый, по вещему слову Саввушки-блаженненького, действительно угомонился…
Помянет Господь жертву твою!
Глухие раскаты грома, молния, змейками извивавшаяся над потемневшим небосклоном, и сильные порывы ветра предвещали непогоду. На гладкой поверхности Камельвского озера уже забегали мятежные волны, разбиваясь о борты медленно подвигавшейся вперед, тяжело нагруженной лодки. Рассыпаясь мелкими брызгами, они безсильны были запугать отважного купца вологодского, который, видимо, надеясь на свою силу крепкую, безбоязненно рассекал веслами бушевавшую стихию. Уже вечерело. Под напором могучих рук судно приближалось к цели – видневшейся впереди обители святителя Николая.
Эта близость еще больше ободряла удалого гребца, с детства привыкшего и к бурным завываниям ветра, и к капризам волны.
Каким отрадным, тихим уголком, наполнявшим душу миром и глубоким восторгом неземных наслаждений, представлялась ему эта обитель! Сколько дорогих воспоминаний о ней таило в себе его сердце, которое не раз просыпалось в своей дремоте среди будничных интересов, мелких и часто корыстных расчетов торговца! Здесь, в этой обители, он еще юношей был свидетелем той горячей веры и деятельной любви, которая царила во взаимных отношениях братии и яркой звездой сияла во всех делах ее любимого отца и учителя святого Стефана. И в зрелых летах мужества он умилялся душой, когда видел этого святого старца, окруженного толпой. Народ поджидал его, не уходил без утехи: и смятенный дух умел успокоить игумен, и горькой нужды телесной не забывал, раздавая просящим от скудных достатков своей обители. Лучшие минуты жизни провел купец в этой обители! И растворялось тогда его сердце состраданием, и с великим благоговением, с просветленной совестью подходил он к старцу.
– Прими, отец святой, – говорил он ему, – прими на дело доброе и от меня, многогрешного; помяни в святых твоих молитвах раба Божия Гавриила.
– Помянет Господь жертву твою! – отвечал игумен словами пророка Давида. – Не оскудеет рука твоя, только береги ее от соблазна; не забывай, сын мой, что корысть гнездится в сердце! Да благословит же тебя Господь за эту жертву.
И, обласканный игуменом, видя, как эта милостыня тотчас же раздавалась щедрой рукой неимущим, он испытывал как бы облегчение от душевного гнета, будто тяжесть сваливал кто с его сердца, светлее становилась совесть…
Наступал час будничной жизни, с ее повседневными заботами, но и тогда прорывались воспоминания о старце, и сколько раз дивный облик игумена спасал его душу от порока!..
О богоугодной жизни настоятеля знали далеко за пределами монастырскими. И уже слова о том, что он променял богатство и почесть знатного рода на жизнь отшельника, долго жил в уединении, питался травами да кореньями, терпел невиданные оскорбления и насмешки, располагали к нему сердца, в которых тлела искра высоких порывов человеческого духа. Потому-то, лишь только получил он откровение свыше основать обитель, возле него собралось великое множество иноков, желавших вручить ему свою волю, потому-то в его обители толпились тысячи паломников. Усердным почитателем этого подвижника был и купец Гавриил.
Вот уже несколько лет игумена не было в живых. Он мирно отошел ко Господу 12 июня 1542 года. Но память о нем жила в сердцах всех, кому привелось услышать его отеческое слово, и его обитель была дорогим наследием для осиротевшей братии.
Сюда направлял свою ладью и купец вологодский Гавриил. Но Промыслу угодно было испытать его сердце, которое так часто раскрывалось для восприятия заветов старца. Буря с каждой минутой усиливалась. Не уставал пловец, но неотвязчивы были и приступы стихии. Вот уже волна начала заливать лодку, которая готова была погрузиться в пучину. Надежда на спасение иссякала, и с каждым ударом весла руки готовы были опуститься в безвольном отчаянии. Но не потерял надежды купец. Видя свое бессилие, он призвал на помощь старца, к которому теперь держал свой опасный путь.
С яростью налетел вал на судно купеческое, грохнул о борта его дощатые, залил водой. Но едва обезумевший от ужаса купец испустил крик, как вдруг перед ним вырос святой игумен.
– Не бойся! – изрек он свое приветливое слово. – Господь внял твоей молитве и послал меня избавить тебя от потопления.
– Кто ты? – в трепетном ужасе прошептал несчастный, не веря глазам своим.
– Разве ты забыл меня? А я – разве могу забыть, как подавал ты милостыню в обители?
Очнулся купец, но видения уже не было. Через несколько часов он уже был в обители Святителя Николая, и монастырская братия с благоговением слушала его рассказ о дивной помощи святого игумена.
Боярин и пустынник
Зашелестел, зашумел непроходимый бор, со всех сторон окружавший рощинское озеро, закивал густолиственными вершинами, застонал, будто зверь лесной. Знать, почуял бурю грозную!
Заиграло своими волнами и озеро, потемнело, затуманилось; замутилась струя светлая…
Жутко было на сердце боярина Завалишина, который один-одинешенек стоял в эту минуту в лесной чаще, не зная, куда идти дальше, как возвратиться под кров родной.
С грустью, с тревогой озирался он во все стороны. Ни тропинки, ни просвета! А гроза надвигается… Осенив себя крестом, направился заблудившийся в лесу боярин, куда глаза глядят.
– Да, никак, жилье? – промолвил он через несколько минут, не веря глазам своим, и, глубоко обрадованный, ускорил свой путь по направлению к видневшейся вдали хижинке.
Затрещал валежник под ногами взмыленного коня боярского; со всех сторон задевали лесные ветки седока, но ничто уже не могло задержать его. Через несколько минут он уже стучал в дверь кельи. Ужас охватил его, лишь только навстречу ему вышел худой, как скелет, старец, едва-едва прикрытый лохмотьями. Но, всмотревшись повнимательнее в приветливые черты добродушного отшельника, он оправился от первого смущения.
Не меньше боярина был удивлен и старец, уже семь лет не видавший лица, не слыхавший голоса человеческого. «Уж не призрак ли? – мелькнула у него мысль. – Не испытание ли лукавого?»
– Раб Божий! Не бойся, я не бесплотный, подай мне благословение! – обратился к старцу боярин, догадавшись о его смущении.
– Благословен Бог, не дающий уловить нас нашим врагам! – отвечал наученный опытом подвижников старец. – Что нужно тебе от меня, человек добрый?
– Не гневайся, отец, что нарушил я покой твой, приюти в своей хижине от грозы-непогоды!
– Войди, – сказал старец, и собеседники, переступив через порог, вошли в убогую келью.
– Как заехал сюда? – возобновил старец прерванную беседу.
– И не думал встретиться с тобой, отец, да, видно, Сам Бог привел.
– Разве дело есть какое?
– Нет, так уж пришлось: на охоте был, погнался за оленем, да зверя из виду потерял и дорогу.
– И вся жизнь наша такова, человек добрый: за чем, за чем только не гонимся мы в своих ненасытных желаниях! И цели не достигаем, и еще больше запутываемся в своих похотях.
– В мире, отец, не без греха.
– А кто же сделал этот мир грешным, как не сами люди? Свою вину мы привыкли обращать на других. Да так и с первых дней было…
– Что же делать нам, мирским людям?
– Что делать! Удаляться от зла, в котором мир лежит, а если то не по силам, удаляться и от самого мира.
– Отец! Тебе легко это сказать: ты забыл все, что привязывает нас к миру; для тебя вся жизнь стала великим подвигом для спасения; ты укрылся в этой чаще от всего, что прельщает наши взоры; но таков удел только немногих избранников…
И омрачилось лицо старца… Ужас объял его смиренную душу от этой речи, которая напомнила о его подвигах; не простирался ли он долу пред всеправедным Богом, когда такие соблазнительные мысли западали в его сердце, не ударял ли себя в перси с глубоким воплем: «Боже, помилуй мя, окаянного!»
Почерневший небосклон и буря словно вторили смятению старца. Природа была в оцепенении пред страшным, суровым небом, сверкавшим своей молнией, посылавшим на землю оглушительные удары.
А боярин с умилением смотрел на смиренного отшельника.
– Прости, отец, – сказал он, желая поправить свою ошибку, – не волен в том, что сказал тебе: само сердце сказало. Но умоляю, открой мне свое имя, скажи, откуда пришел ты в эту пустыню.
Старец глубоко вздохнул.
– Я вижу, что нет места, где бы можно было укрыться от взора человеческого. Слушай же…
И перед боярином развернулась целая картина новой для него жизни. Старец поведал своему собеседнику, как Господь призвал его к иночеству, как поддержал его, когда родители просили возвратиться с Валаама домой. Господь открыл ему будущее его обители, которая построится вблизи хижины, где теперь сидели собеседники, – всю жизнь свою рассказал старец, и за каждое доброе дело, за каждое слово он воссылал хвалу Тому, Которому служил всем своим существом.
– Семь лет уже я здесь, – закончил старец, – ни разу не вкушал хлеба, ел траву, а иногда и сырую землю.
– Где же ты брал силы для поддержания жизни?
– Сила во всем мире одна, один Бог Всесильный: Он и сохранял меня невредимым.
– А болезней не было?
– Как не было! Разве Господь оставит без милостивого испытания?
Страдал так, что и головы не поднимал с земли. А Господь помиловал, – знать, не время еще идти к Нему: долг за мной есть – обитель, для построения которой обязан потрудиться, когда Господь укажет. Взгляни, как играют на солнце дождевые капельки, как порхают птички, как ликует земля. А давно ли она трепетала и хмурилась? Всему есть время, все держит Господь в руках Своих…
И не заметил боярин, как промелькнули часы беседы. Солнце уже начинало склоняться к закату, когда он вышел из хижины преподобного Александра Свирского, который проводил его до ближайшей тропинки и направил на дорогу.
– Не забывай, отец, в своих молитвах, – говорил ему при прощании боярин, – а я никогда не забуду твоей беседы.
– Бога помни, Бога прежде всего! – отвечал ему отшельник…
Крест победил
Святочный рассказ
Ясная, морозная ночь спустилась на землю, и ничто, кажется, не могло нарушить ее священного покоя!
В эту ночь весь православный мир праздновал рождение своего Искупителя, а потому и сама природа готовилась к этому великому торжеству – победе человечества над грехом и смертью.
Величаво выплыл на безоблачном небе светлый месяц и залил своими таинственными лучами большое торговое село Краснухино, засеребрился на его высокой колокольне и обратил в блестящую ленту столбовую дорогу, верстах в двух от села теряющуюся в густом сосновом бору.
Словно вечные и неугасимые светильники, зажглись безчисленные звезды – иные миры, иные царства, – весело мигая, тоже, по-видимому, разделяя земную радость по поводу наступающего там воспоминания о великом событии.
Прежде, чем затеряться среди вековых сосен, большая проезжая дорога пересекает глубокий овраг, через который перекинут прочный деревянный мост; по дну оврага летом весело журчит небольшой ручеек, весной превращающийся в бурный поток, теперь скованный ледяным дыханием зимы.
Что за благодатная тишь!
Только под нашим русским небом и возможна, кажется, такая чудная зимняя ночь, бодрящая и успокаивающая.
Но что делают около моста эти трое, подозрительного вида мужики в старых рваных тулупах и изъеденных молью мерлушковых шапках?
Для чего они налаживаются протянуть поперек моста эту толстую веревку, способную задержать на полном ходу бешеную тройку?
Недоброе дело затеяли они в эту великую и священную ночь! Прослышали они, что почта везет сегодня значительную сумму денег, и вот решили напасть на нее и добыть эти деньги, хотя бы для того и пришлось им обагрить свои руки кровью!
В ожидании добычи злоумышленники даже развели под мостом небольшой огонек, так как холод дает-таки себя знать, да и неведомо, сколько времени им придется просидеть в засаде.
Веревка крепко прилажена к перилам моста; и три грабителя направляются под мост и усаживаются вокруг догорающего костра.
– Ишь ты, как крест-то на колокольне блестит! – говорит один из них, глядя вдаль.
– Нечего о кресте поминать, когда на такое дело идем, – сурово замечает другой.
– Посмотришь на эту вот ясную ночку, на эти звездочки… так как-то боязно становится, – продолжает первый, очевидно, самый младший.
– Опять же и то надо сказать, какой мы грех на душу берем, ежели да в такую ночь… – вставляет свое замечание третий, до сих пор не проронивший еще ни одного слова мужичонка.
Он и веревку протягивал с таким угрюмым и сосредоточенным видом, словно самому себе эшафот готовил!
– Ну, а ты чего разрюмился? – снова заговорил второй, человек уже в летах, не раз, вероятно, побывавший в остроге и теперь являющийся коноводом.
– Ничего не поделаешь, дядя Митяй, у каждого человека совесть есть…
– А ты ее, совесть-то эту самую, в карман подальше запрячь…
– Нет, ты посмотри, дядя Митяй, как крест-то на храме Божием сияет, словно нарочно для такого праздника! – снова заговорил младший.
– Ах ты, Господи, прости! Чего это тебе и Мики-те все такое Божественное мерещится, когда, может быть, сегодня придется нам и убивцами сделаться?
– То-то, убивцами, в такую ночь! – вздохнул Никита и плотнее закутался в свой рваный тулуп, нахлобучил на уши шапку.
Постепенно сладкая дремота смежила глаза будущих злодеев.
Но что с ними делается? Где они?
Каждый из них ясно видит и догорающий костер, и дремлющих товарищей, но что – то такое чудное творится со всеми ними!
Нет вблизи ни засыпанного серебристым инеем дремучего соснового бора, не белеется залитая лунным светом колокольня села Краснухина, не блестит на ней золотой ее крест, снег как-то вдруг растаял, и вокруг раскинулась степь, покрытая душистыми, совсем неведомыми им, цветами.
Даже небо кажется им совсем другого цвета – темное и глубокое, все усыпанное такими яркими звездами, каких не приходилось им видеть в их родной губернии!
А между всеми этими незнакомыми им звездами ярче других светит какая-то чудная звезда и манит их к себе, словно хочет указать им куда-то дорогу, на путь истинный направить.
И кажется злоумышленникам, что они, словно зачарованные, подымаются со своих мест и следуют за чудесной звездой, которая ведет их все дальше и дальше.
Вот вдали вырисовываются какие-то странные постройки, какие никогда не приходилось им видеть не только в селе Краснухине, где все они родились и выросли, но и в губернии.
Что-то подобное они как будто на картинках из Священного Писания видели, да где тут все их запомнить!
В это время перед их изумленными глазами словно разверзаются небеса, и видят они бесчисленное воинство Того, святые законы Которого о любви и братстве они собираются дерзновенно попрать. «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение…» – громко доносятся до их слуха голоса безтелесных, и холод пробегает по их жилам от этого чудного пения, слушать которое они недостойны, так как собираются совершить страшное преступление.
Они входят в неведомый город и среди пения ангелов идут за звездой, которая вдруг останавливается и озаряет потоками своего света жалкую хижину, где во дворе, в яслях, лежит Младенец, день рождения Которого они собираются осквернить кровавым делом.
И кажется им, что над головой Младенца уже не звезда, а крест их краснухинского храма, весь залитый лунным сиянием.
В ужасе вскакивают все трое со своих мест у совсем догоревшего костра, и как раз в это время до слуха доносится отдаленный звук колокольчика.
И все трое, словно по чьему-либо властному приказу, бросаются к мосту и хотят поскорее развязать или хотя бы разрезать протянутую поперек дороги веревку. Но та сильно промерзла, да и они сами закоченели, и потому дело у них не спорилось.
– Эй! Что вы делаете у моста? Что дорогу-то загородили? Смотри, не озорничай! – раздается голос почтальона, и в руках его уже блестит ствол револьвера.
Как один человек, падают перед ним на колени мужичонки, с воплем:
– Вяжи нас! Отправляй в стан!
И все трое откровенно каются в замышленном ими преступлении, каждый наперебой рассказывает о своем сне и с удивлением узнает, что их всех Господь одинаково сподобил в сонном видении присутствовать много веков тому назад в Вифлееме, чтобы отвратить от греха и призвать к новой жизни!
– Ишь ведь, как вас Бог вразумил, – говорит почтальон, качая головой, – ежели так, идите с Богом в село, да никому об этом не болтайте, только священнику на духу расскажите.
– Да и как не простить… в такую ночь! – набожно крестится ямщик.
– Ну, Терентьич, трогай!..
– Эй вы, залетные!
И тройка скрывается в снежной пыли, а три мужичонки все еще в раздумье стоят на дороге и мысленно обещаются сделаться честными и хорошими работниками.
Крест победил!
Спасительный сон
1
Рождественский сочельник близился к концу, и на начинавшем темнеть куполе неба, вокруг заветной первой звезды, уже стали взблескивать мириады ярко светящихся точек, отливая то электрическим белым, то фосфорнозеленым, то красным.
Улицы невской столицы кишмя кишели народом, спешившим закончить последние приготовления к Великому празднику Рождества Христова. Во многих домах наряжались рождественские елки, и не было, казалось, здания, окна которого не сияли бы праздничными огнями.
Тем мрачнее выглядела правая от подъезда половина нижнего этажа громадного дома в Толмазовой улице: четыре окна, выходившие на улицу, представлялись каким-то черными четырехугольными пятнами, и только во втором от подъезда окне, в глубине комнаты, виднелся скудный свет небольшой восьмилинейной лампы, пущенной, должно полагать, из экономии, в половину силы своего горения. При ярком освещении всего дома этот этаж представлялся прохожим мрачною, зловещей заплатой.
Отсвет стоявшего на противоположной стороне улицы газового фонаря позволял различить драпировки в последнем окне, тогда как на первых трех не примечалось следов даже и простых штор; лишь на подоконнике второго и третьего окон виднелись контуры каких-то разнокалиберных предметов. Над крыльцом подъезда и по наружной стене, поверх окон, можно было без труда разобрать надпись крупными буквами: «Касса ссуд».
Все помещение состояло из просторной передней, обширного зала в два окна, спальни хозяина, – выходивших окнами на улицу, двух небольших комнат и кухни с черным ходом, выглядывавших окнами на довольно-таки грязный двор.
Окна последних трех помещений были заделаны толстыми железными прутьями; дверь же в кухню была, кроме того, заперта изнутри на два солидных железных крюка и внушительных размеров висячий замок, который, судя по толстому слою скопившейся на нем пыли, очень давно раззнакомился со своим ключом.
Как комнаты, так и кухня служили кладовыми для предметов самых разнообразных форм и назначения, от рваных сапог и разного металлического лома до бриллиантов и бархатных ротонд включительно. Что касается кухни, то хотя она и вмещала в себя сотню всевозможных мисок, кастрюль, горшков, самоваров и т. п., но полное отсутствие малейшего подобия какого-либо полена дров ясно показывало, что эта кухня с незапамятных времен не используется по своему прямому назначению.
Большой зал представлял собой образчик настоящего музея; все, помещавшиеся здесь разнообразные предметы хотя и были нагромождены друг на друга, но все же располагались в относительном порядке и открывали довольно просторный проход от передней, через всю комнату, к площадке перед широким, во всю длину стены, прилавком, на правом конце которого возвышалось нечто вроде конторки, с чернильницей, перьями, карандашами и другими принадлежностями для писания; на левом конце виднелся длинный ящик со стеклянной крышкой, вмещавший драгоценные вещи и безделушки, а за серединой прилавка стояло очень и очень потертое сафьяновое кресло с деревянными подлокотниками.
Почти за самым креслом была дверь в спальную, задрапированная, как и окно, занавесками, бывшими, по-видимому, когда-то шелковыми, но явно пережившими чуть не Мафусаилов век, равно как и прочая мебель – столы, стулья, кровать, тюфяк, две подушки и одеяло: время их приобретения не взялся бы, кажется, определить ни один знаток древности.
Как в зале, так и в остальных помещениях, на всех вещах и предметах виднелись пронумерованные ярлыки – знак того, что все было заложено.
* * *
Время близилось к восьми вечера. Хоть мороза и не было и звезды ясно светились на темном фоне небесной выси, но ощущалась та петербургская сырость, которая пронизывает человека сквозь всевозможные шубы, что называется до костей, и леденит хуже, чем в двадцатипятиградусную стужу.
В холодном зале, ни на йоту не нагревавшемся от скупо топившегося каменным углем камина, сидел за конторкой, подводя итоги в объемистой книге, человек лет тридцати пяти, в стареньком, подбитом фетром пальто, из-под которого выглядывали борта не менее поношенного пиджака; шею его обматывал жидкий шерстяной неопределенного цвета шарф.
При тусклом свете лампы человек этот с лихорадочной быстротой выводил по строчкам цифры, время от времени прерывая свое писание щелканьем костяшками счетов и частым поглядыванием в сторону спальни.
Болезненная, истомленная наружность конторщика, его поношенное платье и стоптанные резиновые калоши изобличали в нем одного из тех честных и бедных тружеников, для которых судьба бывает обыкновенно не матерью, а злой мачехой. Сын бедного сельского причетника, он, хотя и кончил курс в семинарии, с правом быть посвященным в иерейский сан, но, за отсутствием сильной руки, принужден был искать частное место. После долгих скитаний и мытарств он попал, наконец, конторщиком к закладчику на двадцать рублей в месяц жалованья, имея на своем попечении старушку-мать, жену, которая силилась помогать мужу шитьем, и больную семилетнюю дочь. Хотя этого жалованья и было слишком мало: ведь и квартира, и дрова, и пища, и одежда не очень-то дешевы в Петербурге, но пока он был рад и этому, перебивался кое-как, надеясь добросовестным трудом заслужить, и расположение хозяина, и прибавку жалованья и, может быть, награды к праздникам. Часы пробили восемь.
Портьера на двери из спальной всколыхнулась, и оттуда показалась темная фигура. Она молча подошла к креслу, зажгла висевшую над прилавком лампу с абажуром, и огонь высветил старика лет шестидесяти пяти; на нем было потертое пальто с меховым воротником, ноги прятались в валяные сапоги, а седую голову покрывала не то шапка, не то ермолка.
Парфений Ильич Банев уже много лет держал ссудную кассу. Несмотря на глубокие морщины, избороздившие его хищническое лицо, он выглядел еще очень крепким стариком. Банев поклонялся только деньгам, кумиром его была лишь одна нажива: ни человеколюбия, ни жалости, ни даже простого сочувствия беднякам он не знал и не желал знать. Он давал деньги под залог за громадные проценты, крайне скудно оценивая принимаемые закладываемые вещи. Немало слез пролили жертвы его бессердечия; носились даже слухи, что немало душ погибло в Неве или в петле по жестокосердию этого скареда.
Питался он сухим черным хлебом, покупая его в пекарнях за полцены; по дворам и помойным ямам разыскивал он разные отбросы от овощей, головки и хвосты селедок и прочие объедки; промывал их, и с помощью простой воды, а изредка – плохого кваса, стряпал себе убогий обед. Спички он покупал самые простые, серные, из соображений экономии ухитрялся расколоть каждую на две.
Ни с кем Банев знакомства не водил; ни один нищий не мог похвастаться, что получил от него хоть полушку; дети при встрече с ним разбегались в разные стороны; даже, кажется, и собаки завидя его, поджимали хвосты и шмыгали в подворотни.
Но Банев ко всему был равнодушен, кроме своего сундука; он жил даже не для себя, судя по его пище, а только ради наживы, и не хотел признавать никого и ничего вне своих интересов.
Вот к такому хозяину судьба забросила бывшего семинариста. Тем не менее ссудное дело старого ростовщика шло очень бойко; и достаточные, и бедные обыватели с утра и до ночи толпились в его кассе по той простой причине, что, во-первых, он принимал в залог решительно все, что бы ему ни тащили, а во-вторых, он готов был выдать ссуду и после полуночи, и в такие великие дни, как канун Рождества или Страстная Суббота.
В тот момент, когда портьера из спальни неслышно откинулась, конторщик, положив перо, сидел, печально уронив на руки голову и невеселые думы роились в его сознании: вот и он мог бы теперь весело готовиться к праздничной службе и делал бы последние распоряжения в своем храме, а тем временем его матушка-попадья возилась бы дома с разными тестами для пирогов, окороками, гусями и всем, что можно было предложить гостям завтра, по окончании торжественной службы. Но из-за своей бедности он даже в Рождественский сочельник гнет спину над своей конторкой; и так – десять лет, изо дня в день, по тринадцать часов в сутки, склоняясь над бесконечными столбцами цифр, квитанций и расчетов, не получая не только награды, но даже и доброго слова за свой усидчивый труд.
При звуке чиркнувшей спички бедняк очнулся, взглянул по направлению кресла и тотчас уткнул глаза в книгу.
Лицо хозяина исказилось в ехидной гримасе, и сухой, металлический голос проговорил:
– Что? Вместо того, чтобы дело делать, опять аллилуйничать вздумал?
Этим выражением Банев особенно допекал своего конторщика, когда на того нападала задумчивость.
Приказчик медленно поднялся с места и сделал шаг к хозяину.
– Это еще что? – прорычал Банев, пристально глядя на конторщика.
– Парфений Ильич! Дозвольте мне закончить работу! Я подвел в книге все, хоть проверьте!.. Завтра Великий праздник… Надо приготовиться… Да и в аптеку нужно сходить за лекарством… Дочка уж очень плоха!.. – тихим, отрывистым голосом пролепетал последний.
– Что такое? Ты, с пятью рублями жалованья в неделю, да еще с семьей на шее, тоже собираешься праздничать? Смотри, как бы тебе после твоего праздника не остаться без места! – грозно выкрикнул Банев, опускаясь в кресло.
Конторщик не двинулся со своего табурета, не проронил больше ни слова; лишь две безмолвные, но красноречивые слезинки блеснули в его утомленных глазах.
Время тянулось для него мучительно долго.
Старинные часы в высоком, от пола и чуть не до потолка футляре пробили полдевятого. В зале ни малейшего звука, тишину лишь изредка нарушал сорвавшийся скрип пера по бумаге.
У входной двери тихо звякнул колокольчик, она отворилась, и в зал робко вошла молодая, красивая, но очень бедно одетая женщина с трехлетним мальчиком на руках, бережно закутанным в тепленькое, тщательно заплатанное, старое одеяльце.
Банев приподнял глаза и спросил у подходящей женщины, что ей нужно.
Та молча подошла к прилавку и положила на него зеленый бархатный футляр.
Ростовщик открыл его, и при ярком свете припущенного огня пред ним засверкала снопами переливчатых лучей прелестная бриллиантовая брошь. С полминуты длилось молчание…
– Где это ты, матушка, слизнула такую вещичку? – наконец воскликнул Банев, пожирая глазами действительно артистически выполненную брошку и в то же время окидывая подозрительным взглядом убогий костюм женщины.
– Это последняя ценная вещь, оставшаяся у меня по смерти моего покойного мужа, его свадебный подарок! У меня трое детей, и мы в крайней нужде!
Дайте мне под залог сколько можете! – тихо проговорила бедная женщина со слезами на глазах.
– А мне что – то сдается, не краденая ли? – не унимался старик.
– Бог с вами, сударь! За что обижаете меня таким подозрением? Я живу в доме напротив, и мои хозяева знают, что я честная женщина, – уже твердым голосом сказала она.
Банев еще раз осмотрел брошку, убрал ее в шкаф и, выкинув из кассового ящика на прилавок десять рублей, пробурчал:
– На вот! Бери! Больше дать нельзя! А за квитанцией завтра зайдешь, а то у меня уже и книги закончены!
– Помилосердствуйте! – чуть не с рыданьем воскликнула бедняжка. – Дайте мне хотя бы двадцать пять рублей! Ведь одни бриллианты стоят триста! Мне и за квартиру заплатить нужно, и на стол, и детей надо обуть-одеть, да и к празднику кое-что взять для добрых людей…
– Что-о? И этакая мразь тоже думает о каких-то праздниках, когда и жрать-то нечего! Проваливай, пока не отобрал деньги назад! Иди, говорят! Я контору запираю! – раскричался ростовщик и сделал распоряжение конторщику закрыть оконные ставни.
Он потушил висячую лампу.
С красненькой бумажкой в руках, ошеломленная горем и заливаясь горючими слезами, повернулась женщина к выходу. В этот миг одеяльце откинулось от личика проснувшегося ребенка и его открывшиеся глазки прямо встретили взгляд Банева; и, странное дело: старика как будто сперва передернуло от этой неожиданности, а затем будто мурашки пробежали по его спине, и он, почти бессознательно, лихорадочно повернул ключ в кассовом ящике, вынул, не глядя, еще десять рублей и, крикнув женщине: «На уж!» – сунул (почти бросил) бумажку прямо на одеяльце и быстро шмыгнул в свою спальню.
Женщина перекрестилась и быстро направилась к выходу, а конторщик, разинув рот, так и замер от изумления с тремя решетчатыми ставнями в руках.
И действительно – факт небывалый: за все десять лет его службы, ничего подобного здесь не случалось!
Банев скоро вышел из спальни; брови его были нахмурены.
Он снова зажег висячую лампу, достал футляр и, пока конторщик возился на улице со ставнями, принялся разглядывать брошку.
Мало-помалу его лицо осветилось какой-то жадной, хищнической улыбкой, и он потер руки от удовольствия, что приобрел за двадцать рублей вещь, стоившую, по меньшей мере, четыреста!
Брошка осталась у него без выдачи квитанции, значит, пиши пропало для неосторожной закладчицы.
Когда конторщик вернулся, все уже было заперто, Банев, бросив взгляд на часы, отпустил его с наказом явиться послезавтра в девять часов утра.
По уходе конторщика Банев просидел еще с полчаса на своем кресле, пересчитывая в шкатулке летучей кассы нынешний возврат денег. Затем он запер шкатулку, потушил лампу, надел шубу и меховую шапку и, замкнув дверь из зала в переднюю, вышел на подъездную площадку, заперев квартиру двойным замком.
Он направился к Аничкину мосту в греческую кухмистерскую.
Подобную роскошь он позволял себе, когда был особенно чем-нибудь доволен и разорялся на целый гривенник, а иногда и на пятиалтынный.
По дороге, однако, расположение его духа испортилось, отчасти вследствие толчков от встречных или обгонявших его. «Ишь сумасшедшие! Словно на пожар прут!» – не раз вырывалось у него сердитое восклицание.
Ворча себе под нос и ругая напропалую всех этих, но его убеждению, тунеядцев, ростовщик старался лавировать между ними и уже думал сойти с тротуара на проезжую улицу как должен был невольно остановиться, охваченный толпой, скопившейся возле магазина; не успел он оглянуться, как был притиснут к одному из громадных зеркальных окон витрины. Поневоле он бросил взгляд внутрь ярко освященного помещения.
На первом плане, у самого окна, на светлом велосипеде, гарцевал низенький, приземистый старик в белом заячьем полушубке, усыпанном искусственными блестящими снежинками, румяный, с длинной седой бородой и такими же волосами, выбившимися из-под белой меховой шапки; в правой руке он держал освещенную и разукрашенную елку.
Далее, в глубине магазина, виднелось множество блестящих игрушек, елочных украшений и подарков; у прилавков толпились взрослые и дети.
«Наказать бы тех, что побольше-то, что б не швыряли денег в печку! Да и детей к тому же приучают!» – проворчал Банев и сделал усилие повернуться, но в эту минуту ему бросилось в глаза никогда им невиданное зрелище: в темном углу магазина, на стене, то появлялось, то вдруг исчезало что-то.
Банев в недоумении начал вглядываться: то был фонарь китайских теней, действие которого усердный приказчик показывал какому-то важному господину с двумя мальчиками в русских народных костюмах.
Перед глазами Банева одна картина сменялась другой, он даже заинтересовался этим зрелищем, не забывая, впрочем, наблюдать, как приказчик обращался с фонарем.
Тут он припомнил, что у него есть в залоге такая же штука, за которую он выдал около тридцати копеек, не зная ее предназначения.
На думской каланче часы пробили половину десятого. Банев поспешно рванулся из поредевшей уже толпы зевак и быстро направился к кухмистерской, не переставая думать о китайском фонаре.
Войдя в кухмистерскую, где народу было очень немного, он повесил свою шубу на крюк, спросил себе порцию чего-то и принялся рассматривать объявления в газете.
Но при каждом стуке входной двери он невольно подымал глаза.
«Точно в фонаре меняются!» – неотвязно засело в его голове: входящие и уходящие посетители раздражали его.
Живо покончив с ужином и выпив стакан воды, Банев отдал пятиалтынный и торопливо пошел домой.
Войдя в свою одинокую квартиру (Банев из скупости никакой прислуги не держал), он накрепко замкнул наружные двери, обошел по обыкновению с лампой в руке все помещение, заглядывая в каждый уголок, и ничего подозрительного не заметив, направился в спальню.
Подойдя к окну, чтобы спустить занавесы, он взглянул на ярко освещенные окна противоположного дома, и почему-то пред ним вдруг блеснул пристальный взгляд давешнего ребенка; он вспомнил, что владелица брошки живет напротив.
Вспомнив о брошке, Банев не утерпел, чтобы еще раз не полюбоваться своим приобретением: он уже решил присвоить ее себе.
Заперев, наконец, свое сокровище, Банев вернулся в спальню, разделся, улегся в постель и потушил лампу.
Утомление или годы подействовали, но старик задремал почти тотчас и вскоре заснул самым крепким сном.
2
Неизвестно, долго ли спал ростовщик.
Легкие шаги у кровати заставили его сперва приподнять отяжелевшие веки, а затем и вовсе проснуться. В спальне было совершенно темно.
Он напряженно прислушался, и ему показалось, что по комнате пронесся легкий вздох.
Банев моментально приподнялся на постели, выхватив из-под подушки всегда обретавшийся там шестиствольный револьвер, а другую руку протянул к спичкам подле лампы, зажечь огня.
Не успел он дотронуться до коробки, как пистолет выпал из его руки на одеяло, а другая опустилась бессильно; дрожь пробежала по всему телу, и он почувствовал, что редкие волосы на его голове стали подыматься, как щетина.
Да и было отчего!
Внезапно тихий свет стал наполнять комнату, он делался все яснее и яснее и, наконец, озарил комнату, осветив все находившиеся в ней предметы до мельчайших подробностей. Одна лишь пустая стена против кровати не только не осветилась, но как бы исчезла в черном, густом тумане.
Посреди комнаты стояла женщина, напоминавшая ему бедную закладчицу брошки чертами лица и ростом. Как и утром, лицо ее было печально; но печаль эта была иная: женщина словно бы безгранично жалела того человека, на которого был устремлен ее кроткий взор. На руках ее был ребенок, закутанный в одеяльце.
Банев, точно окаменелый, сидел на своей постели, не будучи в силах двинуть ни рукой, ни ногой. Наконец, он очнулся от сковавшего его столбняка и прохрипел слабо:
– Кто вы и что вам нужно от меня?
В комнате царила полная тишина… Ни звука…
Вдруг одеяльце откинулось, будто дуновением ветра, открыв милое личико мальчика, взглянувшего на старика взором, по которому он тотчас признал сына бедной вдовы.
Одеяльце распахнулось совсем. Ребенок в прозрачной, блестящей, белой рубашечке стал незаметно отделяться от рук матери и, не касаясь пола, постепенно приближался к кровати. Наконец, он остановился рядом с ней, вытянувшись во весь рост.
Сияние вокруг его нежного тельца усилилось и, казалось, пронизало все его существо.
К крайнему своему изумлению Банев увидал в его руках нечто вроде ящика. Он вгляделся пристальнее: то был китайский фонарь, виденный им вечером в игрушечном магазине.
Под впечатлением страха, смягченного удивлением при виде фонаря, Банев взглянул на мальчика.
Ребенок с грустной улыбкой протянул ручку к темной стене, указывая на что – то.
Старик стал смотреть по направлению протянутой ручки. Яркий свет, наполнявший комнату, как бы отодвинулся, дав более простора темноте, и на мрачной стене появилось беловатое пятно в виде горизонтального овала. Пятно делалось ярче и обширнее и внезапно обозначило большую, ярко освещенную комнату.
Посреди ее, из моховой обложки, усыпанной как снежинками, кусочками мелко изрезанной серебряной бумаги, высилась нарядная рождественская елка, залитая огоньками тонких разноцветных свечей и разукрашенная яблоками, сластями, золочеными орехами, блестящими бусами, цепочками и разными игрушками. Вокруг нее, под звуки гармонии и скрипки с визгом и смехом бешено мчался веселый детский хоровод.
Да! Баневу казалось, что он слышит и музыку, и смех, и говор.
Вдруг его черствое сердце точно облилось теплом и радостно затрепетало: он узнал залу квартиры своего доброго отца, на фарфоровом заводе, где тот был одним из главных приказчиков много десятков лет тому назад.
Мало того, в гармонисте он увидел самого покойного своего родителя, а среди знакомых детских лиц узнал себя, – семилетнего, веселого, счастливого и смеющегося мальчугана.
Гармония и скрипка вдруг смолкли. Отец и откуда-то взявшаяся мать Банева подошли к елке; его маленький двойник присоединился к взрослым. Игрушки и подарки живо сияли.
Вот тут-то и началась настоящая радость! С веселым гамом набросилась ватага маленьких разбойников на разукрашенное деревце, обрывая сласти, и в какие-нибудь пять минут елка, ощипанная до последней веточки, исчезла за дверьми зала.
Началась раздача подарков, и маленький Парфеша, от всего своего доброго сердечка, спешил раздавать вместе с родителями лучшие игрушки таким же малолеткам-приятелям.
Вдруг он остановился в недоумении: в его руках очутился зеленый раскрытый бархатный футляр, на подушечке которого ярко блестела всеми цветами бриллиантовая брошь.
Видно было, что мальчик начинает просто мучиться, не зная кому отдать эту нежданную игрушку: ведь все его маленькие друзья уже получили свои подарки.
Картинка детства померкла, а Банев, старый, безликий, – что сделала с ним жизнь! – заметил в углу комнаты, на груде какого-то тряпья, печального ребенка, сына закладчицы брошки. О, как захотелось ему подарить мальчику эту брошь, захотелось крикнуть что-то доброе-доброе!
Но голос не слушался его, рука не повиновалась ему.
В отчаянии он пытался сделать последнее усилие, но комната моментально заволоклась непроглядной мглой. Теперь перед его глазами высилась пустая, темная стена. Сердце его трепетало, он принужден был схватиться за грудь, чтобы сдержать его биение.
Белесоватый овал начал выхватывать из темноты картины жизни Банева – за все протекшие десятки лет. Сердце старика то холодело при виде совершенного им жестокого безобразия, казавшегося теперь ему чем-то чудовищным, то страшно, мучительно ныло, при невозможности спасти какую-нибудь его, гибнущую жертву.
Банев повернул свое лицо с умоляющим взглядом к светозарному мальчику, делая усилие что-то сказать ему; но ребенок, не спуская с него ласкового взора, стал отдаляться, точно окутываясь светлым, прозрачным облаком. Яркий свет, наконец, вовсе скрыл его.
Какая-то странная, величественная волна звуков наполнила всю комнату, и… Банев проснулся.
3
Веселый звук рождественского трезвона, вместе со снопом лучезарных солнечных лучей, бивших сквозь не завешенное вчера окно прямо в глаза Баневу.
С невыразимым чувством легкости во всем теле, точно в юности, вскочил он с постели.
– Так это был сон? Но зато какой благодатный сон! О-о! Теперь будет не то, что прежде! Я еще могу многое загладить, много хорошего сделать! Спасибо тебе, милый мальчик!
С ним совершилась вдруг полная перемена: то улыбка пробегала по его лицу, то оно становилось печальным и слезы взблескивали на глазах.
В первый раз, чуть не за целые двадцать лет, отворилась дверь из кухни на черный ход, и дворник, бывший на дворе, с изумлением увидел Банева, в халате и туфлях, на пороге крыльца, с большим кувшином в руках. Дворник еще более изумился, когда старик подозвал его и попросил принести из-под крана свежей воды.
Дворник так был поражен всем произошедшим, что чуть не бегом кинулся за водой и спустя минуту вернулся с кувшином, полным прозрачной воды.
– Спасибо, голубчик! С праздником поздравляю! И вот тебе на праздник! – весело сказал Банев и подал дворнику двадцатипятирублевую бумажку.
Дворник не верил своим глазам… Еще бы! Все долгие годы, что он служил ростовщику, он ломаного гроша не получал от этого скряги, а тут вот на-ка, поди-ка! – отвалил целых двадцать пять! «Спятил! И впрямь спятил! – бормотал он и, повернувшись, поплелся в дворницкую, раздумывая, дать ли знать полиции, или лучше промолчать. Решил молчать: не то глядишь, отберут двадцатипятирублевку.
Вернувшись на кухню, Банев снова запер дверь и тотчас стал одеваться. Он умылся, надел свежее белье, пригладил седые, довольно жидкие волосы, расчесал бороду на две стороны, недурно повязал шелковый галстук, глядя в одно из заложенных зеркал, и облекся, наконец, в хорошую сюртучную пару, уже много лет не покидавшую платяного шкафа.
Затем отпер свой несгораемый сундук, вынул из него объемистую пачку кредитных билетов сторублевого достоинства и, опять заперев сундук, подошел к письменному столу, из которого взял старинный, но, по-видимому, вряд ли бывший в употреблении бумажник.
Он отсчитал в одну пачку пять сотенных, в другую десять, остальные положил в бумажник и сунул в боковой карман сюртука.
Тысячерублевую пачку Банев тщательно завернул в белую бумагу и надписал адрес своего конторщика, причем улыбка озарила его лицо при мысли, как будет изумлен последний, получив такую сумму от неизвестного благодетеля. Уж о нем-то никак не подумает!
Теперь дело за шубой. Его собственная была неказиста, и Банев решил надеть одну из заложенных шуб, на бобрах, очень дорогую и как раз по нему.
Подобрал и шапку, подходящую к шубе.
«Ну! В последний раз и Бог простит!» – проговорил Банев про себя, облекшись в шубу и шапку и надев высокие теплые галоши, пошел к передней. Но вдруг что-то вспомнил и быстро вернулся к прилавку. Он отпер шкаф, достал зеленый бархатный футляр, взглянул, там ли брошь, и, завернув футляр в бумагу, опустил в карман шубы, где уже покоилась пачка пятисотенных и первый сверток.
Наконец он вышел на крыльцо подъезда.
Вчерашней сырости как не бывало, и мягкий морозец разводил на оконных стеклах легкие кружевные узоры.
Солнце ярко сияло на безоблачном небе; слабый ветерок приятно щекотал лицо и руки, а в воздухе, как звук гигантского оркестра, звонко несся гул веселого трезвона колоколов соседних церквей.
Банев приостановился на ступенях подъезда. С минуту он вдыхал в себя полной грудью свежий морозный воздух и следил за проносившимися мимо экипажами и торопящимися пешеходами.
Он спустился с крыльца и, быстро перейдя улицу, позвонил у ворот противоположного огромного дома.
Вскоре в воротах показался старший дворник.
– Где тут живет бедная вдова с тремя детьми? – спросил он дворника. Я ее имени не знаю, но она еще молодая и красивая женщина.
Тот сперва, по всегдашнему обычаю русского человека, почесал в затылке, а затем протянул:
– А кто ее знает, может, и есть така, мало ли живет тутотки эвтой голи! Да вам для че надыть?
– Да вот, из попечительства о бедных ей пособие вышло, так передать надо, а имя-то и квартиру я запамятовал, знаю только, что в этом самом доме, – проговорил Банев и рассмеялся в душе своей выдумке.
– Ну, чай, как трешница ей перепала, так дайте мне, барин, а я потом разыщу ее, на досуге, вы не сумлевайтесь! А то таперича кто ее знает, как сыскать-то! Вот жену спрошу, она все бабье знает тутотки! – небрежно сказал дворник.
– Нет, любезный! Ей надо передать поболе сотни, так уж разыщи теперь же! А вот, для праздника, возьми-ка на чаек себе! – И Банев протянул ему рублевку.
Слова: «на чаек», а еще пуще: «поболе сотни» просто окрылили дворника. Не прошло и пяти минут, как он уже с другого конца дома махал рукой и кричал Баневу:
– Ваше сиять! Пожалте сюды! Нашел ее! Я провожу вас к ней на фатеру!
Последовав за дворником Банев перешел первый двор, вторые ворота и уже в конце второго двора спустился в подвальный этаж, где жил какой-то мастеровой, отдававший в наймы углы.
Сырая, вонючая атмосфера сразу охватила Банева, он закутал нос меховым воротником.
В одном из далеко не светлых углов он увидел сколоченную из досок кровать, с подобием тюфяка, темным старым одеялом да двумя подушками в белых наволочках. На постели виднелись две миловидные девочки лет пяти и семи, в бедных, но чистеньких платьицах, а у притолоки постельной занавески стояла вчерашняя закладчица с мальчиком, одетым в белую рубашечку, на руках.
Подойдя к женщине, Банев передал ей пачку кредиток и сверток, пояснив, что это ей прислано из попечительства о бедных.
В ту минуту, как удивленная вдова брала свободной рукой деньги и сверток, ребенок, смотревший на Банева, вдруг весело засмеялся и протянул к нему обе ручки.
Что-то невыразимо мучительно-отрадное подступило к горлу старика. Он с жадностью схватил эти ручки, с жадностью покрыл их горячими поцелуями и, зарыдав, как ребенок, кинулся к выходу, оставив в полном недоумении и изумлении всех обитателей квартиры, а заодно и успевшего посторониться дворника.
В душевном порыве Банева не было ничего неестественного. Ведь это была первая детская ласка, выпавшая на долю старого нелюдима!
Оставив в недоумении женщину с пачкой кредиток и дорогой для нее брошкой, Банев промчался через дворы и ворота на улицу и, не торгуясь, уселся в извозщичьи санки.
– На угол Невского и Знаменской, да скорее! – весело крикнул он вознице.
Поймав близ Николаевского вокзала первого рассыльного и заплатив ему вместо сорока копеек целый рубль «для праздника», он отправил с ним сверток с деньгами к своему конторщику. Отпустив извозчика, вошел в Знаменскую церковь.
Много, очень много лет нога Банева не ступала в храм Божий. Высокое умиление наполнило душу его. Обедня близилась к концу.
При виде струившихся по щекам Банева слез кто бы подумал, что этот с виду добродушный и богомольный старик, еще вчера был закоренелым безбожником. Без зазрения совести мог он вогнать в петлю или прорубь несчастного и, ничуть не стесняясь, отнять последние гроши у бедняка!
Обедня кончилась, и Банев почти последним вышел из храма.
Толпа нищих на паперти тянула к нему свои костлявые, уродливые руки за подаянием, и когда он сошел на тротуар, его карманы с мелочью были буквально опорожнены, между тем как душа и сердце были переполнены неведомым ранее чувством довольства, счастья и какой-то дух захватывающей отрады.
Банев дошел до угла и остановился. Простояв с минуту в раздумье, он махнул рукой, сел на извозчика и поехал к своему единственному брату, с которым был не в ладах и не виделся несколько лет.
4
К Новому году баневской квартиры было не узнать. С помощью своего конторщика (тот готовился теперь в восприятию священнического сана), Банев безвозмездно возвратил всем беднякам заложенные ими вещи и уничтожил свою ссудную кассу.
По приведении в порядок финансовой части Банев оказался обладателем капитала более чем в четыре миллиона; большую его часть он решил употребить на благотворительные цели.
Не прошло и двух лет, как на одной из дачных окраин столицы выросло громадное двухэтажное здание с парадным подъездом, с фронтоном, увенчанным крестом. В готических арках помещались небольшие купола. Величественный купол, увенчанный небольшой золотой главкой, высился над тремя громадными окнами.
В этом здании помещается богадельня на две или три сотни престарелых и калек. Верхний этаж отведен для женщин, нижний – для мужчин. Общая столовая находится в нижнем этаже. Везде паркетные полы, чистота и порядок. По обоим концам корпуса находятся два флигеля. В одном помещается больница, в другой – училище для детей тех, кто служил при богадельне, и многих призреваемых. Здесь же – хозяйственные помещения: прачечная, кладовая, погреба.
Так распорядился своим капиталом Банев для спасения собственной души, во славу Христову.
Зачем?
Господи! Зачем Ты это сделал? Зачем Ты отнял жизнь у столь дорогого нам существа? Почему Ты не внял нашим мольбам, нашим воплям, когда мы, с надеждою на Твое милосердие, молили Тебя о пощаде? Где же тут Твоя любовь, Твое милосердие?
Такие и подобные им вопросы каждый день возносятся с грешной земли к Божиему Престолу Грешны и дерзновенны такие вопросы со стороны создания к своему Создателю, но Господь в Своей всеобъемлющей любви, думаю, не карает за них и только по видимости не дает на них ответа. Когда еще земля принимает в свои холодные недра человека престарелого, уже утомленного жизнью, остающиеся могут скорбеть, но не возмущаться, но когда она разверзается, чтобы поглотить существо юное, еще так недавно полное прелести и жизни, тогда… тогда… слабое человеческое сердце не выдерживает, и мы в смертельной истоме восклицаем: «Зачем? Зачем Ты это сделал?» Но не бывает ли иногда и так, что мы принимаем за карающую Божию Десницу знак особенного Его благоволения к нам? Разве не бывает иногда так, что только много лет спустя после постигшего нас удара, из сложившихся обстоятельств нашей собственной жизни мы постигаем, почему именно он был нам необходим? Нам вдруг делается ясным то, что Господь, отняв любимое нами существо, вовсе не отнял его, а, скорее, сохранил его для нас…
Ведь физическая смерть не отнимает от нас совсем человека, а только лишает на время его видения. Есть утраты, есть скорби несравненно более болезненные – можно потерять человека, не расставаясь с ним. Бывает иногда так, что любимое нами существо возле нас, мы видим его, но чувствуем, что оно как бы уходит от нас далеко… далеко и безвозвратно. Перед нами остается только оболочка того существа, которое мы любили, а душа его точно от нас ускользает и делается нам совершенно чуждой.
Вот с этими-то муками, с этими-то скорбями едва ли что может сравниться на земле.
На пятой линии Васильевского острова перед квартирой профессора Нефедова уже третий день разостлана солома.
– Мама, мама! – спрашивает маленькая кудрявая девочка, которую мать ведет за ручку через улицу, – зачем тут лежит соломка? – И дитя начинает прыгать и подбрасывать ножкой соломку.
Личико ребенка такое цветущее и жизнерадостное, на нем точно отражается солнечный луч, но мать не улыбается ей в ответ, а, крепко сжимая ее пухленькую ручку, грустно отвечает:
– Соломка здесь разостлана потому, что в этом доме есть больная девочка; соломка лежит для того, чтобы ей не был слышен шум от проезжающих экипажей.
– Больная девочка! – тихо повторяет дитя, перестает прыгать и прижимается к своей маме. – А где эта комната, в которой лежит эта девочка? Где ее окошки?
Мать хочет ответить: «Вот эта, во втором этаже, направо», как вдруг останавливается, слегка бледнеет и медленно осеняет себя крестным знамением – спущенные шторы в квартире Нефедова дают ей понять, что для маленькой девочки более не нужна соломка, что до ее слуха не дойдут более никакие земные звуки…
– Мама! Мама! – спрашивает дитя. – Ты почему плачешь? Почему ты крестишься? Тебе, верно, жалко бедную больную девочку? Но ведь она поправится? Да, мама, поправится?
– Да, да, – отвечает мать дрожащим голосом, – она поправится, она уже поправилась – у нее теперь уже ничего более не болит.
И, произнося эти слова, мать судорожно прижимает к себе малютку…
– Ничего более не болит! – восклицает девочка, вырываясь из материнских объятий. – О! Как я этому рада! А когда девочка уже поправилась, тогда ей более не нужна солома.
И дитя снова начинает прыгать и подбрасывать ножкой соломку.
В квартире Нефедова идет первая панихида. Посреди зала возвышается белый катафалк, обставленный миртами и розами. В белом глазетовом гробике, вся осыпанная лилиями и ландышами, покоится восьмилетняя Нюта, единственная дочь Нефедова.
Бледное личико и длинные белокурые локоны придают ей вид ангела. Молодой священник, который еще не успел так закалить свои нервы, чтобы при исполнении треб оставаться безучастным к людским страданиям и скорбям, совершал служение с видимым волнением. Он сам отец единственного ребенка и вполне понимал, какую скорбь должны испытывать теперь осиротевшие родители, но странное дело, его сочувственные взоры чаще устремляются на стоявшего поодаль отца, чем на мать маленькой покойницы, хотя горе последней, по-видимому, не имело границ. Тяжело было видеть, как она плакала, рвалась к гробику, протягивала к нему руки и самыми нежными именами призывала к себе свое возлюбленное дитя. По временам слезы ее переходили в истерику, и она падала почти без чувств на руки хлопотавших около нее женщин. Сам же Нефедов казался сравнительно спокойным и даже мало потрясенным. Он ходил, говорил, ел, как всегда, и только мертвенная бледность его лица и какой-то странный, точно блуждающий, взгляд его больших темных глаз выдавал ту внутреннюю муку, которую он теперь испытывал.
– Господи, Боже мой! – говорила в кухне кухарка. – Вот они, мужчины-то! Никакого чувствия у них нет! Уж как барин любил свою Нюточку, казалось, души в ней не чаял, а теперь, прости меня Господи, точно камень какой – даже слезинки по ней не пролил! Не то что барыня, та рекой так и заливается… Ужасти, как смотреть на нее жалостно.
– Известное дело, материнское сердце, – ответила судомойка.
Так думали и судили люди, но священник, лучше знавший людей и привыкший глубже анализировать человеческие чувства, думал иначе. Он хорошо понял, что спокойствие Нефедова только кажущееся, что оно скрывает в себе гораздо более безутешной скорби, чем бурное отчаяние его жены. Окончив панихиду, он поднялся на ступеньки катафалка и, осенив троекратным крестным знамением маленькую покойницу, покрыл флером ее прелестное личико, затем, не снимая епитрахили, направился туда, где стоял Нефедов. Зачем он к нему шел, и сам не отдавал себе в том отчета. Наверное, утешить его и сказать несколько слов. Приблизившись к Нефедову и встретив его сухой, воспаленный взгляд, священник изменил свое намерение, хорошо поняв, что в настоящую минуту никакие человеческие слова не в состоянии хоть сколько-нибудь утешить ту скорбь, которая разрывала теперь сердце несчастного отца, и только протянул ему руку.
Нефедов понял, что происходило в сердце доброго священника, и с признательностью схватил протянутую руку.
– Да, да, батюшка… – заговорил он прерывающимся голосом, – Вы правы. Не теперь, не теперь… а позже, когда я буду в состоянии вас слушать, тогда я что – нибудь пойму, а теперь я все равно ничего не пойму…
Он выпустил было руку священника, как вдруг снова схватил ее и, заглядывая ему в лицо своим воспаленным взором, заговорил каким-то сдавленным голосом:
– Впрочем, нет, подождите немного… Я хочу задать один вопрос, и, если, вы мне ответите на него, я покорюсь, я не буду роптать. Скажите мне, зачем Господь это сделал? Зачем Он отнял от меня мое единственное дитя? Разве смерть этого ребенка была необходима? Почему Он не внял моим мольбам, моим воплям? Вы, служители церкви, проповедуете нам, что Господь милосерд и любвеобилен. Где же тут Его милосердие, Его любовь? Ответьте мне на этот вопрос, и я успокоюсь…
С глубоким состраданием слушал молодой священник эти дерзостные вопросы и не находил им осуждения в своем сердце. «Кто знает, – подумал он, – не возникли ли бы подобные вопросы в моей душе, если бы в этом гробике лежал мой собственный сын?»
– Николай Ларионович, – наконец сказал он, – ваши вопросы грешны, но я не сужу вас за них – это говорите не вы, а ваша великая родительская скорбь. Пути Господни неисповедимы, и не нам, грешным, проникать в их тайны. Ни я и никто другой не может ответить вам, но я буду молить Господа, чтобы Он Сам дал вам ответ на ваш вопрос.
Спустя немного времени в комнате, где лежала Нюта, воцарилась полная тишина, некоторое время слышались еще из прихожей сдержанные переговоры и шуршанье шлейфов расходившихся дам, затем все стихло, слышался только монотонный голос монахини, которая читала Псалтирь. Сама Нефедова, успокоенная большим приемом лавровишневых капель, удалилась в свою спальню.
– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… – тихо читала монахиня. Дверь из кабинета Нефедова растворилась и сам он, неслышно шагая по мягкому ковру, приблизился к катафалку, поднялся на его ступени и, откинув флер с лица Нюты, стал смотреть на свое мертвое дитя. Никто в эти минуты не сказал бы, что он мало страдает – столько скорби, столько безутешного горя выражало теперь его лицо.
Опершись на край гробика, он устремил свой тоскующий взор на маленькое мраморное личико, так мирно покоящееся перед ним и опять тот же мучительный вопрос, с которым он обратился к священнику, поднялся в его душе.
Этот вопрос виделся в его глазах, шептали его губы, выражало все его существо.
Он не покидал его ни минуты и почти сводил с ума.
Вот уже прошло три дня со дня кончины Нюты, завтра ее опустят в могилу, а он все еще не может уразуметь того, что случилось. Его приводило в отчаяние не столько сознание потери дочери, сколько то, что он никак не мог согласовать совершившегося факта с понятием о милосердном и любвеобильном Боге.
Он был всегда человеком верующим, всегда верил в Евангельские истины и непреложность их, вот почему, когда доктора объявили положение Нюты безнадежным, он, помня слова Спасителя: «Просите и дастся вам», стал молить Господа о пощаде. Он молился пламенно, нимало не сомневаясь, но Господь не внял его мольбе – его дитя испустило последний вздох именно в ту минуту, когда он в страстном молитвенном экстазе молился на коленях перед иконой Спасителя. «Почему? Почему Господь поступил так?» – тоскливо спрашивал он себя. Вот и батюшка не мог ответить ему на этот вопрос, он сказал, что Сам Господь даст ему ответ на него, но он знает, что ответа этого ему не получить. Совершенно измученный, он опустился в кресло и приклонился в его спинке.
– Вы бы легли и постарались немного заснуть, – участливо сказала ему монахиня, – ведь вы так выглядите, что на вас смотреть страшно.
– Нет, – отвечал Нефедов, – я не могу лечь, я все равно не засну.
Прошло несколько времени, и Нефедов почувствовал, как мало-помалу физическое утомление берет верх над душевным напряжением – глаза его стали смыкаться, мысли терять свою определенность…
И вдруг произошло нечто такое, что сразу захолодило кровь в его жилах и заставило сильно забиться сердце…
Ему почудилось, что флер, покрывавший Нюту, чуть-чуть шевелился… С широко раскрытыми глазами, затаив дыхание, поднялся он с кресла и наклонился над Нютой. Нет! Нет! Он не грезил – флер опять шевельнулся, Нюта вздохнула!..
Ему захотелось закричать, позвать на помощь, но нечеловеческим усилием воли он сдержал себя, тихонько поднял Нюту со смертного ложа и, шатаясь, понес в свой кабинет. Там он положил свою драгоценную ношу на диван, а сам без чувств упал возле на ковер.
…Прошло восемь лет с описанного нами события, и много перемен произошло за это время в семье Нефедова. Никто бы не узнал в той цветущей молодой красавице, какой стала теперь Нюта, прежней бледной маленькой покойницы, точно так же, как никто не признал бы прежнего молодого, красивого Нефедова в этом сгорбленном, бледном господине, который сидит теперь, согнувшись над бумагами, у своего письменного стола.
Видно, что жизнь за эти годы дала ему себя знать.
Свет от лампы из-под зеленого абажура, падая прямо ему на лицо, делал его еще бледнее и даже придавал ему какой-то мертвенный оттенок. Несмотря на то что он решал какую-то алгебраическую формулу, видно было, что он никак не мог заставить себя сосредоточиться, что мысли его совсем в другом месте – иногда он даже откладывал перо и начинал прислушиваться к говору и смеху, доносившимся до него из соседних комнат. Наконец, не в силах более совладать с охватившим его волнением, Нефедов бросил свою работу и зашагал быстрыми нервными шагами по ковру.
«Нет, нет! – отрывисто говорил он себе. – Я никогда не поверю этому, никогда не поверю, чтобы это было собственное желание Нюты. Это все влияние ее легкомысленной и бессердечной матери. Если бы моя девочка знала, какому глупому фату хотят ее отдать, она никогда бы не согласилась на это. Положим, у Нюты слабая воля, она способна поддаваться влиянию матери, но в глубине души она все та же чистая, невинная девочка.
Я должен, я обязан открыть ей глаза, и как можно скорее! Завтра, быть может, будет уже поздно!»
Нефедов быстро подошел к двери, которая была заперта на задвижку, отомкнул ее и нажал кнопку электрического звонка. Дверь неслышно раскрылась, и на пороге ее показался лакей.
– Позовите ко мне барышню, – приказал ему Нефедов, – скажите ей, что я зову ее к себе.
– Барыня и барышня уезжают сейчас, – почтительно ответил лакей, – карета подана и они в прихожей уже надевают шубки.
– Я говорю вам, позовите ее ко мне сию же минуту, – повторил Нефедов с оттенком нетерпения в голосе, – передайте ей, что я велю ей скинуть шубку и прийти на минуту ко мне.
Немного спустя Нюта в светлом, нарядном платье, с веткой живой сирени на пышной, кудрявой головке легкими шагами приблизилась к отцу.
– Папа, ты звал меня? – спросила она серебристым голоском, натягивая длинную, белую перчатку на свою маленькую, пухленькую ручку.
Несмотря на кажущуюся веселость и беззаботность девушки, бдительный слух отца уловил скрытую тревогу в интонации ее голоса. С минуту он молча смотрел на нее: видно было, что ее пышный наряд произвел на него тяжелое впечатление. Уже давно с болью в сердце он наблюдал, как его жена посредством баловства и нарядов портит Нюту и, хотя и предвидел весь вред, какой может от этого произойти, до сих пор никогда не протестовал. Он так любил свою девочку и так боялся этим вмешательством утратить хоть часть ее привязанности к нему. «Она еще так молода, – говорил он себе, – будет старше – сама поймет всю пустоту и пошлость той жизни, в которую старается завлечь ее мать».
Как ошибочны такие рассуждения, и как грешат родители, которые поступают так! Они видят, что дети их прикасаются к чаше с ядом, и даже не пытаются отвести ее от их уст. Они надеются, что дети, почувствовав горечь яда, сами не захотят его пить, но они упускают из виду, что тогда уже будет поздно – яд окажет свое действие. Так и Нефедов, из опасения огорчить дочь, не показал ей своего неудовольствия, но, подавив вздох, спокойно сказал:
– Мне нужно поговорить с тобой об одном деле, оставь свои перчатки, сядь и внимательно меня выслушай!
– Но перчатки, папа, не мешают мне, – пошутила Нюта, – я могу их натягивать и в то же время тебя слушать. – Но, заметив, что шутка ее не произвела желаемого действия, перестала смеяться и покорно села на указанное ей отцом место.
– Ты сейчас уезжаешь? – спросил он.
– Да, папа, я сейчас уезжаю с мамой, она уже дожидается меня в прихожей, не задерживай меня сегодня, она не любит дожидаться.
– Не любит дожидаться, – повторил Нефедов, – вот как! А как ты думаешь, люблю ли я, когда ты уезжаешь куда-то без моего ведома и даже не простившись со мной? Неужели любовь к удовольствиям до того поглотила тебя, что совсем вытеснила из твоей головки память об отце? Я положительно не узнаю моей девочки.
При этих словах Нюта несколько смутилась.
– Я заглядывала к тебе, папа, – ответила она, запинаясь, – хотела проститься с тобой, но увидела, что ты занят, и не захотела тебе мешать.
Лицо Нефедова еще более омрачилось. Он хорошо помнил, что дверь его комнаты была заперта, следовательно, заглядывать к нему Нюта не могла. Его девочка лгала, и притом так беззастенчиво, прямо ему в лицо! Ему сделалось так больно, что он даже не решился ее обличить и продолжал так же спокойно:
– Куда же ты едешь?
– На литературно-музыкальный вечер, папа, – ответила Нюта.
– На литературно-музыкальный вечер, – протяжно повторил Нефедов, оглядывая ее. – Насколько я понимаю, в таких нарядах на музыкальные вечера не ездят. Я думал, ты едешь на бал.
– Но, папа, – старалась выпутаться Нюта, – после музыки у меня будут танцы, потому я и надела это платье.
– А нельзя ли узнать у кого будет этот вечер?
– У Неклюдовых, папа, у них сегодня старшая дочь именинница и они так просили маму привести меня к ним, что ей неловко было отказать им в этой просьбе.
– Точно так же неловко, – с горечью возразил Нефедов, – как тебе неловко было сдержать свое слово. Ведь ты дала обещание никогда более не бывать у Неклюдовых. Давно ли ты говорила мне, что в этом доме ничего кроме сплетен и пересудов, более не услышишь? Нюта, Нюта! Неужели ты до того изменилась, что данное слово для тебя более ничего не значит?
Нюта ничего не ответила, но по опущенной ее головке Нефедову показалось, что слова его произвели на нее желаемое действие.
– Дорогая моя девочка, – ласково продолжал он, – я верю, что ты поступаешь так только по необдуманности, из желания угодить матери, и ты все искупишь, если только исполнишь то, о чем я тебя попрошу. Не езди сегодня к Неклюдовым, пусть мама одна к ним поедет, а ты останься со мной. Дитя мое, вспомни всю любовь мою к тебе и исполни мою просьбу. Поверь, это не простой каприз, серьезная причина заставляет меня просить тебя об этом. Послушай меня, и я сумею сторицей вознаградить тебя за эту жертву.
Говоря это, Нефедов не спускал глаз со смущенного личика дочери. В сущности, он был почти уверен, что Нюта не послушает его, но обращался к ней, подобно тому, как утопающий хватается за соломинку. И действительно, ему недолго пришлось ждать ответа. Нюта вдруг подняла голову и заговорила с упрямством и раздражительностью:
– Нет, папа, я этого сделать не могу, это невозможно. Я дала слово маме, что поеду с ней, и не могу ее обмануть – она слишком рассердится.
– Но ведь ты дала мне слово, почему же слово, данное матери, ты считаешь для себя обязательным, а данное мне нарушаешь? Неужели одно ее слово для тебя больше значит, чем все мои просьбы, все мои убеждения!
Долго еще убеждал Нефедов Нюту, но она не уступала и все твердила, что не может исполнить его просьбы из боязни огорчить мать. Тогда он, потеряв терпение, воскликнул:
– Ну, когда так, когда ты не слушаешь никаких моих убеждений, я скажу тебе то, чего совсем не хотел говорить и, выслушав меня, ты сама не захочешь ехать туда. Помнишь Пернова? Этого глупого, надутого фата, который прошлое лето, когда мы жили в Павловске, каждый день катался мимо нас на велосипеде? Мама успела где-то с ним познакомиться и возымела желание, чтобы он бывал у нас в доме, но я, зная прошлое этого господина, решительно воспротивился этому И вот я знаю из достоверного источника, что этот самый Пернов будет сегодня у Неклюдовых и… мало того… он хочет осмелиться сделать тебе предложение. И мать твоя знает об этом и потому именно и настаивает, чтобы ты ехала с ней. Ну, теперь, когда ты все знаешь, ты, конечно, сама не поедешь к Неклюдовым.
Произнося эти слова, Нефедов не спускал проницательного взора с лица Нюты, он ожидал смущения с ее стороны, но вышло наоборот – она вдруг подняла голову и ответила с упрямством и раздражительностью:
– Нет, папа, я все-таки поеду, и мне очень жаль, что ты так отнесся к Пернову и помешал ему бывать у нас. Он мне нравится, и… если он действительно сделает мне предложение – я соглашусь выйти за него.
Этот ответ девушки подействовал на Нефедова в высшей степени болезненно, в голове его впервые мелькнула мысль, что он, может быть, ошибался в дочери; что она совсем не та, какой ему хотелось ее видеть, что она действует так не только под влиянием и давлением матери, но и по своему усмотрению; что она обо всем знает и не уступает его требованию только потому, что сама идет навстречу Пернову… Иначе как бы она могла с такой уверенностью говорить о своем согласии выйти за него замуж.
– Нюта! Нюта! – вырвалось у него со стоном. – И ты давно все знала! И ты могла таиться от меня! Обманывать меня! Да понимаешь ли ты, несчастная девочка, на что ты решаешься, что с тобой будет, если ты выйдешь замуж за этого человека? Ведь ты совсем не знаешь его! А твоя мать знает его прошлое и все-таки толкает тебя к нему! О Боже! Боже!
Со всем красноречием отчаяния и отцовской любви старался Нефедов вразумить Нюту, но, видя, что слова его не имеют действия, решился прибегнуть к последнему, как он думал, средству.
– Ну, когда так, – сказал он, – когда ты не слушаешь никаких моих доводов, никаких просьб, я должен открыть тебе глаза и сказать то, после чего ты сама откажешь Пернову. У него, и я знаю это из достоверных источников, уже есть невеста! Он обещал одной бедной девушке жениться на ней. Если ты пойдешь за него, ты… сделаешь несчастной целую семью… Понимаешь ли ты это? Целую семью! Ну, неужели же ты и после этого решишься за него идти?
Теперь девушка несколько смутилась, щеки ее покраснели, и она низко склонила свою хорошенькую головку, но смущение ее было только минутное – быстро овладев собой, Нюта выпрямилась и, смотря прямо в глаза отца, заговорила с прежней развязностью:
– Напрасно, папа, ты так думаешь! Я не понимаю, почему я должна отказать Пернову из-за того, что у него была прежде невеста. Он меня теперь любит, а до его прошлого мне нет никакого дела. Мама правду говорит, что совершенства бывают только в романах и в жизни надо принимать людей такими, какие они есть.
Если бы холодное лезвие железа коснулась сердца Нефедова, оно не могло бы причинить ему больше боли, чем этот холодный и циничный ответ Нюты. Он вдруг уразумел и почувствовал, что дочери у него более нет, что перед ним стоит только ее оболочка: той Нюты, той дорогой девочки, образ которой он носил в своей душе, который любил и лелеял, более для него не существует… Жизнь со своею бессердечностью, фальшью и грязью затоптала, загрязнила его сокровище….
Конечно, он мог бы своей отцовской властью удержать Нюту от этого пагубного для нее шага, мог бы запретить ей ехать сегодня к Неклюдовым, но к чему бы это привело? Разве это спасло бы ее от нравственной гибели и вернуло бы ему его девочку? Он в совершенном изнеможении опустился в стоявшее рядом кресло.
– Если уж ты так упряма, – сказал он тихо, – что моих советов не слушаешь и хочешь поступать по-своему, то делай как знаешь и поезжай куда хочешь, но помни, что твой отец тебя предупреждал.
Нюта была слишком недальновидна, кажущееся спокойствие Нефедова она приняла за знак согласи я. Она хотела было поцеловать его, но он холодным, медленным жестом отстранил ее.
– Потом, потом, – сказал он, – не беспокой меня теперь, я хочу отдохнуть. Иди… Иди…
Некоторое время после ухода Нюты Нефедов сидел неподвижно. Он чувствовал себя таким несчастным, таким одиноким, таким покинутым, что со страхом спрашивал себя: кто даст ему теперь силы влачить свою безотрадную жизнь? А ведь было – Нюта была совсем другая, была действительно доброй, чистой, невинной девочкой – но жизнь, беспощадная, пошлая жизнь испортила ее, отняла у него его сокровище! И вдруг Нефедову с поразительной ясностью вспомнились те минуты, когда восемь лет тому назад, на этом самом диване, перед ним лежала умершая Нюта. И ему захотелось вернуть эти минуты.
– О! – воскликнул он, – тогда я гораздо меньше страдал. Тогда была смерть телесная, а теперь духовная! Тогда она, и мертвая, была моя!
Вдруг он почувствовал легкое прикосновение к своему плечу поднял голову и, к несказанному своему удивлению, увидел перед собой монахиню.
– Проснитесь, проснитесь, – говорила она, – вам, верно, снится что – нибудь тяжелое, вы так тяжело стонете.
Нефедов огляделся – перед ним опять стоял гробик, в котором покоилось его возлюбленное дитя. Свечи продолжали мерцать прежним таинственным светом, цветы, покрывавшие серебряный покров, продолжали издавать тот же аромат; на личике девочки было выражение светлого покоя. Нефедов почувствовал теперь не скорбь, а, скорее, облегчение. Смерть, отнимающая у него дитя, показалась ему уже не мрачной, безжалостной, а некой силой, которая укрывала его дорогое дитя от чего-то гораздо более ужасного.
Он наклонился над гробиком, припал губами к мраморным ручкам девочки, и слезы, обильные, облегчающие, полились из его глаз.
– Боже! Благодарю Тебя, – воскликнул он. Нефедов получил ответ на свой вопрос.
Монахиня с глубоким состраданием смотрела на него. В своей жизни ей приходилось видеть немало тяжелых сцен, но не было такого, чтобы отец возносил благодарственные молитвы над умершим ребенком.
В это время в окнах комнаты священника, который служил панихиду у гроба Нюты, погас свет. Батюшка только что встал с колен после долгой, горячей молитвы, в которой просил Господа, чтобы Он утешил Нефедова. В эту минуту он почувствовал, что Господь внял его мольбе.
Литература
Примеры благочестия из житий святых. Протопресвитер В. Бажанов. С-Пб., 1894. Издание 11-е.
Журнал «Русский паломник».С-Пб., подшивки за 1900–1904 гг. Авторы: В. Сиротинин, протоиерей М. Хитров, С. Скордулли, А. Павловский, Георгий Миллер, А. Тогольский, Георгий Сурин, Ал. Лавров, В Александров, П. Россиев, А. Балов, И. Мглинский, В. Лебедев, М. Караулов, Е. Воронова.
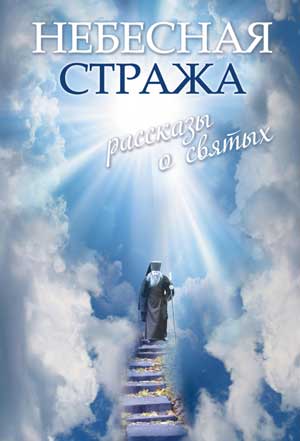
Комментировать