Приложение
Князь Николай Жевахов. Отвергнутый себя
(Раб Божий Николай Николаевич Иваненко)
Князь Николай Давыдович Жевахов
Видный писатель и церковный деятель Николай Давыдович Жевахов (1874-1947) по отцовской линии происходил из грузинского княжеского рода, мать была из знатной черниговской фамилии Горленко, славной святителем Иоасафом, чудотворцем Белгородским. Юрист по образованию, Николай Давыдович долгие годы служил чиновником в Государственной канцелярии, одновременно глубоко интересуясь православной жизнью России. В августе 1916 года князя Жевахова назначили товарищем Обер-прокурора Святейшего Синода и на этом ответственном посту он оставался вплоть до начала Февральской революции. После ареста и допросов «следователей» над ним нависла угроза тюремного заточения. Лишь по милости Божией Николай Давыдович избежал узилища. Начались горестные скитания по стране. Одно время князь нашел себе приют на Монастырщине, под Киевом. Но и сюда докатился погром.
В середине января 1920 года Жевахов вместе с беженцами отплыл на пароходе «Иртыш» в Константинополь. Но жить возле Святой Софии пришлось недолго, в феврале 1921 года он переехал в Сербию, где и обосновался. Сербский период жизни Николая Давыдовича отмечен значительным творческим взлетом — здесь он написал три тома своих воспоминаний. К сожалению, напечатаны из них только два («Воспоминания товарища Обер прокурора Святейшего Синода». Т. I. Мюнхен, 1923; Т. II. Новый Сад, 1928). В его книгах с убедительной прямотой отображена церковно-общественная жизнь России в период перед началом Первой мировой войны, во время войны, а также в пору революционного лихолетья, когда страна подверглась жертвенному уничтожению. Перед читателем предстал не просто свидетель трагических событий, а ревностный защитник веры Православной, инициативный государственник и бесстрашный разоблачитель врагов Отчизны. «Воспоминания» князя Жевахова — один из самых ярких документов эпохи. Вместе с тем его книги — подлинная сокровищница образов, включая Государя, Государыни, церковных Деятелей и духоносцев. Несколько незабываемых страниц автор посвятил Оптиной Пустыни, ее подвижникам, сострадавшим народному горю и молитвенно звавших Россию встать на пусть спасения.
В начале 1930-х годов Н. Д. Жевахов переехал на жительство в Италию. Обосновался на Никольском подворье в Барграде (Бари), выстроенном тщанием Императорского Палестинского общества в первые годы XX века. В строительстве Подворья в свое время непосредственно участвовал и сам Николай Давыдович. Но теперь у Подворья уже не было никаких средств. Перед эмиграцией возникла труднейшая задача: сохранить в неприкосновенности святыню, не допустить передачи ее в собственность безбожникам, изыскать необходимые средства к существованию православной общины.
В Италии князь Жевахов пишет обширный очерк «Сергей Александрович Нилус»; издан отдельной книжкой в сербском городе Новый Сад в 1936 году и вскоре переведен автором на итальянский язык (Рим, 1939). Тогда же князь Жевахов перевел на итальянский язык «Беседу преп. Серафима Саровского с Николаем Мотовиловым о цели христианской жизни», открыв для итальянцев драгоценную жемчужину старческого духовного опыта. Благодаря настоянию Жевахова Никольское подворье в Бари оставалось неприкосновенной святыней вплоть до окончания Второй мировой войны. Умер Николай Давыдович в 1947 году в лагере для беженцев в Австрии, под Веной, похоронен там же.
Очерк «Раб Божий Николай Николаевич Иваненко» посвящен автором тем же проблемам русской святости, что и книга Сергея Нилуса. В России печатается впервые.
А. Н. Стрижев
Князь Николай Жевахов. Отвергнутый себя
(Раб Божий Николай Николаевич Иваненко)
Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единаго Бога, не ищете (Ин. 6:44).
Истинно, Истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода (Ин. 12:24).
Вступление
Слепы те люди, какие сквозь толщу повседневной жизни не замечают промыслительных путей Божиих и на сером фоне этой жизни не улавливают благодатных лучей Небесной правды, то предостерегающей и вразумляющей, то милующей и прощающей… Какие волшебные панорамы открываются тем людям, кои владеют духовным зрением, кои и на земле видят отражения неба и славят Бога среди жгучих страданий и испытаний, точно не замечая и не чувствуя их!… Пред ними стоит не только настоящее, но и будущее, они улавливают самый процесс перерождения минутного страдания, временной скорби в вечную радость… Их плоть остается на земле, а дух живет и действует в пределах вечности, сквозь призму которой они рассматривают окружающее и свои обязательства к Богу и ближнему, подчиняя своему водительству волю человека, укрощая его страсти и искореняя их… Это — не только «земные ангелы и небесные человеки», но и ангелы, имеющие специальную миссию на земле, возложенную на них безмерною любовью Господа Бога к немощным, злым и неблагодарным людям… Они и сейчас живут среди нас, как всегда жили, как и будут жить, доколе не истощится милосердие и долготерпение Божии. Но их или не замечают, или, замечая, осуждают.
С такими великими рабами Божиими Господь и приводил меня встречаться в жизни… Об одном из них, Николае Николаевиче Иваненке, я и рассказываю в нижеприводимом кратком очерке, воспроизведенном по памяти в 1924 году. К несчастью, мне не удалось вывезти свой архив из России, и ценнейшие бумаги, в том числе и переписка с Николаем Николаевичем, дававшие обильный материал для его жизнеописания — сделались достоянием большевиков…
Жизнь человека многогранна и многообразна… Но в чем бы она ни сказывалась, мы видим, что не человек руководит ею, направляя по известному, заранее намеченному пути, согласно воле Божией, навстречу к определенным задачам и целям, а жизнь играет волею человека и точно издевается над ним… И на склоне дней своих, подводя итоги прожитой жизни, редкий человек остается доволен своей жизнью, и многие, многие с глубоким вздохом, сознаются в том, что если бы им пришлось начать новую жизнь, то они бы и жили иначе, чем раньше и делали бы не то дело, какое делали прежде, что вся их прожитая жизнь была не настоящей жизнью. А в лучшем случае лишь приготовлением к ней… Самая счастливая жизнь, полная радостей и наслаждений, не способна удовлетворить духовно развитого человека и оставляет горечь разочарования, ибо никакие радости и утехи не могут убить тоски по Небу…
И только ту жизнь можно назвать настоящей жизнью, в последний момент которой умирающий может повторить слова, написанные за несколько минут до кончины великим алтайским миссионером архимандритом Макарием Глухаревым († 18 мая 1847 г.):
Мой Бог! Мой Царь! Отец!
Спаситель дорогой!
Пришел желанный день,
Паду перед Тобой…
Еще я на земле, но дух Тобой трепещет…
Зрю — светит горний луч,
Заря бессмертья блещет!
Примером такой настоящей жизни и была жизнь Николая Николаевича Иваненко с момента его обращения к Богу.
Слава милосердию и долготерпению Божьему, воздвигающему в наши дни подобных людей!… Горе тем, кто проходит мимо них, не замечая или осуждая их!…
Здесь только слабое отражение этой жизни, но и оно показалось резким тем, кто, взглянув на него, увидел в нем свое собственное отражение. Я не нашел возможным смягчить внешнее содержание рукописи, памятуя, что там, где резкость, там в большинстве случаев — правда; а там, где правда, — там назидание; там же, где назидание, — там польза для души. Писатель же, если он добросовестен, должен думать не о себе и о том, будут ли его хвалить или порицать, а должен думать только о читателе и его духовной пользе.
Я. Ж.
Бари. Подворье Святителя Николая. 17/30 декабря 1933 г.
Николай Николаевич Иваненко († 6 августа 1912 г.)
Россия, как великая культурная ценность не существовала для Европы. Россию боялись, но ее не знали и не понимали. И вместо того чтобы черпать из России источник своего морального могущества и благополучия, источник подлинного знания и духовного просвещения, Европа на протяжении веков ослабляла и унижала Россию, даже не догадываясь о том, что толкала себя в бездну того хаоса, из которого и доныне не может выйти.
Сила России заключалась не в ее территориальных пространствах и богатствах, а в ее великой духовной мощи. Только Россия являла жизнью своих лучших сынов примеры осуществленного Царствия Божия на земле, только в России можно было научиться настоящей жизни и узнать, в чем такая жизнь заключалась. И если бы Западная Европа познала духовную мощь России, то тот «кризис западной культуры», о котором теперь так много говорят и пишут, предрекая гибель этой культуры, давно бы наступил, и европейцы признали бы, что вся их культура давно утратила свои национальные черты, была порабощена еврейством, вытеснившим христианские основы культуры, имела ложное основание и зиждилась на обмане.
Русская культура тем и отличалась от западноевропейской, что сберегла свои христианские основы и в своем поступательном движении вперед не только не отрывалась от религии и ее требований, но и руководилась этими требованиями и сообразовалась с ними. Православие тем и отличалось от прочих религий, что было вненационально, и русский подвижник, достигший горних высот, тем и отличался от подвижников инословных церквей, что становился в буквальном смысле слова гражданином Неба, для которого не существовало ни преданий и писаний, ни догматов и обрядов, ни расовых и национальных различий, ни всего, что нужно земле, но не нужно Небу и для которого культура сердца была единственным путем восхождения к Богу.
Ему были непонятны не только догматические споры законников, с огрубелым сердцем, кишащим страстями, но непонятна была даже самая область догматов, непознаваемая умом и не могущая быть предметом теоретического усвоения, а доступная лишь духовному созерцанию — пределу человеческого совершенства на земле. Русский подвижник рассматривал окружающих его людей не с точки зрения их принадлежности к той или иной расе и вере, а с точки зрения их расстояния от Бога, и в его глазах язычник, поклоняющийся идолам, стоял нередко ближе к Богу, чем христианин с окаменелым сердцем. И чем выше он поднимался к Небу, чем ближе восходил к Богу, тем все более утрачивал свой земной облик, сбрасывая с себя все то, что являлось уделом земли, но не могло существовать в пределах вечности; тем очевиднее превращался в земного ангела и небесного человека, свидетельствуя о том, что путь на Небо открыт не православным или инославным, а человеку, покорившему свои греховные страсти всепобеждающею любовию к Богу и ближнему.
В первом томе своих «Воспоминаний», в главе «Природа русской души, Русские проблемы духа» я сделал попытку теоретического построения пути восхождения русской души к Богу. Всякой теории предшествует опыт, и моя глава заключала в себе не отвлеченные мысли, не предположения и возможности, а самую обыденную действительность на фоне русской жизни, ибо указанным мною путем шли не только выдающиеся русские подвижники, но и все совестливые люди с неугасшим сознанием своей ответственности пред Богом, отличаясь друг от друга только расстоянием.
В настоящем очерке я хочу указать конкретный пример из жизни двух замечательных русских людей, из которых один стал известным всему миру, а другой и жил, и умер никому не известным. Как ни различны были внешние условия их жизни, но их связывала общность душевных движений, общность исканий Бога и то, что общим был их первый шаг по пути к Богу. Но затем пути их разошлись в разные стороны, один дошел до Бога, другой свернул с пути и погиб, ибо прельстился той славой, какую обещал диавол каждому, кто поклонится (Лк. 4:5-8).
Я говорю о Николае Николаевиче Иваненке, о котором мало кто слышал, и графе Льве Николаевиче Толстом, которого все знают.
Кто не знает писателя графа Льва Толстого, слава которого прогремела по всему миру? Он родился в богатой семье и с детства был окружен исключительными условиями жизни, нежными заботами и трогательным попечением. Казалось, в его жизни не было ни одной щели, чрез которую бы могли проникнуть даже отдаленные слухи о человеческом горе и страдании, о слезах и несчастиях… И между тем он не только не замечал своего довольства и счастья, не только не проникался вкусом к безмятежной и беззаботной жизни, а, наоборот, подобно всем русским детям, воспитанным благочестивыми родителями в страхе Божием, в союзе любви к Богу и ближним, тяготился преимуществами своего положения и, терзаемый перекрестными вопросами и сомнениями, искал из него выхода. В России чаще, чем где-либо, знатность и богатство не только не привязывали к земле и развивали вкус к земным благам, а, наоборот, выталкивали из мира, и нежная душа, застигнутая на пороге своей юности всеми человеческими благами и по природе не способная прилепляться к ним, видела в них только цепи и оковы, не пускающие душу на Небо, задерживающие ее порывы к Богу, и испытывала тем большие угрызения совести, чем меньше успевала в той борьбе с собою. Не избежал в своей юности такой драмы и Лев Толстой, когда пробудившееся сознание поставило пред ним ряд неразрешимых вопросов о задачах и целях жизни и заставило его всю жизнь искать ответов на них: сначала у умудренных духовным опытом старцев, в обителях монастырских, куда он, будучи мальчиком бегал украдкою от родителей; затем в деревне, у народа; и, наконец, у своего собственного разума, обесценившего все прежние ответы и взамен ничего ему не давшего. В данном случае не имеет значения, достиг ли Толстой искомых целей или нет, а важно то, что в тот самый момент, когда окружающие видели в нем баловня судьбы и завидовали ему, в это время Толстой тяготился своим счастьем, ставшим для него бременем и не знал, как сбросить с себя это бремя, как примирить свое собственное счастье и довольство с горем и страданиями окружающих. Сначала ему казалось, что источником человеческого страдания является социальное неустройство жизни и он принялся перестраивать ее, измышляя всевозможные теории социального блага и проповедуя опрощение, в результате которого якобы последует сокращение потребностей и уменьшится страдание от невозможности удовлетворить их. Правильная теоретически, эта мысль привела к абсурду, и Толстой вскоре отказался от нее, после чего стал звать людей в деревню, приглашая их следовать примеру крестьян и личным трудом возделывать землю. Но и эта мысль разочаровала его. Следующим этапом были экскурсии в область религии, но здесь Толстой до того уже запутался в дебрях непознаваемого разумом, но постигаемого духовным опытом, какого он не имел, что впал в ересь и восстал даже против Бога.
Однако же, как ни велики и даже преступны были заблуждения Толстого, но вытекали они из его идеалистических побуждений, из требований его тоскующего и ищущего духа, из протестов его чуткой совести, заглушить которых не могли ни его богатство и знатность рода, ни те земные блага, какие выпали ему в удел. С внешних точек зрения Толстой был и остался до конца своей долгой жизни исключительным баловнем судьбы, наградившей его всеми благами, доступными человеку на земле. Он был богат и знатен, отличался поразительным здоровьем, крепостью сил и трудоспособностью, имел безгранично преданную жену-друга и большую семью, приобрел мировую славу гениального писателя, встречал всеобщее поклонение, но «счастья» он не имел, и дух его и в 80 лет был столь же неспокоен, как и в 18 лет, когда, мучимый неразрешимыми вопросами, он приметался к ограде монастырской и искал ответов на вопросы своего тревожного духа в келиях старцев-подвижников. Вся его жизнь была непрерывным исканием Бога, но он не нашел Его и не нашел потому, что не понял слов Христа: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8:34).
Толстой точно просмотрел основы спасения души, возвещенные Спасителем, и не только не возненавидел душу свою в мире сем, дабы сохранить ее для жизни вечной (Ин. 12:25), что привело бы его к смирению, а, наоборот, возлюбил ее паче Бога, что привело его к непомерной гордости ума, какая и погубила его. Начав свою жизнь мистиком, он кончил ее рационалистом. Но рационализм — достояние земли и не имеет корней в вечности, и хотя слава Толстого и прогремела по всему миру, но это была земная слава, и имя Толстого как философа будет скоро позабыто.
В лице Толстого, как в фокусе сосредоточилась богоискательство русской интеллигенции, с ее высокими порывами и устремлениями, с ее чуткой и мятежной совестью, ищущей и тревожной, неудовлетворяющейся никакими земными благами и в то же время неспособной отречься от них, неспособной на подвиг. Эти люди — глубоко несчастны. Они не настолько испорчены, чтобы удовлетворяться собственным «счастьем» при виде несчастья своих ближних, и не настолько сильны духом, чтобы отказаться от собственного «счастья», как бы ни томились им, как бы ни изнемогали под его бременем. В основе такой нерешительности лежала, быть может, несознаваемая ими самими гордость, точно цепями сковавшая их мысль и волю и не позволявшая им уразуметь, что только одно смирение могло бы разорвать эти цепи и выпустить их на свободу. Этого не уразумел и Толстой, ставший жертвою своей гордости.
Но то, чего не уразумел Толстой, то понял Иваненко, о котором я и хочу рассказать.
Не помню, в 1905 или в 1906 году я ехал из Петербурга через Москву в Киев, к своей матери, и в Москве, в международном спальном вагоне встретился с гремевшим тогда по всей России священником Григорием Спиридоновичем Петровым. Он занимал отдельное купе 1-го класса и тоже ехал в Киев, где рассчитывал провести несколько дней, а затем следовать в Одессу, по пути в Палестину. Я познакомился с ним в Петербурге незадолго до этой встречи и еще мало знал его. Узнав из разговоров с Гр. Петровым, что в Киеве у него нет знакомых и он едет туда чуть ли не впервые, я пригласил его в свой материнский дом и предложил ему познакомиться у меня с представителями киевского общества чрез посредство моего брата князя Владимира Давидовича, в то время исполнявшего обязанности Киевского вице-губернатора. Гр. Петров охотно согласился и обещал приехать к нам на следующий день к 8 часам вечера, о чем я и сказал своему брату, осведомившись у него, не нарушит ли такое приглашение его планов и предложений, на что брат ответил, что не только будет рад видеть Гр. Петрова, но даже готов лично пригласить его, ибо в этот день ожидает у себя Николая Николаевича Неплюева и его друга Николая Николаевича Иваненка, и приезд Гр. Петрова будет очень кстати. На другой день утром мы оба поехали в гостиницу «Континенталь», в которой остановился Гр. Петров, и мой брат передал ему свое личное приглашение на вечер. Гр. Петров остановился не только в лучшей гостинице города, но, по-видимому, и в лучшей комнате этой гостиницы, заняв огромный, роскошно меблированный зал, и мы оба едва могли скрыть свою улыбку при виде такого разительного противоречия между проповедями Гр. Петрова, с призывами «опрощения», снискавшими ему такую громкую славу, и его «карманными» размахами. Он принял нас, как и подобало знаменитости, величаво торжественно и обещал приехать ровно в 8 часов. Между тем, на фоне провинциального города, приезд Гр. Петрова в Киев стал уже событием, и мой брат буквально осаждался просьбами своих многочисленных знакомых познакомить их с Гр. Петровым и дать им возможность послушать знаменитого проповедника, в результате чего наша гостиная переполнилась киевским обществом еще задолго до прибытия Гр. Петрова.
Ровно в 8 часов вечера Гр. Петров вошел в гостиную и взоры обратились на него. Он был по обыкновению сосредоточен и очень импонировал своею наружностью, его движения были уверенны, и он производил впечатление законченного артиста, привыкшего выступать пред многочисленною аудиториею. Увидев Николая Николаевича Неплюева, с которым он был раньше знаком и часто встречался в Петербурге, Гр. Петров очень оживился и воскликнул: «Вот не ожидал встретиться с вами в городе, где никого не знаю и где очутился только проездом», но вдруг его оживление исчезло, он почувствовал на себе взгляд Николая Николаевича Иваненка и этот взгляд точно сковал его.
Так как всеобщее внимание присутствовавших было сосредоточено на Гр. Петрове, то Н. Н. Иваненка мало кто замечал. Я также ничего не слыхал о Николае Николаевиче раньше и, отведя брата в сторону, спросил его о нем.
«После скажу, ответил брат, а пока замечу только то, что этому человеку, быть может, суждено будет сыграть большую роль в нашей жизни».
Эти слова очень заинтересовали меня и я стал рассматривать Николая Николаевича и со вниманием вслушиваться в его слова.
Это был высокий и стройный, несколько сутуловатый старик в безукоризненном черном сюртуке, с длинной белой бородою и следами былой красоты. Свежее румяное лицо точно светилось его чудными любящими глазами и на лице красовалась улыбка, придававшая лицу несколько скептическое выражение. Говорил он односложно и неохотно, и со стороны казалось, что, хотя он и находится в большом обществе, однако очень далек от окружающих, и его душа витает где-то далеко, в другом месте. Однако он не сводил глаз с Гр. Петрова и точно следил за каждым его движением, и я не мог не заметить, что и Гр. Петров, разговаривая то с одним, то с другим, искал глазами Николая Николаевича и не был покоен. Между тем присутствовавшие ждали проповеди Гр. Петрова, который перебрасывался незначительными фразами с своими соседями и, по-видимому, не был расположен говорить, и, чтобы избежать замешательства, брат мой пригласил гостей в столовую, где был сервирован чай. За чаем Гр. Петров оживился и начал говорить… О чем он говорил, я сейчас не помню. С тех пор прошло уже 20 лет. Но я хорошо помню, что все сидевшие за столом с затаенным дыханием вслушивались в каждое слово знаменитого проповедника и оценивали его слова сквозь призму той славы, какая его окружала. Вдруг, неожиданно для всех, смиренный и деликатный Николай Николаевич Иваненко вскочил с своего места и грозно крикнул: «Василий Великий говорит совсем не то, что вы здесь проповедуете… Ваши слова расходятся с учением Православной Церкви…»
Желая отпарировать удар, Гр. Петров ответил:
— Да, он хотя и Великий, но Василий…
Эти слова явились точно сигналом к той грозной, обличительной речи, какую произнес Николай Николаевич и какая, до мелочей, запечатлелась в памяти всех слышавших ее.
«Вы идете за диаволом и тащите за собою всех, кто следует толпами за вами, говорил Н. Н. Иваненко. Вы не можете быть ни пастырем, ни учителем, ибо не научились распознавать козней диавола, ослепившего вас гордостью и тщеславием, честолюбием и славолюбием. Ваша слава ослепила вас настолько, что вы даже не замечаете, что уже стоите на краю бездны… Если бы ваши проповеди были полезны и назидательны, то диавол бы укрыл вас, а не поставил бы на пьедестал, с которого вы всем видны… Возвести вас на вершину славы диавол сумел, но удержать вас на ней — не в его силах… Смиритесь!»
Возможно, что слова Н. Н. Иваненка переданы мною и не буквально, но смысл его обличительной речи, сказанной с большим воодушевлением, остался точным. Нужно ли говорить о последовавшем замешательстве и о том впечатлении, какое получилось от речи Н. Н. Иваненка, обращенной к Гр. Петрову в тот момент, когда его слава гремела по всей России, когда толпы людей бегали за ним и видели в нем пророка, когда не только простые миряне, но и иерархи, и ученые богословы еще не успели разглядеть того яда, какой скрывался в его сочинениях и проповедях, а в лице Гр. Петрова, — бездарного и безверного социалиста, лишенного впоследствии священного сана?!
Николай Николаевич Иваненко был первым, кто обличил его…
«Никогда не забуду этого вечера», — сказал Гр. Петров, прощаясь с Н. Н. Неплюевым.
Я был убежден, что обличение Н. Н. Иваненком Гр. Петрова произвело на слушателей неприятное впечатление, что было и понятно, так как и проповеди, и сочинения Гр. Петрова гипнотизировали массу, не привыкшую к вдумчивому отношению к ним. Мало кто прозревал, что лейтмотивом всех сочинений Гр. Петрова являлось его убеждение в возможности «царствия Божия на земле» путем внешнего переустройства социальных условий жизни, что коренным образом противоречило не только словам Христа Спасителя о царстве Божием «внутри нас», обязывавшем не только к внутреннему духовному перерождению, но и к здравому смыслу; мало кто знал, что «сочинения» Гр. Петрова являлись неудачным перифразом проповедей французских проповедников Вине и Берсье и популярных брошюрок немца Функе, откуда Петров заимствовал свои «мысли», казавшиеся новыми лишь тем, кто не был знаком с иностранной церковно-богословской литературой, красивой по форме, но бедной духовным содержанием.
Широкие массы видели в лице Гр. Петрова пророка, пользовавшегося заслуженной славою, а в лице Н. Н. Иваненка — никому неизвестного старца, и обличение последнего было истолковано не в его пользу.
Вскоре после возвращения Гр. Петрова из Палестины Святейший Синод сослал его в Череменецкий монастырь, Лужского уезда, Петербургской епархии, в надежде, что, вразумленный старцами, Петров откажется от своих заблуждений; когда же эта мера не достигла цели, то оказался вынужденным снять с него священный сан, после чего слава Петрова мгновенно померкла и о нем забыли. Слова Н. Н. Иваненка о способности диавола возводить людей на вершину человеческой славы и бессилии его удерживать их на ней, оправдались на примере Гр. Петрова поразительно быстро.
С этого памятного вечера я всей душою прилепился к Н. Н. Иваненку, однако поддерживать общение с ним мог только письмами, так как на другой же день Николай Николаевич уехал из Киева в Боровский Пафнутиев монастырь, Калужской губернии, и я долгие месяцы спустя его не видел.
Письма его были оригинальны и до того отличались по форме и содержанию от обычных, что я видел в них откровение и чрезвычайно дорожил ими. Но и эти драгоценные письма были похищены большевиками со всеми прочими моими вещами, и у меня остались о них только воспоминания. А между тем они являлись подлинными сокровищами духа и подлинным кладом. Иногда они были очень короткими и заключали в себе только одну фразу, какую-нибудь одну мысль и, получая ее, я невольно вздрагивал, до того необычайным казалось мне совпадение высказанной мысли с тем моментом в моей жизни, какой требовал именно этой мысли, являвшейся назиданием или предостережением; иногда, наоборот, письма были до того объемисты, что присылались в виде сшитых тетрадок… Иной раз между письмами следовали длительные промежутки, проходили недели и месяцы, в другой раз, наоборот, посылалось сразу несколько писем… И такая система не была случайной, как не было случайным и содержание посылаемых писем, всегда очень глубоких и в то же время чрезвычайно ясных. Эти письма еще более сблизили меня с Николаем Николаевичем, в котором я стал видеть своего духовного наставника и руководителя, и я всею душою стремился к нему в Боровский монастырь, не останавливаясь даже пред мыслью об отставке, если бы моя служба в Государственной канцелярии грозила мне разлукою с дивным старцем.
И на обратном пути из Полтавской губернии, где я проводил лето, в августе 1906 года я заехал по пути в Петербург в Боровский монастырь, где и остался около месяца, назидаясь беседами с Николаем Николаевичем и богомудрым настоятелем монастыря архимандритом Венедиктом, учеником знаменитого старца Амвросия Оптинского. Этот месяц был счастливейшим месяцем моей жизни; он, если и не приобщил меня к настоящей жизни, то все же показал мне эту жизнь, и то, что я увидел, то обесценило в моих глазах все сокровища мира, переставило все мои прежние точки зрения на мир и задачи человека… И всю свою последующую жизнь я жил буквально между небом и землею, между монастырем и миром и, как ни болезненна была моя личная душевная драма от неизбежного, благодаря такому положению, разлада с собою и с окружающим, все же ей я обязан равнодушием к земным благам и приманкам, и тем, что никогда не скучал о них.
Точно взяв меня за руку, Николай Николаевич возвел меня на высокую гору, откуда открывались не только далекие горизонты, но и все то, что их обесценивало в моих глазах… Весь мир, со всеми своими сокровищами, стремлениями и достижениями, радостями и страданиями, казался мне муравейником, в котором люди суетились не зная зачем и для чего. Все содержание человеческой жизни, с ее идеалами, задачами и программами, казалось мне великой ложью, тем жестоким самообманом, который и ввергал человечество в бездну страданий… Чего ищут и чего добиваются люди, думал я, глядя на этот муравейник, зачем ненавидят друг друга, зложелательны и лукавы? Из за борьбы за существование?! А разве эта борьба не вызвана их взаимной ненавистью, отсутствием той христианской любви, какая бы приходила на помощь нужде и страданиям и предотвращала самую их возможность?! И притом, не все же ведут такую борьбу… Огромное большинство людей свободно от земных забот и могло бы, казалось, одухотворяться, вознося свой дух к Небу, а не ползать на земле, погружаясь в бездны житейского омута… Но как раз именно эти люди, имеющие все и ни в чем не нуждающиеся, могущие помогать своим ближним и распространять вокруг себя высокое христианское настроение, и являются источником наибольших человеческих страданий… Стремясь только к почестям и славе, они гонят всех встречных на своем пути, оставляя позади себя немощных и слабых, точно тешась их бессилием… И победителем в жизни признается не самый чистый, а самый ловкий; не тот, кто победил свои земные страсти, а тот, кто использовал их с наибольшей для себя выгодою и заслужил рукоплескания толпы, кто добрался до высших почестей и славы и сел на пьедестал, откуда всем виден, кто, короче сказать, достиг той цели, какую преследует огромное большинство сытых людей, не сознающих своих христианских обязанностей к Богу и ближнему…
Там, в Боровском монастыре, я узнал и прошлое Николая Николаевича Иваненка и историю его обращения к Богу, а затем и условия его постепенного духовного возрастания. Лично о себе Н. Н. Иваненко почти ничего не говорил и не любил отвечать на расспросы о его прошедшей жизни, хотя иногда и отмечал разительное участие Промысла Божия в некоторых моментах его жизни, чтобы подчеркнуть близость Бога к грешному человеку, безмерную милость и любовь Божии. Значительная часть приводимых мною сведений о Н. Н. Иваненке сообщена мне братией монастыря и многочисленными друзьями и знакомыми Николая Николаевича, а затем подтверждена и им лично, после моих настойчивых просьб проверить эти сведения и обещания не опубликовывать их при его жизни.
Сын очень богатых и знатных родителей, потомок Молдавского господаря Ивони, Николай Николаевич Иваненка, вскоре после окончания курса в Императорским Училище правоведения, был назначен товарищем прокурора Окружного суда в одном из южных судебных округов России. После шумной столицы, в которой он провел свою юность и годы учения, унылая и однообразная жизнь провинции показалась молодому юристу до того неприглядной и скучной, что убила в нем даже влечение к служебной карьере. И Николай Николаевич, выйдя в отставку, поселился в одном из своих многочисленных имений в центральной России и занялся хозяйством. Лишившись рано своих родителей, Николай Николаевич сделался обладателем сказочного богатства. Он владел миллионным имуществом, состоящим из имений, разбросанных в разных губерниях, с фабриками и заводами, управление коими сосредоточивалось в руках многочисленной и опытной администрации; был молод, здоров и очень красив и являлся тем баловнем судьбы, на которого изливались, казалось, все земные блага, доступные человеку. Не испытывал он и никакого душевного разлада, а пользовался благами жизни так, как только и могла ими пользоваться беззаботная молодость. Хозяйство скоро надоело ему, он покинул деревню и переселился за границу, проживая преимущественно в Париже и Лондоне. Как протекала его жизнь на чужбине, никому не было известно, но о размахах ее можно судить по тому, что ежегодные расходы Николая Николаевича превышали цифру в 750000 рублей, как о том рассказывали впоследствии его парижские и лондонские друзья и собутыльники. Впрочем, Николай Николаевич, хотя и вел очень широкий образ жизни, но всегда был воздержан и не предавался излишествам, и нужно думать, что его огромный бюджет обусловливался лишь злоупотреблениями со стороны его многочисленных заграничных приятелей, пользовавшихся безграничной мягкостью и добротою Николая Николаевича. Изредка наезжая в Россию по своим делам, Н. Н. Иваненко продолжал оставаться за границей до тех пор, пока один знаменательный случай, о котором Николай Николаевич говорил затем как о результате молитв его покойной матери, вырвал его из омута греха и привел к Богу.
Возвращаясь однажды поздно вечером из театра по одному из ярко освещенных парижских бульваров, Николай Николаевич заметил на тротуаре, подле фонарного столба, какую-то маленькую книжку, лежавшую развернутою, переплетом вверх и покрытую грязью. Наклонившись, он бережно взял эту книжку, оказавшуюся Евангелием на русском языке, и, подойдя к фонарю, прочитал развернутые страницы, останавливаясь с особым вниманием на текстах, наиболее запачканных грязью. Один из этих текстов был особенно загрязнен и, прежде чем прочитать его, Николай Николаевич снял слой грязи перочинным ножиком. Этот текст гласил: «Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21).
Николай Николаевич мгновенно как бы переродился. И тот факт, что он всегда возвращался из театра в крытом экипаже, а в этот раз почему-то пошел пешком, и чудесная находка русского Евангелия на одном из парижских бульваров, и подчеркнутый текст, покрытый грязью, — все это до того взволновало Н. Н. Иваненка, что он залился слезами, увидел здесь призыв Бога и добросовестно и немедленно отозвался на него, выполнив буквально повеление Божие. Благодатное озарение, как ослепительный луч света, проникло к его сознание, осветило его скверну и в один момент переродило его. Ликвидировав свои дела за границей, разорвав все свои связи и знакомства, Николай Николаевич немедленно вернулся в Россию, где часть своих земель раздал бедным крестьянам, другую часть продал и вырученные деньги разослал по селам и деревням на постройку 34 храмов, а сам превратился в бездомного странника и стал проживать по монастырям, переходя из одного в другой, столько же для того, чтобы укрыться от славы людской, сколько и для того, чтобы оказывать материальную помощь тем обителям, где он находил себе приют. Ликвидировать миллионное имущество сразу было невозможно, и в течение нескольких последующих лет Николай Николаевич получал еще огромные суммы денег, какие раздавал нищим, вынимая из кармана пригоршнями золотые монеты и не сообразуясь с их количеством, вследствие чего его постоянно окружали толпы людей, и на этой почве рождались всякого рода недоразумения с монастырской братией. После этого Николай Николаевич оставлял свое прежнее местожительство и переходил в другой монастырь. Обращение Николая Николаевича к Богу последовало на 40-м году его жизни и в течение свыше 20 лет он вел скитальческую жизнь бездомного странника, пока не поселился окончательно в Боровском монастыре Преподобного Пафнутия, куда прибыл имея уже 63 года от роду.
Я имел счастье познакомится с Николаем Николаевичем Иваненко в тот момент, когда он достиг уже вершин духовной мудрости, когда благодать Божия уже видимо почивала на нем и к его словам прислушивались и умудренные духовным опытом старцы, видевшие в нем «великого раба Божия». Мое общение с ним продолжалось 7 лет, вплоть до смерти его, последовавшей в 1912 году, за два года до начала мировой войны.
Привести в систему все мои беседы с Николаем Николаевичем, могущие вместе с его необычайными письмами составить «науку настоящей жизни» — почти невозможно. Многое исчезло из памяти, переписка же с этим замечательным человеком погибла. Сохранились лишь обрывки воспоминаний в форме кратких суждений по отдельным вопросам и мои личные наблюдения, обязывающие меня не только сберечь полученное мною духовное наследство, но и передать его ищущим правды.
Подробности прошлой жизни Н. Н. Иваненка до его обращения к Богу, равно как и первые 20 лет после обращения, мне мало известны и я не буду вовсе касаться этого периода его жизни, а остановлюсь только на последних 7 годах моего непосредственного общения с ним, приоткрывших мне совершенно новые области ведения раньше мне незнакомые.
Нужно сказать, что влияние официальной церкви России в выработке религиозного миросозерцания и настроения ее пасомых почти ни в чем не выражалось и ничем не сказывалось. Люди, искренно томимые духовной жаждою, не удовлетворялись ни общением с представителями официальной Церкви, ни тем, что выносили из уроков Закона Божия в средней школе, нравственного и догматического богословия в высшей. В обоих случаях пред ними были «учебники», набор схоластических знаний абсолютно не пригодных не только для возгревания веры, но даже для удержания ее; и неудивительно, если специальные духовные школы, «Духовные Академии» стали называться даже «могилами Православия». При этих условиях религиозная настроенность русских людей держалась или на семье, бережно хранившей традиции рода и передававшей из поколения в поколение веру предков, или на общении с людьми «не от мира сего», с старцами и подвижниками, скрывавшимися в келлиях монастырей и обильно питавшими духовной пищей тех, кто прибегал к их помощи и назидался их беседами.
Как простонародье, так и интеллигенция в равной мере чувствовали потребность в духовном наставнике и руководителе, интеллигенция еще больше, чем простой народ, и искали его. Отсюда хождение по монастырям, ставшее бытовым явлением русской жизни. Насколько, однако, простой народ удовлетворялся наружным благочестием и немудреными беседами с старцами, утешавшими его в горе и дававшими ему наставления, полезные для житейского обихода, настолько интеллигенция, предъявлявшая к старцам более высокие требования, не всегда удовлетворялась такими беседами. В своем большинстве эти старцы, даже достигнувшие высот нравственного совершенства и стоявшие в духовном отношении неизмеримо выше образованной интеллигенции, были все же простецами, действительно много знающими и еще более ощущающими Истину, но не способными передавать своих знаний языком понятным образованному человеку. Это были почти святые люди, изливающие почившую на них благодать Божию на окружающих. Они приводили к раскаянию грешника и вызывали умиление одним своим видом, но не умели рассказать, каким образом и какими путями они достигли своего совершенства, как вышли победителями из той борьбы, какая раздирала душу всякого грешника, прибегавшего к ним за помощью с просьбою научить его. Для многих из них эта внутренняя борьба образованного человека, изнемогавшего под натиском мирового зла и задавленного перекрестными вопросами, остававшимися без ответа, была даже неведома; огромное большинство этих старцев-отшельников вышли из иной среды и были совершенно незнакомы с условиями жизни образованного класса населения и потому, в лучшем случае, хотя и давали интеллигенту сокровища великой духовной ценности, однако последний не всегда оказывался способным по состоянию своего духовного развития пользоваться ими. Вот почему встреча моя с Николаем Николаевичем Иваненко, пользовавшимся великим почетом даже у таких старцев-подвижников человеком моей среды, познавшим суету мира сего, победившим страсти и говорившим со мною на понятном для меня языке, явилась в моих глазах великою милостью Божией. Говорил Николай Николаевич редко, неохотно, высказывал мысли отрывочно, точно боялся, что его мысли будут записаны и создадут ему славу. В этом отношении добросовестность его была изумительна. После своего обращения к Богу он не сделал ни одной уступки не только своим страстям, которые еще не были убиты и требовали пищи, но даже малейшим желаниям, по существу не греховным. Переход от смерти к жизни, от греха к святости совершился у него как бы мгновенно, без промежутков, но так только казалось тому, кто видел на поверхности лишь проявление сурового аскетизма, но не замечал той внутренней, духовной борьбы, какую вел Николай Николаевич и какая была поэтому вдвойне жестокой и требовала величайшего напряжения его еще неокрепших духовных сил. Эта борьба была до того страшной, что Николай Николаевич со слезами на глазах признавался в том, о чем ему не хотелось говорить из опасения славы людской и о чем он вынуждался говорить для славы Божией. Он говорил, что люди даже на представляют себе близости к ним Бога, что самому отъявленному грешнику нужно только захотеть спастись и Сам Господь придет к нему на помощь, лишь бы только такое желание спастись было искренним, целым, а не половинным; что никакие духовные силы человека не были бы в состоянии выдерживать эту ужасную борьбу с диаволом, если бы не всесильная помощь Божия, сокрушающая все сатанинские козни, которую люди не только не замечают, но в которую даже не верят, ибо не замечают этих козней и не верят в существование диавола.
Многие страницы «Жития святых» с их легендарными подвигами, коим мало кто верит, считая их фантастическими вымыслами, могли бы войти в биографию Н. Н. Иваненка как факты нашего времени. Он на личном опыте пережил все разнообразие проявлений длительной и упорной борьбы с диаволом и его кознями, борьбы, которая могла быть фактом, но не могла быть вымышлена никакой фантазией, ничьим воображением, и рассказы Николая Николаевича приобретали тем большую ценность, что утверждали несомненную подлинность «Четий Миней» и древних сказаний о жизни подвижников Церкви, и могли быть проверены на личном опыте.
Это был не только великий подвижник Церкви, но и законченный учитель и наставник, умудренный личным духовным опытом, раскрывавшим пред ним душу другого даже на расстоянии… Как-то однажды, проводя лето в Боровском монастыре, о чем знали только весьма немногие из моих родных и близких, я совсем неожиданно получил письмо из Царского Села от одного высокопоставленного юноши, с которым не только не был знаком, но о котором даже не слышал. Извинявшись за посылку письма незнакомому лицу и сославшись на то, что мое местопребывание указано ему известным писателем Евгением Поселяниным, этот юноша обращался ко мне с пламенной просьбой разрешить ему ряд сомнений и недоумений, какие его терзают и лишают душевного спокойствия… Я рассказал об этом Николаю Николаевичу, предложив прочитать письмо, но Николай Николаевич, не читая его, сказал:
— Здесь неисповеданный грех… Посоветуйте ему чистосердечно покаяться в грехе им неисповеданном, и душевное спокойствие снова вернется к нему…
Так и случилось. Юноша нашел в себе силы выполнить совет и духовно возродился.
Таких примеров духовного проникновения в чужую душу было много, но никто их не записывал и не отмечал, считая их заурядными явлениями в жизни Николая Николаевича, полной чудес…
Разумеется, встретившись на своем жизненном пути с таким необычайным человекам, я старался извлечь из общения с ним возможно больше духовной пользы… Меня глубоко заинтересовало миросозерцание Н. Н. Иваненка и те точки зрения на мир и его задачи, какие находились у него в таком непримиримом противоречии с общепринятыми, и я подолгу беседовал с Николаем, Николаевичем на эти темы.
Беседы с этим замечательным человеком и его письма рождали в моем сознании теорию святости, то есть именно то, что были призваны давать уроки Закона Божия в средних школах и богословия — в высших, но чего ни те, ни другие не давали.
Безмерная любовь Бога к человеку, говорил Николай Николаевич, безграничная снисходительность к человеческой немощи и милосердие Божие не могли, конечно, возлагать на человека непосильных для него задач, тем не менее, при самом сотворении мира и человека, Господь создал для первых людей земной рай, предназначив все человечество для блаженства не только на Небе, но и на земле, и этим признал, что человек не только должен, но и может быть блаженным, святым в своей земной жизни. С этой целью, создавая человека, Господь и вложил в природу его влечение к счастью, блаженству, ставшее органическою потребностью каждого человека. И Господь Иисус Христос, возвещая Свое божественное учение людям, определил конечную задачу человека на земле словами: «будьте сынами Отца вашего Небесного», «будьте совершенны как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:45,48), и тем подчеркнул, что эти слова — не идеал, к которому надо стремиться, а прямое повеление Божие, какое каждый человек обязан исполнить. Давая такое повеление и обязывая людей быть совершенными, Господь и сказал как это сделать, и кто поверил словам Христа Спасителя, тот и становился святым. И об этом свидетельствуют сонмы праведников и подвижников нашей Православной Церкви. Безмерно тяжелою и недостижимою в условиях земной жизни кажется заповеданная Богом цель. Но так только кажется тем, кто не доверяет словам Спасителя, кто не вдумывается в слова: «отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною» (Мк. 8:34). «Не заботьтесь о завтрашнем дне…» (Мф. 6:34) «просите и дано будет вам» (Мф. 7:7-8). В этих словах вся программа человеческой жизни, обеспечивающая достижение предназначенных человеку целей, дарующих ему блаженство не только в загробной, но и в земной жизни.
Милосердный Господь как бы говорит человеку: «ты только доверься мне, а Я уже Сам поработаю за тебя и приведу тебя на Небо к Престолу Своему», но люди упорно не отзываются на эти призывы и не потому даже, что не верят им, а потому, что не имеют решимости всецело положиться на Бога. Даже те, кто откликается на эти призывы и думает, что идет им навстречу, пускаются на хитрости с Богом, оставляют себе про запас на всякий случай: кто земные связи и привязанности, окружая себя друзьями и увеличивая число их, не без тайной мысли использовать их и обратиться к ним за помощью в случае нужды; кто сберегает себе немножко денег про черный день; кто обеспечивает себя самого положением, закрепляя свои позиции службою, чинами и пр. А не имеют люди решимости довериться Богу и боятся вручить себя всецело водительству Промысла Божия потому, что думают, что отвергнуться себя значит обречь себя на лишения и страдания, на непосильные для них подвиги жертвы, лишить себя радостей в жизни, взвалить на свои плечи еще новые скорби и невзгоды, каких и так много на земле. Но это неверно.
Они забыли, что самое тяжкое бремя, какое когда-либо существовало на земле и которое никогда более не повторится, было бременем, какое нес на Себе Христос Спаситель, а между тем Господь назвал Свое бремя легким и иго Свое благом.
Припоминаю один из многих мудрых рассказов из иноческой жизни. Как-то однажды один благочестивый мирянин спросил инока: «И какой смысл в том, что вы часами простаиваете на молитве и каждый день выбиваете по тысяче поклонов вместо того, чтобы расходовать дорогое время на пользу ближним?..» А инок и ответил: «Вот ты попробуй сначала хотя один день сделать тысячу поклонов, тогда и увидишь, какую от этого получишь пользу»… Так и я, грешный, говорил Николай Николаевич, могу опытно засвидетельствовать, что имел все блага земные, доступные человеку, и не знал, что значит отказать себе в самых разнообразных требованиях плоти, но ни одно из этих благ не дало мне счастья, какое я получил лишь с того момента, когда отказался от них. А ведь нет человека, который бы не стремился к этим благам, ибо нет никого, кто бы не связывал своего счастья с обладанием земными благами, не зная того, что они кажутся заманчивыми лишь до тех пор, пока стремишься к ним и делаются несноснейшим бременем и обузою для тех, кто уже обладает ими».
Николай Николаевич замолчал, а потом, пристально посмотрев на меня, сказал мне:
— Вот вы можете подумать: «Хорошо тебе говорить так. Ты уже стар, ничего тебе не нужно, живешь себе в монастыре на всем готовом, забот не имеешь и тебе легко проповедовать теории святости… А попробуй-ка в миру сделаться святым… Так столько подводных камней и препятствий, что никаких сил не хватит преодолеть их, и нечего и браться за непосильную работу. Где же эти радость и счастье, о которых ты говоришь?!. Но если бы задача переустройства мира на евангельских началах и была по силам человеку, то в чем идея аскетизма, подрывающего лишь эти силы, к чему это самоистязание, отречение от собственной воли и вручение ее часто невеждам, ломающим и физический, и духовный организм человека, способного принести неизмеримо большую пользу людям в миру, чем закопавшись в монастырской келлии, где ничегонеделание называется «внутренним деланием»?!
Так, если и не говорят, то думают почти все люди, признавшие, что Евангелие Господа Иисуса Христа есть сборник идейных пожеланий, в земной жизни неосуществимых. От этого земная жизнь всего человечества строилась и продолжает строиться на началах чуждых Евангельским заветам, и отсюда все горе, страдания и мучения людей. Чтобы что-либо утверждать, нужно сначала испытать, и те, кто испытывал Слово Божие, те знают, что это Слово — реально и верят Христу Спасителю, подчеркнувшему самое «нереальное» место в Евангелии, именно описание картины Страшного Суда Господня, такими грозными словами: «небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24:35). Сначала нужно довериться Богу, затем отвергнуться себя и перестать заботиться о завтрашнем дне».
И Николай Николаевич объяснил мне, что это значит.
1. Много путей ведет к приобретению сознательной веры, но живая вера появляется лишь с того момента, когда человек сознает себя в опасности и, притом, такой опасности, от которой спасти его никто, кроме Бога, не может. В течение своей земной жизни человек подвергается всякого рода опасностям, но все эти опасности такого рода, что устраняются человеческими способами. К ним и прибегает человек, не задумываясь над теми опасностями, какие угрожают вечной гибелью его душе и где никакие человеческие средства и способы спасения не могут ему помочь. Нужно было бы написать целую книгу для того, чтобы нарисовать процесс духовного пробуждения человека, медленного и постепенного, или же быстрого и внезапного, но пока скажу лишь, что первым признаком такого пробуждения является страх, тот страх, какой мудро называется Божиим и какой постепенно овладевает всем сознанием человека, впервые почувствовавшего себя в опасности. Он еще не отдает себе ясного отчета в том, какого рода эта опасность, в чем она состоит и с какой стороны ему угрожает, он только трепещет и боится, и все теснее прижимается к Богу, и ждет от Него помощи и защиты. И по мере своего приближения к Богу у него открываются глаза и он начинает все яснее видеть то, чего почти никто не видит и чему почти никто не верит: начинает видеть козни диавола, его гениальную игру и безмерно хитрые методы обмана и способы губительства людей. Только с этого момента начинается подлинная вера в Бога. Только с этого момента открывается человеку и та опасность, в какой он находится, живя на земле, и какая столь ужасна, что, для спасения человека от нее, потребовались безмерные страдания и Искупительная Жертва Господа Иисуса Христа. Диавол — вот кто посягает на достояние Божие, человеческую душу, питает ее злыми помыслами, культивирует зло, сеет ненависть и злобу, толкает человека на преступления против законов Божиих, против Самого Бога… Как же можно жить на земле, не умея распознавать козней диавола, а ежеминутно попадая в его сети и становясь орудием в его руках, увеличивая собою, своими помыслами и делами мировое зло, давно уже перевесившее чашу весов Божественного Правосудия и грозящее гибелью мира! В чем значение всех завоеваний человеческого ума, всей суммы человеческого знания, если люди не умеют распознавать диавольских козней, не видят их выражений вовне, не умеют угадывать их за лживым обманчивым покровом, а, точно движимые стадным чувством, неудержимо влекутся к диавольским сетям и даже служат диаволу в убеждении, что служат Богу! Уметь распознавать вовне козни диавола — это самое нужное в жизни, самое главное, без чего невозможно иметь и веры в Бога.
Кто не верит в диавола, тот не может верить и в Бога. Только тогда и выявляется безмерная близость и бесконечная любовь Бога к человеку, когда он увидит козни диавола и познает, как бережно и любовно Господь оберегал его от этих козней, как заботливо предостерегал человека и предотвращал от ежеминутно грозящей ему гибели. О, если бы люди только могли представить себе всю чрезвычайную силу, все могущество диавола!… Мір повторяет заученные в катехизисе слова, что диавол побежден и боится одного только крестного знамения. Да, побежден, но побежден Богом, а не людьми, и никакие духовные силы человека не были бы в Состоянии выдерживать ужасную борьбу с диаволом, если бы не всесильная помощь Божия, сокрушающая сатанинские козни.
То же самое говорил преподобный Серафим, беседуя с Н. А. Мотовиловым.
Как-то раз в беседе с преподобным Серафимом зашел разговор о вражьих нападениях на человека. Светски образованный Мотовилов не преминул усомниться в реальности явлений злой силы. Тогда Преподобный поведал ему о своей страшной борьбе в течение 1000 дней и ночей с бесами и силой своего слова, авторитетом своей святости убедил Мотовилова в существовании бесов не в призраках или мечтании, а в самой настоящей действительности.
Пылкий Мотовилов так вдохновился повестью Старца, что от души воскликнул:
— Батюшка, как бы я хотел побороться с бесами!
Преподобный Серафим испуганно перебил его:
— Что вы, что вы, ваше Боголюбие! Вы не знаете, что вы говорите. Знали бы вы, что малейший из них своим когтем может перевернуть всю землю, так не вызывались бы на борьбу с ними.
— А разве, Батюшка, у бесов есть когти?
— Эх, ваше Боголюбие, ваше Боголюбие, и чему только вас в университете учат?! Не знаете, что у бесов когтей нет. Изображают их с копытами, когтями, рогами, хвостами потому, что для человеческого воображения невозможно гнуснее этого вида и придумать. Таковы в гнусности своей они и есть, ибо самовольное отпадение их от Бога и добровольное их противление Божественной благодати из Ангелов света, какими они были до отпадения, сделало их ангелами такой тьмы и мерзости, что не изобразить их никаким человеческим подобием, а подобие нужно — вот их и изображают черными и безобразными. Но, будучи сотворены с силой и свойствами Ангелов, они обладают таким для человека и для всего земного необоримым могуществом, что, как и сказал я вам, малейший из них может своим когтем перевернуть всю землю. Одна Божественная благодать Всесвятого Духа, туне даруемая нам, православным христианам, за божественные заслуги Богочеловека, Господа нашего Иисуса Христа, одна она делает ничтожными все козни и злоухищрения вражии![270].
Вот это-то умение распознавать сатанинские козни и приобретается в безмолвии и тишине, в самоанализе, в изучении своих собственных душевных влечений и движений, в наблюдении за своими привычками и вкусами, в контроле над своими желаниями, и составляет то «внутреннее делание», какое невежественный мир отождествляет с ничегонеделанием. Такое «внутреннее делание» переносит не только мысль, но и чувства человека из области материальной, мирской, в область духов, в ту область, какая уготована Богом каждому человеку после его смерти и точки зрения которой являются единственно правильными при оценке мира и его задач. Потому-то мир и слеп, что не только не сообразуется с этими точками зрения, но даже не знает, в чем они заключаются.
Здесь Николай Николаевич остановился, а затем вдруг неожиданно, точно встрепенувшись, спросил меня:
— Можно ли, оставаясь на земле в теле, испытывать небесные ощущения и жить одним духом, вне тела?.. Неверующие скажут, что нельзя, а я говорю, что можно…
И, действительно, каждое слово Николая Николаевича, каждое его утверждение, каждая мысль и каждое положение, а также выводы и заключения — были выражением его личного опыта. Говоря о кознях сатанинских, он говорил не о том, что вычитал из книг и о чем знал теоретически, а о том, что видел. Он видел и диавола, и его «хитроумные проделки», как называл Николай Николаевич эти диавольские козни, и беспрестанно воевал с ним. В течение дня он буквально не разлучался с крестным знамением, крестя каждый предмет в своей келлии и точно отбивался крестным знамением от невидимых злых духов, нарушавших его покой. Неудивительно, что эти «странности» объяснялись иначе, и некоторые считали Николая Николаевича даже психически ненормальным, указывая на то, что никто из «нормальных» людей не ведет такой борьбы с диаволом и никаких козней последнего не замечает.
— Потому и не ведет, что не замечает, — отвечал в этих случаях Николай Николаевич, — ведут борьбу только с врагами, а не с друзьями, а для огромного большинства людей диавол не враг, а друг и советник…
«Мір упорно не признает диавола, но… приближается уже час, когда Господь попустит ему на время восторжествовать над миром и тогда его козни откроются всему миру, и настанет великая скорбь, и увеличится вера на земле[271]. Когда благодать Божия отступит от людей, тогда они познают, что без благодати Господней весь мир давно бы погиб… Вот до чего сильно могущество диавола! Он боится Бога, но людей не боится и вооружается даже против праведников и мог бы их прельстить, если бы не помощь Божия… Вспомните житие преподобного Иакова Постника (4 марта)… А люди все еще не верят в бытие диавола и козней его не только не видят, но даже не признают их.
Когда человек научится распознавать козни диавола, тогда только у него и спадет завеса с глаз и он познает Бога, а познав, и доверится Ему. Доверие же рождает решимость вручить себя водительству Божиему, а эта решимость заставит и отвергнуться себя, ибо тогда исчезнет надобность полагаться на себя и на свой разум, исчезнет и многопопечение, и многозаботливость, обязательные там, где нет веры и где человек строит свою жизнь на планах и расчетах, связанных с заботами о завтрашнем дне.
2. Отвергнуться себя — значит быть только искренним и честным с самим собою и не допускать компромиссов с совестью. Каждый человек знает, где правда и где ложь, где добро и где зло, когда он поступает хорошо и когда дурно, и от его доброй воли зависит быть белым или черным. Но большинство людей хитрит и служит одновременно и добру, и злу — немножко Богу, немножко диаволу. От этого они ни белые, ни черные, а серые и не видят в своей жизни ни Руки Господней, ни козней сатанинских. Нет людей, которые бы пребывали в чистых отношениях к Богу и ближним. В самом лучшем случае эти отношения только наполовину чистые. Отвергнуться себя — значит не кривить душою и всецело довериться Богу, Его безмерной любви, Его бесконечному всемогуществу; перестать оглядываться на людей и ждать от них помощи, а главное — отречься от своей собственной воли и во всем положиться на Бога. Но люди этого боятся, опасаясь остаться беспомощными и одинокими. Они говорят: «Да мы и рады были бы не заботиться о своих собственных делах и нуждах, но кто же о нас позаботится, ведь люди злы, они нам не помогут в нужде, они заклюют нас». Так говорят все, ибо все связаны взаимным недоверием друг к другу и не имеют любви между собою.
Но попадаются между ними смельчаки, которые знают, что там, где помогает Бог, там никакой людской помощи и не нужно. Решившись довериться Богу, эти люди становятся свидетелями нескончаемых чудес в своей жизни и поражаются неверию и малодушию своих ближних, больше доверяющих себе, чем Богу. Люди привыкли говорить о вере и даже обиделись бы, если бы им сказали, что у них нет никакой веры, а между тем, в чем же проявляется их вера, в чем она выражается?! Люди не только не имеют ее, но и не приобретут до тех пор, пока не перестанут бояться проявлять ее наружу конкретными действиями и поступками. Разве это вера, если, помогая бедным, люди уделяют им только такую крупицу, какая бы не подорвала их собственного бюджета; навещая больных, боятся приблизиться к тифозному больному, чтобы «не заразиться»; заболев сами, бегут за докторами, по совету которых ездят на курорты за границу, вместо того чтобы обратиться к всесильному Врачу душ и телес, Который лучше нас знает, что нам полезнее, болезнь или здоровье, жизнь или смерть, и вера в Которого способна воскресить даже мертвого; посещая заключенных в тюрьмах, обходить тех несчастных, общение с которыми повредило бы их репутации или скомпрометировало их во мнении общества… А посмотрите, какое малодушие проявляют люди в отношении своих ближних, оклеветанных врагами!… Они на слово верят диаволу-клеветнику и не только не пытаются проверить обвинения, а убегают от оклеветанных как от преступников, боясь скомпрометировать себя одним только приближением к ним, одним только участием даже на расстоянии, одним сочувствием… О, как сильна клевета и как велико малодушие маловерных!… Даже апостол Петр не устоял и отрекся от Христа, когда от него потребовалось испытание его веры… Так живут и поступают не худшие, а лучшие из христиан, помнящие заветы Христа о любви к ближним, утешении страждущих, посещении в темницах сущих, о других же и говорить не нужно… Где же эта вера в Бога и Его всесильную помощь, где грозные обличения неправды мира, где смелая, открытая борьба с его злом, где та вера, какая не боится ни сильных, ни знатных, ни подвигов, ни. геройства, какая боится только Бога и какую имели Серафимы и Иоасафы и бесчисленный сонм угодников Божиих — всё давших миру, но от него ничего не бравших и ничего ему не должных?
Этой веры нет, ибо для того, чтобы ее иметь, нужно уже быть чистым, а для того, чтобы быть чистым, нужно очиститься. По мере же очищения будет возрастать и вера, а с верою — дерзновение, а с дерзновением — сила духа, а где эта сила — там нет и страха пред неправдою, в чем бы она ни выражалась и кто бы ни творил ее.
Этой чистоты нет, нет и обличения неправды и греха. И хорошо, что нет, ибо обличение нечистым нечистого — двойной грех. Не обличают, ибо боятся быть обличенными… Да и как не бояться?! У одного много учености, но еще больше гордости и самолюбия; у другого много приветливости, какая всем видна, но еще больше лицемерия и лукавства, каких никому не видно; у третьего под наружной простотою и обходительностью скрывается непомерное честолюбие, тщеславие, зависть, жажда славы и поклонения… Куда же тут обличать других, когда у самого кишат страсти неукрощенные, когда нет чистоты в отношениях ни к Богу, ни к себе самому, ни ближнему!
Этой веры нет, а между тем только такая вера творит чудеса. А нет этой веры, нет и решимости отвергнуться себя и идти за Христом.
Боятся люди отвергнуться себя еще и потому, что опасаются одиночества, физических лишений, немощей и страданий. Такие опасения неосновательны. Духовно прозревший человек одинок не тогда, когда он один, а как раз наоборот, тогда, когда он среди людей. Когда же он наедине с самим собою, тогда он пребывает в общении с бесплотными духами и не только не томится одиночеством, а, напротив, испытывает величайшее наслаждение, ибо, будучи еще в теле, переживает ощущения той жизни, какой будет жить вне тела, в загробной жизни. Это можно испытать, но объяснить это трудно.
То же самое нужно сказать и о воображаемых физических лишениях и страданиях, якобы связанных с отвержением себя и следованием за Христом. Так думают те, кто не сделал еще ни одного шага по пути к Христу. Те же, кто шли этим путем, знают, что этот путь перерождает самую природу человека и делает его «новою тварью» (2Кор. 5:17), дарует человеку новые ощущения и новые потребности, удовлетворяемые не помощью со стороны людей, а благодатью Божиею. Господь чудесно подчиняет плоть требованиям духа и укрощает законы естества. И те аскеты, отшельники и затворники, которые со стороны казались величайшими мучениками и страдальцами, испытывали в действительности полноту доступного человеку на земле наслаждения. Это не значит, что нравственное совершенство давалось подвижникам без борьбы с самим собою и с окружающим, что для достижения такового не требовалось наших собственных усилий… Царство Божие «нудится» и даруется человеку в результате его упорной работы, однако же не только плоды этой работы, но и самая работа являются таким великим благом, выше которого нет на земле по характеру и свойству небесных ощущений, сопутствующих человеку в этой работе, приводящей к величайшей гармонии и торжеству духа. А главное, для этой работы не только не требуется помощи со стороны людей, а, наоборот, нужно бегать от людей, перестать и видеть, и слышать их. Тогда наступает тишина, тогда наступает общение души с Начальником тишины, Господом Иисусом Христом и открывается Его Воля для каждого часа, каждого мгновения нашей жизни и тогда нужно только следовать указаниям той Всесвятейшей Воли. И то, что было сокрыто еще вчера, что заставляло нас терзаться сомнениями, догадками и предположениями, неизбежными там, где неизвестно, как поступить в том или ином случае и что делать, то вдруг становится ясным сегодня, и точно густая пелена, закрывавшая нам наши мысленные очи, вдруг спадет и становится видным не только то, что есть, но и то, что будет и должно быть… Тогда выходи из своего затвора и беги в мир на помощь людям и давай им то, что получил от Бога, а от них ничего не бери, иначе не только работа твоя будет бесплодной, но и сам ты погибнешь от заразы мирской (1Кор. 10:24).
Проговорив эти слова, Николай Николаевич замолк… Он глубоко задумался и посмотрел вдаль. Я не нарушал его молчания, стараясь запечатлеть в памяти его слова, и понимал, почему Н. Н. не делал ни одного шага в жизни каждого дня без того, чтобы не ссылаться на «указания Божии». Ни в свою келлию, ни из келлии, ни в храм, ни из храма он не входил и не выходил без «указания Божия», равно как не предпринимал ничего прочего до получения таких указаний. Не он, а Бог был Хозяином его жизни, каждого шага, каждого мгновения этой жизни, и он разговаривал с Богом так, точно Господь был безотлучно с ним и не отступал от него ни на шаг.
Беседы с Николаем Николаевичем не были заурядными разговорами на духовные темы. Это были откровения, будившие мысль, оживлявшие сознание, толкавшие на дело, вселявшие необычайную бодрость духа и открывавшие чрезвычайно ясные и радостные горизонты.
Я часто ловил себя на мысли о бесплодности моей работы в деревне, поглощавшей так много сил и дававшей в результате только внешние приобретения… Тем меньше удовлетворяла меня моя деятельность в блестящих стенах Мариинского дворца, сводившаяся к обычной канцелярской работе, и я настолько тяготился ею, что два раза покидал Государственную канцелярию, отдаваясь другим занятиям более близким моему духу.
Но беседы с Н. Н. не только осмысливали и эту внешнюю работу, но, казалось, были способны примирять меня с какой угодно работою, по виду даже самой ненужной и бесполезной, до того неотразимы и абсолютно правильны были его точки зрения и безошибочны его выводы.
И всякий раз, когда после беседы с Н. Н. я возвращался в свою келлию и оставался наедине со своими мыслями, предаваясь богомыслию, всё неясное и непонятное разрешалось само собою. Было очевидно, что внешняя деятельность, как бы высоко ни ценилась людьми, угодна Богу лишь тогда, когда ее целью является или внутреннее созидание, или благо ближнего… Там же, где такая деятельность надмевает человека, забавляя его, услаждая жизнь, там, где она служит к его собственному прославлению, а не к славе Божией, там она только греховна и навлекает гнев Божий… Поэтому и сановник в золотом мундире, вращающийся в суете мирской, и чернорабочий, в поте лица добывающий себе кусок хлеба, могут быть ближе к Богу, чем пустынник и отшельник, прославляющий себя подвигами; чем монах, сгорающий от тщеславия и честолюбия…
И, рассматривая под углом зрения Н. Н. окружающий меня мир, я видел, как легко могла бы вернуться на землю изгнанная человеком радость жизни, как много способов помочь ближнему и скрасить его горе и страдания, даже не связывая своего участия к нему ни с какими жертвами… Богатый мог бы помочь бедному деньгами, знатный мог бы осчастливить незнатного одной только приветливостью своею, начальник своего подчиненного только отсутствием надменности и высокомерия, сановник — только улыбкой, на ходу брошенной маленькому смиренному человеку… Но даже этого не замечалось в жизни, где сильный давил слабого, где люди друг у друга отнимали веру…
И этот последний грех казался мне наибольшим… Как далеко нужно уйти от Бога, думал я, чтобы не только потерять свою собственную веру, но и колебать ее у другого! Если ближний верит в то, что Господь силен укротить наш гнев против него или заставить нас исполнить ту его просьбу, о которой он просил у Бога, то мы обязаны оправдать его надежды, ибо в данном случае эти надежды на нас являются выражением его веры в Бога, какую мы не вправе колебать и отнимать у него… А между тем как часто мы колеблем веру своего ближнего бессознательно, не вглядываясь в свое собственное поведение, не вслушиваясь в свои собственные слова…
Моя келлия в Боровском монастыре была по соседству с келлией Николая Николаевича, и я слышал то громкие разговоры, то молитвенные воздыхания, то медленные шаги взад и вперед, но у меня всегда получалось впечатление, что Н. Н. никогда не оставался один в келлии, а всегда был с кем-то из обитателей потустороннего мира.
Необычайный вид имела его келлия. Н. Н. очень любил голубей, которые, казалось, любили его еще больше, ибо не только часто прилетали к нему в келлию, но чуть ли не жили в ней… Я невольно улыбался, когда, входя в келлию Н. Н., видел его облепленным со всех сторон голубями, сидевшими у него и на плечах, и на коленях, и свободно гуляющими по его келлии, не смущаясь ничьим присутствием…
Каким великаном духа казался мне Николай Николаевич! Я мысленно спрашивал себя, сознает ли он сам, до чего сильно отличается от заурядных русских людей, как похож на древних подвижников первых веков, как велико счастье жить в непрерывном, осязательном общении с Богом и опытно познавать всю сладость веры?!
И точно в ответ на мои вопросы, я сделался свидетелем поразительного случая, имевшего место в келлии Николая Николаевича.
Долго не получая от него писем, я приехал в Боровский монастырь. Гостинник сказал мне, что Николай Николаевич умирает и уже две недели лежит без сознания, горит как в огне и не вкушает пищи. Встревоженный таким сообщением, я немедленно отправился в покои настоятеля, архимандрита Венедикта, который в ответ на мои тревоги совершенно спокойно ответил: «Это болезнь не к смерти, а духовная». Однако же мы вместе пошли в келлию Николая Николаевича и застали его лежащим на кровати без признаков жизни. Температура была очень высока, и кто то из братии, с усилием открывая рот больного, давал ему лед маленькими кусочками. У изголовья также лежали пузыри со людом. В таком состоянии Николай Николаевич пребывал, как оказалось, свыше двух недель.
— Чем же вы лечите Николая Николаевича, приглашали ли доктора? — спросил я архимандрита Венедикта.
— Наш доктор, — ответил архимандрит, — это Преподобный Пафнутий, а наше лекарство — святое масло от его лампады. Как прикажет Господь Преподобному, так он и поступит.
Подавленный болезнью своего друга и наставника, я вместе с архимандритом Венедиктом вернулся в настоятельские покои, но не мог там долго оставаться и чрез полчаса вернулся снова в гостиницу, в келлию Николая Николаевича…
Каково же было мое изумление, когда на пороге гостиницы меня встретил радостный и сияющий Николай Николаевич и приветствовал меня, сказав, что ожидал моего приезда… О болезни не было даже речи, однако же на мои расспросы и тревоги Николай Николаевич дал мне понять, что после упорной борьбы с диаволом он с Божией помощью одолел его и окреп физически.
Снова потекли умилительные беседы с этим замечательным человеком, вразумлявшим и наставлявшим меня, и во мгновение времени показывавшим мне ужасные картины настоящего и грозные перспективы грядущего. Весь мир, точно у ног наших, лежал пред нами.
— Смотрите, — обратился ко мне Николай Николаевич, — как суетятся и копошатся люди, чем они занимаются, что делают, о чем заботятся, к чему стремятся… Сколько усилий и труда, сколько величайших жертв нужно для того, чтобы делать то, что они делают и что в результате приносит только горе, слезы, мучения и страдания… И ничего бы этого не было, если бы люди не изгнали из мира только одну мысль, только одну идею, — идею спасения души, если бы только думали о смерти… Весь мир бы перестроился на иных началах, христианские основы жизни дали бы ей и новую форму, и новое содержание, и самые смелые фантазии, называемые сейчас утопиями, стали бы реальною действительностью.
— А разве вы не думаете, — спросил я Николая Николаевича, — что зло неискоренимо в жизни, что Господь мог бы его уничтожить одним Своим повелением, что, если оно существует, то значит для чего-то нужно?..
— Нет, — ответил Николай Николаевич, — не Бог, а злая воля людей создала зло и рождает его… И на войне совершаются великие подвиги, и Господь увенчивает героев бессмертною славою и небесными венцами, но разве взаимное истребление людей угодно Богу? Так и в жизни, какую люди превратили в бойню… И в мире теперь больше подвижников, чем в монастырях, ибо нынешние монахи, за немногими исключениями, отрекаются не от благ мирских, а от мирских скорбей и страданий и пользуются монашеством как способом приобретения самых разнообразных мирских благ, каких бы не имели, оставаясь в мире… Горе, горе миру… В том хаосе, в какой люди превратили весь Божий мир, при том смешении понятий, целей, стремлений и задач, коими живет все человечество, многое ненужное стало нужным… Даже зло стало признаваться нужным… И древесная кора в годины бедствий заменяет хлеб, но не кору нужно холить и лелеять, а нужно устранять причину бедствий и растить хлеб.
Упоминание о бежавших из мира дало мне повод спросить Николая Николаевича, почему он не принимает монашеского пострига.
— Россия, — ответил Николай Николаевич, — Самим Богом предназначена быть монастырем для всего мира, для всей вселенной. Каждый русский, если он сознает свое назначение и понимает свою задачу, есть уже монах и должен быть монахом. Игуменом этого великого монастыря Господь назначил Своего Помазанника, Православного Самодержавного Русского Царя; слуги царские, начиная от Первосвятителя и кончая сельским пастырем, — священнослужители этого монастыря; чиновники, начиная от министра и кончая волостным писарем — церковнослужители, а мы — братия сей обители. Вот что такое Россия и вот то, чего не понимают русские люди, которые во всех своих званиях и положениях, на всех поприщах своей жизни и службы должны так смотреть на свое дело, им врученное, как на молитву и совершать его как священнодействие. России много дано, но с нее и взыщется много. И в горе, и в страданиях, но зато и в радостях она идет у Бога первой по счету.
Мысли Николая Николаевича не казались мне новыми. Возвещал их и бессмертный, гениальнейший из русских писателей Н. В. Гоголь. Но подлинно новым являлся тот факт, что в лице Николая Николаевича я видел впервые человека действительно очистившегося от всякой скверны, действительно чистого, доведшего свою чистоту до таких пределов, какие уже заставляли его даже скрывать ее из опасения человеческой славы. Он являл собою уже воплощение подлинной святости, был живым примером той нравственной высоты, до которой человек может возвышаться на земле; это был уже человек бесстрастный, победивший законы естества. Монашество явилось бы для него только пьедесталом, с высоты которого он стал бы виден, быть может, всей России, толпами стал бы ходить за ним русский народ, и его смирение не позволяло ему становиться на этот пьедестал.
Много раз я просил Николая Николаевича оставить мне на память свою фотографическую карточку, но моя просьба казалась ему до того греховной, что он усиленно крестился, как бы отгоняя диавольское наваждение, а затем, успокоившись, говорил мне:
— Нельзя служить Богу и мамоне… Сделайте диаволу хотя малую уступку, и он потребует другой, большей, а затем и поработит нас. В самом желании увековечить свой грешный образ кроется уже лицемерие и ложь, самомнение и гордость…
И глядя на Николая Николаевича, я уже не спрашивал его о том, каким путем, какою дорогою шел он к Богу, если не приобщаясь к иночеству, не налагая на себя монашеских обетов, не подвергая себя аскетическим бичеваниям, а пребывая в положении заурядного мирянина, он превзошел и прославленных подвижников Церкви… Я видел эту дорогу, ибо имел пред глазами живой пример человека, идущего по ней, не сворачивавшего ни вправо, ни влево, а с достойными изумления упорством и добросовестностью преодолевающего всяческие препятствия на пути… Увидел я и то, что этих препятствий вовсе не так много, как казалось каждому, кто только слышал о пути к Богу, но не ступал на него; что там вовсе не было ни непроходимых пропастей, ни головокружительных спусков и подъемов, ни скользких тропинок над бездной, а что нужно было только всемерно остерегаться, чтобы не запутаться в то колючее, вьющееся растение, которое, подобно плющу, обвивавшему дерево, уцепится за ногу и тянется за идущим, заставляя его спотыкаться и падать. Ласково и нежно подкрадывается плющ к стволу дерева и его веткам, но если заключит их в свои объятия, то задавит дерево до смерти, заставив его засохнуть. Самое сильное, крепкое, могучее дерево не может устоять пред плющом, не имеющим ни ствола, ни ветвей, обреченным ползать по земле и между тем являющимся самым опасным врагом для деревьев. Так и ложь. Она вкрадчиво и незаметно подкрадывается к человеку, нежно убаюкивая его, искушая сладкими речами и склоняя на грех, но если поцелует человека, то уже отравит его своим поцелуем и сделает его своей добычей.
Н. Н. Иваненко знал, что диавол — отец лжи, он видел его козни и знал, что, несмотря на все разнообразие их, они и вытекали из одного русла, и преследовали одну цель — отравить человека ядом лжи; что ложь не только сильнейшее, но и вернейшее, всепобеждающее оружие диавола в его борьбе с человеком, что является родоначальницею всякого греха, что первым грехом на земле была ложь прародителей, поддавшихся чарам диавола-искусителя, и что все грехи всех людей, несмотря на все многообразие их, и порождены ложью, и являются лишь разновидностями лжи.
Николай Николаевич знал это и начал свою борьбу с диаволом с искоренения лжи в самом себе и вел эту борьбу до тех пор, пока внутреннее сияние света, озарившего его, не засвидетельствовало о его победе. Я уже подчеркивал ту изумительную добросовестность, какую Н. Н. Иваненко проявлял в этой борьбе, то внимание, какое он сосредоточивал даже на малейших, ничтожных проявлениях лжи в себе и окружавшем, и ту беспощадную строгость, с которой он относился к этим проявлениям, безжалостно уничтожая даже пылинки лжи, даже следы этих пылинок. Он видел диавольскую отраву там, где ее никто не видел. Он видел ложь не только в действиях и поступках, не только в словах и мыслях, но и в движениях и намерениях, во вскользь брошенном взгляде, в тайных вожделениях и стремлениях, даже в любви к ближнему, ищущей ответной любви или признательности… Он видел, что все люди отравлены ложью и нет чистых и даже желающих быть чистыми, все не только отравлены ложью, но и привыкли к ней и полюбили ее. Вот один «молитвенник и богомолец», снискавший поклонение и настолько полюбивший его и привыкший к нему, что уже не переносит тех, кто его не замечает и изливает злобу на тех, кто видит, что и на склоне дней своих он не победил ни одной человеческой страсти, а остался все тем же едким, язвительным, злобным честолюбцем, каким родился… Зачем ему был нужен иноческий сан и что он извлек из него?!… Только то, чего бы не извлек, оставаясь в миру!… Зачем он лжет, подписываясь «молитвенником и богомольцем», когда не только не молится, но и зложелателен?! Вот другой, познавший книжную премудрость, но не приобретший духовного опыта хотя бы настолько, чтобы познать разницу между ученостью и умом, даруемых лишь обладающим духовным зрением в результате победы над страстями… Вот третий, снедаемый завистью к стоящим ближе его к Богу… Вот четвертый, любящий лесть и потому всегда окруженный дурными людьми… вот десятый, двадцатый… Разные причины, разные мотивы заставляли их облекаться в иноческие одежды, но все в равной мере профанировали святость иноческой идеи, заставляя непросвещенных соблазняться ею и сомневаться в способности духовного опыта раскрывать духовное зрение и очищать душу от греховной скверны, тогда как в действительности они не производили над собою никаких духовных опытов и даже не интересовались тем, в чем он заключался…
Тем и велик был Николай Николаевич, что, отдав себя Богу, он добросовестно выполнил свой долг пред Богом, захотел очиститься и очистился, явив примером своей жизни тот подлинный путь к Богу, который заключается в честности с самим собою, в добросовестности и чистоте.
Оставаясь мирянином и проживая в Боровском монастыре, Николай Николаевич Иваненко был известен только братии монастыря, но даже жившие по соседству с монастырем не знали его и не слышали о нем, до того велико было его смирение, до того искренно он бегал от человеческой славы. В этом отношении его добросовестность была так велика, что, предвидя свою кончину, Николай Николаевич даже покинул Боровский монастырь, где его считали праведником, и уехал из обители, не сказав куда, для того, чтобы укрыться и от посмертной славы.
Он уехал в Янполь Черниговской губернии, в Кресто — Воздвиженское братство, основанное его другом Николаем Николаевичем Неплюевым, недавно перед тем скончавшимся, где прожил около трех месяцев и отошел к Богу, поручив похоронить себя на сельском кладбище, чтобы никто не мог найти и его могилы…
Преклонимся же пред величием смиренного раба Божия Николая и вознесем молитву к Престолу Всевышнего, да успокоит Господь его душу в селениях праведников!
Подворье Святителя Николая, Бари (Игнатия). 12/24 марта 1924 г.
Печатается по: Князь Н. Д. Жевахов. Раб Божий Николай Николаевич Иваненко. Новый Сад, 1934. — 43 с.
Письмо оптинского скитоначальника Антония брату, Саровскому казначею Исайе
Молитвами святых Отец наших Господи Иисусе Христе Боже помилуй нас!
Всепреподобнейший, Богоноснейший, любезнейший и всепречестнейший в иеромонахах Батюшка и благодетель мой, отец Исайя, благословите!
Откуду начну плакати толикого моего окаянства и каменносердечия, что и самого сродства своего отчуждился? Вот уже более десяти лет прошло, как я невольно лишился сладкого для меня лицезрения Вашего; и столько же минуло времени, как я произвольно лишил себя полезного для меня собеседования с Вами чрез посредство писем. В таком пороке немоты из отчуждения чуть я не превзошел и самых безсловесных, почему ныне и предстать пред Вами в человеческом виде не дерзаю, но яко некая увечная скотина прихожу к Вам с пониклою к земле главою, смиренно прося милости, сиречь простить меня, не ради меня, но ради Господа всех туне милующего. Самую истину Вам скажу, что несть достоин нарещися «сын твой»! На время мне жаловаться нельзя, сколь бы его скудно ни было, ибо оного на праздность всегда бывает достаточно; но жалуюсь Вам на свою леность, от которой в толикое пришел нерадение, что не только что-либо сделать великое, но бывает так, что и перекреститься трудно — как будто бы связанный чем; по сей причине, сколько ни силился, не мог желания моего в деле произвести. Ныне же, ощутя в духе некую свободу, видно, молитвами Вашими или благословением моего Батюшки, спешу предстать и сообщить Вам мои сердечные чувствования.
Может быть, и в самом деле молчание мое было Вам огорчительно, но оное происходило не от того, чтобы я не любил Вас, да и не дай мне Бог до такой беды дожить, чтобы перестать любить и помнить Вас; но более происходило от того, что я обносил в памяти моей слова Божии, к преступнику Каину произнесенные: «Согрешил ли еси — умолкни», коему и я в зависти и жертвоприношении уподобился, а в некиих еще пороках и оного превзошел, почему и сама совесть заграждает уста.
Вторая причина моего молчания происходит от скудости в разуме. Всякий соделанный грех помрачает ум и безумным человека делает, а у меня не проходит ни дня, ни ночи и даже ни одного часа, свободного от делания многоразличных грехов, а потому истинно безумен, безумен есмь — безумно молчу, безумно и говорю!
О себе Вам донесу, что ради молитв Ваших святых Господь Бог еще не погубил меня, но даже до днесь долготерпит мне и не точию не наказует, но еще и милость Свою непрестанно ко мне изливает. Слава Богу, я еще и здоров, довольствуюсь покоем по внешнему человеку, и хотя козлище есть греховное, но нахожусь в стаде овец Христовых и более осьми лет почтен чином Ангельским, а всего удивительнее та милость Божия, что уже и саном священства без заслуги награжден, по чину коего и мир всем возвещаю, но оного в себе самом не обретаю, по Давидову слову: несть мира в костех моих, от лица грех моих.
К нещастию моему, в прошедшем году у нас три иеромонаха скончались, в том числе и известный Вам отец Иосиф, то Батюшке отцу Строителю рассудилось на место их других возвести и с оными и меня, почему и был отправлен в губернский город Орел, где августа в 15 день Преосвященным Гавриилом, епископом Орловским, рукоположен в иеромонаха, и вот уже почти год протекло, как ношу на себе иго священства, хотя и недостойно, ибо как в меньших дарованиях Божиих оказался я невторен, так и ныне в большем, с большим безстрашием всегда раздражаю Господа, благодеющего мне, а потому и не знаю, какую казнь буду претерпевать за злодейство свое. Вот вам сведение о моем чине самое довольное. Теперь Вам намерен сообщить отчасти о должности своей, о занятиях, о бедственном положении своем и о прочем, что придет на память в дурную мою голову, только Бога ради не поскучайте беседою моею, я десять лет вас не видел и ничего не говорил…
Во-первых, доношу Вам для сведения о должностях своих, каковых есть пять, а именно. 1-я: по перемещении Батюшки отца Моисея в монастырь Начальником, я по нем переведен в архиерейские кельи, в коих находясь, занимаю должность келейника архиерейского, то есть выметаю сор, наблюдаю чистоту, протапливаю печь, просеваю уголья, приготовляю теплый укроп для немощных и проч.; 2-я: занимаю должность гостиника скитского, то есть всякого приходящего к нам я первый должен принять, успокоить, занять разговорами, и отпустить с миром; 3-я: имею должность уставщика и голосовщика церковного в Ските, а иногда и в монастыре; 4-я: должность иеромонаха, а в чем оная состоит, Вам давно уже известно; 5-я: за отсутствием Батюшки отца Строителя занимаю должность его в Ските, отчасти и не полновластно. Он поступил со мной так, как делают домовитые хозяева: когда у них мало людей для охранения вертоградов, то ставят мертвое чучело в образе человека, которое хотя слепо, глухо и немо, но пугает хищных птиц. Точно то же и я делаю.
О всех занятиях наших, если подробно писать, то будет слишком отяготительно и слушать; а донесу только о главном упражнении нашем, каковое всегда начинается с весны. Мы всебратственно, яко некие во чреву работающие кроты, копаемся в земле: кое-что сеем, поливаем, удобряем, от терния счищаем, в чаянии по трудах от собранных плодов иметь покой для брюха, которое зря гобзованию радуется и говорит себе: «имаши блага многа, почивай, яждь, пий и веселися». Вот в кратких словах представил Вам наши общие труды летние, а зимой мы по большей части исправляем должность хомяка. И так Господу Богу благодарение, мы действительно изобилуем плодами для брюха, а о духовных в недоумение пришел, не знаю, что и сказать. Однако некоторые из числа сообитателей наших, с помощью Божией, изобилуют и оными. А я, увы мне!… Старец мой много трудился, много потился, много сеял спасительного семени; но нива моя сердечная от нечувства совершенно окаменела, а потому не точию плодов, но и листу зеленеющего ноне для внешнего вида не имею и как был, так и есть — с голыми руками и окаменелым сердцем. А потому вправду должен сказать, что душа моя пред Богом яко земля безводная! Отчего часто унывает дух мой и смущается сердце от обошедших мя зол. Но слава премногому долготерпению Божию ко мне! яко Он меня за беззакония мои еще не казнил, еще вид мой в звериный не претворил. И действительно, кто издали на меня посмотрит, то и я похож еще на человека; а если рассмотреть поведение, заглянуть в сердце, то ей! плача многого достоин.
И сие, то есть бедственное мое положение, о коем донес я Вам, прошу Вас, Батюшка, с болезнями сердца воздохните о моем окаянстве пред Богом и излейте к Нему слезу Вашу — да исцелею. Многие угодники Божии постом смиряли душу свою, от которого и у святого Давида изнемогали колена, а потому святые и изобиловали плодами духовными; а у меня от одного воображения о воздержании заразче делается уныние. Из сего можете Вы заметить, что я с большим усердием работаю чреву, так что и мои колена изнемогают, но не от поста, а от излишия; и из трапезы как будто бы с кулашнова бою с ноги на ногу едва тащусь до кельи. Пришедши же к себе, предаюсь сну и столь сладко, что, проснувшись, едва распознаю, утро или вечер есть. Сие Вы, Батюшка любезный! не примите за кощунство, ей истину говорю; пусть иные величаются, как хотят, своими исправлениями, а я должен о немощах своих пред Вами правду сказать, коими, к нещастию моему и к вечному стыду моему, я изобилую очень довольно, а всему сему злу есть корень, есть страсть обжорства, от порабощения которой да избавит меня Господь Бог Вашими теплыми молитвами.
Сколько я ни глуп, однако собственным искусом отчасти узнал, что из всех чинов иноческих нет тягостнее, нет бедственнее и горестнее, как быть начальником над братиею! Я в Скитской убогой обители, хотя и не уполномочен, но первый год провел с довольною горестью и хлипанием, и едва ли которой день прошел без уныния; но и ныне, если бы не духовная любовь ко мне Батюшки отца Строителя удерживала меня в пределах терпения, то паки возвратился бы в пустынную землю [Рославльскую], которая оставила в сердце моем неизгладимое впечатление премногих духовных неизглаголанных удовольствий, бывших некогда тамо. Но, видно, и я, не еже хощу, но и что не хощу, то содеваю — Воли Божией кто противиться может? Батюшка отец Моисей бремя на себе несет самое тяжелое, я полегче, а Вы чуть не более обоих, ибо когда то сказали: «Столько мне хлопот по должностям и неприятных случаев было, что я от печали едва жив остался». Вот выгода начальства! пусть честолюбцы послушают. Я не могу довольно надивиться безумию тех, кто всяким образом, даже и предосудительным, проискивают себе чинови высоких престолов; в том ли наше утешение, когда во храмах возглашают и всечестного отца нашего [Скитоначальника], или в том, когда колена пред нами преклоняют и лобызают десницу? Или в том еще, если саженей за двадцать и более, не доходя-до нас, благоговейно поклоняются? Но какой же для меня интерес, если поклоняются мне в ноги и, вставши, осыплют меня многою укоризною, яко некою гнусною блевотиной? Ей! от сего и самое игуменство не вкусно будет. Есть, правда, интерес и от начальства; когда кто захочет нажить себе дебелое брюхо, то лучшей оказии найтить к тому нельзя, как быть штатным игуменом, но с такою толстотою не только пред Богом в молитве, но и пред людьми явиться крайне стыдно, ибо это украшение не монашеское.
Я Вам, Батюшка, тяжесть начальника представил только по одному телу и то кратко, а сколько он по душе бедствует, того и изъяснить никак не удобно; довольно к познанию будет о том, если я Ваше недавно бывшее мнение сообщу Вам: «Начальство не только отнимает у нас спокойствие и свободу, но даже охлаждает ум и сердце к Богу». Вот мнение самое истинное и святое! Бывало, когда-то у меня, если не совершу правила своего, то -замучит уныние и не усну, пока не кончу, а ныне по месяцу не молюсь и тоски никакой не чувствую; книги же Отеческие не точию читать, но и глядеть не хочется. Скажите же мне, какое может еще более сего быть бедствие? Если не исправлюсь, то постигнет мою душу еще бедствие в часе смертном, от которого не знаю, избавит ли меня братия, но надеюсь, что они с помощью Божией избавят, и тогда в таком чаянии моем, Батюшка, Вы меня Бога ради не обезнадежьте.
Еще мне от праздности на свободе пришло желание сообщить Вам некоторые ненужные сведения, которые прошу сделать мне удовольствие выслушать…
Батюшка отец Строитель наш имеет у себя братии в монастыре 60 человек, до в Ските поболее 20-ти, а всегос лишком 80 человек; притом кроме управления еще он же и общий всем Духовник; должность казначея, благочинного и письмоводителя исправляет сам; закупкою разных потреб для Обители занимается по большей части сам. Монастырь имеет три водяные мельницы расстоянием от обители в верстах осьми, над которыми еженедельный надсмотр имеет сам; посетители обоего пола и благодетели, хотя изредка бывают, но по обычаю здешнего края принимаются и угощаются в кельях настоятельских, чем он также сам занимается; экономией и постройками с большой охотой занимается сам, но скудость обители не попускает распространяться, ибо доходу церковного от мельницы и от доброхотов не более всего бывает в год 10 тысяч рублей. Письма просительные и благодарные, хотя и не часто, но сам пишет. А потому, видя его такой труд, Вы не будете на него негодовать, что не часто к Вам пишет. Если бы мне досталась такая тягота, то давно бы я туда ушел, где бы меня никто не нашел, да и он от многих забот и неприятностей имеет у себя довольно поседевшую браду.
О нравах и поведении братии говорить Вам ничего не смею да и не должен говорить, ибо и своего горя не приплакать, они чуть ныне не везде одинаковы. Если бы и теперь были общежития таковые, как древле, по писаному: «бо сердце и душа едина, и ни един же что от имений своих глаголаше — “быти, но бяху им вся обща”», то истинно такая жизнь была бы сладка, да и смерть не горька; а то каждый у себя имеет свой ковчежец и вметаемая в оный хранит…
Наша Скитская убогая обитель год от года богатеет жильцами, братия умножается, а безмолвие, единодушие и душевное спокойствие умаляются; но еще, слава Богу, хранение совести продолжается, которое необходимо нужно для духовной жизни. В конце прошедшего года поселился у нас наш авва и столп пустынный, старец отец Досифей, живший в пустыни более сорока лет, из которой, нашедшу на него искушению, уклонился к нам. Он нрава доброго и примерного, я его водворением у нас крайне доволен. Еще известный Вам послушник Гаврило Молдаванский у нас безмолвствует третий год. Чувствительнейшую и покорнейшую приношу Вам благодарность за оказанную приязнь и любовь к нашему странствующему брату отцу Макарию, он о гостеприимстве Вашем с благодарным чувством нам пересказывал и доставил четочки к напоминанию о Вас в молитвах, за которые Вас усердно благодарю.
С приближающимся всеобщим, а в особенности и Вашим пресветлым и радостным праздником безсмертною Успения Пресвятыя и славныя Царицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии Вас, Батюшка, поздравляю и от всего сердца желаю сей вожделенный Праздник препроводить в здравии радостно.
Его Высокопреподобию, всечестнейшему и предостопочтеннейшему Батюшке Вашему, господину отцу Игумену, прошу свидетельствовать мое всесердечное почтение с поклонением главы моей к стопам его, и доложите ему, что его святое имя в памяти моей содержится, и попросите у него милости, чтобы когда-нибудь он и о моем недостоинстве воздохнул пред Христом Спасителем в молитвах святых. А также и их преподобиям честнейшим и достопочтеннейшим отцам священно-иеромонахам; батюшке отцу Исаакию, батюшке отцу Василию и батюшке отцу Виталию прошу свидетельствовать мое сердечное почитание с нижайшим поклонением, и попросите их, чтобы они замолвили о мне пред Богом — да исцелею. Еще прошу свидетельствовать мое почитание и поклонение любезным братиям: отцу Емельяну, отцу Василию и брату Самсону, и пожелать им от меня успеха в деле послушания. Изредка случается, что некоторые из вашей обители прохаживаются и бывали у нас, когда они возвратились к вам, прошу и им от меня поклониться и пожелать постоянства.
Любезнейший и благодетельнейший мой Батюшка, крайне мне стыдно и совестно пред Вами, что я выступил из границ благопристойности, самую меру потерял в изъявлении сих прескучных слуху и взору слов; хотелось мне пред Вами из сердца моего вся вытряхнуть, но ей! никак невозможно. Господа ради простите меня от всего сердца за мою болтливость и примите уверение, что я помощью Божией впредь таким пространным многоречием беспокоить никогда не буду. Желательно мне от Вас получить хоть в половину против сего ответец, а когда нельзя, то и малую крупицу яко пес приму от Вас, господина моего, со многою благодарностию.
Прости, дражайший благодетель мой! И когда-нибудь поплачьте о мне. Не знаю, сподобит ли меня Господь Бог видеть лице Ваше в жизни сей!
Остаюсь к Вам до последнего моего издыхания с искреннею сердечною любовию и всеистинным почитанием; Вашего здравия, душевного мира и спасения усерднейший желатель и бездерзновенный ко Христу Спасителю молитвенник есмь.
Господа Иисуса раб неключимый, Ваш бывый брат, а ныне сын по духу и слуга, убогова Скита грешный чернец и пренедостойный иеромонах
Антоний Бездвероустный.
Непотребную голову мою повергаю к святым ногам Вашим и с любовию оные лобызаю.
Простите!
Июля 21-го, 1828 года.
Скит святаго Иоанна Крестителя, находящийся при Оптиной Пустыни.
Печатается по: Сарово-Сатинские ведомости. Вып. 7, 1991.
В настоящее время в Крестовой церкви в Екатеринбурге при архиерейских служениях большею частью проповедником выступает отец И. Сторожев, а в числе богомольцев стало не редкостью видеть прежних товарищей его — людей большею частью давно отбившихся от Церкви и богослужения. Через несколько дней после товарищ отца И. Сторожева, также екатеринбургский присяжный поверенный, С. Я. Смарагдов был рукоположен в священный сан преосвященнейшим Андреем Сухумским. В г. Екатеринбурге, да и в епархии, знали присяжного поверенного Сергея Яковлевича Смарагдова как честного защитника, хорошего оратора и скромного человека. Но едва ли многие знали его как христианина. Едва ли многие из обращавших внимание на его скромность знали истинную основу ее. Да и кто мог подумать, что скромность этого подававшего такие большие надежды адвоката истекала из его христианской настроенности. А между тем это было так. Адвокат продолжал всегда быть искренним христианином и верным сыном Святой Православной Церкви. Адвокатская практика не выработала из него себялюбивого «дельца», не загасила горевший в нем пламень веры. Среди своих занятий С. Я. находил время для изучения Священного Писания и чтения святоотеческих писаний. За несколько лет он, можно сказать, изучил всю библиотеку кафедрального собора. Клирос собора был его любимым местом в храме. Здесь, особенно в будние дни, он пел вместе с псаломщиками, читал часы, шестопсалмие и проч., день ото дня становясь все более и более «церковным человеком». И вот — свершилось. Подававший блестящие надежды адвокат решил порвать карьеру, сулившую ему славную будущность, и принять сан священника. К сожалению, по семейным обстоятельствам вследствие болезни жены, нуждающейся в теплом климате, С. Я. не мог остаться в Екатеринбурге и вынужден был уехать на юг, в г. Сухум. Там он радушно встречен был преосвященным епископом Андреем и стал готовится к посвящению. 29 сентября г. Смарагдов прислал на имя преосвященного Митрофана, епископа Екатеринбургского и Ирбитского, следующую телеграмму из Сухума: «Милостивейший архипастырь. Первого октября 1911 года назначено рукоположение меня, грешного, во диакона, пятого — во пресвитера. Припадая к стопам Вашего Преосвященства, усердно прошу Вашего Святительского молитвенного заступления». Владыка прислал преосвященному Андрею телеграмму следующего содержания: «Прошу Ваше Преосвященство передать мой привет Смарагдову и молитвенное пожелание возмогать во благодати, яже о Христе Иисусе». Теперь, когда печатаются эти строки, бывший присяжный поверенный уже стал служителем алтаря Божия, благослови его Господь. 5 октября владыка получил следующую телеграмму: «Еще раз сердечно благодарим за любовь вашу, Владыка; просим святых молитв. Епископ Андрей, священник Смарагдов».
К статье об игумене Марке.
Весною 1868 года игумен Марк был тяжко болен воспалением легких. В ночь на 26 мая, когда болезнь достигла высшего напряжения, он увидел в тонком сне, что в келью его входит св. Вмч. Георгий и Свят. Николай. Они подняли его и как бы на струе воздушной перенесли к Козельску и поставили в долине на холме близ города. Вдали особенно виднелись Никольская, Георгиевская и Вознесенская колокольня этой последней. Святые обратили внимание большое на эту колокольню, около которой он увидел стоящую на воздухе небольшую икону Божией Матери.
— Видишь ли ты эту св. икону? — спросил св. Георгий и прибавил: — Это Ахтырская икона Божией Матери. Хочешь быть здоров, отслужи перед нею молебен Богоматери.
В это мгновение икона эта стала выделяться как бы на половину здания все яснее; испуская лучи утренней зари, она осветила всю северную часть города. Пригнувшись в священном трепете, о. Марк почувствовал облегчение. Был отслужен молебен перед Ахтырской иконой Божией Матери, что в Оптинском Казанском храме. Больной стал быстро поправляться, стал даже бывать на свежем воздухе. Но вдруг болезнь с новой силой возобновилась. Были сочтены часы жизни больного. Тут он вспомнил, что не позаботился отыскать указанную ему икону. Сейчас же принялись за розыски. Двое мещан отправились отыскивать ее по храмам Козельска. Во всех трех, виденных во сне, и на колокольне искали вместе со священником и сторожем и не нашли. Когда уже сходили с колокольни, священник, точно движимый к тому незримой силой, сунул руку под балку, при самом входе с лестницы чердака на колокольню, и вынул оттуда икону — то и была Ахтырская икона Божией Матери. На другой день перед нею в церкви был отслужен молебен, а на следующий ее принесли к больному. Он признал в ней виденную во сне и вслед быстро поправился.
Сбоку под этой статьей мои отметки: «Это и есть тот самый господин, который описан у меня в заметках под 4 марта 1909 г. и помянут в сегодняшней беседе с Николаем».
Ниже еще отметка: «1914 год. На петербургских улицах — главным образом на Невском — Смольянинов стал появляться уже в образе некоего «пророка», босой, с непокрытой головой, продающий брошюры своего изготовления о пришествии Христа и наступлении в 1932-1933 году Царства Божия на земле в жидовско-мессианском духе. Говорят, имеет успех».
Об этом своем поступке я никогда никому не рассказывал, но с того времени убедился, что есть злые духи, и стал внимательнее и прилежнее молиться Богу и моему Ангелу-Хранителю». (С. Нилус. Сила Божия и немощь человеческая. Сергиев Посад. Типография Св. — Тр. Сергиевой Лавры, 1908).
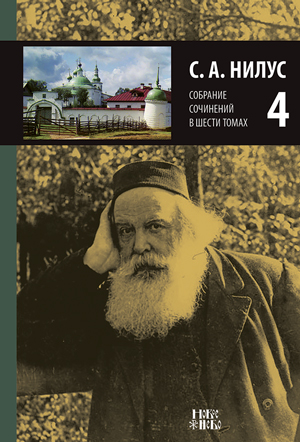
Комментировать