Бог или царь?
Ждали “забастовщиков”…
Ещё с вечера сотня казаков расположилась на опушке леса, мимо которого должны были идти рабочие “снимать” соседнюю фабрику.
Ночь была тёмная, сырая. Время ползло медленно. Казалось, небо стало навсегда тяжёлым и чёрным, — никогда на него не взойдёт тёплое, яркое солнце.
Солдаты полудремали. Изредка кто-нибудь перебрасывался отдельными словами.
Казак Поддубный, широкоплечий скуластый малый, развалившись на животе, растопырив ноги и подперши кулаком колючий выбритый подбородок, по обыкновению поддразнивал тихого, маленького Ефименко, сектанта-штундиста.
— Вот тебе и “не убий!”, — говорил он. — Как прикажут “пли!” — держись только.
Ефименко молчал.
— Слово Божие, слово Божие! — где уж там… Знай слушайся: раз, два… вот те и вся Библия!
Ефименко заворочался под шинелью и отрывисто сказал:
— Кущунствуешь!..
— Уж это там я не знаю, — упрямо продолжал Поддубный, — только что, велят тебе стрелять, и будешь: потому — присяга, крест целовали. А то: “Не убий”. Начальство знает. Господь прямо сказал: слушайтесь начальства — от Бога оно!
— Не разумеешь Писания! — нехотя отозвался Ефименко.
— Да уж ты, известно, книжник — только как же это ты против слова-то Божия пойдёшь. Начальник скажет: пли!, а ты: нет, мол, ваше благородие, вас слушаться не приказано! Эх ты, секта!..
Ефпменко резко повернул свое худенькое тельце и твёрдо сказал:
— Бог или царь!
— Что Бог или царь? — тоже лениво поворачиваясь, спросил Поддубный.
— Бог или царь, говорю, — двум господам не служат, понял?
— Секта!.. А царь не от Бога что ль? Сердце-то царёво, знаешь, чай: в руце Божьей!..
— Слушай ты, — строго и внушительно заговорил Ефименко, — правду говоришь ты, сердце царёво в руце Божьей, да что отсюда выходит? Пред Богом оно ответ даёт, за всякое своё биенье. А коли хоть и царь убивать велит — грешит он. Про всякого человека то же сказано: волос с головы его не упадёт без воли Отца, — ну, а коли ты ограбишь кого, что ж, тоже на Бога свалишь?
— Ну поехал, законник! Ничего я этого не знаю; только что Господь одно сказал: повинуйтесь начальству — от Бога оно!
— Да сказано: властям предержащим повинуйтеся несть бо власть аще не от Бога. Но можешь ли ты ещё слово-то Божие разуметь? Не всякому оно открывается-то.
— Ладно!
— Сказал ещё Господь: царю царское, а Богу Божье, значит, коли царь Божьего требует — грешит он! Нигде Господь не говорил, что начальство больше Самого Господа слушать надо. Нет. А коли какой начальник безбожное дело заставляет делать, знаешь, что велел Господь отвечать?
— Ну?
— То-то вот. Писания не разумеешь. В Деяниях апостольских, знаешь, что говорится? Двух, Петра да Иоанна, к начальникам привели и говорят: бросьте народ учить, мы вам не приказываем, а святой апостол отвечает: разве хорошо пред Богом вас, начальников, больше Бога слушаться? Ну, и не послушал их. Вот как. И все-то почитай апостолы за непослушание властям были казнимы. Господь велел начальству повиноваться! Да велел только до тех пор, покудова начальство безбожного дела не требует. А разве “пли” — не безбожное дело?
— Вот посмотрим, запоешь не то завтра-то, — сонным голосом, почти засыпая, пробормотал Поддубный.
Начинало светать, мутный свет клочьями пробивался сквозь серую мглу. Где-то за лесом не то кто-то плакал, не то собака лаяла… Белый туман поднимался над пожелтевшей травой.
Вдруг откуда-то издали послышался почти неуловимый гул.
— Идут!
Это слово, произнесенное кем-то из казаков, как искра, пробежало по всем.
— Идут!
И все тяжело и сурово стали подыматься с земли.
Действительно, на краю села чёрной, кривой лентой показалась толпа народа. Лента росла, ширилась, можно уже было разобрать, что это движутся люди, а вместе с тем рос стройный гул, который начинал походить на какую-то грустную, протяжную песню.
Поддубный красными от плохого сна глазами бессмысленно смотрел на клубы поднимавшегося тумана.
— На лошадь! — скомандовал офицер, ёжась от холода и платком отирая мокрые усы.
А толпа всё росла, всё приближалась. Песня становилась всё ясней, всё протяжнее.
Казаки выстроились в ряд, преградив дорогу. Лошади фыркали и нетерпеливо били о сырую, холодную землю.
— Ну, секта! держись теперь, — буркнул вполголоса Поддубный своему соседу Ефименко.
В это время толпа подошла совсем близко. Грозные крики наполняли сырой туманный воздух, и вдруг град камней, как дождь, полетел на солдат.
Офицер, что-то крича, махал рукой и куда-то показывал нагайкой.
Залп. Снова град камней. Оглушительный рёв толпы и протяжное, чистое эхо.
К Ефименко, который, не двигаясь, сидел на своей лошади, подскакал офицер.
— Стреляй!.. Стреляй, собака!.. — задыхаясь крикнул он на него нечеловеческим голосом.
— Бог или царь!.. — тихо, едва внятно выговорил сектант.
Офицер хотел что-то крикнуть и вдруг, выхватив револьвер, выстрелил Ефименко в голову.
Лошадь рванулась в сторону, и маленькое трепетавшее тело непокорного казака бессильно упало в холодную грязь.
По изданию: Два пути. 1906. N 1. С. 10–14. Переиздание: Новый журнал. 2010. N 261.
Публикатор: С. В. Чертков
Мать
I
Это случилось поздно вечером.
Ниночку привезли в автомобиле какие-то люди. В комнату внесли на руках и положили на постель. Они успокаивали Анну Григорьевну. Брали её за руки. Говорили что-то. Но Анна Григорьевна могла понять только одно: Ниночку чуть не убил за городом какой-то бродяга — случайно проезжавшие в автомобиле люди спасли её.
В комнатку набралось много народа. Все чужие, незнакомые лица. Говорили шумно и горячо. Но Анна Григорьевна не могла встать с места и неподвижно сидела около постели.
Наконец ушли. И в маленьких комнатках стало совсем тихо.
Ниночка лежала несколько часов в глубоком обмороке. Когда очнулась и увидала над собой лицо бабушки, с такими жалкими, испуганными глазами и странно полуоткрытым ртом, начала плакать бессильно и тихо. Скорей закрыла глаза, не могла смотреть…
Старушка не выдержала, обхватила руками голову своей Ниночки, припала к ней и зарыдала:
— Деточка ты моя… Маленькая ты моя…
Ниночка ненадолго приходила в себя, смотрела сквозь слёзы на склонившееся над ней испуганное, жалкое лицо бабушки и снова впадала в полузабытьё.
Утром начался бред.
Приходил доктор, старичок, худенький, лысый, в больших очках в чёрной оправе. Прописал рецепт и сказал:
— Опасного ничего нет, больная нуждается в абсолютном покое…
Опять в маленьких комнатах целый день толпились какие-то люди. О чём-то спрашивали Анну Григорьевну. Что-то объясняли ей…
К вечеру, слава Богу, ушли все. И опять стало тихо-тихо.
Ниночка лежала теперь с открытыми глазами. Взгляд её был тяжёлый и пристальный. Она часто стонала и просила пить. Анну Григорьевну не узнавала и спрашивала: “Где бабушка?”
— Это я… Вот я, Ниночка… — задыхалась от слёз Анна Григорьевна.
Ниночка смотрела на неё, совсем как чужая, и говорила:
— Бабушка не должна знать… Я одна… Как-нибудь, одна.
Она и комнаты своей не узнавала. Ей казалось, что она брошена в поле. В сырой тёмной траве… Она задыхается от ужаса и острой боли… Рябое лицо… синие мокрые губы.
И прерывающийся голос, хрипит прямо в уши…
И она начинала кричать и биться:
— Унесите! унесите меня!.. Убейте… я не могу… Не могу я…
Днём Ниночка успокаивалась. Засыпала. Несколько раз приезжал старичок в больших очках. Всё прописывал новые лекарства, покачивал головой и говорил:
— Больная нуждается в абсолютном покое…
Недели через две, как-то рано утром, Ниночка позвала:
— Бабушка!
И голос у неё был новый: тихий и ласковый.
Анна Григорьевна подошла. Ниночка улыбнулась ей. Потянула её к себе. Поцеловала и сказала едва слышно:
— Я буду жить… бабушка…
И повернулась к стене, чтобы не расплакаться. Вечером пришёл доктор, остался больной очень доволен.
— Теперь неделя покоя — и вы будете здоровы…
Доктор оказался прав: через неделю Ниночка встала.
II
Но выздоровление шло очень медленно…
Ниночку нельзя было узнать: вся она стала какая-то другая. Раньше, бывало, полчаса спокойно посидеть не могла. А теперь усядется в кресло против окна и сидит так несколько часов, всё о чём-то думает. Подзовёт к себе Анну Григорьевну и молча ласкается к ней и жмётся, точно зябнет. Из дому никуда не выходит: “очень шумно, голова кружится”, и потом: “через улицу переходить боюсь”. Дверь заперли, и Ниночка собственноручно написала записку: “Никого не принимают”. Даже звонок подвязала.
О “том” не говорили ни слова.
Боялись говорить. Обманывали себя — делали вид, что теперь всё кончилось и что всё страшное надо забыть. Но не могли пристально смотреть в глаза друг другу: обе понимали, что самое страшное впереди. Об нём-то и боялись думать больше всего. И в то же время его ждали каждый час, об нём только и думали.
Анна Григорьевна говорила, что пальмы сохнуть начали и не лучше ли вынести их в сад. Говорила, что приходила соседка Александра Игнатьевна, у неё корова отелилась и она предлагает носить молоко на дом. Не снять ли у Ниночки в комнате занавески, от них душно и пыльно. Говорила о всяких мелочах, но глазами и голосом спрашивала всё о том же, сама пугаясь своего вопроса.
И вот то, о чём так страшно было думать, случилось…
Поздно вечером Ниночка постучалась к Анне Григорьевне:
— Ты спишь, бабушка?
— Нет. Ты что, Ниночка? — дрогнувшим голосом окликнула её Анна Григорьевна
Ниночка вошла.
Анна Григорьевна хотела встать ей навстречу, но взглянула на неё и почувствовала, что ноги холодеют и подкашиваются, как в тот первый вечер… В застывших, потемневших глазах Ниночки, в искажённом, побледневшем лице она прочла то, чего ждала с таким ужасом.
Ниночка медленно подошла к постели. Села рядом с бабушкой, обняла её, прижалась к её лицу. И руки её, и всё тело дрожали мелкой дрожью.
В комнатке было темно. Только в углу угасал красноватый свет лампадки; медленные тени тревожно скользили по стенам и потолку.
С улицы доносился жуткий глухой шум, приближаясь, холодным кольцом окружая дом, — точно назойливо заглядывая в черные окна.
Сидели долго, обнявшись, не произнося ни слова.
Вдруг Ниночка нагнулась к уху Анны Григорьевны и заговорила быстро-быстро, шёпотом, останавливаясь, чтобы перевести дух: дрожь мешала ей и зубы стучали как в ознобе:
— Я всё время об этом думала… только об этом и думала… Я не хотела говорить тебе… Думала, с ума сойду… Ненавижу я его… ненавижу я его!.. Я убью себя вместе с ним… Он расти во мне будет!.. Такой же, как тот… Я знаю… Я наверное знаю, что он, как тот… Все равно я задушу его… Лучше сейчас… вместе с собой… Ты прости, бабушка… Ты забудь меня… Я больше жить не могу, бабушка…
И Ниночка в исступлении упала к ней на колени и билась головой о постель, задыхаясь от горя. Она больше не сдерживалась. Она весь ужас свой выплакать хотела.
Анна Григорьевна крестила её и, сама не сознавая, что говорит, повторяла:
— Грешно, Ниночка… Терпеть надо… Грешно так…
Ниночка так ослабела, что не могла дойти до своей комнаты, осталась у бабушки. Анна Григорьевна испугалась, позвала утром старичка в больших очках.
Он покачал головой, прописал лекарство и сказал:
— Так совершенно невозможно: больная нуждается в покое.
Ниночка пролежала нисколько дней. Когда ей стало лучше, Анна Григорьевна спросила:
— Можно с тобой поговорить?
— Можно.
Анна Григорьевна села к ней на постель.
— Ты только не расстраивайся, а то я лучше не буду.
— Нет, ничего, — серьёзно сказала Ниночка.
Бабушка не плакала и пристальным, новым для Ниночки взглядом смотрела на нее.
— Я всё знаю, — сказала бабушка, — горе большое, верно, — только терпеть надо. Так верно Богу угодно. Ты будешь терпеть, Ниночка, до конца всё…
Ниночка молчала.
— Ты мне слово должна дать.
— Пока хватит сил, буду терпеть, — тихо, но твёрдо проговорила Ниночка.
Бабушка ушла в свою комнату и долго не возвращалась. А когда пришла, лицо её было спокойное и светлое. Морщинки разгладились. Она подошла к постели и сказала ласково:
— Ниночка, ты, может быть, встала бы?
— Не хочется, бабушка… да и незачем…
— Как незачем? жить-то надо же…
Ниночка улыбнулась.
— Ну, что же, попробую…
Она встала, перешла к окну, на кресло, посмотрела в сад.
— Бабушка, листья жёлтые!.. — удивилась Ниночка.
— Пора, сентябрь месяц.
— Да, правда, а я и не заметила…
Узенькие дорожки в саду были покрыты красными листьями тополя. Бледно-золотая рябина покачивалась по-осеннему, и на ней, как серебряные нити, блестела паутина.
— Я и не заметила, — задумчиво проговорила Ниночка.
III
Ребёнок должен был родиться в начале мая.
Бабушка ни за что не хотела отпускать Ниночку в больницу. Там не позволят день и ночь сидеть у постели: мало ли что может случиться.
Ниночка на всё соглашалась. На неё нашло какое-то тупое равнодушие. Всё ей было безразлично.
В самый последний день бабушка спросила её:
— Может быть, доктора позвать?
Ниночка даже удивилась:
— Доктора? Зачем это? — И поспешно прибавила: — Нет-нет, не надо…
Ночью бабушка услыхала за стеной слабый сдавленный крик. У Ниночки начались боли, но она терпела, пока сил хватило.
Анна Григорьевна вошла в комнату. Ниночка лежала, вытянувшись на постели, судорожно закинув назад голову. Под глазами легли тёмно-синие круги, напряжённо-застывшее лицо вытянулось, и сквозь стиснутые зубы вырывался странный, не похожий на голос Ниночки, равномерный крик.
Пришла акушерка, суетливая, с жилистыми веснушчатыми руками. Шумно начала переставлять всё в комнате по-своему.
Переложила Ниночку на другую кровать.
— За доктором не надо ли? — всё спрашивала её Анна Григорьевна.
Акушерка обиженно пожимала плечами и говорила:
— При чём тут доктор, не понимаю.
А крик становился всё громче, всё чаще и настойчивее. Промежутков почти не было. Только иногда, точно в забытьи, Ниночка прерывала его отрывистыми словами:
— Трудно мне… ой… не могу я… трудно мне…
Но скоро не стало и этих слов, начался беспрерывный, всё усиливающийся крик, даже не похожий на человеческий голос.
Рано утром ребёнок родился. Его унесли в бабушкину комнату. Ниночка лежала как мёртвая. Глаза ввалились. Нос заострился, худые прозрачные руки упали на простыню.
— Мальчик! — объявила акушерка.
— Позовите бабушку, — тихо сказала Ниночка.
Пришла Анна Григорьевна.
— Что ты, Ниночка?
— Принеси его ко мне… — одними губами выговорила она.
Бабушка поняла и робко спросила:
— Может быть, после?
— Принеси… — повторила Ниночка.
Анна Григорьевна ушла. Вернулась вместе с акушеркой. Но ребёнка несла сама: красненького, сморщенного, с длинными рыжеватыми волосами.
Ниночка взглянула на него. И вдруг, неожиданно для себя, приподнялась и, точно отталкивая кого-то руками, закричала:
— Унесите!.. Унесите его!..
Акушерка засмеялась:
— Все молодые мамаши так: боятся, что маленькому сделают больно.
Она проворно выхватила его из рук бабушки и унесла.
У ребёнка был большой рот, и Ниночке показалось, что губы у него синие, а ноздри вывернуты наружу. Лицо маленькое, сморщенное, но губы и ноздри мелькнули отчётливо, точно нарисованные.
Когда она пришла в себя и начала вспоминать лицо ребенка, она не могла дать себе отчёта: показалось ей сходство или было на самом деле. Успокаивала себя: конечно, показалось… Я так этого боялась, вот и почудилось… Разве у ребенка могут быть такие губы…
Бабушка стояла растерянная, испуганная. Ниночка заметила это и, не глядя на неё, сказала:
— Мне показалось… Теперь прошло… Я больше не буду так…
— Может быть, кормилицу лучше?
— Нет, я сама.
— Подумай, Ниночка.
— Сама.
Акушерка вернулась, услыхала, о чём говорят, и вмешалась:
— Лучше всего самой кормить. Я не понимаю, что за охота возиться с кормилицей? И расход, и неудобства. Ребёнок слабенький, мало ли что может случиться: а потом обвиняют медицину…
Бабушка только вздохнула. Настаивать не стала.
Первый раз принесли его кормить вечером. Ниночка прежде, чем положить на постель, внимательно на него посмотрела…
…Ну, конечно, показалось!.. Рот, правда, большой, но губы тоненькие и розовые, как у всех детей… Нос широкий и ноздри какие-то странные… но у детей всегда носы бывают некрасивые…
Бабушка положила его около груди. Когда он зацарапал ручками и прикоснулся к её телу тёплым ртом, она сжалась вся и невольно подалась назад, точно холодная волна прошла по ней. Ребёнок заплакал. Она сделала над собой усилие и придвинулась снова.
Ниночка лежала так близко, что чувствовала всё его маленькое тельце. Одной рукой он упирался ей в грудь и глотал жадно, нетерпеливо задыхаясь.
Закрыла глаза, чтобы ничего перед собой не видеть, ни о чём не думать.
Грудь согрелась. Теплота медленно разливалась по всему телу. Как будто бы тело оттаивало.
Голова кружилась и хотелось тихонько заплакать…
…Губы у него совсем тоненькие и розовые… Ручки худенькие… А на пальчиках уже ногти есть… Такой тёпленький, такой маленький, беспомощный…
Он лежит так близко, что слышно, как сердце у него бьётся. Иногда даже кажется, что в груди у неё два сердца. Теперь и не узнаешь, где он. Точно прирос к ней. Он ли такой горячий, или грудь её стала такой горячей?.. Ну и хорошо. Пусть так и будет: и он, и она совсем вместе.
Ей захотелось взглянуть на него. Но боялась пошевелиться и потревожить. Полуоткрыла глаза и посмотрела вниз, не наклоняя головы.
Виден был кругленький затылок, сморщенный лоб и краешек пухленькой щеки.
…Какой же он маленький… Какой маленький!.. И какой смешной…
— Бабушка, бабушка!.. посмотри, какой он смешной…
Анна Григорьевна не знала, что сказать.
— Чем смешной?
— Разве не видишь?.. Такой маленький и такой смешной… Затылок кругленький и ручки какие!..
Ниночка тихо смеялась и на ресницах её дрожали слезы.
Бабушка с испугом смотрела на неё.
— Какой маленький, какой маленький! — сквозь тихий смех повторяла Ниночка. — И, главное, чмокает как… Ты слышишь, бабушка, слышишь?..
И вдруг она нагнулась к нему, взяла обеими руками, подняла, прижала к мокрому от слёз лицу и стала целовать, целовать, точно боясь, что у неё отнимут его.
Бабушка окончательно растерялась и не знала, что ей делать.
Пришла акушерка и сделала строгий выговор:
— Так нельзя обращаться с новорожденными. Молодые матери не слушаются, а потом винят докторов и акушерок.
Она взяла ребенка цепкими жилистыми руками и унесла его в другую комнату.
Ниночка не спорила: ей было так хорошо, совсем хорошо…
Поздно вечером бабушка пришла к Ниночке:
— Ты спишь?
— Засыпаю, бабушка.
— Вот что, завтра надо бы крестить его.
— Хорошо.
— Как назовём?
— Всё равно, бабушка, как хочешь.
— Завтра Николай — хочешь Николаем назовем?
— Хорошо. Пусть будет Коля… Это хорошо…
На следующий день младенца окрестили и назвали Николаем.
IV
Коле исполнилось два года. Ниночка первый раз повела его на гулянье на “липовый” бульвар. Там была большая круглая площадка, посыпанная крупным красным песком. В тёплые, солнечные дни на неё приходили дети со всего города.
Всю дорогу Ниночка несла его на руках. Коля умел ходить и даже бегал, смешно переваливаясь с одной ножки на другую, но очень скоро уставал и часто падал.
Дни стояли чудесные. Ясные, золотые дни поздней осени. Ниночка чувствовала себя такой молодой. Она отвыкла и от шума, и от простора. Точно в первый раз шла по улице: таким всё ей казалось новым.
Коля боялся. Он крепко обвил рукой её шею, не плакал, но пугливо прижимался к ней.
До бульвара было не далеко. Прошли узенький переулок, площадь, мост через реку. Восемь лет каждый день по этой дороге ходила она в гимназию. А на бульваре каждая скамейка ей знакома… на них просиживала все “пустые” уроки с подругами… Сколько пережито было под старыми липами во время экзаменов.
И воспоминания тоже кажутся Ниночки какими-то особенными. Ей жалко прошлого: такое оно светлое, милое, далёкое. И чужое оно ей, как будто бы всё это было с кем-то совсем другим.
Но задумываться не хочется. Мысли несутся быстро-быстро, как светлые облака по небу. И так хорошо на сердце. Столько солнца кругом. Небо синее-синее, радостно смотреть на него.
А вот и бульвар.
Здесь еще прекраснее. Дорожки устланы золотыми листьями, а чёрные стволы лип на солнце кажутся вылитыми из бронзы.
Коля перестал бояться, заглянул Ниночке в лицо и улыбнулся.
Он говорить не умеет, всего несколько слов, и те переиначивает по-своему, так что понимает их одна Ниночка. И за недостатком слов он объясняется руками: когда ему хорошо, он хватает ее за лицо, за глаза и губы. Но теперь и руки у него заняты и потому он болтает ножками и смеётся.
Вышли на площадку. Она, точно разноцветными астрами, усыпана ребятишками. Все скамейки заняты. Весь песок. Солнце яркое играет на голубых и красных платьицах. Шумно, но не как на улицах: нежней и тише.
Коля перестал смеяться, снова прижался к матери.
Обошли площадку и на самом конце нашли свободное место. Ниночка села и спустила Колю на песок. Он не отходил, осматривался кругом.
Толстая няня погладила его по голове.
— Ваш сыночек?
— Мой, — ответила Ниночка.
— Как звать?
— Колей.
— Говорит?
— Нет ещё.
Толстая няня подозвала маленькую девочку в голубом платье и сказала ей:
— Поиграй с мальчиком. Поиграй, милая.
Девочка бойко подошла к Коле и взяла его за руку. Коля посмотрел на Ниночку, на няню, на девочку и, смешно переваливаясь, пошел за ней.
Ниночка никогда не видала Колю среди чужих детей. А тут сколько их! — и беленькие, и чёрненькие, и в платьицах, и в курточках, и в пёстрых, и в красных шапочках. Все они чужие ей. И только вот этот один, смешной, с голубыми лентами на шляпе, её маленький Коля… Но среди чужих он тоже кажется чужим. Или может быть, он с ней другой делается, не так смеётся, не так ходит, не так махает ручками? И какой у него большой рот — раньше она не замечала этого… И руки стали длиннее. И, когда слушает, смотрит исподлобья…
Ниночка не может справиться с собой, заставить себя смотреть на него по-прежнему, как всегда. Тревожное, враждебное чувство подымается в ней — не к Коле, а к кому-то другому: не то к детям, которые его окружают, не то к самой себе, что она не может сладить с собой.
Ниночка отворачивается от играющих детей и старается вслушаться в то, что говорит ей толстая нянька:
— …Жалованье десять рублей, рубль на чай. К празднику подарки — уж это, как везде.
— Одна девочка? — машинально опрашивает Ниночка.
— Одна, одна только и есть. Сама-то хворает всё. Весной в Крым ездила. Девочка со мной оставалась. Привыкла. Без меня спать не ляжет, за стол не сядет…
— А отец? — снова спросила Ниночка.
— В управлении служит. Инженер.
Помолчали.
— Ваш тоже на службе? — спросила нянька.
Ниночка сразу не поняла вопроса.
— Мой?.. Кто?..
— Муж-то ваш, говорю, служит же?
— Нет, он умер.
И почему-то встала. Ей вдруг захотелось сейчас же найти Колю. Она посмотрела на прежнее место. Его там не было.
— Убежали, верно, — сказала няня. И тоже стала искать глазами.
В это время, с другой стороны круга, прямо на них бежала “тройка”. Коля бежал с какими-то двумя мальчиками, оба они были старше его и тянули его за руки.
Ниночка быстро пошла к нему навстречу. Коля засмеялся ей и хотел бежать дальше.
— Коля! Коля! — крикнула Ниночка.
Коля остановился, но не подходил к ней.
— Будет. Домой пойдём.
Коля перестал улыбаться и мотает головой.
— Пора, пора, — говорит Ниночка и берёт его за руку.
Коля еще сильнее мотает головой и снова хочет бежать.
— Нельзя, Коленька, — уговаривает его Ниночка, — обедать ждут. Завтра опять придем.
Но Коля слушать не хочет и вырывается из рук. Она наклоняется, чтобы взять его, но он упирается и отмахивается руками.
Ниночка смотрит на него поражённая, она никогда не видала его таким.
Коля стоит неподвижно, сжав кулачки, и смотрит на неё исподлобья тяжёлым, недетским, злым и упрямым взглядом.
— Коленька, ты что? — невольно упавшим голосом говорит она.
Ниночка слышит, как на соседней скамейке говорит кто-то:
— Какой некрасивый мальчик.
Ниночка знает, что он некрасивый. Но сейчас эта фраза почему-то особенной болью отдаётся в ней. И она смотрит на Колю почти с ужасом.
…Да, некрасивый. Страшно некрасивый… Урод… только глаза хорошие, добрые и тихие… Но сейчас и глаза страшные… И потом опять это сходство… Как тогда, в первый день…
— Коля, перестань, — твёрдо говорит Ниночка, снова нагибается и берёт его на руки.
Он не сопротивляется, но Ниночка чувствуете, что весь он какой-то чужой, холодный, враждебный. Она быстро идёт по бульвару. Ей тяжело смотреть на играющих детей. Жутко идти по шумным улицам… скорей бы дойти до дому… Скорей бы… Там этого не будете. Вот и площадь прошли. Вот и узенький переулок… Сейчас дом… Скорее бы…
Она старается не смотреть на Колю. Она боится смотреть на него. Она знает, что снова увидит чужое, некрасивое лицо.
…Вот придём домой и все кончится… Мне показалось… Просто показалось, как тогда. И больше никогда не буду ходить на бульвар… Там чужие все… Пусть один растёт… Около меня…
— Погуляли? — встречает их бабушка.
— Да. Возьми его, — говорит Ниночка, — я устала. Я сейчас приду.
И, не глядя на Колю и на бабушку, уходит в свою комнату.
V
Сходство Коленьки с тем страшным лицом не “показалось” Ниночке, оно было несомненно.
Первые годы, пока черты лица были неопределённы, это не бросалось в глаза. Но когда ему исполнилось шесть лет, Ниночка не могла уже больше обманывать себя: губы и нос были совсем такие же.
Сходство особенно увеличивалось, когда он сердился, наклонял голову и смотрел исподлобья. А когда плакал, лицо делалось совсем другое: жалкое, маленькое и сморщенное, как у старичка.
Здоровье было у него слабенькое. Плечи узкие. Сам худенький и немного сутулый. Только руки были большие и длинные. Он любил играть, часто смеялся и шалил, хотя в общем был послушен. Но иногда на него нападало дикое, необъяснимое упрямство. Тогда он забивался в угол, смотрел угрюмо, как пойманный зверёк, и ни просьб, ни угроз, ни уговоров не слушал.
У него появилась подруга: маленькая девочка из соседнего дома, Катя. Кругленькая, розовенькая, всегда точно только что вымытая, с мягкими ямочками на щеках.
Они очень подружились.
Катя приносила с собой все свои новые игрушки. И они с Колей играли в саду на песочной дорожке.
В мае ему исполнилось семь лет. Катя пришла поздравить его и в подарок принесла заводной поезд: локомотив и три вагончика.
Коля смеялся, хлопал в ладоши. Они сейчас же устроили на дорожке станцию и стали играть в “железную дорогу”.
Ниночка сидела около окна и читала.
До неё доносился звонкий смех Коли и свистки “локомотива”.
И вдруг почему-то всё смолкло. А затем неожиданно послышался плач.
Ниночка бросилась в сад.
На дорожке, забившись в куст сирени, сидел Коля и держал в руках “поезд”. У скамейки, прижав к глазам маленькие свои кулачки, плакала навзрыд Катя.
— Катя, миленькая, что случилось? — бросилась к ней Ниночка. Села рядом на скамейку.
Катя долго не могла выговорить ни слова.
— Коля, что случилось?
Коля насупился, уставился в траву и молчал.
Катя немного успокоилась и, тяжело переводя дух, сквозь слёзы рассказала, что она нечаянно, “совсем нечаянно” наступила ногой на вагончик “и он раздавился”. А Коля ударил её по голове.
У Ниночки всё задрожало внутри.
— Ударил?.. Тебя?..
— Я же нечаянно, совсем нечаянно, — повторяла Катя, снова припадая к своим кулачкам.
Ниночка встала и подошла к Коле.
— Дай сюда игрушку и иди в дом.
Коля молчал.
— Слышишь?
Он не двигался с места. Только глубже забился в куст и угрюмо смотрел исподлобья.
— Отдай сейчас же игрушку и иди в дом, — медленно повторила Ниночка, чувствуя, что у неё начинают трястись руки.
Коля молчал.
— Не пойдёшь?
Ниночка едва владела собой. Она подошла к нему совсем близко и хотела взять игрушку сама. Но он быстро схватил смятый “поезд” и прижал к груди.
— Отдай, слышишь… Сейчас же… Или я… — она задохнулась и не могла кончить.
Коля совсем наклонился к земле и вцепился изо всех сил в маленькие вагончики.
Ниночка быстро нагнулась, схватила игрушку, но он так крепко прижал её к себе, защищая всем телом, что она не могла взять её.
— Отдай! — крикнула Ниночка и рванула вагончики из его рук.
Он разжал руки. Завыл каким-то странным, хриплым голосом, поймал руку матери и схватился зубами за палец.
Острая боль ударила ей в голову. Она выдернула руку и, не помня себя, ударила его смятым вагончиком по лицу.
Коля побледнел, охнул и повалился на траву, в страшном плаче.
Ниночка бросилась в дом. Слёзы душили её. Она упала на постель. Уткнулась в подушку — чтобы бабушка не слыхала её крика. Пролежала так больше часа, пока не утихло всё внутри.
Потом медленно пошла в сад. Кати уже не было. На дорожке валялись исковерканные вагончики и локомотив без колёс и трубы.
Стала искать Колю. Он сидел в углу у забора, прижавшись лбом к решётке, и тихо, жалобно плакал. Острые, худенькие плечи его подымались и маленькая голова вздрагивала. Лицо было видно с боку: морщинистое от слёз, как у старичка.
Ниночка быстро подошла к нему, наклонилась, взяла за плечи и прижала его к себе. Он вздрогнул, заплакал сильней. Но потом быстро стал успокаиваться и спрятал голову у неё на груди.
— Милый мой, мальчик мой, прости меня, прости меня, — повторяла Ниночка и целовала его мокрое сморщенное лицо.
Он совсем успокоился и тихо прошептал:
— Я больше не буду драться. Никогда не буду.
Она понесла его на руках в дом. И всё время целовала его. Ему было щекотно. Он смеялся и зажимал ей рот руками.
Весь день Ниночка была какая-то рассеянная. Не находила себе места. Начинала говорить и забывала кончить. Не отвечала на вопросы. Спрашивала и, не дождавшись ответа, уходила в другую комнату.
— Что с тобой, Ниночка? — встревожилась бабушка.
— Ничего, ничего… так… Глупости…
Вечером Коленька уселся за круглый стол рисовать синим карандашом. Он с увлечением чертил синие фигуры.
Ниночка тихонько села против него и стала рассматривать, совсем как постороннего.
На лампе абажур был тёмный и на стол падал яркий круг свита, от этого вся комната казалась чёрной. Фигура Коленьки выделялась резко, точно вставленная в раму.
Ниночка не старалась успокоить себя. Напротив, с какой-то упорной жестокостью она выискивала сходство с тем, страшным лицом. Полузакрыла глаза, чтобы мягкие, детские черты стали туманнее и чтобы резче выступало то, что особенно врезалось ей в память и было почему-то особенно ненавистно: толстые, синеватые губы и нелепо вывороченные ноздри. Она напрягала все силы, чтобы не видеть ничего остального, ничего детского, чтобы довести сходство до конца. И чем больше это ей удавалось, тем ненавистнее становился чужой некрасивый мальчик, сидевший за круглым столом, и тем холодней и упорней она продолжала его рассматривать.
Да, чужой. Совсем чужой. Но почему-то жалко его… До ноющей, почти физической боли в груди. Как будто бы родной, близкий, любимый каким-то чудом превращён в ненавистного урода… И вид его вызывает отвращение и ужас, но память о том, каким он был раньше, продолжает по-прежнему жить и мало-помалу переходить в скрытую, томительную жалость.
“Люблю ли я его?” — спрашивала себя Ниночка, не сводя глаз с ярко освещенного лица Коленьки, и что-то нужное, радостное подымалось в ней в ответ.
Это её мальчик. Её маленький Коленька, у которого такой смешной, круглый затылок, слабенькие, худенькие плечи, который так застенчиво, так робко иногда ласкается к ней, прячет лицо своё на её груди… Как же она может не любить его?.. Конечно, любит… Но не может же, не может она любить его… Не может любить лица его… И какой он страшный, когда угрюмо наклонит голову и смотрит исподлобья…
…Не люблю я его… Не могу… не хочу я его любить…
Коленька устал. Ему захотелось спать. Он подошёл прощаться.
— Я спать хочу, мамочка.
И потянулся к ней поцеловаться.
Ниночка быстро взяла его за плечо, отстранила и торопливо сказала:
— Ну, ступай, ступай. Я сейчас.
Коля удивленно посмотрел на неё: почему она не хочет его поцеловать? Значить, всё ещё сердится. И он тихонько придвинулся к ней и сказал, не сводя с неё глаз:
— Мамочка, я больше никогда не буду.
— Нет-нет, я не о том, — смущённо проговорила Ниночка, точно пойманная на чём-то нехорошем.
И, быстро нагнувшись, поцеловала его в лоб. Встала и повела укладывать спать. Она раздела его, положила в маленькую кроватку с решёткой. Покрыла мягким одеялом. Зажгла лампадку, чтобы в комнате не было темно. А внутри всё время стучала одна мысль: “Не люблю я его, не люблю я его…”
И чем настойчивее она это повторяла, — тем безнадёжней и тоскливей становилось на душе. Точно почва из-под ног ускользала. И становилось так пусто, ненужно всё.
Ниночка пошла к бабушке.
Анна Григорьевна не спала, и даже как будто бы ждала её.
— Что ты, Ниночка, такая измученная сегодня?
Ниночка помолчала, ничего не ответила. И вдруг сказала:
— Я Колю сегодня ударила.
— Колю? Ударила? За что?
— Катя у него игрушку сломала — он её по голове ударил. Я ему смятый вагончик… в лицо бросила…
Бабушка молчала. В глазах у неё появилось то жалкое выражение ужаса, которое Ниночка не могла спокойно видеть. Ниночка почувствовала это и уставилась в пол.
— Это страшно гадко и подло, — продолжала она, — но я знаю, что буду бить его. Я знаю, что буду. Когда он такой, я себя не помню. Сумасшедшая делаюсь. Сегодня я в первый раз его ударила — но теперь знаю, что буду бить.
— Что ты, Ниночка, что ты?..
Бабушка сказала это, точно защищаясь, точно замахнулись на нее.
И разом исчезло у Ниночки холодное оцепенение, в котором она находилась весь вечер. Силы оставили её, как будто сейчас только она поняла весь ужас свой, всю безысходность своей жизни,
— Ненавижу я его… И жалею, и ненавижу… Я не знаю, как объяснить тебе… Лицо его ненавижу… Он такой же… как тот… Чем больше растёт, тем больше„. Я… Бабушка, милая, разве я не знаю, что подло бить. Я себе стала гадкой сегодня… Сама себе простить не могу… Мне самой страшно… За себя страшно… Семь лет заставляла себя любить, забыть всё. Полюбить всем сердцем… Как ребёнка своего… И не могу. Никогда не смогу… Я измучилась, бабушка… Такая пытка, такая пытка… Я с ума сойду… Господи, уехать бы куда-нибудь. Убежать бы куда-нибудь… — как стон вырвалось у Ниночки.
Каждое слово её пригибало бабушку к земле. Как ей помочь? Чем ей помочь?
— Терпеть надо, Ниночка, — когда-нибудь кончится. Не всё так… Хорошо когда-нибудь будет, — говорила она первые попавшиеся слова.
За стеной послышался голос Коли:
— Мама, мамочка…
— Пойди к нему, — сказала Ниночка, — я не могу.
Бабушка ушла и скоро вернулась.
— Что он? — спросила Ниночка.
— Ничего, во сне.
Ниночка встала,
— Я пойду.
— Как же теперь будет? — сказала бабушка.
— Не знаю.
— Может быть, правда, уехать тебе?
— Совсем? — серьёзно спросила Ниночка и пристально посмотрела в глаза бабушке.
— Отдохнуть уехать, — торопливо сказала Анна Григорьевна.
Ниночка покачала головой.
— Нет, тут надо как-нибудь иначе. Надо как-нибудь по-другому.
— Как же? — с тревогой спросила бабушка.
— Не знаю. Сейчас ещё не знаю.
— Она ушла, снова холодная, застывшая, как раньше.
VI
На следующий день Коля захворал.
Утром у него болела голова и грудь. Он сразу так ослаб, что с трудом встал с постели. К вечеру начался кашель и сильный жар.
Доктор, который когда-то лечил Ниночку, нашёл у него воспаление лёгких. Прописал лекарство и сказал:
— Болезнь серьезная, ребёнку нужен абсолютный покой.
Ниночка провожала его до прихожей. Когда он оделся и взялся за ручку двери, она остановила его:
— Доктор, отчего захворал мой сын?
Доктор поднял брови и пожал плечами:
— По всей вероятности, простуда.
— Вчера он сидел в саду на сырой земле больше часа и плакал; мог он захворать от этого?
— Разумеется, мог. — И прибавил: — Тревожиться особенно нечего: прежде всего нужен покой.
Доктор ушел. Ниночка заперла за ним дверь. И долго стояла в прихожей, — смотрела на улицу. Ночь была тёмная и туманная. Фонари расплывались в стёклах тусклыми пятнами, и мелкими искорками отражались в запотелых окнах.
…Сыро теперь на улице и земля холодная… Ранней весной всегда земля холодная…
У ней плечи вздрогнули, точно и их коснулась холодная сырость.
“Я себя обманываю, — не хочу думать о главном. Коля из-за меня простудился. Если он умрёт, я буду виновата”.
Ниночка мысленно отчеканивала каждое слово, точно гвозди в себя вбивала.
И сама удивлялась: совсем не больно! — Ну, я виновата, и пусть… Неужели до такой степени всё безразлично?
И не жалко, и не страшно. Только сильнее плечи вздрагивают от холода и неприятно смотреть на тусклую, сырую улицу.
Ниночка отходить от окна и медленно идет из прихожей.
“Я не могу ухаживать за ним — пусть бабушка. Это очень скверно, но я не могу”.
Она доходит до своей комнаты. Поворачивается.
Идёт в детскую.
Коля спит. В углу горит лампада и в комнате мягкий, ровный свет. У изголовья, в кресле, сидит бабушка — дремлет.
Ниночка подходит к ней и говорит:
— Бабушка, иди спать. Я буду за Колей сама ходить.
Бабушка привыкла слушаться Ниночку и не тревожить её лишними вопросами, она покорно встаёт, крестит Колю, целует холодное, неподвижное лицо Ниночки и уходит к себе.
Ниночка на следующий день перенесла свою постель в детскую — и больше уже не отходила от Коли.
С каждым днём ему становилось хуже. Доктор приезжал два раза в день, и Ниночка каждый день спрашивала его в упор, не стараясь смягчить своего вопроса:
— Выздоровеет или умрет?
Доктор пожимал плечами, морщился и говорил уклончиво:
— Положение очень серьёзное…
На четвёртый день к вечеру Коленька почувствовал себя особенно плохо.
Ниночка задремала в кресле. Ей снился глубокий, тёмный овраг. На дне его высокая колючая трава. Ниночка никак не может выбраться из неё. Колючки цепляются за её платье, бьют по рукам, по лицу… А от земли подымается холодный, пронизывающий туман.
Она слышит сверху отчаянный крик:
— Мама… Мамочка…
“Это Коля кричит, — думает Ниночка, — как он пришёл сюда?.. Больной, — а пришел…”
Крик сильней, над самым ухом. Ниночка наконец понимает, что это не во сне, а на самом деле кричит Коля. Но она всё ещё не может заставить себя, проснуться…
— Мамочка… Мамочка…
Она чувствует, как что-то горячее прикоснулось к её руке.
Она сразу пришла в себя. Коля почти встал с постели и судорожно тянет её за руку.
— Нельзя, нельзя вставать! — испугалась Ниночка. — Ты пить хочешь? Да?
Но она взглянула на него и поняла, что началось то, о чём она спрашивала доктора. Коля смотрел на неё в упор и в глазах его был такой неотступный страх, такая беспомощность, что Ниночка невольно отвела глаза. Как будто он спрашивал: что это такое со мной? И почему мама не хочет помочь?
— Я… дышать не могу… — едва выговорил он.
Она тихонько уложила его. Накрыла одеялом. Положила на его горячий лоб свою руку.
Коля не говорил больше ни слова. Он, казалось, успокоился. Только грудь его тяжело и неровно подымалась.
“Он умрёт, — с особенной отчетливостью, как всегда последнее время, думала Ниночка: — и всем ужасам конец. Я буду рада. Да, рада. Это единственный выход. Нечего себя обманывать. Я хочу его смерти. Хочу!”
И опять она удивилась: нисколько не больно от этих слов, и не страшно.
…Неужели это всё равно?.. Ведь я живу… не умерла ещё…
И опять плечи её вздрогнули от ощущения холодной сырости. Она убрала свою руку с головы Коли. Глубже села в кресло.
Коля не стонет больше. Но дышит всё тяжелее: воздуха ему не хватает. Одной рукой крепко сжал угол одеяла, другую беспокойно перекладывает то на подушку, то на край простыни. Голову закинул назад. Глаза закрыты. Мокрые, мягкие волосы свесились на лоб жиденькими прядями.
…Он умирает… Неужели же она не видит, что он умирает?..
— Бабушка! Бабушка! — кричит она в ужасе.
Бабушка бежит из своей комнаты.
— Коле плохо… он задыхается… за доктором… Я не хочу, чтобы он умирал… Не хочу я!.. Не хочу я!..
— Успокойся, Ниночка, расстраиваешь себя — вот и кажется: ему лучше даже, он заснул, видишь?
— Умирает он… Я наверное знаю… сейчас началось… Я знаю…
— Полно же, говорю, расстраивать себя.
— Да нет же, бабушка, — он задыхается… Утро не скоро… Позови доктора… Чтобы сейчас же шёл…
— Схожу, схожу… Мучаешь себя понапрасну…
Бабушка ушла. Ниночка боится шевельнуться и издали смотрит на Коленьку. Крик Ниночки разбудил его. Он открывает глаза и ищет её.
Ниночка подходить к кровати и садится, берёт его горячую руку и прижимает к своему лицу.
— Бедный ты мой… бедный ты мой…
Коля протягивает другую руку, дотрагивается до её глаз. Совсем как раньше, когда он был такой маленький-маленький и она носила его на руках…
— Мамочка! — тихо проговорил он.
— Что, милый, тяжело тебе? Да?..
Он молчит. Всё гладить её по глазам. И снова говорит шёпотом:
— Мамочка!
Ниночка уже не спрашивает больше его ни о чём. Ей хочется обнять его, прижать крепко-крепко к себе и всё ему рассказать. Всё-всё… Чтобы он понял её. И чтоб кончился, наконец, этот ужас.
Он выздоровеет. И начнут они жить совсем по-новому.
— Коленька, ты мой сыночек?.. Да?.. мой сыночек?..
Она целует его руки, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться.
…Скорее бы доктор, скорее бы доктор!.. Только бы рассвета дождаться — а там всё хорошо будет… Только бы эта ночь страшная прошла… Кажется, светает? Конечно, светает: стены посерели и на кровать упала тусклая полоска рассвета… Коленьке легко теперь. Он дышит ровнее, и руки не вздрагивают, а спокойно лежат в её руке.
…Он засыпает, должно быть. Значит, лучше ему. Значит, самое страшное прошло… Скорее бы солнце всходило. А то опять начнётся… Дверь щёлкнула… Это бабушка… Неужели доктор не поехал?.. Тогда за другим надо. Сейчас же за другим… Нет — с доктором… Слышно, как раздеваются в прихожей и говорят… Вот и шаги его…
Ниночка успокаивается и идёт им на встречу.
Доктор торопливо здоровается и подходит к кровати. Он несколько минут смотрит молча на Коленьку и потом с недоумением поворачивается к Ниночке.
— Больному лучше, — говорит он.
Ниночка так рада, что даже не чувствует неловкости перед доктором.
— Лучше? Наверное?
— Ну да! — пожимает он плечами.
— Вы уж простите её, — извиняется бабушка, — она очень расстроена, ей показалось, что Коленьке хуже.
— Ничего, ничего… Но беспокоиться решительно нечего. Теперь он начнёт быстро поправляться.
Ниночка провожает доктора до прихожей. Ей хочется смеяться. Кажется, так бы схватила этого милого, смешного доктора в больших очках и закружилась с ним по комнатам.
Она неожиданно обнимает его и целует.
Доктор в замешательстве поправляет очки…
— Ничего-ничего, это всё пройдет… — смущённо бормочет он, — неделя покоя и мальчик будет здоров…
Ниночка возвращается в детскую. Коленька спит. Дышит спокойно и тихо. Теперь сама видит, что ему лучше. Теперь уже наверное.
— Ложись, Ниночка, — говорит бабушка, — так нельзя, надо и себе покой дать.
Ниночке хочется быть послушной. И ей кажется, что она стала вдруг маленькая-маленькая. Она идёт к постели. Бабушка укладывает её. И говорит что-то. Ниночка слушает её сквозь сон, не понимает слов, но ей делается от знакомого, ласкового голоса так хорошо, спокойно, как бывало в самом раннем детстве.
Проснулась Ниночка поздно. Комната полна была яркого солнечного света. Даже смотреть больно. Ниночка, в полусне, снова закрыла глаза. Но почувствовала то хорошее, детское чувство радости, с которым вчера заснула. Разом всё вспомнила. И быстро принялась одеваться.
Коленька давно проснулся, и бабушка напоила его чаем: около него на столике стоит пустая чашка. Лицо у него очень бледное, но весёлое, и в глазах нет прежнего тяжёлого выражения.
Ниночка спрашивает его, как он спал, как чувствует себя. Не болит ли у него голова и грудь? А сама думает:
“Ему гораздо лучше сегодня. И никакой опасности нет. С чего это мне представилось ночью? Теперь начнёт выздоравливать… И всё будет по-прежнему…”
Коленька улыбается ей широкой улыбкой, которая на худом лице кажется ещё некрасивей, и говорит:
— Сегодня всё утро солнышко. Я давно не сплю. Мне в сад хочется, мамочка, — скоро можно будет?
— Скоро-скоро, потерпи немножко, — рассеянно успокаивает его Ниночка и продолжает думать:
“Неужели это я вчера за него так испугалась? Не ужели он дорог мне? Неужели я всё-таки его люблю? Почему же так пусто в душе?.. И никакого чувства там нет… совсем пусто…”
Ниночка отходит к окну. Рассеянно смотрит в сад: на дорожки, посыпанные жёлтым песком, на распускающуюся сирень, на пронизанные солнечными лучами, почти прозрачные молодые листья…
…Скоро с постели встанет. Начнет ходить. Разговаривать… Всё будет по-прежнему… Будем жить рядом, вместе… Противный такой!.. Да, да, противный. Это самое настоящее слово. Что есть, то и есть. Надо терпеть… Ну, а потом? Когда же конец будет? Когда вырастет?.. Heт, и тогда не конец… Всё теперешнее останется. Во мне останется… Разве в самом деле уехать. Убежать на край света?.. Нет, не убежишь, верно…
Солнце подымается всё выше и жжёт до боли сквозь стекла. Но Ниночке холодно: у неё зябнут руки и ноги.
Пришла бабушка. Лицо её так и сияет. И на мелких морщинках играет улыбка.
— Выспалась? — ласково говорит она. — Вот и в гимназии, бывало, так тебя не добудишься.
— Да, выспалась, — равнодушно говорит Ниночка. — Коле лекарство давали?
— Давали… — Бабушка с удивлением смотрит на неё и невольно у неё вырывается: — Ты что, Ниночка?
— Ничего.
Ниночка смотрит ей прямо в глаза спокойно и холодно.
— А я думала, нездоровится, — в замешательстве, точно оправдываясь, говорит бабушка: — ты бледная такая… и глаза нехорошие… Коленьке гораздо лучше сегодня, ты говорила с ним?
— Да. Говорила… Он, вероятно, скоро встанет. Напрасно я совсем тревогу сегодня ночью подняла. Только тебя зря напугала… Когда придёт доктор сегодня, ты мне скажи… я уйду: мне не хочется его сегодня видеть.
— Хорошо, скажу.
У бабушки лицо делается печальное, старенькое…
Ниночка смотрит на неё и всё больше и больше отдаётся знакомому, холодному оцепенению.
…Все, значит, по-прежнему. Ну, и пусть, и пусть!.. Пока сил хватит — буду терпеть… А если не хватит, тогда что?.. Тогда, должно быть, конец…
VII
Через две недели Коля совершенно поправился. Трудно поверить было, что он недавно перенёс такую серьёзную болезнь: целые дни проводил в саду и на улице. Весеннее солнце обожгло его. Он загорел, огрубел и даже, казалось, вырос.
Ниночка избегала его. Она не могла слышать его голос без раздражения. У него появился необыкновенный аппетит, и она не могла спокойно смотреть за обедом на его здоровое, довольное лицо.
Коля стал отвыкать от неё. В присутствии её делался молчаливым. И всё чаще и чаще смотрел на нее исподлобья. Этот угрюмый взгляд особенно раздражал Ниночку, и она спешила уйти куда-нибудь…
Бабушка несколько раз осторожно заводила с ней речь об отъезде. С Коленькой теперь легко справляться, и Ниночка вполне могла бы отдохнуть. Надо пожить где-нибудь в другом месте, успокоиться, и тогда всё пройдёт.
Ниночка соглашалась, но уехать не могла: точно ждала чего-то. Это должно было чем-нибудь разрешиться. Это не могло так кончиться. Она знала наверное, что не могло, но боялась об этом думать и говорила бабушке:
— Да, надо будет собраться…
Когда приходил Коля, она с особенной силой чувствовала желание убежать, пожить одной. Но и ясней сознавала, что уехать сейчас не в состоянии. И ей хотелось сказать Коленьке что-нибудь обидное, жестокое, чтобы он перестал улыбаться, чтобы не смотрел на неё угрюмым взглядом, чтобы не было его, чтобы самую мысль о нём вырвать совсем прочь…
И однажды Ниночка не выдержала.
Коля прибежал из сада в шумном и возбуждённом настроении: в первый раз он играл “с большими мальчиками” “по-настоящему”.
Лицо его разгоралось. И он, не замечая и не конфузясь Ниночки, громко рассказывал бабушке о новой игре.
Сели обедать. Коленька проголодался и ел с жадностью, отламывал большие куски чёрного хлеба, не переставая говорить и смеяться.
Ниночка смотрела на его большой рот, который он набивал хлебом, на растрёпанные рыжеватые волосы и вдруг почувствовала, что губы у неё дергаются.
“Надо уйти”, — подумала Ниночка.
Но сил не хватило заставить себя встать. И она покатилась под гору…
— Я тебе советую играть в акулы, — тихо, но раздельно, сказала она.
Коля засмеялся, не переставая есть и посматривая то на бабушку, то на Ниночку.
— Как в акулы? — спросил он.
— Рот у тебя до ушей — вот и будешь играть в акулы.
Коленька потупился и стал есть медленней.
— Кушай, кушай, пошутила она, — сказала бабушка.
— Не пошутила, — упорно продолжала Ниночка, — разве ты не видишь, что у него рот, как у акулы? И глотает целыми кусками — совсем, как акула… Ты ведь не жуёшь, да?
Коленька молчал и вовсе перестал есть.
— Что же ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Жуёшь ты или нет?
— Жую, — тихо сказал Коля.
— Неправда. Я сама видела, что не жуёшь… Акула, — засмеялась вдруг Ниночка, — я теперь так и буду тебя звать… Скоро мы тебя сырым мясом кормить будем… Ты не мальчик: у мальчиков таких зубов не бывает.
И она смеялась резким, горловым смехом.
— Оставь его, Ниночка, — вступилась бабушка.
Ниночка точно ждала этого.
— Что я ему делаю? Я слова не могу сказать ему. Посмотри, как он смотрит. Не смей на меня так смотреть. Слышишь, не смей… Не смей…
— Ниночка, Христос с тобой…
— Смотри, как следует. Подыми голову. Я тебя отучу. Я тебя отучу… А в зубах кусок всё-таки держит. Бабушка, посмотри. — И она со смехом показала на него пальцем: — Совсем акула…
— Ниночка, иди к себе, я прошу тебя.
— Иду, иду…
И Ниночка, смеясь, как в истерике, вышла из-за стола.
Бабушка решила поговорить с Ниночкой окончательно. Дальше жить так невозможно. И, когда Коленька, успокоившись, снова убежал на улицу, бабушка пошла к Ниночке в комнату.
Ниночка ждала ее; и когда бабушка взошла, она сказала:
— Я решила ехать.
— А я об этом пришла поговорить с тобой, Ниночка: так дальше нельзя.
— Я знаю…
— Ты его измучаешь — и себя измучаешь.
— Я знаю.
— Откладывать нечего. Собирайся и поезжай с Богом.
— Через неделю уеду.
— Наверное?
— Наверное.
— Не передумаешь опять?
— Нет, теперь не передумаю…
— Вернёшься, и всё пройдёт.
Ниночка молчала.
— Он вырастет, хороший будет. Ты его полюбишь.
— Бабушка, об этом не надо… Теперь оставь меня.
— Не буду, не буду… Значит, через неделю? Вот и хорошо.
Бабушка ушла к себе.
Ниночка на этот раз решила ехать твёрдо и окончательно. Но решение это почему-то не успокаивало её. Она с недоумением прислушивалась к себе, и внутренний голос по-прежнему говорил ей, что с отъездом ничего не изменится, что это неизбежно должно чем-нибудь разрешиться, что это так кончиться не может.
…Но всё это не скоро. А теперь хоть немного успокоиться. Хоть немного в себя придти. Отдохнуть… Одной остаться… И ехать, ехать, куда глаза глядят…
VIII
Коля с мальчиками затеял игру в “разбойники”. С шумом и свистом бегали они по саду, ломали кусты, устраивали засады, вооружались палками.
Игра эта почему-то страшно не нравилась Ниночке. Она несколько раз говорила Коле, чтобы он бросил игру в разбойники. Играл бы как-нибудь иначе. Он не слушался. И Ниночка по целым часам слушала дикие голоса разбойников в саду.
Иногда ей даже жутко делалось от этих голосов. Но она боялась настаивать. Она чувствовала, что Коля не послушается и что она не сдержит себя. Теперь всё равно: через два дня она уедет — потерпеть не долго…
Коленька боялся, что ему запретят играть, и старался всегда уйти из дома, как можно раньше.
В этот день он ушёл особенно рано. Но голосов в саду почему-то долго не было слышно: должно быть, играли на улице. Когда перешли в сад, после тишины крики их казались особенно резкими.
Колю выбрали атаманом. Это случилось первый раз: он был меньше всех остальных ростом и его атаманом никогда не выбирали.
Ему надели на голову шапку с гусиными перьями, а в руки дали обломок чугуна с шишкой на конце, “кистень”, как они его называли. Вся “шайка” должна была подчиняться “атаману” беспрекословно. “Разбойники” грабили “купцов”, “проезжавших по дорожке”, а потом прятались в сиреневых кустах от преследования полиции.
“Купцом” был краснощёкий мальчик Сеня, сын лавочника, а лошадь, которая везла его товар, — брат Кати Алёша.
Купец ехал по дорожке и вёз “товары”. Нападать можно было только около первого большого сиреневого куста, потому что здесь начиналась “большая дорога”
Коля с товарищами спрятался в засаду. Сеня и Алёша осторожно шли по дорожке. Коля не спускал с них глаз и рукою сжимал “кистень”. Сеня поравнялся с ним. Он ещё “не доехал” до куста, но был уже так близко, так легко было схватить его, что Коля не выдержал и дал сигнал к нападению.
Разбойники окружили и хотели “грабить”.
Но Сеня возмущённо заявил, что это не по правилу, что он “до большой дороги не доехал”, и что он больше так играть не будет.
— Нет, будешь, — тяжело дыша, сказал Коля.
— Нет, не буду, — упрямился Сеня.
— Нет, будешь!
— А я тебе говорю, не буду!
— Ну, тогда ты трус.
— Я трус?
— Да, ты.
— Я трус? — наступал на него Сеня.
— Да, да, трус.
— А ты кто?
— Что я?
— А ты подкидыш, — злобно отчеканил Сеня.
Мальчики засмеялись и закричали:
— Атаман-подкидыш!..
— Тебя мать в канаве нашла, — злобно продолжал Сеня.
Коля побледнел и затрясся.
— Ты незаконный, вся улица знает, — кричал Сеня, — а ещё туда же лезет!..
И прежде, чем мальчики успели опомниться, Коля взмахнул кистенём и со всей силы бросил его в Сеню. Кистень задел щёку. Брызнула кровь. Но Коля уже не владел собой. Он бросился на Сеню, сшиб его с ног и начал кусать, царапать, бить его кулаками
Сеня кричал и бился головой о песок. Мальчики сначала растерялись, потом хотели разнять их. Но увидали бежавшую Ниночку и бросились врассыпную
Ниночка добежала до Коли и барахтавшегося под ним Сени и остановилась.
Лицо его посинело. Толстые губы были сжаты и вывернутые губы тяжело раздувались.
…Это не Коля… а тот… Это его лицо, его лицо…
А Коля совершенно остервенился. Продолжал бить Сеню по чему ни попало.
Ниночка схватила его за плечи, она хотела кричать, но голос не повиновался ей.
Коля рвался назад, она, крепко напрягая все силы, держала его. И тогда он повернулся к ней, нагнул голову и ударил кулаком в грудь. Ниночка разжала руки, но он снова набросился на нее в каком-то исступлении.
…Синие губы… Широкий нос… Близко, близко придвигается к ней… Совсем, как тогда… совсем, как тогда…
Белый туман подымается над тёмной, сырой травой. Всё покрыл белый туман. Только страшное рябое лицо близко, близко… И голос хрипит прямо в уши…
Осколок чугуна блеснул на траве. Она схватила его. Подняла над собой и опустила с размаху, снова подняла и снова опустила.
— Гадина!.. Гадина!.. Гадина!.. — задыхалась она и как в бреду била его осколком чугуна по лицу, по вихрастой наклоненной голове.
…Пусть же за всю жизнь… за все муки… пусть!.. пусть!..
Новый журнал. 2011. N 263.
Неужели правда?
Капитан Изволин лежал на диване, забросив за голову руки и плотно, словно от ощущения физической боли, сожмурив глаза.
“Завтра расстрел”… Весь день сжимала эта мысль какой-то болезненной пружиной ему сердце и, толкаясь в мозг, заставляла его судорожно стискивать зубы и вздрагивать.
Дверь кабинета тихонечко открылась и, чуть скрипнув, сейчас же затворилась опять. Маленькая, лет восьми, девочка, осторожно ступая, вытянув головку и вглядываясь в полумраке в лежащего с закрытыми глазами отца, полушёпотом проговорила:
— Папа!
— Я не сплю, Маня, — тихо отозвался он, не переменяя положения и не открывая глаз.
— Не спишь?
Девочка осторожно перелезла через отца и, поджав ножки, прижалась к спинке дивана.
Прошло несколько мгновений.
— Папа! — вдруг таинственно позвала Маша.
— Что? — сердце у Изволина почему-то вдруг ёкнуло.
— Папа… — и она докончила шёпотом, заледенившим ему душу: — Папа… правда ли, что ты завтра пойдёшь человека убивать?..
Мурашки побежали у него по телу.
Машинально он повернул голову и взглянул в угол: там, зажжённая заботливой рукою старухи-няни (жена давно умерла у Изволина), ярким чистым пламенем горела лампада. Христос прямо на него смотрел с образа — строго, вопрошающе: “Правда ли, что ты завтра сам пойдёшь и других поведёшь человека убивать? Правда ли, что ты хочешь взять суд Мой в свои руки?”
— Папа, правда?… правда, что ты пойдёшь завтра человека убивать? — лепечет с странным, с жутким каким-то любопытством девочка.
Он вскочил:
— Пошла прочь от меня, дрянная девчонка… Как ты смеешь?..
Маша широко раскрыла на отца свои большие голубые глазки.
— Прочь пошла, говорю я тебе… сейчас вон… вон уходи…
Оп топал ногою.
“Что это с папой?.. Разве он когда-нибудь, когда-нибудь так страшно кричал на неё?.. Разве когда-нибудь гнал?..” И девочка, ухватившись обеими ручонками за диван, громко заплакала:
— Не пойду… не пойду…
Тогда он схватил её за руку и потащил… стащил с дивана, потащил её, с криком упиравшуюся, через комнату и стал выталкивать за дверь, всю её сильно встряхивая и злобно, сквозь зубы, повторяя:
— Я тебе дам… я тебе покажу…
———
“Правда, — правда это? Пойдёшь завтра человека убивать? Пойдёшь ведь?”
Он со страхом открыл глаза и, сев на постели, дико осмотрелся: кто это разбудил его? И он всматривался в темноту и дрожал… Кто это был сейчас здесь около него?..
Кто! Что он спрашивает?.. Понятное дело, кто: “он”… бес… Да-да, конечно… это он, бес-душегубец, захлёбываясь от радости, пролопотал ему над ухом эти слова… Он здесь, здесь, он чувствует… где-нибудь совсем близко, за плечом его…
Изволин в ужасе соскочил с постели и шарахнулся в сторону — туда, где, потухая, догорал лампадный огонёк… И рухнул на пол перед иконою Спасителя… И украдкой, едва приподняв от пола голову, посмотрел на лик Христа.
А “человекоубийца искони” так и налезал, так и налезал на него откуда-то сбоку и заслонял собою образ Бога перед ним. И отвратительным своим лопотаньем заглушал стон молитвы в душе его: “Так, пойдёшь, — пойдёшь завтра человека убивать?”
Лампадка вдруг ярко, в последний раз вспыхнула и погасла.
———
Бледные, дрожащие, они стояли все в ряд — приведённые им сюда “убивать человека” солдаты. А “человек” был привязан к столбу и смотрел на них безумно-воспалённым, чего-то отчаянно ожидающим взором, словно не хотел верить, что уже нет больше спасения ему, крепко-накрепко привязанному верёвками… что эти люди сейчас на самом деле станут посылать в его тело пулю за пулей и будут терзать и рвать его этими пулями своими до тех пор, пока, наконец, не отымут жизнь у него…
Изволин ходил взад и вперёд перед ротой и помутившимися глазами уставлялся то на привязанного к столбу, то на своих трясущихся, растерянно-испуганным взглядом смотревших на него солдат.
“Горе тому, кто соблазнит единого от малых сих… Лучше было бы тому человеку повесить себе мельничный жернов на шею и погибнуть в глубине морской”… Малые сии… они держали ружья наготове и ждали его команды “человека убить”.
У Изволина зуб не попадал на зуб. Отчего так страшно?.. До того, что волос дыбом встаёт на голове?.. Чего так бояться?.. Ведь вот же и священник тут… Но отчего бледен и испуган служитель Сына Божия?.. Отчего его руки трясутся так сильно, что, того гляди, выронят крест?..
Да и зачем он принёс крест сюда? Крест Жизнодавца?.. Отчего они все отворачиваются от этого спасительного знамения?.. И трепещут?..
“Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе… и восплачутся все племена земные”…
А… он понял… понял… понял теперь, отчего им жутко глядеть на крест Христов, готовый выпасть из руки трясущегося, как изменник-ученик, священника… понял… Христос от них отступился!
Бес теперь их царь и владыка… ведь здесь же он, с ними… тот самый бес-душегубец, который всю ночь радостно спрашивал его сегодня: “правда ли, что ты будешь человека убивать?” Человекоубийца этот тоже трепещет с ними вместе и тоже закрывает глаза перед знамением Иисуса… Вот отчего им так невыносимо страшно — бес между ними… Это его, его смрадное дыхание носится по площадке и обвеивает их всех… потому что бес не верит, — всё ещё не верит, что “во Христа крестившиеся” пришли сюда для убийства, и, не закрывая рта, лопочет: “Правда ли, что вы будете человека убивать? Правда ли, люди, что вы знать не хотите Того, Чьё имя страшно и Кто сказал вам: не убий? Правда ли? правда ли? правда ли, люди?”
— Правда, бес, — вдруг крикнул Изволин, весь остервеняясь, — и, обернувшись к солдатам, скомандовал:
— Пли!
По изданию: Два пути. 1906. N 1. С. 14–17.
Переиздание: Новый журнал. 2010. N 261.
Публикатор: С. В. Чертков
Диплом
Было раннее утро, когда Вася с отцом и со своей учительницей, Анной Петровной, выехал из села.
Солнце ещё не взошло; ясное небо едва засинелось; невысокая, зелёная рожь тихо-тихо шумела; белый, седоватый туман подымался над ней и заволакивал убегающую даль.
Молодая Пегашка весело пофыркивала; колёса задевали весеннюю траву, выбившуюся по колеям, и подымали узкую полоску пыли, которая медленно кружилась и исчезала в сыром воздухе.
Они ехали в уездный город Н., на экзамен. Вася кончил курс в своей сельской школе и должен был получить диплом.
Это был первый год, когда выпускные экзамены производились не в сёлах, а в городе, для всех школ единовременно.
Вася знал, что на экзамене будет много начальства, которого боится не только он, но и Анна Петровна; что будет много мальчиков, кроме него, и что всех их будут “резать”, а потому нужно отвечать подумавши и не делать никаких ошибок.
И теперь, глядя на убегающую дорогу, на склонявшиеся под колёсами жёлтенькие цветы, которые выпрямлялись снова и долго качали головками им вслед, Васе было и весело, и жутко.
— Вот теперь, примерно, мальчишку, — говорил отец, — ну что его везти! Рабочая пора, и лошадь нужна, и руки нужны — а вези!
— Экзамен! — возражала Анна Петровна, видимо, сочувствуя мужику.
— Довольно бы и грамоты, а экзамен этот — Бог бы с ним! Пора рабочая, сев, Иван-то, сами знаете, на мельнице, лошадь одна…
— Диплом нужен! — прежним тоном возражала Анна Петровна.
“Диплом! Какой-то он?” — думал Вася.
И снова стало ему и жутко, и весело, снова запестрили в глазах жёлтенькие кивающие цветы, и захотелось спросить о чём-нибудь Анну Петровну.
— Анна Петровна, — робко сказал он, — много их будет?
Она обернулась к нему и засмеялась:
— Много.
— Пятеро?
— Больше.
— А кто самый важный?
— Предводитель дворянства.
Вася даже зажмурился от волненья.
— Да ты не волнуйся, — в сотый раз слышал он ободряющую фразу Анны Петровны. — Главное, смелей будь; ты ведь всё знаешь, не будешь волноваться, значит, и выдержишь.
Вася сделал над собой усилие и успокоился. Вспомнилось ему, как он приходил, бывало, к Анне Петровне после ученья вечером, усаживался около неё и слушал, как она читает, или сам начинал рассказывать, какие мысли ему приходят, как бы он хотел жить, как сегодня отец поспорил с дядей Иваном, и как они не могли ничего объяснить друг другу, а по его выходит всё очень просто.
Анна Петровна иной раз слушает-слушает да вдруг обнимет его, и Вася чувствует, как на его щёку падают тёплые слёзы.
— Анна Петровна, что с вами? — робко молвит он.
А она подойдёт к окну, прижмётся к стеклу головой и долго-долго стоит так. Потом подойдёт и поцелует Васю в лоб.
— Эх, Васенька, не в деревне бы тебе родиться, — говорит она, — родиться бы в городе, у богатых господ; всему бы тебя выучили. Мал ещё ты, не понимаешь, что за жизнь твоя будет.
И снова она целует и ласкает его.
— Теперь уж этого не будет, — думал Вася, — ученье кончилось…
И ему становилось грустно.
Вася посмотрел вперёд: из-за бугра показывалась высокая, белая колокольня городского собора.
— Ну, Вася, вот и город, будь молодцом, — ласково проговорила Анна Петровна.
Но ему до того вдруг сделалось жалко чего-то, что он чуть не заплакал.
А Пегашка, ничего не подозревавшая, по-прежнему пофыркивала и весело бежала по мягкой дороге…
———
Всё спуталось в голове Васи, когда он сидел на одной из задних парт во время вечернего устного экзамена.
Большая, ярко освещённая зала земства была полна народа. За длинным зелёным столом сидели экзаменаторы с усталыми, недовольными лицами.
Сзади экзаменаторов сидели учителя и учительницы, подходившие к столу при ответе своих учеников; сбоку, вдоль стены, помещалась публика.
Васе странно было видеть в толпе этих чужих людей хорошо знакомую фигуру Анны Петровны в простом, тёмном платье, на котором он знал каждую складочку. Она теперь казалась ему совсем другой.
Среди начальства он увидал ещё одно знакомое лицо не русского типа, с большими, чёрными глазами и целой гривой густых волос. Это был член училищного совета.
Вася знал, что его зовут Симоном Давыдовичем, что с ним всегда так весело и хорошо было разговаривать, когда он приезжал весной на экзамены.
Всё ближе и ближе от Васи поднимались мальчики при оклике фамилии. Волнение Васи то успокаивалось, то вновь прибывало, и снова чувствовал он, как путаются его мысли и он точно куда-то падает.
Впереди него уже вся парта была спрошена, оставалось человек пять.
“Сейчас начнётся, сейчас начнётся!” — волнуясь всё больше и больше, думал он, напрасно разыскивая глазами Анну Петровну: она, очевидно, вышла.
“Главное, не волнуйся”, — вспоминалась ему её фраза.
Вася чувствовал, как сердце всё быстрей и резче колотится в груди, он придерживал его рукой и делал усилие, чтобы заставить биться ровнее. Напрасно пытался он вспомнить что-нибудь из пройденного курса: в голове мелькали совсем неподходящие мысли.
Вспомнился почему-то кудлатый Шарик, который умеет стоять на двух лапках и ловить куски хлеба… заштатный дьячок Панкратыч, который всегда окликал Васю: “А, мальчик-с-пальчик!”
— Николаев! — монотонно прозвучало в зале.
Вызвали Васю.
Вася встал не сразу, кто-то сзади успел шепнуть ему:
— Тебя, слышь!
Вася вскочил и пошёл к столу очень быстро, не своей походкой, задевая за парты.
Вблизи лица экзаменаторов казались совсем другие. Симон Давыдович стоял важный, серьёзный, каким никогда не видал его Вася, но, встретившись с ним взглядом, Вася понял, что вся эта строгость для кого-то другого, а для него, для Васи, он всё такой же добрый, простой, и Васе стало так же весело, как бывало после экзаменов, сидя на его коленях.
В это время подошла Анна Петровна; Вася видел, как она незаметно улыбнулась ему, и на душе у него стало совсем спокойно и светло.
Он смело посмотрел перед собой своими большими, серыми глазами.
Толстый, лысый господин с широким, добродушным лицом стал спрашивать Васю.
Вася отвечал быстро, коротко и толково.
С первой же задачи, которую ему предложили решить в уме, он почувствовал, как необыкновенно ясно рисуется перед ним ход действия, каждая цифра до последнего знака, и это чувство радовало и волновало его.
Полный господин спросил ещё и ещё; Вася, не давая докончить вопроса, говорил уже ответ. Господин улыбался и задавал вопросы всё труднее и запутаннее.
Председатель, который говорил о чём-то с Анной Петровной, остановился и стал слушать. Несколько учителей подошло поближе. Симон Давыдович улыбался и ласкал его своими глазами. Кое-кто из публики, видимо, прислушивался тоже, нагнувшись, чтобы за шумом расслышать ответ.
— Очень хорошо, прекрасно! — сказал наконец толстый господин. — Ну, теперь скажите какое-нибудь стихотворение.
Вася начал.
Это было его любимое стихотворение, которое он часто читывал про себя и зимой в долгие, тёмные вечера, когда непонятная, мучительная тревога наполняла его душу, и летом, ночуя с лошадьми в лугах, когда, заглядевшись на ясное, звёздное небо, он отдавался весь тихим грёзам, незаметно уносившим его от уснувших товарищей, от пасущихся лошадей, от всей земли…
Ему хотелось теперь, чтобы все бросили говорить, чтобы все слушали и смотрели на него.
Никогда раньше не чувствовал так Вася ту задумчивость леса, о которой говорилось в стихотворении, грозную бурю, плач леших и ведьм, всю дивную таинственную жизнь, совершающуюся в природе. Перед ним точно впервые открывался этот далёкий сказочный мир[1].
И сам Вася преобразился. Лицо его сияло от возбуждения, большие глаза стали ещё больше, потемнели, и в них то вспыхивал, то потухал огонёк. Голову он держал высоко и смело.
Зала притихла.
Вася слышал, как один из экзаменаторов шепнул председателю:
— Что может быть выше этого?..
— Замечательный ребёнок! — громко сказал кто-то в публике.
— Ваш ученик совсем поэт, — проговорил председатель, наклонившись к Анне Петровне.
И все смотрели на него добрыми, ласковыми глазами, все улыбались ему, и Вася чувствовал, как его трепет передаётся другим.
Молодой голосок его звонко раздавался в тихой, неподвижно застывшей зале.
Эта тишина, этот подавленный шёпот одобрения вдохновлял его; каждое слово, обновлённое, согретое его внутренним огнем, как будто не исчезало в воздухе, а сразу вдыхалось всей залой.
Вася произнёс последние слова стихотворения и смолк.
Секунда молчания, и вдруг всё задвигалось, зашумело, заволновалось. Васю окружили, брали его за руки, гладили по голове, ласкали, хвалили и целовали.
Председатель подозвал его к себе и, улыбаясь, сказал:
— За твои успехи и необыкновенные способности, кроме награды, вот — на, возьми на память от меня: это моя благодарность.
И он всунул в руку Васи золотой.
Васю ещё что-то спрашивали, что-то говорили и тащили в разные стороны.
Он был как в чаду; ему хотелось обнять и поцеловать всех; хотелось и смеяться, и плакать.
А вот и Анна Петровна, теперь она такая же, как всегда; она наклоняется и говорит:
— Ну что, трусишка, а?
— Анна Петровна!.. — только мог выговорить он.
———
Отцу Васи не хотелось оставаться в городе до следующего дня, и диплом он поручил взять Анне Петровне.
Было часов двенадцать, когда они с отцом выехали из города.
Возбуждение Васи ещё не прошло, лицо его горело, в ушах звучали отрывочные фразы, которые обдавали его каким-то теплом.
Ночь была тёмная, свежая, тихая… Чудилась в ней и сила, и жизнь, и тайна ласковая, обаятельная. Тёмное поле слилось с тёмным небом, молчаливое, бесконечно-далёкое.
Рожь, скрытая от глаз, говорила что-то новое, тише и нежней; мягче шумела трава под колёсами; смелей и настойчивее ласкал ветерок; Пегашка пофыркивала, но боязливо, точно прислушиваясь к своему топоту. Вася лежал на холодной увядшей траве, от которой теперь тянул пряный запах, и с приятным трепетом вспоминал экзамен. Всё до мельчайшей подробности. Он прочёл даже стихотворение, которое его спрашивали, и всё, что пережил он, читая, загорелось в нём.
Он сжимал в кармане маленькую монету, светло улыбался, прижимался своей щекой к холодной траве и весь отдавался охватывавшему его блаженству.
Отец задремал. Согнутая фигура его казалась совсем чёрной. Вася спрятался за него от ветра.
Проехали сухую иву.
“Полдороги”, — подумал Вася и первый раз вспомнил о деревне, но сейчас же снова перед глазами засияла зала, задвигался народ…
“Как хорошо, — думал Вася, — приедет завтра Анна Петровна, привезёт диплом, я ей расскажу всё с самого начала, весь вечер”.
И ему хотелось сейчас же рассказать кому-нибудь только что пережитое.
“До завтра недолго”, — успокаивал себя он, но снова вспоминалась деревня, завтрашний сев, и становилось как-то не по себе.
Проснулся отец и громко зевнул.
— Эхма! — пробормотал он. — Спишь, Васюха?
— А?
— Спишь, мол? Завтра чуть свет подыму.
Вася молчал. Слова отца чем-то тяжёлым ложились на его сердце.
Въехали в деревню. Всё было тихо; даже собаки не лаяли.
Пегашка мотала мордой, фыркала и шла шагом. Проехали почти всю деревню и остановились около крайней избы.
Вася помог отворить ворота, распрячь лошадь; отец его повозился в конюшне и пошёл спать в избу.
Вася остался на телеге.
Ему теперь только стало ясно, что всё кончилось… И тоска, и обида на что-то подымались к горлу.
В той радости, в том волнении, которое он только что пережил, была смутная надежда, что это не конец.
Васе было горько, горько до слёз, его тянуло куда-то — он и сам не знал, куда именно, но куда-то далеко, где ещё лучше, ещё больше радости и волнений, — но этот двор, это крыльцо с чугунным умывальником в виде чайника, эти приготовленные на завтрашний день бороны — грубо и бесповоротно уничтожали всё.
Весь сегодняшний день казался чем-то далёким, совершившимся давно-давно тому назад…
Вася припал лицом к траве, и горькие детские всхлипыванья раздались в тишине ночи.
Назначение
Николай Николаевич служил в полицейском управлении второго участка города N.
Поступил он на службу, когда ему было с небольшим двадцать лет, и с тех пор сидел всё за тем же столом, против того же окна, до сорокалетнего возраста.
За это время сам Николай Николаевич, разумеется, изменился: полысел, покрылся морщинами, отпустил себе окладистую бороду, на которой с одного боку стала уже выбиваться седина, но жизнь его изо дня в день текла своим обычным порядком, не позволяя замечать даже тех внешних перемен, которые происходили в ней.
Николай Николаевич как-то не замечал движения своей жизни.
Всё, что окружало его, изменялось постепенно, точно так же, как постепенно изменялась его внешность; и точно так же, как он не замечал, что его розовые, полные щёки мало-помалу стали жёлтыми и покрылись морщинами, не замечал он и перемены начальников, смерти сослуживцев и других событий, так или иначе изменявших его жизнь.
И не то чтобы он не замечал их, но они казались ему чем-то таким логичным, неизбежным; он как бы предчувствовал их и, когда они наступали, уж не чувствовал их новизны.
Николай Николаевич почти никогда сам не вспоминал прошедшего, хотя любил послушать, как его сослуживец, пьяный и неряшливый Кривцов, рассказывал что-нибудь смешное из прошлого, которое уже давно и забылось Николаем Николаевичем.
Николай Николаевич не вспоминал о прошлом потому, что не жалел о нём: оно ничем не было лучше настоящего и ожидаемого будущего.
Стол, за которым столько лет просидел Николай Николаевич, стоял против широкого, светлого окна. Под окном была посажена молоденькая липка, успевшая вырасти в большое дерево с толстым, чёрным стволом и пахучими листьями. Николай Николаевич любил или, лучше, привык к этому дереву и к этому окну. Весной окно растворялось, молодые листья заглядывали в комнату, и Николай Николаевич, когда уставал писать, облокачивался на спинку стула и смотрел, как медленно покачивались они. Он в это время ни о чём не думал, но ему было приятно смотреть на светло-зелёные листья, которые шевелились как живые.
Липу эту посадил давно уже умерший пристав, при котором Николай Николаевич поступил на службу. Единственный, кажется, пристав, которого он помнил, — потому, может быть, что это был его первый начальник, а может быть, потому, что его особенно часто изображал Кривцов.
Пристав этот очень любил Николая Николаевича и был большой весельчак, шутник.
Николай Николаевич часто вспоминал, как, бывало, его первый начальник подойдёт в упор и огорошит вопросом:
— Почему попы покупают шляпы с широкими полями?
И не дожидаясь ответа, сквозь громкий, оглушительный хохот, наклоняясь к самому уху Николая Николаевича, добавляет:
— Потому, что даром им шляп не дают.
Хохочет пристав, хохочут и все подчинённые.
— А что будет с голубой лентой, — спрашивает он далее, — если её бросить в Ледовитый океан?
Оказывалось, что лента потонет.
В саду, кроме липы, росло много других деревьев, разведённых тем же приставом. Сад был тёмный, тенистый, в нём пели соловьи. И Николай Николаевич любил слушать их, но никогда это пение не мешало ему переписывать бумаги. Он начинал слушать только тогда, когда уставала рука. А уставала у него только рука да иногда ещё спина. Писал он механически, по навыку, образовавшемуся за долгую службу, внося разнообразие в своё писание только по требованию начальства.
— Пишите помельче, на вас бумаги не напасёшься, — говорил один пристав.
И Николай Николаевич выводил мелкие, чёткие буквы.
— Что вы бисер нижете, у вас ничего не разберёшь, пишите покрупнее, — говорил другой.
И он начинал ставить круглые, разгонистые буквы.
Через два-три дня ему всякий раз начинало казаться, что это именно его собственный почерк, и что он пишет им с самого своего поступления на службу, которое терялось в туманном прошлом, и что будет он так писать до конца своей службы.
Изредка, летом, происходил ремонт. Войдёт Николай Николаевич в заново оклеенную комнату, с чистым потолком и выкрашенным полом. Комната совсем чужая; ему как-то неловко, и чувство это забавляет его. Николай Николаевич усаживался за свой обычный стол, смотрел на липу, слушал, как поёт соловей, и через три дня уже не мог вспомнить, какие были в комнате прежние обои.
Он нигде не бывал, ему незачем было ходить в гости: со всеми сослуживцами он утром и вечером виделся на службе. Сходились обыкновенно за полчаса до присутствия и тут успевали переговорить обо всём, что интересовало их.
Кривцов обыкновенно изображал какое-нибудь начальство, умершее или существующее.
Петров донимал французским диалектом мрачного, сосредоточенного сторожа-раскольника, который обыкновенно отмалчивался и на все назойливые приставания угрюмо ворчал:
— Этого ничего я не знаю, а с истинной веры ты меня не сковырнёшь.
— Коман сова? — в упор спрашивал его Петров.
— Не сковырнёшь, говорю.
— Коман сова? — ещё настойчивее спрашивал Петров.
— Не сковырнёшь, и баста!
— Коман сова? — наступал Петров.
— Тьфу! Нехристи… — отплёвывался сторож, выходя из терпения.
После этого начинали говорить о вопросах серьёзных. О том, что Фирсов награды к Рождеству не получил; Семёнов жениться хочет на племяннице Дементьева и уже переехал на новую квартиру; у Трифонова убежала кухарка и утащила новый самовар.
А через полчаса в полиции начиналась толкотня, приходили дворники, кухарки, ночные сторожа.
За длинными столами скрипели перья, и Николай Николаевич, наклонив набок свою бородатую голову, выводил мелкие или крупные буквы, сообразно с тем, кто был в данный момент начальником.
Почти вся жизнь Николая Николаевича проходила на службе. Дома он ночевал, пил утренний чай, обедал и спал после обеда.
Больше десяти лет жил он на одной и той же квартире у Аграфены Ивановны, которая при нём овдовела, оставшись с двумя маленькими детьми, Машей и Колей; при нём же дети подросли и стали ходить в школу; при нём же и Аграфена Ивановна из цветущей проворной женщины превратилась в усталую осунувшуюся старуху.
Кроме Николая Николаевича, у неё было ещё несколько жильцов-приказчиков, но те часто менялись, и один только Николай Николаевич был как свой человек.
Он сжился со стенами низенького домика, где жила Аграфена Ивановна, со своей комнатой, с палисадником, в котором росли тонкие вишни, с болезненными и молчаливыми ребятишками Аграфены Ивановны, и точно так же не мог себе представить другой квартиры и обстановки, в которой ему пришлось бы жить, как у самого себя — другой физиономии.
Всё, что окружало его, органически срослось с ним и изменялось лишь вместе с ним.
Выходя утром пить чай, Николай Николаевич уже знал, что он увидит на столе налитой стакан чаю и обычную “подковку”, обсыпанную маком.
За обедом Аграфена Ивановна расскажет ему что-нибудь о своём хозяйстве, а за вечерним чаем Николай Николаевич расскажет ей какой-нибудь случай из своей полицейской жизни.
— Старуха у нас живёт, — рассказывает он, — на улице подняли, думали, пьяная, а она немая ли, сумасшедшая ли, Бог её знает… Выпустят её из полиции, выйдет и ляжет… что ты будешь делать? Так три месяца и живёт.
— Три месяца! — удивляется Аграфена Ивановна.
— Три месяца. Так и живёт…
По праздникам Николай Николаевич ходил гулять, один или с Аграфеной Ивановной; и редко-редко когда заходил к кому-нибудь в гости.
В гостях он чувствовал себя неловко. Чужая жизнь, чужая обстановка, чужие интересы неприятно действовали на него. Он приходил в какое-то беспокойство, был молчалив, неловок и старался поскорее выбраться домой.
В этот день он испытывал особенное удовольствие при виде знакомых стен, знакомого самовара, у которого одна сторона была немного вдавлена, и засиживался с Аграфеной Ивановной дольше обыкновенного.
Так однообразно, изо дня в день текла маленькая, серенькая жизнь Николая Николаевича.
Он не был доволен ею, но не чувствовал и неудовольствия. В нём никогда не возникала мысль о том, что он, большая ли, маленькая, но самостоятельная единица. Он чувствовал себя всегда плюс полиция, плюс стол, за которым он работает, плюс начальник, который ему приказывает, и всякий раз, когда ему приходилось отрываться от этих плюсов, он испытывал болезненное ощущение беспомощности.
Однообразные серенькие дни слились у него в какую-то сплошную прямую линию, один конец которой терялся в прошлом, а другой убегал в будущее.
Когда-то в молодости у Николая Николаевича было нечто вроде романа, именно вроде, потому что героиня его была очень пожилая женщина, которая покорила Николая Николаевича своей скромностью и умением вести хозяйство. Но выйти замуж за него она не пожелала; Николай Николаевич съехал с квартиры и забыл о ней.
Будничные, серенькие дни Николая Николаевича, наполненные тысячью повторяющихся мелочей, равномерно зачем-то шли вперёд, никогда не возбуждая в нём протеста против своего однообразия, против своей жестокой закономерности, никогда не возбуждая вопроса, зачем идут они и почему идут так, а не иначе.
Он жил, лысел, старился и зачем-то всё жил и жил — где-то в сторонке, где-то в полутёмном переулке, далеко от жизни большого города.
Та, другая жизнь и не манила его, и не отталкивала — он просто не знал её или не хотел знать. И каждый раз, гуляя по шумным улицам, он чувствовал себя чужим, но не одиноким, как будто вместе с ним двигалось всё то, что окружало его и составляло его жизнь.
Кто знает, может быть, Николай Николаевич так и умер бы, ни разу не выбившись из своей узкой колеи, с гордым сознанием, что он хорошо и спокойно прожил свой век, — но случилось одно очень незначительное обстоятельство…
———
Была весна.
После целой недели проливных дождей погода сразу переменилась, небо стало синим, как будто нарисованным, деревья зазеленели нежной, почти жёлтой листвой; мостовые обсохли, на улицах закипела жизнь; всё стало ярче, моложе, нарядней…
Пришлось это как раз в праздник.
Николаю Николаевичу тоже надоели дожди, и он с особенным удовольствием отправился гулять.
Шёл он медленно, не торопясь, останавливаясь у витрин магазинов, особенно у фотографических, хотя карточки были выставлены давно и он помнил все лица.
Доходя до первого переулка, он обыкновенно сворачивал, так как не любил толкотни, но на этот раз прошёл несколько дальше и свернул не направо, а налево. Там было больше зелени, по немощёной улице идти было мягче. С шумной “главной” улицы доносился весёлый гул, но он становился всё тише и тише… Народу никого не было. Безжизненно и пусто было кругом. Непосредственно после шума и жизни эта тишина неприятно подействовала даже на Николая Николаевича. Он постоял, послушал и повернул назад. Вдали опять зашумел город. Всё сильней и сильней. Николай Николаевич почувствовал что-то неприятное от этого растущего шума и хотел опять идти переулком, но в это время мимо него, по направлению к главной улице, прошла парочка.
Это были гимназист и гимназистка.
Гимназистка несла в руке какую-то папку, которой она размахивала и слегка даже задела Николая Николаевича.
Они громко говорили о чём-то, хохотали. Гимназистка от хохота даже останавливалась и вся подавалась вперёд. Было слышно одно только слово: “привидение!”.
Николаю Николаевичу вдруг, почему-то, стало любопытно знать, о чём они разговаривают. И он, не давая себе отчета, быстро пошёл вслед за ними.
Он так привык, что всё совершалось “как нужно”, что сначала и в этом любопытстве не заметил ничего особенного. Раньше никогда не казалось любопытным, что говорят прохожие, а теперь стало — вот и всё.
Гимназист и гимназистка вышли на главную улицу и повернули влево. Николай Николаевич пошёл за ними.
Они по-прежнему весело болтали, не обращая на него никакого внимания.
Не совсем ещё длинное форменное платье гимназистки ловко обхватывало её тоненькую полудетскую фигурку. Тёмные волосы выбились из-под соломенной шляпы и закрывали уши. Она почти не поворачивала головы, и Николаю Николаевичу был виден только край розовой щеки, на которой от солнца золотился пушок.
Гимназист повернулся почти в профиль: лицо у него было молодое, улыбающееся, худощавое, но энергичное и смелое.
Николай Николаевич совершенно не мог разобрать, о чём они говорили, но, когда гимназистка смеялась и отворачивалась от своего собеседника, — а Николай Николаевич видел, как вздрагивала от смеха её щека, — он тоже улыбался и бессознательно вытягивал шею, как будто желая заглянуть им обоим в лицо.
Они перешли на другую сторону. Гимназистка почти перебежала, чтобы не попасть под лошадь, и стоя на другой стороне, улыбалась и ждала своего кавалера.
Николай Николаевич так обрадовался, увидав её лицо, точно оно заключало в себе что-то очень нужное и важное для него; даже сердце забилось как-то непривычно, быстро, но приятно, так что он остановился, а потом тоже почти бегом перебежал улицу.
На этой стороне народу было меньше, и Николай Николаевич мог ближе идти за ними и слушать.
— Вы с нами поедете? — спросила гимназистка, повернувшись лицом к своему кавалеру. Она улыбалась и готова была смеяться.
— Нет, не поеду, — отвечал он. Но лицо его так и сияло, так и улыбалось навстречу ей.
Она удерживалась, чтобы не смеяться, и щурилась от солнца:
— Ну, хорошо, я Лукашевича приглашу.
— А я — Нину Ивановну.
Это, очевидно, было страшно смешно, потому что оба они так и прыснули.
— Мы до завода поедем.
— Кто “мы”?
— Я и Лукашевич.
И оба они опять смеялись, глядя в сияющие глаза друг другу.
— А мы до мельницы, — сказал гимназист.
— Кто “мы?” — со смехом передразнила она, махая папкой и задевая его.
— Я и Нина Ивановна.
И снова хохотали они звонко и радостно.
Николай Николаевич, осторожно ступая, шёл сзади них.
Когда улыбались они — улыбался и он, когда они смеялись — он тоже смеялся, тихо, неслышно, закрываясь рукой.
Ему было тоже очень смешно, что вдруг гимназист поедет с Ниной Ивановной, а она с Лукашевичем; и ему было так хорошо на душе, потому что он тоже отлично знал, что этого никогда не будет и что они поедут вместе, будут переглядываться и смеяться до упаду, вспоминая свой теперешний разговор, возбуждая общее недоумение.
Вдруг гимназистка остановилась около подъезда.
— Спасибо. Прощайте, — сказала она.
Николай Николаевич сразу не понял, в чём дело, и так растерялся, что тоже остановился.
Он как-то не думал, что они могут уйти от него, и так скоро. Ему жалко и тяжело стало расставаться с ними.
Он прошёл немного, но вернулся назад, чтобы ещё хоть раз пройти мимо них.
А они всё ещё стояли, держа друг друга за руку.
— Я теперь догадался, кто вам сказал, — говорил он.
— Честное слово, нет… я сама узнала. На кого вы думаете?
— Я не скажу.
— Вы не знаете, — смеясь, говорила она, не отнимая своей руки.
— Нет, знаю. Хотите, скажу?
— Ну, скажите.
— А если верно, вы скажете, что “да”?
— Скажу.
— Честное слово?
Дальше Николай Николаевич не слыхал. Когда он оглянулся, гимназистка уже вбежала по каменной лесенке и захлопывала за собой дверь.
Гимназист пошёл обратно. Проходя мимо Николая Николаевича, он мельком взглянул на него. Лицо гимназиста уже не улыбалось, но было радостное и возбуждённое.
А Николай Николаевич ещё несколько раз прошёл мимо этого подъезда, посмотрел на коричневую дверь и, быть может, в первый раз за всю свою жизнь почувствовал себя среди идущей и едущей толпы не только чужим, но и одиноким.
Ему было как-то и странно, и обидно, что жили эти гимназист и гимназистка до сих пор, и он ничего не знал о них. Где-нибудь они познакомились, каждый день виделись, разговаривали, смеялись, и теперь будут видеться, пойдут на лодки, и всё это без Николая Николаевича, и нет им до Николая Николаевича никакого дела. Они даже не заметили его.
Глядя на дом, в который ушла гимназистка, он необыкновенно ясно представлял себе, как она пришла, бросила папку, как она теперь сидит, разговаривает. Это ощущение чужой жизни и как бы участие в ней было до такой степени ново и непривычно для Николая Николаевича, что он как-то преобразился весь.
Сосредоточенный, низко наклонив голову, ходил он около крыльца, точно дожидаясь чего-то. Как будто здесь именно он мог получить разрешение своих недоумений и покой от тех чувств, которые всколыхнулись в нём, когда он не только узнал, но и сердцем почувствовал, что есть другая, совсем особенная жизнь, к которой он, Николай Николаевич, не имеет никакого отношения.
Он был не только поражён, но и подавлен мыслью, что до сих пор никогда ему не приходило в голову, как живут все те тысячи людей, которых он встречал на своих прогулках; и что такое его жизнь у Аграфены Ивановны в сравнении с их жизнью? Так ли они живут? И зачем, наконец, нужна его маленькая жизнь, когда кругом никто не знает о ней и все живут по-своему, не обращая на него никакого внимания?
Последний вопрос совершенно ошеломил Николая Николаевича.
Быстро, но с непривычки неуклюже неслись в голове его мысли. Это были даже не мысли, а ряд тяжёлых, странных и мучительных вопросов, которые ещё больше заставляли Николая Николаевича чувствовать, что он остался на улице совершенно один, что его никто не знает, что нет до него никому никакого дела, что гимназистка совсем чужая ему, и что жизнь его там, у Аграфены Ивановны и в канцелярии, вместе со всей полицией, совершается где-то не здесь, в этом шумном городе, а далеко-далеко отсюда, и что Николай Николаевич никогда не знал этого.
Медленно, весь отдавшись своим новым открытиям, шёл он, но не домой, а дальше, вдоль главной улицы. Ему хотелось уйти куда-нибудь, но не как раньше, чтобы его не задевала окружающая жизнь, а так, чтобы где-нибудь, в стороне и от своей, и от чужой жизни, решить наконец, что же с ним случилось и что он узнал.
Он свернул с главной улицы и пошёл в городской сад.
В городском саду всё зеленело и было полно пробуждающейся жизни.
Мягкая, густая трава, яркие жёлтые цветы, молоденькие кустики с такими же молоденькими, остренькими листиками, тоненькие берёзки, ослепительно-белые, точно вымытые дождём, коренастые дубы, едва распустившие красноватые почки, нарядные и благоухающие тополя, жёлтые, залитые солнцем дорожки — всё это слилось во что-то одно целое, свежее, яркое и молодое.
Птицы щебетали наперебой друг перед дружкой; слышались и трели, и свист, и щёлканье, — все пели по-разному; но и в пении их слышалось что-то одно, общее, до того радостное, даже ликующее, что казалось, и солнце потому светило так радостно и тепло.
И солнце, и сад, и тысячи поющих на разные лады птиц — всё жило одной радостной жизнью, всюду была весна!
Только что вошёл Николай Николаевич в сад, как его окрикнул Кривцов:
— Эй, Николай-чудотворец, гуляешь, а? Весна-то, брат!.. Пойдём, выпьем.
В первый момент, при звуке знакомого голоса, Николай Николаевич почувствовал совершенно такое же чувство досады, какое он испытывал раньше в гостях, когда чужая жизнь пыталась ворваться в его жизнь, но потом ему стало приятно. Знакомая, смешная фигура Кривцова и всё, что с ней было связано, быстро охватило его своей привычной атмосферой.
— Ты куда же? — спросил он Кривцова.
— В кабак… Весну встречаю. Ну, день! Сверхъестественный день! Пойдём, право, выпьем? Был уже один Николай святой — будет, — смеясь, сказал он, скаля зубы и передразнивая околоточного Буракова.
Николай Николаевич почувствовал такую близость к Кривцову, и так ему хорошо было с ним, что он хотел уже согласиться с ним пройтись, как вдруг Кривцов сказал:
— Знаешь новость?
— Какую новость? — встревожился Николай Николаевич.
— Фирсова переводят в Т.
— Как переводят? Зачем?
— Повышение, брат, — становым назначили… Пойдём, выпьем. Весна, птицы поют, Фирсова переводят, право!.. А почему, когда идёт дождь, все распускают зонты?
Кривцов быстро надулся, вытаращил глаза и растопырил руки.
Но Николай Николаевич не заметил шутки.
С ним произошло что-то странное. Когда Кривцов сказал о назначении Фирсова, он быстро вспомнил сегодняшнюю молодую парочку, и ему показалось, что между тем и другим есть какая-то связь… Он не думал этого, а, скорее, почувствовал, и ему стало страшно-страшно, как будто вот-вот должно что-то случиться невероятное, нелепое, против чего он, Николай Николаевич, ничего не может сделать.
— Так его переводят? — сказал он, чтобы сказать что-нибудь.
— Да, брат, переводят. Десять лет служил, всё время на одной и той же квартире жил, и вдруг тащись Бог знает зачем! А он, чудак, прыгает от радости, как заяц. С радости запил, говорят. Так пойдём, что ли, а?
— Нет, я погуляю, — задумчиво сказал Николай Николаевич. — Погуляю, — повторил он.
— Ты сегодня чудной какой-то, точно подстреленный тетерев. Ну, прощай, а я, брат, сегодня лихо… Завтра службу к чорту! — и он, поправляя накинутое пальто, которое съехало с одного плеча, посвистывая, пошёл к выходу.
Так называемый “городской сад” больше был похож на парк или даже на лес. В самом начале его были ещё понаделаны дорожки, скамейки, кое-где посажены цветы, но дальше, за оврагом, начинался уже настоящий лес, который безо всякого забора крутым обрывом спускался к реке. Около этого обрыва тоже была сделана скамейка, потому что сюда часто ходили смотреть на открывавшийся вид.
На первом плане была река, не широкая, но глубокая и быстрая.
Резкими зигзагами обвивала она город, то глубоко врезываясь в него, то, словно испугавшись, убегая и прижимаясь к обрыву сада. Дальше начинался город. Он возвышался полукруглым амфитеатром и был похож на крепость, каменную и немую, которая вся, без стеснения, сознавая свою силу, открывалась перед взором.
Мелкие, по преимуществу белые дома плотно-плотно жались один к другому, издали сливаясь в сплошные, полукругом идущие линии. Садов почти не было видно, они были на другой стороне.
Много народу смотрело отсюда на город, и обыкновенно все задумывались. Город производил впечатление чего-то сурового, враждебного и чужого. Не верилось, что именно здесь живут так хорошо знакомые Иван Иванович и Анна Ивановна, что в этом большом целом происходят все так хорошо знакомые мелочи. Город казался торжественным и важным.
А вечером, когда зажигались огни, он был страшен своей темнотой, едва белеющей громадой, тысячью огней, угрюмо и пристально смотрящих из темноты, и каким-то бледным, мерцающим светом, который разливался под ним.
Река была видна только около самого сада, и казалось тогда, будто она, испуганная и слабая, близко-близко прижимается к обрыву, испугавшись тёмного города…
Николай Николаевич не любил этого обрыва, но теперь его тянуло к нему. Он дошёл до скамейки, сел и даже с любопытством стал всматриваться в даль.
Новым, как и всё сегодня, казалось ему то, что он видел.
Он ни о чём определённом не думал, но в нём, в глубине души, что-то происходило, сложное, большое… Оно всё сильней и сильней наполняло его, и он уже не противился, а отдавался весь этому растущему чувству — слабый, сгорбленный, не привыкший ни о чём рассуждать или думать…
Он посмотрел на реку и вдруг вспомнил гимназистку. И не только вспомнил, а увидал её всю, какая она есть: в коричневом полудетском платье, в соломенной шляпе, с выбившимися волосами, с папкой в руках, которой она задевала гимназиста, и с розовой, дрожащей от смеха щекой.
Николай Николаевич стал мечтать — мечтать или даже фантазировать, как мечтают и фантазируют только очень молодые люди и как он не фантазировал никогда во всю свою жизнь. Этот новый, неожиданный процесс, возможность которого он не подозревал не только у себя, но и вообще у кого бы то ни было из людей, так захватил его, что уж ничего не видал он перед собой: и речка, и город слились в какое-то сплошное расплывшееся пятно. Сердце резко, до боли сильно колотилось в груди, а он напряжённо, задыхаясь, следил, как странные, невероятные вещи представляются ему. Он следил за ними, как будто не он сам представлял себе всё это, а кто-то другой показывал ему.
Ему представлялось, что гимназистка не чужая ему, а что это его родная, собственная дочь, но что она гораздо моложе, носит совсем коротенькое платье, не учится в гимназии, что шляпа у ней с длинными лентами и что она, такая же весёлая, улыбающаяся, с тёмными, пышными волосами, бегает по берегу реки и рвёт цветы. А он, Николай Николаевич, идёт сзади под руку со своей женой. Он боится, чтобы дочка не замочила ног, а та нарочно близко-близко подбегает к воде, которая почти касается её.
Река эта не здесь, и город не такой большой и страшный, где столько чужих, где каждый живёт своей особенной жизнью.
Эта река и город где-то очень далеко. Николай Николаевич никогда и не видал таких рек. Она — широкая, тихая. А город — маленький, с тремя церквами и весь расположен по её берегам.
Николай Николаевич пришёл в себя и тяжело вздохнул.
“Господи, что это со мной?” — подумал он.
Нервная дрожь пробегала по его телу. Ему было холодно. Кружилась голова.
И ему уже хотелось вернуться назад, ни о чём подобном не думать, как раньше, успокоиться и жить изо дня в день по привычке… Он делал страшные усилия вспомнить своих товарищей, свою низенькую комнату. Но деревья, на которые он смотрел, расплывались, уходили куда-то в сторону, и перед ним прыгала маленькая, совсем маленькая девочка, очень похожая на гимназистку. Она лепетала что-то непонятное слабеньким детским голоском, шлёпала пухленькими, кругленькими ручками и тянулась к нему.
У Николая Николаевича сердце замирало в груди; ему чудилось, что всё это наяву. И нежное, непривычное чувство охватывало его к этой слабенькой, начинающейся жизни. Хотелось ему качать её; высоко-высоко поднять её на своих руках, прижаться к ней, к тёпленькой, маленькой, всей своей грудью и лицом…
И казалось ему, что она на его руках, что она гладит ему бороду и лицо и заливается-смеётся беззубым ротиком.
Николай Николаевич опять спохватился.
“Да что же это такое, наконец? Откуда это?.. А всё это могло быть”, — весь проникнутый новой жизнью, подумал он. “Может быть, и будет?” — неожиданно промелькнуло у него в голове.
Раньше он мечтал, переживая мучительное болезненное чувство, которое терзало его. Он видел свою дочку, как видел бы её, если б она умерла и он стал вспоминать о ней. Теперь он стал фантазировать радостно, охотно отдаваясь своим мечтам.
“Вдруг меня назначат в какой-нибудь уездный город, — мечтал он, — встречусь я с какой-нибудь девушкой. Она меня полюбит. Любят же других. Начнётся у меня новая, совсем новая жизнь…”
Николай Николаевич всем своим существом чувствовал эту новую жизнь.
Уставшему от серого однообразия жизни, почти старому человеку так хотелось этого нового, молодого счастья, о котором ещё никогда не мечтал он. Рисовался ему и удобный домик с садом, и всё хозяйство, и дочка, и хорошие знакомые люди. Хотелось ему увидать около себя не женщину, а любящую и жалеющую его жену, чтобы знал он, хоть раз в жизни, что кому-то не безразлично — ушёл он или нет, болен он или здоров, что есть человек, который живёт с ним одной жизнью, радуется и страдает вместе с ним, что он не одинок.
“Разве это так невозможно? — снова думал Николай Николаевич. — Только бы назначили куда-нибудь в другой город. Назначили же Фирсова…”
И ему всё возможней и возможней казалось такое назначение.
Тогда он начал с особенным удовольствием представлять себе каждую мелочь своей новой жизни. Все эти мелочи были так очевидны, так близки и так возможны, что назначение, от которого всё это зависело, начинало казаться ему не только возможным, но неизбежным.
Весь взволнованный, с трясущимися руками, встал Николай Николаевич и пошёл вглубь сада.
“После обеда я буду ходить гулять, — думал он, — а не спать, как теперь. Заведу собаку, буду охотиться: стрелять очень легко можно выучиться. Летом буду приглашать к себе Кривцова”.
Внимание его чем-нибудь отвлекалось; он видел тогда, что идёт по городскому саду, в котором бывал почти каждое воскресенье в течение семнадцати лет, и скорее снова спешил отдаться мечтам.
— Ведь назначение обязательно будет, — почти вслух говорил он, быстро идя по дорожке. — Не может быть, чтобы всё это не сделалось.
И назначение придвигалось всё больше. Николаю Николаевичу казалось, что вот он придёт домой и найдёт бумагу. Насчёт Фирсова вышла ошибка, это Николай Николаевич назначен становым приставом, так как он дольше его служит и числится самым исправным чиновником.
— За семнадцать лет я месяца не пропустил и никогда не брал отпуска.
И тут же подумал: “А вдруг назначения не будет?”
— Да будет же, будет! — с отчаянием, трясясь как в лихорадке, твердил он.
И ему хотелось сделать что-нибудь такое, что бы окончательно прогнало сомнение и заставило поверить, что назначение будет.
— Ведь оно будет, нужно только не мучиться, покуда оно не пришло.
Это “покуда” страшно обрадовало Николая Николаевича.
— Покудова, именно покудова! Но потом оно придёт, непременно придёт.
Навстречу Николаю Николаевичу опять показался Кривцов. Пальто его совсем сползло. Он был пьян и сильно пошатывался.
Николай Николаевич почти побежал ему навстречу. Ему хотелось сейчас же рассказать всё, что он пережил и передумал.
— А, Николай-угодник! — улыбался ему навстречу Кривцов. — Выпьем, брат… Право…
— Выпьем, — согласился Николай Николаевич, тряся его руку.
— Правда?.. — уставился на него Кривцов, удивлённый необычным ответом.
— Разумеется… Я, брат, назначение получаю… я, понимаешь… приставом…
Николай Николаевич задыхался. Кривцов вытаращил глаза:
— Ты?.. Врёшь!…
— Верно… Честное слово… Выпьем? Напьёмся с радости…
— Что ж это ты давеча не того, брат?..
— Нарочно я, понимаешь… Честное слово… Ну, выпьем!..
— Выпьем… Конечно… Уррра!… — заорал Кривцов: — Николка, брат… Семнадцать лет вместе были… расстанемся, значит… Ну, чорт с тобой… Семнадцать лет… А я опять останусь… Пить буду… Весна… Жизнь, брат… Эх, брат, Николка!..
— Идём, идём, — торопил Николай Николаевич и тянул его за рукав.
— Идём, верно… Семнадцать лет, брат… это… это целая жизнь!..
———
Николай Николаевич два дня не ночевал дома.
Аграфена Ивановна сначала перепугалась, не случилось ли с ним какое-нибудь несчастие, но потом пошла в полицию и узнала, что он запил.
В первый момент это её поразило как совершенная неожиданность, но потом, не вдаваясь в исследование, почему произошло такое необыкновенное явление, она, тоже привыкнувшая, что если что-нибудь случается, то, значит, так и нужно, покорно помирилась с фактом.
Каждый день накрывала она прибор и ждала своего жильца к чаю, к обеду и к ужину.
На третий день, только что все поужинали и Аграфена Ивановна убрала со стола, оставив один накрытый прибор, в стеклянную входную дверь с улицы постучались.
Аграфена Ивановна с лампой в руках пошла отворять.
Это был Николай Николаевич.
Когда дверь распахнулась, Аграфена Ивановна при свете лампы увидала около крыльца телегу, возле которой возилась чья-то тёмная фигура.
— Чья это лошадь-то? — спросила она, запирая дверь.
Николай Николаевич молчал и тяжело отдувался, снимая пальто.
Он разделся и пошёл в столовую. При входе в неё он сильно покачнулся, но удержался за край стола и грузно сел на стул.
Аграфена Ивановна молча поставила на стол лампу и села против него.
Николая Николаевича трудно было узнать. Он был грязный, растрёпанный. Галстук развязался, и измятая манишка наполовину расстегнулась. На одной щеке было круглое синее пятно, отчего глаз стал больше и смотрел как-то необычно серьёзно.
— Батюшка, Николай Николаевич, что это с вами, — проговорила Аграфена Ивановна, с любопытством и внутренней тревогой осматривая его, — я уж думала, несчастие какое не случилось ли. В полицию бегала.
Он молчал и в упор смотрел на неё.
— Ужинать будете, Николай Николаевич?
— До свидания, — тихо сказал он.
— Поужинаете, выспитесь, и пройдёт всё.
— До свидания!.. — угрюмо повторил он.
— Что вы, Николай Николаевич, Господь с вами!
— Уезжаю я… Прощайте, Аграфена Ивановна.
— Уезжаете! Куда? Господи, помилуй…
— В Берёзово… Переводят… Спасибо вам за всё, спасибо, Аграфена Ивановна, за всё… Лихом меня не помяните… Здоровы будьте.
— Повышение, значит?
— Да… Секретарём полиции… Хорошенький городок, маленький, всего десять тысяч жителей… Речка… Весело будет…
И он тихо засмеялся, а из глаз его по осунувшимся щекам побежали слёзы.
Теперь Николай Николаевич уже не мог верить собственной своей лжи, как в городском саду при разговоре с Кривцовым. За эти дни непривычного пьянства он чувствовал, что эта мечта, делавшая его счастливым, бесповоротно ускользает от него. И чем яснее сознавал он это, тем дальше шёл в своих желаниях поддержать иллюзии. Он сходил на постоялый двор, нанял ломовика увезти вещи от Аграфены Ивановны, чтобы всё было так, как он сделал бы, если бы получил настоящее назначение. Это было последнее, самое крайнее средство ещё хоть на один миг сделать мечту действительностью. Что будет дальше — он не хотел думать.
Аграфена Ивановна сидела опустив руки.
Налетало это так неожиданно. Она, как и Николай Николаевич, привыкла, чтобы жизнь шла по определённому руслу, и теперь сразу не умела сообразить, что такое происходит. Она чувствовала себя беззащитной и слабой, как не чувствовала себя давно, со времени смерти своего мужа.
— Ужинать-то будете? — сказала она, торопливо вставая.
— Спасибо… Не буду я, вещи помогите вынести… к Кривцову свезу… Сегодня уезжаю я…
Они помолчали.
За окном фыркала лошадь. Через полуотворённую дверь было слышно, как в кухне возились ребятишки.
— Нет, мне начинать, — говорил Коля.
— Ты уронил мячик, уронил, — спорила с ним сестра.
Николай Николаевич встал и пошёл в свою комнату. Аграфена Ивановна тихо пошла за ним помогать уложить вещи. Оба они молчали и были сосредоточены. Аграфена Ивановна аккуратно укладывала всякую мелочь, чтобы ничего не разбилось и не испортилось. В полчаса совершенно разорили они маленькую комнатку. Странный, непривычный вид приняла она — точно состарилась.
— Выносить? — спросила Аграфена Ивановна.
Николай Николаевич молча взял подушки и понёс их в прихожую. Аграфена Ивановна взяла остальное.
В прихожей Николай Николаевич надел пальто. Потом вошёл в столовую и снова сел.
— Прощайте, Аграфена Ивановна, — сказал он, — теперь навсегда… может, никогда не увидимся!..
— Кто знает… — вздохнула Аграфена Ивановна, — может, и придёте как-нибудь.
— Прощайте… лихом не поминайте…
Слёзы уже не текли по щекам Николая Николаевича, они капали тяжёлыми каплями на его руки и бороду.
— Привык я, — заговорил он, глотая слёзы и трясущейся рукой утирая лицо, — привык… Десять лет жили душа в душу… родные мне все… Ну, прощайте, — решительно сказал он, вставая. — Жалко мне… всех вас, и комнатку, и “подковку”, — почти шёпотом добавил Николай Николаевич.
Из кухни вышли Маша с Колей.
— А! детки!.. прощайте, голубчики. Николку будете помнить? Милые… прощайте… Несчастный я! — вдруг почти крикнул он.
И подойдя к Аграфене Ивановне, взял её за плечи, хотел нагнуться, чтобы поцеловать её, но вместо этого прижался головой к ней и стал рыдать, трясясь всем своим костлявым телом.
— Николай Николаевич, дорогой, полно, что это?.. Вы назначение получаете, радоваться надо. Новых людей найдёте… Привыкнете снова, — сквозь слёзы говорила Аграфена Ивановна.
— Голубушка… несчастный я… — лепетал он, судорожно прижимаясь к ней, — голубушка, Аграфена Ивановна… жаль, родная моя… не могу я…
Дети с недоумением смотрели на Николая Николаевича; из-за двери выглянул другой жилец, молодой приказчик; с улицы к тёмному окну прижималось широкое лицо извозчика: ему, видно, наскучило ждать.
Николай Николаевич сразу притих. Поцеловал Аграфену Ивановну, обоих детей. Молча взял шляпу и, сильно шатаясь, отворил входную дверь. Аграфена Ивановна с лампой вышла на крыльцо провожать его.
Вещи уложили на телегу. Николай Николаевич сел на задок.
— Прощайте, Николай Николаевич, спасибо вам, — сказала Аграфена Ивановна.
Он ничего не ответил.
— А то остались бы, ужинали…
Телега, поскрипывая, медленно задребезжала по двору.
Аграфена Ивановна постояла на крыльце, покуда сторож не затворил ворота, потом заперла дверь, прошла в пустую комнату Николая Николаевича и отворила окно.
Долго сидела она там, подавленная тяжёлой, тёмной, непонятной для неё силой.
И за окном было темно и тихо.
———
Через месяц Николай Николаевич снова поселился у Аграфены Ивановны.
В полиции никто, кроме Кривцова, не знал об его приключении.
Но Кривцов, любивший посмеяться и позубоскалить, ни разу не напомнил ему этого случая.
Сам Николай Николаевич, сидя за своим столом у открытого окна, часто задумывался о том, что такое произошло с ним, и никак не мог понять этого. И всякий раз, глядя на качающуюся ветку липы, он испытывал какое-то странное, тревожное чувство.
“Как-то фантастически всё является”, — думал он, ниже нагибаясь над бумагой и особенно старательно выводя мелкие или крупные буквы…
Свенцицкий В. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2008. С. 486–508.
Сказка для детей старшего возраста
В аду был тревожный день:
Дьявол заскучал…
Призвал заведующего пеклом. Распёк его на чём свет стоит. Посадил в тартарары мелких чертенят, подвернувшихся под руку. Не принял очень важного чорта, только что вернувшегося с Луны, куда был послан по важному поручению. И объявил, чтобы в первую же полночь весь ад собрался перед его очи, так как он, Дьявол, заскучал и решил держать речь ко всему великому царству преисподней.
Уже с 11 часов в приёмный зал, расположенный в самом центре пекла, начали собираться трепещущие черти.
Каких, каких тут только не было!
Мохнатые, с поседевшими сивыми хребтами. Молодые, щеголеватые, подстриженные по последней моде. Солидные, упитанные — и поджарые. Были и совсем маленькие бесенята, шмыгавшие туда и сюда, юркие, проворные, с хвостиками, закрученными кренделем…
Шум, говор, лязг зубов — на этот раз отличался какой-то особенной сдержанностью. Все чувствовали, что надвигаются события величайшей важности.
Громадная огненно-красная зала пекла была битком набита чертями всех возрастов, рангов и состояний, — когда ровно в полночь отворилась громадная дверь из раскалённого чугуна и из неё вышел Дьявол.
Усталым скучающим взглядом обвёл он собравшихся. Сел на пылающий огнями трон и в гробовой тишине раздался его внятный голос:
— Я собрал вас сюда по делу, не требующему отлагательств. Вот уже три дня, как появилась во мне нестерпимая скука. Я пробовал развеселить себя всеми средствами, имеющимися в моём распоряжении. Но скука не проходит. Тогда я решился на меру чрезвычайную. Собрать весь ад. И обратиться к вам, мои верные слуги, с вопросом: пусть каждый придумает средство прогнать мою скуку.
Дьявол смолк.
Боялись дышать верные слуги.
Долго длилось молчание. Скучающим усталым взором смотрел перед собой повелитель преисподней.
— Я жду! — тихо, но зловеще наконец проговорил он.
И вот, дрожа, как в лихорадке выступил один из самых старых, совершенно сивый, косматый Чорт и сказал:
— Повелитель!.. Не гневайся!.. Скука твоя от безделья! Ты все дела поручил чертям. Они бегают по всему миру. Соблазняют. Борются. Творят всяческие пакости. Им весело. А ты никогда не выходишь из своего пекла. Поверь старику. Если бы ты прогулялся по вселенной. Посмотрел бы, что делается на свете. Сам бы попробовал соблазнить какую-нибудь душу. Ты развеселился бы и скука твоя прошла…
Речь Сивого Чорта была неслыханно дерзка. Он осмелился как бы осуждать Дьявола. Все ждали страшной, неистовой вспышки гнева.
Но Дьявол молчал в глубокой задумчивости.
Молчали и верные слуги.
— Куда же идти?..— Не то с недоумением, не то с горечью спросил Дьявол.
— Осмелюсь сказать тебе, повелитель, — уже смелее проговорил Сивый Чорт, — что самое интересное сейчас происходит на планете Марс.
— А что там?
— Война.
— Война?.. Что же тут интересного!.. Война всегда приносит нам больше огорчений, чем веселья. Разве ты не знаешь, что во время войны ни за что ни про что души делаются праведными и впускаются в рай…
— Но тыл! Не забывай об этом, повелитель!
Дьявол тоскливо махнул рукой и проговорил:
— Старо! Скучно!
И опять воцарилось молчание.
И вдруг совершенно неожиданно протискался вперёд чорт средних лет, тонкий и юркий. Все с любопытством вытянули шеи и ждали, что будет.
Чорт, выступивший вперёд, не был из числа очень заслуженных — и невольно являлся вопрос: “Что-то скажет самонадеянная выскочка?”
— Повелитель, — сказал чорт, — пошли меня на Марс.
Ад так и вздрогнул. Гул общего изумления пронёсся по всему пеклу.
Казалось, и сам Дьявол был изумлён не меньше остальных.
— Зачем? — спросил он хмурясь.
— Я развеселю тебя.
Опять волна ещё большего изумления пронеслась по рядам верных слуг.
— Но каким образом? — возвысил голос Дьявол, явно начиная сердиться.
— Очень просто, — не моргнув глазом отвечал смелый чорт: — я заставлю людей на Марсе прекратить войну.
— Что же тут весёлого! — вспыхнул Дьявол.
Тогда ловкий чорт, нисколько не пугаясь и с лукавой улыбкой, наклонился к повелителю:
— Если война вызывает в тебе скуку, — сказал он, скаля острые зубы, — тогда прекращение её должно вызвать веселье… Не так ли? Ведь веселье — это прекращение скуки? Разве я не прав?
Дьявол молчал секунду и вдруг раскрыл пасть и начал хохотать.
— Ха, ха, ха! — неслось по пеклу. — Как ты глуп!.. Как ты страшно глуп!.. Это же… фи-ло-софия… Ха, ха, ха!.. Нет, ты… положительно… великолепен… Война — скука… Нет войны — нет скуки!.. Ха-ха-ха!..
Хохотал Дьявол. Хохотали верные слуги. Трясся от хохота ад.
— Дать ему первый чин, — сказал Дьявол вставая.
— А как же на Марс сбегать? — спросил ловкий чорт, играя глазами.
— Нет… Я тебя награждаю за то, что ты меня насмешил… своим проектом…
— Но почему же мой повелитель не разрешит мне привести в исполнение?
Чорт явно фамильярничал.
Дьявол был весел и потому не рассердился.
— По очень простой причине, — сказал он уходя: — это не в моей власти.
— Ах, как ты глуп, — повторил он уже совсем в дверях. — Разве ты не знаешь, что войну посылает Бог. Он же её и прекращает…
Нет — это поразительно… ха-ха-ха… нет скуки! Великолепно!
Маленькая газета. 1917. 22 февраля. N 51. С. 2. Переиздание: Новый журнал. 2010. N 261.
Публикатор: С. В. Чертков
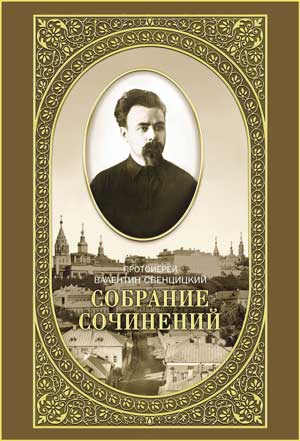
Комментировать