Ноябрь
Житие чудотворцев и бессребреников Космы и Дамиана
1 ноября
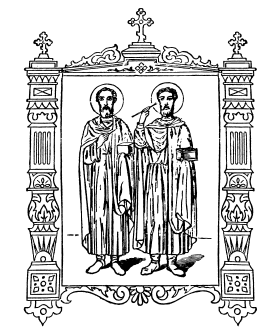
Косма и Дамиан были родными братьями; отец их, грек, был язычником, а мать, Феодотия, исповедовала веру христианскую. Она овдовела в молодости и вела жизнь благочестивую.
«Истинная вдовица, – говорит апостол Павел, – …надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь» (1Тим. 5:5). Феодотия приучила к богоугодной жизни и детей своих, строго наблюдала за ними, наставляла их в добродетели и поучала божественным писаниям.
Косма и Дамиан с младенчества старались исполнять закон Божий и, повзрослев, как два светильника, просияли добрыми делами. Чтобы более приносить пользы ближним, они занялись врачебной наукой, узнавали целебные свойства трав и растений и стали искусными врачами. Господь благословил добрых врачей и даровал им целебную чудотворную силу. Братья не искали ни славы земной, ни богатства, никогда не брали у больных денег или даров, строго следуя словам Спасителя, который сказал апостолам: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте… даром получили, даром и давайте» (Мф. 10:8). За такое бескорыстие Церковь назвала их бессребрениками.
Пожив мирно и трудолюбиво, они спокойно отошли ко Господу, прославленные чудесами. Церковь чтит их память как добрых врачей душевных и телесных болезней, теплых заступников наших пред Господом Богом.
Страдания святых мучеников Акиндина, Пигасия, Анемподиста, Елпидифора и Аффония
2 ноября
И священномучеников Акепсима, Иосифа и Аифала
3 ноября
Мы помещаем в одно повествование известия о святых мучениках, выше поименованных, потому что их страдания и кончина относятся к одному времени, к царствованию персидского царя Сапора, жившего в IV веке. В это время христианство уже было очень распространено в Персии. Сами персы следовали закону Зороастра и поклонялись солнцу, как источнику света, всякое другое вероисповедание было строго запрещено; но царь Сапор, который желал сохранить мир с императором Константином Великим, в начале царствования своего не преследовал подданных своих, принявших христианство. Однако персидские маги, или жрецы, ненавидели их и только ждали удобного случая, чтобы их погубить. Случай этот представился.
Константин Великий умер, и у Сапора началась война с наследником его Констанцием. Тогда стали уверять Сапора, что подданные ему христиане находятся в постоянных сношениях с его врагами, их единоверцами, которым передают все нужное для их успеха в войне. Сапор стал требовать от христианских подданных своих, чтобы они отреклись от веры. Но вера для истинных христиан дороже жизни, и великое множество служителей Христа предпочло смерть отречению. Началось страшное гонение. Персы изумились огромному числу христиан, которое оказалось в государстве. Даже дворец царский был полон христиан.
Привели к царю трех придворных его: Акиндина, Пигасия и Анемподиста, обвиняемых в исповедании христианской веры. Сапор употреблял все меры, чтобы склонить их к отречению, обещал им богатые награды, если изъявят покорность, за сопротивление же грозил истязаниями и смертью. Они остались верными служителями Христа и были преданы страшным истязаниям; но Господь Бог не оставил их и не только даровал им необычайную твердость, но и ради них являл чудеса, которые обратили к истине множество неверующих. Один из мучителей, Аффоний, вдруг, бросив орудие казни, воскликнул: «Велик Бог христиан!» Осудили его на казнь. Услышав приговор, он сказал радостно: «Слава Тебе, Господь Бог, в которого веруют христиане! И я верую в Тебя, поклоняюсь Тебе и за Тебя умираю. Спаси меня, недостойного, великим милосердием Твоим!» Святые мученики с любовью молились за новообращенного, и место казни стало местом торжества веры истинной. Затем обратился еще сановник царского двора, Елпидифор, и смело объявил царю, что верует во Христа распятого. Он был выведен на казнь перед огромным множеством народа; и опять великое число людей стало славить Бога христиан и пошло радостно на смерть за веру.
Святые мученики Акиндин, Пигасий и Анемподист после различных истязаний были преданы огню.
Твердость осужденных и успехи христианской веры приводили Сапора в ярость. В те самые священные дни, когда воспоминаются спасительные страсти Христовы, он велел предать казни множество христиан и затем издал указ, осуждающий на смерть всех христиан в государстве. Тогда возгорелась между христианами неудержимая ревность к мученичеству, толпами приходили они объявлять о себе и с восторгом встречали мученическую кончину. Опять в день великого Пятка и в самый день Пасхи тысяча человек сложила жизнь за веру; между ними был любимец царя Азат. Наконец Сапор убедился, что гонение не истребит христианства, и, отменив первый указ свой, велел предавать суду и казни только христиан священнослужителей.
Взяли под стражу престарелого епископа Акепсима и, когда он отказался отречься, предали его истязаниям. Акепсим перенес терпеливо ужасные пытки.
– Где же Бог твой? – говорил ему мучитель. – Что же Он не помогает тебе и не избавляет тебя из рук моих?
– Бог мой везде, – отвечал мученик. – Он силен похитить меня от руки твоей; но я не прошу избавить меня от мучений, но даровать мне твердость претерпеть их до конца.
Замучив старца до полусмерти, заключили его в темницу и на следующий день привели к допросу двух других священнослужителей: престарелого священника Иосифа и молодого диакона Аифала; оба ревностно старались распространять веру Христову. Они твердо исповедали веру свою во Христа Спасителя и после жестоких истязаний были заключены в ту же темницу, где находился святой епископ.
Надеясь, что истязания и заточения подействовали на мучеников, судья через несколько дней призвал их к вторичному допросу; опять начались увещания и пытки, и опять мученики остались тверды в исповедании своем. «Ничто не отклонит нас от веры нашей, – говорили они, – мы пребудем в ней до конца жизни». Опять, жестоко замучив их, отвели их в темницу. Христиане пробыли в ней три года, терпя всевозможные лишения. Запрещено было посещать их, часто терпели они голод и жажду, некому было перевязать раны их, но молитва была для них отрадой, вера непоколебимая была их утешением, и когда, через три года, их снова призвали к допросу, то они оказали такую же твердость, как и прежде. Тогда святой епископ Акепсим был усечен мечом, а пресвитер и диакон, вытерпев новые жестокие истязания, были отвезены в другой город и там заключены в мрачную темницу. Одна благочестивая христианка по имени Снандулия, покупая за деньги позволение войти в их темницу, перевязывала раны их и помогала им чем могла. Видя истерзанные тела святых мучеников, она горько плакала, но мученики говорили ей: «Добрая женщина, твои заботы о нас приятны Богу, и мы благодарим тебя, но зачем оплакивать нас? Ведь страдать за Господа есть блаженство».
Несколько раз еще возобновляли истязания святых мучеников и наконец побили их каменьями.
Житие преподобного Иоанникия Великого
4 ноября
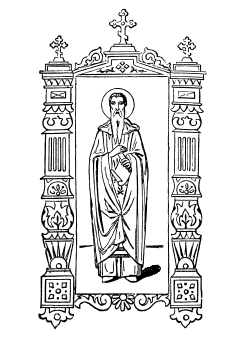
Преподобный Иоанникий, уроженец Вифинии, был в молодости пастухом, потом воином в царской службе и отличался удивительной храбростью в боях. Враги страшились его, товарищи любили его за кротость и смирение. В звании воина, как и в звании пастуха, он постоянно заботился о том, как бы угодить Богу соблюдением Его святых заповедей; но, на время прельщенный ложными толкованиями, Иоанникий пристал было к иконоборцам, которые в то время восставали против святых икон и их почитателей. Однажды Иоанникий шел с войском горой Олимпийской, и вдруг незнакомый ему инок, назвав его по имени, стал укорять его за то, что он пристал к безумной ереси иконоборческой. «О чадо Иоанникий, – говорил инок, – как же можешь ты, называясь христианином, презирать изображения Христа Спасителя твоего!» Иоанникий познал заблуждения свои, раскаялся и впоследствии был одним из великих ревнителей святой истины против еретиков.
В войне с болгарами Иоанникий явил изумительную храбрость и обратил на себя внимание царя, который записал его имя, дабы потом наградить его, но молодой воин уклонился от всяких почестей; он давно желал весь отдаться Богу и по окончании войны пошел к одному святому подвижнику и открыл ему, что желает жить в пустыне. Ему было тогда двадцать четыре года. Подвижник посоветовал ему пожить сперва в монастыре, чтобы в обществе братьев научиться послушанию, смиренномудрию и самоотвержению. Иоанникий последовал совету, несколько лет жил в разных монастырях, выучился грамоте, а потом поселился в пустынном месте. Он сам выкопал себе землянку; пастух носил ему скудную пишу, и подвижник молился день и ночь. Воспевая псалмы Давида, он присоединил к каждому стиху слова: «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покровитель мой Дух Святой; Троице святая, Слава Тебе!» Эта молитва и доныне известна в Церкви под названием молитвы святого Иоанникия Великого.
Господь прославил подвижника. Он даровал ему чудотворную силу, прозорливость и великую мудрость. Множество благочестивых мужей приходило к святому угоднику, чтобы получить от него помощь и совет, и он охотно помогал всем. Между посетителями были и великие отцы Церкви, Феодор Студит и впоследствии патриарх Мефодий, которые оба много пострадали от иконоборцев. Иоанникий наставлял на истинный путь заблуждавшихся, исцелял больных именем Господним и совершал много чудес. В продолжение долгой жизни святой подвижник обходил много пустынь, соорудил несколько церквей и монастырей и, предсказав заранее скорое прекращение иконоборства, скончался девяноста четырех лет от роду в царствование Михаила и матери его Феодоры в IX веке.
В тот же день память святых мучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера, принявших крещение от святого апостола Тита и жестоко пострадавших во время гонения.
Житие святителя Ионы, архиепископа Новгородского
5 ноября

Святой Иона родился в Новгороде в XIV столетии. Мирское имя его было Иоанн. В детстве остался он сиротой. Одна вдова, сжалившись над бесприютным мальчиком, взяла его к себе в дом и отдала учиться грамоте к диакону. Иоанн прилежно учился и больше любил читать Священное Писание, чем играть с другими детьми. Однажды вечером после учения вышел он вместе со своими товарищами на улицу; в это время проходил мимо них юродивый Михаил Клопский, сын князя, живший иноком в Клопском монастыре. Мальчики, бросив игры, дергали юродивого за одежду и кидали в него грязью. Только Иоанн стоял поодаль и не принимал участия в забавах и насмешках товарищей. Заметив его, блаженный Михаил подошел к нему, поднял его на руки и сказал: «Учись прилежно, Иоанн, ты будешь архиепископом Новгорода!» Предсказание сбылось.
Достигнув совершеннолетия, Иоанн удалился в Отенский монастырь в сорока верстах от Новгорода и там постригся под именем Ионы. По смерти игумена Харитона братия Отенской пустыни избрала его своим настоятелем. Праведной жизнью Иона приобрел любовь и уважение не только своей братии, но и всех граждан новгородских; и когда скончался в Новгороде владыка Евфимий, новгородцы единодушно избрали Иону на его место. Бояре, духовенство и все граждане отправили его со своими грамотами в Москву, и московский митрополит Иона посвятил его в архиепископы. Вернувшись из Москвы, Иона занялся делами своей епархии, мирно управлял своей паствой, всем давал равный и правый суд, не отличая богатых от неимущих, защищал слабых от обид и помогал бедным.
Между тем великий князь Московский Василий Васильевич прогневался на новгородцев за то, что они часто противились его воле. Митрополит Московский звал архиепископа Новгородского на совещание по этому делу. Несмотря на старость и болезненное состояние свое, святой Иона поехал в Москву ходатайствовать перед великим князем за свой родной город. Отправляясь в путь, он дал обещание построить в Новгороде церковь во имя святого Сергия Радонежского. За три версты от Москвы к нему выехали навстречу бояре и несколько игуменов и проводили его до двора митрополичьего. У крыльца княжеских палат с великой честью приняли его сыновья великого князя Василия. Сам Василий, встретив его в сенях и приняв от него благословение, ввел его в горницу. Там в присутствии митрополита великий князь беседовал с архиепископом Новгородским, рассуждал с ним о делах его паствы, много жаловался на своеволие и непокорность новгородцев и грозил смирить их войском. Иона ревностно заступался за своих духовных детей, уговаривал великого князя не поднимать оружия, не отягощать жителей новыми налогами и обещал, что новгородцы будут покорно исполнять во всем его волю. «Тебе самому, – говорил он, – уже приближается час смерти. Не твори неправды, а за счастье твое и наследника твоего будем усердно молить Бога. Уповаю, что Господь пошлет ему свободу от ига ордынского, укрепит и распространит державу его, если только он будет жить в благочестии». Великий князь отложил гнев свой, простил новгородцев и с честью отпустил Иону из Москвы. Вернувшись домой, Иона исполнил свое обещание и соорудил во имя чудотворца Сергия каменную церковь на архиерейском дворе.
Вскоре приехал к нему новый гонец из Москвы от митрополита; предчувствуя близкую смерть, митрополит просил Иону приехать в Москву утешить его святой беседой перед кончиной, а вместе с тем подумать об избрании нового митрополита. На этот раз Иона не решился отправиться в такой далекий путь. Он писал митрополиту, что старость и болезнь мешают ему ехать в Москву, и утешал надеждой свидеться при всеобщем воскресении пред лицом Божиим.
Святой Иона управлял тридцать лет Новгородской епархией и оставил по себе добрую память в народе. В Отенской обители соорудил он новый каменный собор; стены его украшены были лучшей в то время живописью, а пол выстлан мрамором. К собору пристроил он еще две церкви: во имя ангела своего (по полученному в Святом крещении имени), святого Иоанна Предтечи, и во имя святителя Николая. В самом Новгороде основал он несколько храмов, в том числе храм Святого Великомученика Димитрия. По его повелению ученый грек Пахомий, пришедший со Святой Афонской Горы, написал многие каноны и жития святых.
Добрую память оставил святой Иона благочестивой жизнью и богоугодными делами. Он умер в глубокой старости в 1470 году и был положен в церкви Святого Иоанна Предтечи в Отенской обители.
Много лет спустя случился пожар в церкви, где стояла рака святого Ионы; бросились спасать ее и потом, открыв, обрели в ней нетленные мощи, от которых исходило благоухание. Много чудесных исцелений совершалось при раке святителя.

В тот же день Церковь чествует святых мучеников Галактиона и Епистимию.
Житие преподобного Варлаама Хутынского
6 ноября

Преподобный Варлаам, основатель Хутынской обители близ Новгорода, жил в XII веке. Родители его были люди знатные и богатые. С детства Варлаам полюбил чтение священных книг, пост и молитву. Угодить Богу сделалось рано целью всех его стремлений и помышлений; и, когда родители его скончались, оставив ему богатое наследство, он раздал имущество бедным и постригся в монахи.
Предаваясь постоянно молитве, Варлаам желал полного уединения. В десяти верстах от Новгорода ему полюбилось прекрасное место, называемое Хутынь, на берегу реки Волхова.
В народе это место слыло худым местом, местом нечистой силы; но оно должно было осветиться подвигами отшельника. Луч, блеснувший вдруг среди темноты леса, показался ему указанием Божиим; он построил себе маленькую хижину и стал жить один, молясь и день, и ночь и перенося всевозможные лишения. Скоро слух о его добродетельной жизни распространился по окрестностям, и к нему стали приходить многие: и бояре, и простолюдины, прося его молитв и наставлений. Он поучал всех со смирением и любовью, убеждал остерегаться неправды, иметь любовь друг к другу; напоминал начальствующим, что они имеют Судию на небесах, который потребует от них отчета в их делах; подчиненным – что они должны добросовестно исполнять возложенные на них обязанности, трудясь как бы для Господа; убеждал каждого не воздавать злом за зло, но побеждать зло добром и более замечать свои собственные грехи, нежели грехи ближних.
Некоторые благочестивые люди, желавшие жить под руководством святого пустынника, стали селиться вокруг него, и так устроилась обитель, в которой преподобный Варлаам ввел устав общежития. Построили деревянную церковь в память Преображения и поставили кельи.
Благодетельно было влияние преподобного на все окрестности, ибо многие из учеников его подавали тоже пример благочестивой жизни. Рассказывают, что однажды, когда он шел к новгородскому владыке, ему на мосту попалась толпа народа, которая сопровождала преступника на казнь; тогда был обычай бросать преступников в реку Волхов. Преподобный Варлаам сжалился над несчастным и просил народ отдать ему осужденного на казнь. Народ, глубоко уважавший его, воскликнул: «Отдадим осужденного преподобному отцу нашему Варлааму!» Варлаам взял в монастырь свой спасенного им преступника, наставлял его, привел в покаяние, и тот, постригшись в монахи, стал вести самую благочестивую жизнь.
Другой раз, при подобном же случае, Варлаам не стал просить помилования осужденного; на вопросы некоторых, почему он так поступил, он отвечал: «Судьбы Господни – бездна многая! Сами знаете, что Господь не хочет смерти грешника, но да обратится и жив будет. Первый преступник за грехи свои был правильно осужден; но милосердый Господь избавил его от смерти через мое недостоинство, чтобы дать ему время покаяться. Второй же был неправедно веден на казнь, но, чтобы, по словам Священного Писания, злоба не изменила впоследствии его сердца и лесть не прельстила душу его, восхищен был от земли, и Божественный промысел допустил его невинно пострадать, чтобы мучеником предстать на небо и венец нетления принять от всещедрого Бога».
Господь прославил угодника Своего даром предвидения и чудотворения. Варлаам предсказал князю Новгородскому рождение сына и творил много чудес, исцеляя много больных, которые приходили к нему. Доныне совершается в Новгороде крестный ход в память одного события, предсказанного преподобным. Случилось ему однажды быть у архиепископа; прощаясь с ним, владыка звал его опять побывать через неделю. Преподобный отвечал: «Если будет угодно Богу, то приеду на санях в пятницу первой недели Петровского поста». Действительно, накануне ночью выпал такой глубокий снег, что Варлаам из своей обители приехал на санях. Все испугались снега, боясь, как бы он не повредил урожаю; но Варлаам говорил, что это – милость Божия, ибо от снега померзнет червь. На следующий день, когда снег стаял, нашли действительно на полях множество померзших червей; урожай же был такой, какого давно не помнили в той стране. В память этого события тогда же положили совершать ежегодно крестный ход из собора в Хутынскую обитель в первую пятницу Апостольского поста.
Прожив много лет в Хутынском монастыре, преподобный Варлаам мирно скончался, оплакиваемый и братией, и всем Новгородом. Перед кончиной он созвал братию к смертному одру своему, преподал ей последнее наставление и, благословив ее, простился радостно. Он назначил в настоятели инока Антония. «Оставлю вам игумена Антония, – сказал он, – который возвратился из Царьграда и святых мест и в этот самый час от нас недалеко». Действительно, в туже минуту Антоний, вернувшийся из путешествия, вошел в келью преподобного и успел принять от него благословение. Преподобный Варлаам преставился 6 ноября 1192 года. Его похоронили при огромном стечении народа, и с тех пор в день его памяти раздают обильную милостыню убогим.

Вскоре после преставления преподобного Варлаама чудесные исцеления стали совершаться у гробницы его, и во многих благотворных явлениях показывал он свое попечение о родине и об основанном им монастыре. Следующее событие особенно замечательно. Раз один церковнослужитель по имени Тарасий готовил в церкви свечи для утрени. Вдруг он увидел, что все свечи сами собой зажглись и храм наполнился дымом от кадил; затем из раки своей встал преподобный и начал громко молиться о Новгороде, повторяя: «Отврати, Господи, гнев Твой от града сего!» Устрашенный Тарасий пал ниц, но святой, подняв его, сказал: «Хочу открыть тебе горе, которое Господь готовил великому Новгороду за неправды его. Взойди на колокольню и посмотри, что делается».
Тарасий взошел и увидел, что волны озера Ильмень поднимаются высоко и готовы потопить город.
Исполненный страха, он возвратился и рассказал святому о том, что видел. Тот опять начал молиться и снова послал Тарасия посмотреть с колокольни. Тарасий увидел ангелов, метающих на людей огненные стрелы. Когда он возвестил о том преподобному, преподобный стал вновь молиться со слезами и потом сказал Тарасию: «Молитвами Владычицы нашей Богородицы и всех святых Бог помиловал Новгород от потопа, но три года будет в нем мор на людей». В третий раз посланный на колокольню Тарасий увидел страшную огненную тучу, и преподобный возвестил ему, что после трехлетнего мора будет в Новгороде страшный пожар. По окончании этих видений святой опять лег в раку свою, и свечи угасли. Все предсказания действительно сбылись в скором времени.

В тот же день память святого Павла исповедника, архиепископа Цареградского, много пострадавшего в IVвеке за истинную веру, когда ее преследовали ариане.
Преподобный Лазарь
7 ноября
Лазарь, родом из Магнезии в Азии, рано почувствовал призвание к иноческой жизни; он пошел в Иерусалим на поклонение святым местам и там поступил в обитель преподобного Саввы, где прожил десять лет. Потом, вернувшись на родину, он стал вести трудную подвижническую жизнь на необитаемой горе в Галисии, построил тут храм Вознесения Христова и около храма воздвиг столп, на котором жил много лет в молитве и всевозможных лишениях.
Впоследствии тут основался монастырь Галисийский. Лазарь жил в середине XI века.

В тот же день память тридцати трех мучеников, пострадавших при Диоклетиане.
Собор святого архистратига Михаила и прочих бесплотных сил
8 ноября
В этот день Церковь совершает празднество в честь святых ангелов и преимущественно святого архистратига Михаила, которого она почитает вождем сил небесных.
Один из высших ангелов, Денница, возгордился и своим падением (Ис. 14:12) увлек множество других духов; но все прочие ангелы, под начальством святого архистратига Михаила, остались верны Господу, продолжали служить Ему и воспевать Его славу.
Церкви Божией известны имена семи первенствующих ангелов, всегда предстоящих престолу Господню; у каждого из них свое особенное служение. Так само слово Божие представляет святого архистратига Михаила вождем небесных сил и воителем против духов тьмы, почему он и изображается с копьем в руках и попирающим диавола. Архангел Гавриил является в Писании вестником тайн Божиих; Рафаил – целителем недугов; Уриил – просветителем душ; Салафиил признается молитвенником пред Богом; Иегудиил – славителем Господа; Варахиил – подателем благословений Божиих; Иеремиил – внушителем благих помыслов, возносящих душу к Богу.
Все ангелы считаются хранителями людей, и Церковь обращается к ним с молитвой – «ограждать нас кровом крыл невещественныя славы своея и избавить от бед».
Православная Церковь верует, что у каждого из чад ее есть ангел-хранитель, который молится за него Богу, наставляет его на добрые дела, внушает ему благочестивые мысли и скорбит о нем, когда он грешит и забывает заповеди Божии. Верование это основано на словах Самого Христа, который, указывая на детей, сказал ученикам Своим: «Блюдите, да не презрите единаго от малых сих; глаголю бо вам, яко ангелы их на небесах выну видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).
В молитве ангелу-хранителю мы говорим: «Всяких мя напастей свободи и от печалей спаси, молюся ти, святый ангеле, данный ми от Бога, хранителю мой добрый, освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый ангеле, и мыслити ми всегда полезная настави мя». Наконец, в церкви за каждой службой мы молим Бога, чтобы Он дал нам ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших.
Память преподобной матроны цареградской, преподобной Феоктисты Паросской, преподобной Евстолии и Сосипатры
9 ноября
С самого начала распространения веры христианской множество женщин горячо приняли ее и ревностно служили Господу. Во время гонений они являли мужество необычайное и, твердо исповедуя веру свою, переносили страшные истязания, полагали жизнь за Христа. Когда с IV века стало распространяться пустынное подвижничество, то и на этом тяжелом пути встречаем мы много жен, служивших Господу самоотречением и трудным подвигом пустынножительства. Так, преподобная Матрона Цареградская, перенесшая от мужа своего много гонений за ревность свою к вере, подвизалась много лет в монастыре, и сама в Константинополе основала женскую обитель. Прожив в иночестве 75 лет, она скончалась ста лет в 492 году.
Преподобная Евстолия, пришедшая из Рима в Константинополь, чтобы изучить подвижническую жизнь, встретилась здесь с юной Сосипатрой, дочерью императора Маврикия, тоже стремившейся к иночеству. Отец не воспротивился желанию дочери и купил ей дом, при котором был создан храм и в котором затем была устроена обитель инокинь. Царевна с радостью оставила пышный дворец царский и подчинилась святой Евстолии, по смерти которой сама стала настоятельницей монастыря. Это было в VII веке.
Феоктиста, родом с острова Лесбос, была отдана в монастырь семнадцати лет от роду. Разбойники разорили монастырь и вместе с другими пленными увезли с собой в Парос и инокинь, думая продать их в рабство. Феоктисте удалось бежать, и, достигнув пустынного места на острове Парос, она там прожила тридцать пять лет при запустевшем храме. Случилось охотникам прибыть к этому месту и найти отшельницу. По просьбе ее один из охотников принес ей Святое причастие, и вскоре после этого она мирно предала душу Богу в 881 году.

В тот же день память преподобного Симеона Метафраста, в X столетии составившего в Константинополе жизнеописания святых.
Святой мученик оРест
10 ноября
В этот день вместе со святыми апостолами от семидесяти: Олимпом, Родионом, Ерастом, Сосипатром, Куартом и Тертием, о которых сохранилось очень мало известий, Церковь воспоминает святого мученика Ореста, который был врачом в каппадокийском городе Тиане. Призванный на суд за веру христианскую при Диоклетиане, он перенес жестокие истязания и был наконец привязан к бешеному коню, который долго влачил его замученное тело по полям и лесам.
Житие преподобного Феодора Студита
11 ноября
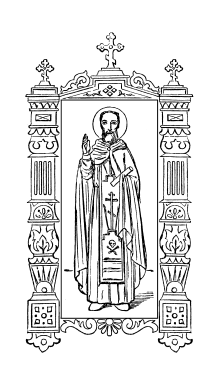
Святой Феодор родился в Царьграде от богатых и знатных родителей; они воспитывали его в благочестии и обучали наукам. В то время император Константин Копроним преследовал почитателей святых икон. Родители Феодора подверглись гонению и удалились в монастырь.
По кончине Копронима и сына его взошла на престол вдова последнего Ирина с малолетним сыном своим Константином. В ее царствование в 787 году созван был в городе Никее Седьмой Вселенский собор, который торжественно осудил ложное учение иконоборцев и признал почитание икон. Дядя Феодора, святой Платон, бывший на этом соборе, уговорил Феодора и братьев его удалиться от общества людей и посвятить свою жизнь Богу. Все вместе пошли они искать уединения и остановились в одном прекрасном месте, на горе, в тени густых деревьев, которые росли над светлым источником. Место это называлось Сакудиан; здесь они построили церковь во имя святого Иоанна Богослова. К ним присоединились другие благочестивые люди, и вскоре образовался монастырь, в котором Феодор постригся.
Феодор исполнял свято обязанности инока; он отличался воздержанием, неутомимым трудолюбием и глубоким смирением. Сын знатных родителей, воспитанный в богатстве и неге, он стал слугой всех: колол дрова, носил воду и камни, работал в огороде. Свободное время он посвящал чтению божественных книг. Святой Платон захотел передать ему начальство над монастырем; Феодор долго отказывался, но должен был уступить единодушному желанию всей братии. Он мудро управлял монастырем и подавал всем пример строгого соблюдения всех правил монашеской жизни. Но не в одном монастыре суждено ему было утверждать истинную веру.
Сын Ирины Константин, достигнув совершеннолетия, удалил мать свою от правления, а сам предался страстям своим, забывая закон христианский. Он развелся с женой своей, принудил ее постричься и женился на близкой родственнице своей. Святой патриарх Тарасий не захотел благословить беззаконный брак, но нашелся священник, по имени Иосиф, который обвенчал царя, несмотря на запрещение патриарха. Как ни беззаконно было это дело, патриарх молчал, боясь навлечь на Церковь новые бедствия. Его снисхождение имело гибельные последствия: многие стали подражать примеру царя; воеводы и придворные произвольно разводились с женами своими, заключали их в монастыри и вступали в брак, не разбирая степени родства. Такое нарушение закона церковного сильно возмутило Феодора. Он провозгласил отлучение царя от Церкви и написал о том в другие монастыри.
Царь думал сначала лестью и ласками склонить строгого инока. Он велел жене своей послать ему богатые дары и просить его молитв за себя и за семейство свое; но дары были возвращены. Тогда царь предпринял путешествие и нарочно направил путь свой мимо монастыря Сакудианского, надеясь, что, когда, по обычаю, настоятель выйдет к нему навстречу, он ласковыми словами и убеждениями подействует на него; но Феодор навстречу не вышел и даже не отворил монастыря служителям царским. Тогда разгневанный Константин сослал Феодора в заточение в город Солунь вместе с одиннадцатью иноками.
Заточение продолжалось пять лет. Твердость Феодора нашла, однако, подражателей. Во многих монастырях провозгласили отлучение царя от Церкви, и несколько иноков подверглись за это гонению.
Феодор был возвращен в монастырь свой по смерти Константина. Ирина, вступив опять на престол, с честью приняла его в Царьграде. Здесь царица уговорила его принять настоятельство Студийского монастыря. Монастырь этот, основанный благочестивым римлянином Студием, был упразднен в царствование Копронима. Вокруг Феодора снова собралось около тысячи новой братии. Феодор дал ей устав, известный под именем Студийского. В этом уставе подтверждались правила, установленные Василием Великим. Монахам запрещалась всякая собственность; все работы должны были исполняться самими монахами; все мысли они должны были открывать игумену.
Царствование Ирины продолжалось недолго. Она была свергнута с престола Никифором, который возвратил священство Иосифу, отлученному от Церкви за брак царя Константина, и стал преследовать Феодора, старца Платона и всю братию Студийского монастыря. Все они были сосланы в заточение. Нечестивый царь, который знал, однако же, как все уважают святого Феодора, старался склонить его к единомыслию и призвал его к себе, собираясь в дальний поход. Но Феодор сказал ему: «Следовало бы тебе, царь, покаяться, прежде чем идти на войну, с которой ты не воротишься». Предсказание святого сбылось: царь был убит на войне. Недолго царствовал сын его. Новый император Михаил освободил Феодора из заточения; но и он вскоре был свергнут воеводой своим, Львом Армянином, при котором начались новые гонения.
В самом начале царствования своего император собрал духовенство и объявил идолопоклонниками всех почитателей святых икон. Напрасно возражали патриарх и святой Феодор, напрасно доказывали они, что, молясь пред иконами и почитая их, поклоняются не самому изображению, а изображенному на них Господу или воздают честь святым Его угодникам. Царь гневно сказал Феодору:
– Я тебя знаю, ты человек сварливый, гордый и непокорный; но не забывай, что я – царь и строго накажу непокорного.
Патриарх и все прочие молчали в страхе, но Феодор спокойно отвечал:
– Ты – царь, но не можешь изменять закона церковного, ты силен в делах мирских, но в делах церковных должен повиноваться.
– Ты ли меня отлучишь от Церкви? – воскликнул разгневанный царь.
– Не я, – отвечал преподобный, – но предания святых апостолов и святых отцов отлучат тебя от нее, если ты не покоришься ее законам; если же хочешь в ней оставаться, то следуй патриарху и постановлениям собора.
Царь с негодованием оставил собрание. На другой день вышло от начальника города повеление, чтобы никто не смел рассуждать о вере, а все повиновались бы воле царя. Когда посланные пришли сообщить это приказание Феодору, он сказал им, что несправедливо бы было слушать их более Бога и что он скорее согласится, чтобы ему отрезали язык, чем замолчать, когда должно защищать истину. Он продолжал обличать царя, утверждал слабых, подкреплял унывающего патриарха, напоминая ему, что много было ересей и смятений, но что Господь, хранящий Церковь Свою, не дал ей поколебаться. Патриарх Никифор твердо стоял за истину и был за то низложен и послан в заточение с другими архиереями.
Святые иконы везде предавались поруганию и истреблению. Феодор негодовал на такое беззаконие; он в праздник торжественно обходил крестным ходом монастырь свой, неся иконы и громко воспевая во славу Господа: «Пречистому Твоему образу поклоняемся». Царь сослал наконец Феодора в изгнание в Аполлонию; а так как он и там продолжал учить и в письмах укорять Льва за беззаконие, то его сослали в другое, еще более отдаленное место. Много терпел он в продолжение семилетнего изгнания, но ничто не поколебало его твердости. Когда из одного места его отсылали в другое, он спокойно говорил: «Не имею истинного для себя помещения на земле; мне все равно, куда бы меня ни послали, – Бог везде; где бы я ни был, не буду молчать, когда должно стоять за правду». С терпением переносил он все мучения; царь велел содержать его как можно строже, в тесной и сырой темнице, где он много страдал от болезни. Иногда по несколько дней сряду почти не приносили ему есть; но и скудную пищу уступал он верному ученику своему Николаю8, который неотлучно оставался при нем. Сам преподобный довольствовался причащением Святых Таин, когда мог получить запасные дары. «Не о хлебе едином жив будет человек, – говорил он, – пусть будет тело Господне пищей для души и тела моего».
Изгнание Феодора кончилось со смертью Льва Армянина. Новый император Михаил, хотя также иконоборец, не одобрял гонения и освободил заточенных и сосланных. Святой Феодор и патриарх убеждали царя отказаться от ереси; но император объявил, что он не допустит икон в своей столице, хотя никого не преследует за убеждения и веру. Поэтому Феодор уже не возвращался в Студийский монастырь. Он сначала удалился с учениками к Крискентию, а потом в Акритов Херсонис, где скончался на пятьдесят седьмом году. Когда услышали о его болезни, то многие пришли к нему, ибо любили его, потому что непоколебимая твердость соединялась в нем с кротостью, добродушием и смирением. Видя плачущих, которые окружали постель его, он сам прослезился; с любовью и умилением простился со всеми, всех благословил и велел читать молитвы. При чтении псалма «Блажени непорочнии в путь, ходящий в законе Господни» (Пс. 118) душа его отошла ко Господу. Это было в 826 году.
Предание рассказывает, что в тот самый день и час святой Иларион Далматский, работая у себя в саду, вдруг услышал чудное пение. Он взглянул на небо и увидел великое множество чинов ангельских в белых блестящих одеяниях и с сияющими лицами. Казалось, что они кого-то встречали. Устрашенный святой упал на землю и услышал голос: «Се душа Феодора, игумена Студийского, много пострадавшего за истину, торжественно восходит на небеса, встречаемая небесными силами». Иларион тогда же рассказал видение; и потом уже узнали о кончине святого Феодора.
Святой Феодор при жизни часто исцелял болезни молитвами своими, и при гробе его совершалось много чудес. Он оставил много назидательных сочинений и между прочим песней духовных.

В тот же день совершается память святых мучеников Мины, Виктора и Викентия. Первый, воин, был казнен в Египте за веру Христову при Диоклетиане. Виктор, тоже воин, пострадал при Антонине в Италии. Молодая христианка по имени Стефанида, присутствовавшая при его страданиях, вдруг увидела сходящие с неба два светлых венца. Она стала громко славить подвиг святого мученика и сама вместе с ним сподобилась мученической кончины.
Святой Викентий, диакон, сподобился пострадать за веру в испанском городе Валенсии при Диоклетиане.
Житие святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского
12 ноября
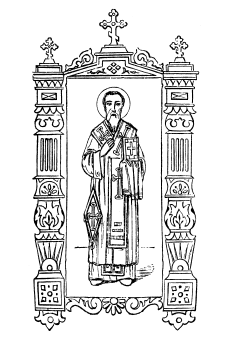
Святой Иоанн, прозванный Милостивым, жил в VII веке и был сыном кипрского князя Епифания. Когда ему было пятнадцать лет, он однажды видел во сне чудную девицу с масличным листом на голове; она сказала ему: «Я – старшая дочь Великого Царя; если ты будешь служить мне, то я попрошу у Него великую для тебя благодать, ибо нет сильнее меня; я Самого Бога свела с неба и облекла в плоть человеческую». Иоанн понял, что эта старшая дочь Великого Царя есть милосердие, что она есть высшая добродетель и что христианин, надеющийся на милосердие Божие, должен оказывать милосердие ближнему и подражать Спасителю нашему, всегда милостивому к людям, для которых Он оставил небо и принял страдания и смерть. Всю жизнь свою помнил он это чудное видение, был милосерден и щедр, прощал обиды и никого не осуждал.
В молодости своей Иоанн был женат и имел детей, но вскоре овдовел и, отказавшись от мира, посвятил жизнь свою молитве. Он был избран патриархом в Александрии. Долго отказывался он от высокого сана, но наконец должен был склониться на желание царя и народа. Он стал ревностно исполнять свои новые обязанности, твердо защищал веру против лжеучений, помогал бедным, терпеливо выслушивал каждого приходящего к нему и утешал участием и добрым советом.
Вскоре после своего назначения в патриархи он призвал к себе служителей церковных и сказал им:
– Обойдите весь город и перепишите имена всех господ моих.
– Кто же господа твои, владыко? – спрашивали удивленные служители.
– Нищие и убогие, – отвечал святой, – они господа мои, потому что могут спасти мою душу и ввести меня в вечные обители.
По приказанию патриарха переписано было семь тысяч нищих, которым он с тех пор давал ежедневно пропитание.
В то время персы завоевали Сирию и сожгли Иерусалим. Иоанн, горячо сочувствовавший страждущим, посылал им щедрые пособия и выкупил из плена множество несчастных.
Будучи очень занят, он не мог ежедневно выслушивать всех имевших до него дело, поэтому назначал для этого два дня в неделю: среду и пятницу. Сидя у церковных дверей, патриарх принимал и внимательно выслушивал всех. «Я всегда имею невозбранный доступ к Господу Богу моему, – говорил он, – беседую с Ним в молитве и прошу о том, что мне нужно, потому и я должен дать ближнему невозбранный доступ ко мне, чтобы он мог объяснить мне свои нужды и желания. Надо помнить слова: „Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить9 (Мф. 7:2)». День, в который Иоанн не имел случая оказать кому-нибудь помощь, он считал потерянным.
Многие укоряли патриарха за излишнюю щедрость, боясь, как бы не истощились средства его; но патриарх твердо уповал на Бога, помогающего милостивым, и действительно, сколько ни раздавал он, никогда не чувствовал недостатка. Господь внушал добрым людям желание приносить ему пожертвования, ему поручались деньги для помощи бедным, и почти опустевшая казна его часто вдруг пополнялась. При раздаче пособий его помощники спросили однажды у Иоанна, подавать ли всем нищим, которые приходят, ибо иные из них казались хорошо одетыми. Патриарх отвечал: «Если мы – рабы Христовы, то следует нам поступать, как Христос повелел, не смотря на лица и не расспрашивая о жизни тех, которые требуют пособия. Мы не свое даем, а Христово. Если же вы думаете, что имущества недостанет на столько милостыни, то я не хочу быть причастником в вашем маловерии, ибо я уверен, что если бедные со всего мира придут к нам в Александрию за помощью, то Бог и тогда не даст оскудеть имению церковному».
Сам Иоанн отказывал себе во всем, чтобы более подавать нищим. Он умел и других подвигнуть на дела милосердия. Однажды, обходя больницы, он взял с собой епископа по имени Троил, который был богат и очень скуп. Патриарх попросил его раздать несчастным немного денег. Троилу совестно было отказать, и он тут же раздал 30 литр* золота, но потом, вернувшись домой, он так стал жалеть о розданных деньгах, что занемог от печали. Иоанн, узнав о том, пришел к нему и сказал: «Я принес тебе назад деньги, которые занял у тебя в больнице, вот они, но напиши мне рукой своей, что ты уступаешь мне награду, которую ты мог бы за них получить». Патриарх хотел такими словами вразумить Троила и напомнить ему слова Писания: «Милуяй нищаго взаим дает Богу» (Прит. 19:17), но Троил только обрадовался тому, что получил назад деньги свои.
Патриарх много молился об исправлении епископа, и Господь послал Троилу в следующую же ночь спасительное сновидение. Он увидел чудное здание, на котором было написано: «Это – обитель и вечный покой Троила». Он обрадовался, увидев небесное жилище, которое ему готовится, но вдруг услышал голос, повелевавший стереть надпись, и в ту же минуту явилась другая: «Эту обитель Иоанн, патриарх Александрийский, купил у Троила за 30 литр золота». Епископ проснулся в ужасе, глубоко сожалея о том, что погубил жилище свое на небесах. Он осознал грех свой, раскаялся в сребролюбии своем и стал с тех пор щедрым и милостивым.
Прощая обижавших его, Иоанн сам смиренно просил прощения у тех, которых невольно огорчил. Строгий к самому себе, он был снисходителен к другим и весьма осторожен в суждениях о ближнем. «Не станем никого осуждать, – говорил он, – мы только видим худое дело, но тайного покаяния и скорби грешника, скрытых от нас, не видим».
Однажды в праздничный день, когда он совершал богослужение, ему пришли на память слова Спасителя: «Если принесешь дар твой к алтарю и тут вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь дар твой и пойди сперва примирись с братом твоим» (Мф. 5:23–24). Тут он вспомнил, что один из служителей церкви огорчен наказанием, впрочем, справедливо на него наложенным, и что он сам давно хотел с ним объясниться. Патриарх сейчас же послал за ним, поклонился ему в ноги и просил у него прощения. Смирение и кротость святого так тронули служителя, что он сам упал на колена, проливая слезы раскаяния.
Иоанн должен был удалиться из Александрии во время нападения персов. Он отправился в Константинополь чрез отечество свое Кипр. Дорогой в видении он услышал голос, говоривший ему: «Царь Царей зовет тебя к Себе». Поняв, что конец его близок, он остановился на острове Кипр, в Амафунте, приготовился к смерти и спокойно преставился. Последними словами его были: «Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты сподобил меня все Твое Тебе отдать, ничего не сохранил я от богатства мира сего, кроме третьей части сребреника, и ту велю отдать нищим». Святой патриарх был похоронен в этом же городе в церкви Святого Тихона.
Память святого Иоанна Златоуста
13 ноября

Святой Иоанн Златоуст, великий учитель Церкви, родился около 350 года в Антиохии. Отец его, воевода Секунд, умер, когда Иоанн был еще младенцем, и мать его
Анфуса, овдовев двадцати лет, не захотела вступать во второй брак и посвятила себя совершенно воспитанию своего сына. Она мудро управляла большим имением покойного мужа и заслужила общее уважение своей благочестивой жизнью. Известный ученый того времени Ливаний, услышав о ее добродетелях, воскликнул: «Какие удивительные женщины встречаются между христианками!»
Когда Иоанн подрос, он стал учиться красноречию у того же Ливания и удивлял его своими быстрыми успехами. Ливаний в большом собрании читал речь своего молодого ученика, и когда, несколько лет спустя, его спрашивали, кого бы он избрал преемником себе, он отвечал: «Хотел бы я назначить после себя Иоанна, но христиане отняли его у нас». Иоанн после этого еще долго учился философии у другого известного ученого того времени. Языческая мудрость не отвлекла его от христианского учения. Окончив образование свое у языческих учителей, Иоанн поступил было на гражданскую службу, стал изучать гражданские законы и в судах защищать вверенные ему дела. Пример товарищей подействовал на него; он некоторое время увлекался светскими развлечениями, посещал театры и языческие празднества; но это продолжалось недолго. Суетные занятия и забавы не могут удовлетворить души, созданной для уразумения истины. Иоанн рано понял это; он изменил образ жизни, принялся усердно за изучение Священного Писания и, полный любви к Богу, проводил большую часть времени в молитве.
Святой Мелетий, епископ Антиохийский, услышав об Иоанне, постарался ближе узнать его и часто приглашал его к себе. Хотя уже Иоанну было в то время двадцать пять лет, но он не был еще крещен. В то время часто отлагали крещение до совершеннолетнего возраста, частью по смиренному чувству собственного недостоинства, частью оттого, что получивший крещение уже не мог посещать языческие училища, в которых преподавались все науки. Святой Мелетий совершил над Иоанном таинство крещения и причислил его к клиру.
Приняв Святое крещение, Иоанн стал еще строже наблюдать за собой и старался жить достойно великого названия христианина. Жизнеописатель его повествует, что с этих пор он никогда не употреблял клятвы, не говорил неправды, не злословил, не позволял себе насмешек над ближними. Любовь к Богу и желание посвятить Ему всю свою жизнь более и более укоренялись в сердце Иоанна; он пожелал сделаться иноком и вместе с другом своим Василием совершенно оставить мир; но просьбы и слезы матери отклонили его на время от исполнения этого намерения. Иоанн сам рассказывает, как добрая мать умоляла его не оставлять ее. Описав ему все горести раннего вдовства своего, она со слезами говорила ему: «Милый сын мой! Одно мое утешение было – смотреть на тебя, узнавать в чертах твоих образ почившего мужа моего. Вспомни, что я не захотела вступить во второй брак и ввести чужого в дом отца твоего, что я сохранила в целости имущество твое, хотя не щадила издержек для твоего воспитания. За все прошу у тебя одной милости: не подвергай меня вторичному сиротству; не пробуждай в сердце моем скорби, несколько уснувшей; потерпи до моей смерти. Когда я умру и ты соединишь мои кости с костями отца, тогда иди куда хочешь; теперь же не навлекай на себя гнева Божия, предавая печали свою мать, никогда ничем не оскорбившую тебя».
Иоанн остался и был определен чтецом в Антиохийской церкви. По смерти матери он раздал имение свое бедным, освободил рабов своих и посвятил себя уединенной монашеской жизни; он, однако же, виделся с близкими друзьями своими Василием и Феодором. Последний, спустя некоторое время, пленился миром, и тогда Иоанн написал ему несколько увещевательных писем, убеждая его возвратиться к прежней жизни. Эти послания, полные силы и живого красноречия, были первыми духовными творениями Иоанна. Вскоре после этого он написал книги о священстве и о сокрушении духовном.
Хотя Иоанн вел жизнь тихую и уединенную, но слава о нем скоро распространилась далеко. Узнав, что его и друга его Василия хотят поставить епископом, он уклонился от избрания и удалился в монастырь, находившийся в горах возле Антиохии. Он жил там четыре года под руководством благочестивого старца, перенося лишения, исполняя самые трудные работы и стараясь преодолеть прежние привычки свои к роскоши.
Рассказывают, что в этом монастыре было Иоанну чудное видение. Ночью явились ему два мужа, необычайно светлые. Иоанн в страхе пал ниц, но они, взяв его за руку, подняли, и один из них, подав ему свиток, сказал:
– Приими свиток сей. Я – Иоанн, возлегший на персях Господа во время Тайной вечери и оттуда почерпнувший Божественные откровения. Дает и тебе Богуведать глубину премудрости, да питаешь людей негибнущею пищею учения и да заграждаешь уста тех, которые превратно толкуют закон Бога нашего.
Другой муж, назвав себя апостолом Петром, вручил Иоанну ключ и сказал:
– Дает тебе Бог ключи Церквей святых, да будет связан тот, кого свяжешь, и разрешен тот, кого разрешишь.
Иоанн, преклонив колени, воскликнул:
– Кто я, чтобы дерзнул принять и понести такое служение! Я человек грешный и ничтожный!
– Мужайся, крепись, – сказали апостолы, подняв его, – и исполняй веленное тебе; не утаи дара, данного тебе от Бога на просвещение и утверждение людей Его. Провозглашай смело слово Божие, помня, что Господь сказал: «Не бойся, малое стадо, яко благоизволи Отец ваш дати вам царство» (Лк. 12:32). И ты не бойся, ибо Господь благоволит тобою просветить души многих. Ты много вытерпишь бед и гонений правды ради, но перенеси все твердо – и внидешь в наследие Божие.
Сказав это, апостолы перекрестили Иоанна и удалились.
Добродетели, подвиги и высокая мудрость Иоанна прославили его, и множество людей приходило к нему за наставлением или за исцелением, ибо Господь дал ему чудотворную силу. Исцеляя больных, Иоанн убеждал их к благочестивой жизни. «Если ты всей душой веруешь, что Бог может исцелить тебя, и оставишь грешные дела твои, то увидишь славу Божию», – сказал он однажды больному, пришедшему к нему. Один человек просил Иоанна исцелить больную жену его. «Скажи жене своей, – отвечал Иоанн, – что Господь исцелит ее, если она оставит свой злой нрав, жестокое обращение с рабами и будет милосерда к нищим». Больная твердо решилась исправиться и тотчас же получила исцеление.
Прожив четыре года в монастыре, Иоанн пожелал большего уединения и поселился один в пещере. Строгая жизнь и лишения всякого рода совершенно расстроили его здоровье, и он через два года должен был возвратиться в Антиохию, где святой Мелетий поставил его диаконом. Через пять лет преемник Мелетия, святой Флавиан, посвятил Иоанна в священники.
Иоанн был двенадцать лет священником в Антиохии, и главным делом его было проповедование. Иногда он говорил два-три раза в неделю, и поучения его сильно действовали на жителей Антиохии. Привлеченные живым красноречием Иоанна, они толпами стекались в церковь, где он проповедовал, записывали слова его, иногда в самой церкви прерывали его громкими рукоплесканиями, иногда, тронутые до глубины души, начинали плакать и рыдать. Иоанн объяснял народу обязанности христиан, убеждал его к живой вере в Бога, к добрым делам; он особенно часто и красноречиво говорил о милосердии к бедным. Не одни христиане, но иудеи и язычники толпились в церкви, чтобы слушать его. Рассказывают, что сначала Иоанн, увлекаясь великой ученостью своей, говорил иногда проповеди, не совсем доступные для людей простых. Раз одна женщина, слушая его, сказала громко в церкви: «Учитель духовный, Иоанн, золотые уста, учение твое глубоко, и слабый ум наш не все может постигнуть».
С этих пор начали звать его в народе Златоустом, и Церковь сохранила за ним это название. Иоанн же стал особенно стараться о том, чтобы проповеди его были просты и понятны для самого необразованного человека.
Через два года после назначения Иоанна священником случился в Антиохии бунт; народ, раздраженный новым налогом, низверг статуи императора и императрицы и с криком и шумом влачил их по улицам города. Когда же народ опомнился, то с ужасом увидел последствия поступка своего. Начались в Антиохии пытки и казни; начальники сажали в темницы всех участвовавших в беспорядках; имение их было опечатано; страх и уныние объяли всех жителей Антиохии. С трепетом ожидали решения императора Феодосия, которому донесли о случившемся: знали, что он строг и гневен. Престарелый епископ Флавиан тогда решился сам отправиться в Константинополь, чтобы молить царя о прощении, а Иоанн, оставшийся в Антиохии, был утешителем испуганных жителей. Он пользовался этим случаем, чтобы обратить народ к Богу, учил его переносить с терпением скорби и не отчаиваться в милости Божией.
«Если Господь увидит, что мы внимательны к слову Его, – говорил он, – и не отвергаем Его наставлений в сие несчастное время, то Он скоро возьмет нас под Свое попечение, доставит нам покой и изменит настоящий плач в радость. Христианину должно отличаться от неверных и, ободряясь надеждой на будущее, переносить терпеливо все испытания, каким бы ни подвергался человек. На камне поставлен верный, и волны моря не могут поколебать его. По своему же мужеству он стоит выше всего. Итак, перестанем отчаиваться, возлюбленные. Мы не столько заботимся о нашем спасении, сколько создавший нас Бог».
Со страхом ждали в Антиохии известия о решении императора. Иоанн в беседах своих объяснил народу, что христианин более должен бояться самого преступления, нежели наказания за преступление, что гнев Божий страшнее для него смерти, ибо смерть – начало жизни вечной. Он старался внушить слушателям своим то христианское мужество, которое одно дает свободу и независимость.
«Скажи мне, – говорил он, – что страшного имеет смерть? Ужели то, что она скорее приведет тебя к тихой и спокойной пристани? Как это можно, что ты, ожидающий столь вожделенных благ, „ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человека не взыдоша“ (1Кор. 2:9), не заботишься получить их, и не только не заботишься, но боишься? Ужели ты не знаешь, что пребывающие во грехах хотя и живут, но мертвы, а живущие праведно хотя и умрут, но всегда будут живы? „Веруяй в Мя, аще и умрет, оживет», – говорил Христос (Ин. 11:26). Неверующие справедливо боятся смерти, не имея надежды воскреснуть; а ты, имея сию надежду, как можешь бояться смерти, подобно неверующему?»
«Хочешь ли, чтобы я сказал тебе, почему мы боимся смерти? – продолжал Иоанн. – Потому что не живем благочестиво и не имеем чистой совести; если бы не то, смерть не устрашила бы нас; ни голод не беспокоил бы, ни лишение сокровищ, ни другое какое бедствие, ибо живущего в добродетели ничто такое не может тревожить. Лишит ли кто его сокровищ? Он имеет сокровище на небесах. Изгонит ли из отечества? Он перейдет в Небесное. Заключит ли в узы? Но совесть его останется свободна. Умертвит ли тело? Оно опять воскреснет. – Итак, перестань плакать о смерти, а плачь о грехах своих, чтобы омыть их!»
Между тем святой епископ Флавиан прибыл в Константинополь. Явившись к императору, он сначала одними слезами выражал скорбь свою о поступке антиохиан, потом стал умолять царя помиловать оскорбивших его. Он напомнил, что Господь беспрестанно являет благодеяние людям, примером Своим учит прощению обид. Он умолял Феодосия простить преступников, чтобы тем прославилась сила христианской веры, которая помогала ему преодолеть справедливый гнев свой. – «Низвергли статуи твои? – сказал Флавиан. – Но ты можешь поставить другие, славнейшие тех. Если ты простишь преступления обидевшим тебя и не подвергнешь их казни, то они не медную на площади поставят тебе статую, не золотую, не каменную, но драгоценнейшую всякого вещества статую, украшенную человеколюбием и милостью. Таковую каждый поставит тебе в сердце своем, и ты будешь иметь столько же статуй, сколько на земле есть и будет жителей».
«Впрочем, – продолжал епископ, – я пришел к тебе, государь, не от одних антиохиан; прежде их прошения послан я от Господа сказать тебе: „Аще отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14). Другие посланники приносят золото, серебро или другие дары, но я пришел к тебе со священными законами и, вместо всех даров представляя их, умоляю тебя подражать Господу твоему, который, будучи ежедневно оскорбляем нами, не перестает подавать всем блага Свои. Не постыди меня в надежде и не отвергни моего положения».
Слова святого епископа сильно подействовали на императора. Он прослезился и сказал: «Если и Господь вселенной, который для нас сошел на землю, для нас принял образ раба и от облагодетельствованных Им был распят, молился за распявших его Отцу Небесному: „Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят! “ – то не могу не простить тем, которые ругались надо мною, подобным им человеком».
С этим великодушным решением императора Флавиан возвратился в Антиохию. Златоуст в самый праздник Пасхи объявил о радостном известии жителям и прибавил: «Вы встретили вашего пастыря, украшая улицы факелами и венками, но отныне поступайте иначе. Украшайте самих себя не цветами, а добродетелями, и освещайте ваши души добрыми делами, радуясь всегда радостью духовной и непрестанно благодаря Бога не только за прекращение бедствий наших, но и за то, что Он послал их».
В 397 году умер архиепископ Константинопольский Нектарий. Многие пресвитеры желали занять его место и приехали для того в столицу. Но император Аркадий, сын Феодосия Великого, по внушению приближенного своего Евтропия решился избрать Иоанна Златоуста. Жители Антиохии так любили Иоанна, что надо было тайно вывести его из города, дабы не произошло волнения в народе. В Константинополе рукоположили его, несмотря на сопротивление Феофила, архиепископа Александрийского, который с этих пор стал врагом Иоанна.
По вступлении на престол архиепископский первой заботой Иоанна было исправление духовенства; его особенно огорчали честолюбие священников и любовь их к роскоши. Он подавал им пример простоты, уменьшая в своем доме все лишние расходы. Все деньги употреблял он на вспоможение бедным и больным. Он устроил много больниц, из которых одна находилась близ главной церкви, и поручил наблюдение над ними опытным священникам. Любовь его к бедным не имела пределов, и он часто говорил о милостыне в проповедях своих и убеждал богатых делиться с нищими братьями своими.
Занимаясь ревностно делами паствы и проповеданием, Иоанн все остальное время посвящал молитве и изучению Священного Писания. Он писал толкования на священные книги, изложил чин Божественной литургии, известной под его именем10. При беспрестанных трудах ему некогда было принимать гостей, давать обеды, как это делали многие епископы, любившие роскошь и удовольствия; и это некоторые ставили ему в упрек.
Как и в Антиохии, красноречие Иоанна привлекло множество слушателей, и он ревностно старался о распространении христианских правил и об искоренении честолюбия, гордости, корыстолюбия, чрезмерной привязанности к увеселениям, удаляющим от Бога.
Случилось во время его святительства, что однажды, в среду Страстной недели, поднялась страшная буря, которая привела в страх всех жителей Константинополя. Они устремились в церкви просить Господа о помиловании, прибегали к заступничеству святых апостолов; но едва миновала буря и прошел страх, как народ забыл о Боге и в великие дни Страстной седмицы отправился в театр и на конский бег. Иоанн пришел в негодование. «Это ли народ христолюбивый, – восклицал он, – зрелище истины и Духа? Не уважили и того дня, в который совершилось знамение спасения нашего? В пяток, когда Господь для спасения вселенной был распят, когда приносилась столь великая жертва, когда отверзся рай и разбойник входил в древнее отечество, когда разрушилась клятва, истреблялся грех, прекращалась долговременная вражда, когда Бог примирился с человеком и все преобразовалось; в тот день, в который надлежало поститься и исповедоваться и воссылать благодарственные моления к Тому, который сделал толикие благодеяния миру, – в это время вы, оставив церковь и духовную жертву, собрание братий и важность поста, отдались в плен диаволу и пустились на иное зрелище. Ты проводил столь великий день не только попусту и без надлежащего дела, но еще и во зло себе. Или ты не знаешь, что как мы, вручая слугам нашим серебро, требуем с них отчета даже до последней полушки, так и Бог потребует с нас отчета в днях жизни нашей, в чем мы провели каждый день? Что мы скажем? Чем будем мы оправдываться, когда потребуется отчет в оном дне? Для тебя восходило солнце, луна освещала ночь и сиял разнообразный хор звезд, для тебя веяли ветры, текли реки; для тебя возникли травы и росли растения, для тебя ход природы совершал свойственный себе порядок, наступал день, проходила ночь. Все сие делалось для тебя; а ты, при таком служении тебе создания, исполняешь прихоть диавола и, взявши в наем у Бога такой дом, не платишь ему что следует!»
Не об одном только Константинополе заботился Иоанн; он старался о распространении слова Божия и в самых отдаленных странах; посылал проповедников для просвещения готов и скифов, к племенам славянским, жившим во Фракии; отправлял благочестивых монахов в Финикию, Персию и другие места, заботился о переложении священных книг на разные языки.
Труды ревностного пастыря не остались без благих последствий. Благочестие жителей Константинополя заметно усилилось, пороки уменьшались; живое и пламенное слово Иоанна возбуждало в сердцах слушателей любовь к добродетели и отвращение от зла. Простой народ очень полюбил Иоанна и стекался к нему во множестве, стараясь в церкви стать к нему поближе, чтобы не проронить ни одного его слова; но не все смотрели на Иоанна с такой любовью. Те, которых он обличал за пороки, грабительство, сребролюбие, сердились на него. В числе его недоброжелателей находилось много духовных лиц, которых он отставил за то, что они не исполняли как следует обязанностей своих. Они возненавидели Иоанна, говорили, что он сердит, зол и горд, что он в проповедях своих не столько наставляет, сколько укоряет и досаждает; начали наблюдать за ним и превратно толковать все его слова, чтобы составить против него обвинение. Скоро они нашли себе сильную союзницу.
Императрица Евдокия, жена императора Аркадия, была женщиной необыкновенно сребролюбивой; нередко делала она ложные доносы, разными неправыми мерами обогащала казну свою. Иоанну часто приходилось заступаться за обиженных ею. Когда он в проповедях говорил против лихоимства и сребролюбия, когда он грозил судом Божиим тем, кто угнетает невинных и грабит имущество бедных, она принимала его слова за личную себе обиду и, возненавидев Иоанна, стала искать средств погубить его.
Несколько раз посылала она делать ему выговоры за его смелые речи, но Иоанн отвечал посланным: «Не могу не слышать голоса обиженных, плачущих, воздыхающих; не могу не укорять согрешивших: я – епископ, и мне вручено попечение о душах многих. Посему я должен неусыпным оком на все смотреть, принимать от всех прошения, всех наставлять и не кающихся укорять, ибо я знаю, как опасно не обличать беззаконий. Если я умолчу о беззаконии и неправде, то заслужу обвинение Пророка: „Священники скрыли путь Господень» (Ос. 6:9). И апостол говорит нам: „Проповедуй слово, настой благовременно и безвременно, обличай, угрожай, увещевай» (2Тим. 4:2). Я обличаю беззакония, но не творящих беззакония; не называю никого, но учу всех не делать зла, не обижать ближнего. Если же кого из слушателей моих совесть обличает в неправедном деле, то ему не на меня, а на себя самого следует негодовать, следует ему стараться исправить жизнь свою. Если царица не знает зла за собой, то ей не за что сердиться, она скорее должна радоваться, что я усердно наставляю на добро подданных ее. Я не перестану говорить правду, ибо я должен более угождать Богу, нежели человеку».
Иоанн нередко укорял жителей Константинополя за их любовь к роскоши и говорил о неприличии чрезмерно богатых женских нарядов. Одна речь его об этом предмете обратила на себя особенное внимание, и злонамеренные люди донесли императрице, что в речи были намеки на нее. Она только искала случая, чтобы погубить Иоанна, пожаловалась на него императору и вошла в сношения с врагом Иоанна, Феофилом, архиепископом Александрийским. Она выписала его в Константинополь вместе с некоторыми другими недостойными епископами, которые заранее решились признать Иоанна виноватым. Напрасно Иоанн просил свидания и объяснения с обвинителями своими. Феофил не захотел и видеться с ним, но расточал деньги и обещания, чтобы привлечь к себе более народа и найти клеветников и обвинителей на Иоанна. Беззаконный собор составился в селении, называемом Дуб, близ Халкидона, и, издав двадцать девять обвинительных пунктов на Иоанна, звал его к себе на суд. Иоанн не пошел, доказывая беззаконность собора Дуба; но враги его, склонив слабого императора Аркадия на свою сторону, произнесли отрешение Иоанна и осудили его на ссылку.
Иоанн находился в церкви, когда весть об этом пронеслась в народе; толпа бросилась туда, чтобы охранять его, отбила стражу, которая пришла за Иоанном, и требовала нового, большего собора. Так прошло двое суток. Иоанн тогда решился выйти из церкви и отдаться в руки чиновника, который должен был вести его в изгнание. Перед этим он сказал трогательную речь народу.
«Сильные волны, – говорил он, – жестокая буря! Но я не боюсь потопления, ибо стою на камне. Пусть свирепствует море; оно не может сокрушить камня. Пусть поднимаются волны; они не могут поглотить корабля Иисусова. Скажите, чего мне бояться? Ужели смерти? – „Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение» (Филип. 1:21). Ужели ссылки? „Господня земля и исполнение ея“ (Пс. 23:1). Ужели потери имения? „Мы ничего не принесли в мир; конечно, ничего не можем и вынесть из него» (1Тим. 6:7). Я презираю страх мира сего и посмеиваюсь над его благами. Я не боюсь нищеты, не желаю богатства, не боюсь смерти и не желаю жизни, разве для вашего успеха. Я для того говорю о настоящих моих обстоятельствах, возлюбленные, чтобы вас успокоить. Никто не может разлучить нас… Не тревожьтесь настоящим событием, покажите мне в одном любовь вашу – в непоколебимой вере. Я имею залог от Господа и не полагаюсь на силы мои. Я имею Его Писание, оно мне опора, оно мне крепость, оно мне спокойная пристань. Пусть вся земля придет в смятение; у меня есть Писание, его читаю я; слова в нем для меня стена и ограда. Какие слова? „Аз с вами есмь до скончания века» (Мф. 28:20). Христос со мною; кого мне бояться? Пусть поднимаются на меня волны, пусть море, пусть неистовство сильных – все для меня слабее паутины. Вы одни удерживаете меня своей любовью. Я всегда молюсь: да будет воля Твоя, Господи, не как хочет тот или другой, но как Ты хочешь! Вот моя крепость, вот мой камень неподвижный, вот моя трость непоколебимая. Если Богу угодно то, да будет! Если Ему угодно оставить меня здесь, благодарю Его; я благодарю Его, где Он ни захочет меня поставить. Ни от кого не приходите в смущение. Старайтесь быть в молитве… Мы разделяемся местом, но любовью соединены, даже смерть не может разлучить нас; хотя умрет мое тело, но душа будет жива и станет воспоминать о сем народе. Вы мне отцы; как могу забыть вас? Вы мне родные, вы моя жизнь, вы моя слава! Если вы преуспеваете, это слава мне, и жизнь моя, как богатство, лежит в сокровищнице вашей».
Окончив речь свою, Иоанн отпустил народ и отдался в руки чиновника. Но в народе началось ужасное волнение, все громогласно порицали собор Дуба, роптали на обвинителей Иоанна, окружили царский дворец, прося возвращения любимого пастыря. В следующую ночь случилось землетрясение. Тогда царица, испуганная и землетрясением, и народным волнением, сама попросила императора возвратить Иоанна. Тотчас послали вслед ему гонцов, и когда народ узнал о его возвращении, то бросился к нему навстречу. Весь пролив Константинопольский покрылся лодками. Иоанн хотел остановиться в предместье и не вступать в город, пока не будет оправдан собором; но народ почти насильно заставил его войти в город, с зажженными факелами, при песнях и радостных восклицаниях довел его до церкви и просил благословения и поучительного слова. Иоанн должен был исполнить всеобщее желание и, благословив народ, произнес хвалебное слово Господу. На другой день он говорил еще речь и прочитал перед народом письмо, которым императрица звала его обратно в Константинополь. Громкие рукоплескания и крики радости часто прерывали его слова.
Иоанн, к великой досаде Феофила и приверженцев его, вступил вновь в управление паствой своей, потому что семьдесят епископов, собравшись в Константинополе, объявили недействительным определение собора Дуба.
Неправедные гонения против него еще сильнее привлекли к нему любовь народную, но враги его не смирились и через некоторое время восстали на него с новой силой. Близ церкви, на площади, поставили серебряную статую императрицы, и при этом случае происходили шумные игры и зрелища, которые смущали молящихся во время самого богослужения. Иоанн в одной речи говорил против этого и тем раздражил вновь Евдоксию, которая опять созвала собор. Снова составили обвинительные пункты против Иоанна; около десяти месяцев продолжался суд над святителем, который во все это время продолжал поучать народ и внушать ему покорность воле Божией. Наконец, несмотря на всю беззаконность первого и второго собора, на торжественную защиту Иоанна, на его оправдание большинством епископов, враги святого уговорили слабого императора Аркадия перед самым праздником Пасхи, в Великую субботу, удалить Иоанна из Константинополя.
Иоанн отвечал посланным от императора, что он не может оставить паству, врученную ему Богом, и что можно изгнать его только силой. Тогда царская стража вломилась в церковь, хотя она полна была народа и там много было женщин, которые готовились к крещению. Народ хотел остановить воинов; в церкви пролилась кровь, улицы и площади наполнились смятенными толпами. Повсюду слышны были плач и крики. Все церкви опустели. Народ собрался в некоторых крещальнях. Там священники оканчивали крещение и читали Священное Писание. Враги Иоанна хотели принудить народ войти опять в церковь для служения утрени, но тут произошли новые смятения: войско отгоняло народ, престарелых священников били и мучили. На другой день, в самый праздник Пасхи, Константинополь опустел. Все православные собрались на загородную равнину и там праздновали торжественный день. Между тем Иоанна продолжали содержать под стражей в его собственном доме, а приверженное к нему духовенство и даже многие миряне терпели всякого рода гонения: их сажали в темницы, били и мучили.
Враги Иоанна пытались даже лишить его жизни, но преданный ему народ стал охранять его и днем и ночью. Тогда решились окончательно удалить Иоанна. Узнав о том, он пошел еще раз в церковь, простился с епископами, с диакониссой Олимпиадой и другими преданными ему служителями Церкви Божией и потом отправился в Никею – место своей ссылки. В самую ночь его отъезда случился страшный пожар, начавшийся в церкви у самого престола и истребивший множество общественных и частных зданий. Враги Иоанна оклеветали в этом приверженцев его и многих предали страшным мучениям. Вскоре после изгнания Иоанна императрица умерла, и гнев Божий много раз постигал Константинополь. Иннокентий, папа римский, и западный император Гонорий немало ходатайствовали за Иоанна, доказывая невинность его; но только после смерти святого убедили они Аркадия не преследовать приверженцев его, а обратить достойный гнев на его врагов.
Иоанн жил недолго в Никее, его перевели в Кукуз, в Армении. Дорогой он много страдал от усталости и зноя; но в Кукузе все его приняли с благоговением. Здоровье его тут несколько поправилось; из Константинополя и Антиохии к нему приезжало много друзей, приносили деньги и все нужное. Он раздавал нищим полученные деньги, выкупал пленных, не упуская случая учить народ, сверх того посылал проповедников для распространения слова Божия. Из Кукуза он написал также множество писем разным лицам.
Таким образом Иоанн прожил в Кукузе два года. Однажды только он удалился в горы по случаю нападения дикого соседнего народа. Но враги его не забыли о нем и в изгнании; их тревожило, что Иоанну оказывали почести и любовь. Велено было перевести его в небольшой город на берегу Черного моря, и дано было тайное приказание обращаться с ним строго. Святого Иоанна влекли, не давая ему отдохнуть, то по палящему зною, то по дождю. Его мучили таким образом в продолжение трех месяцев, он не окончил своего путешествия и умер в небольшом городе Команах. Накануне смерти своей он имел видение: ему явился во сне святой Василиск, которого мощи покоятся в этом городе, и сказал ему: «Не унывай, мы завтра будем вместе». Святой Иоанн, ожидая смерти своей, не хотел идти далее; однако его принудили идти некоторое время, но болезнь его так усилилась, что скоро надо было возвратиться. Иоанн приготовился к смерти, приобщился Святых Таин и со словами «Слава Богу за все» предал дух свой Богу. Множество христиан собралось на его похороны.
Через тридцать лет после того мощи святого были перенесены в Константинополь. Опять Константинопольский пролив покрылся лодками со множеством народа, который торжественно встречал нетленные останки великого святителя. Новый император Феодосий Младший, сын покойного Аркадия, и сестра его Пульхерия молились у гробницы святого о том, чтобы Бог простил их родителей. Мощи его были положены в церкви Святых апостолов.
Святой Иоанн Златоуст кроме литургии оставил много назидательных сочинений. Есть множество его проповедей к антиохийскому народу, беседы о покаянии и на праздники, толкования посланий апостола Павла, беседы на евангелиста Матфея и много других сочинений.
«От небес приял еси Божественную благодать, – восклицает Святая Церковь, – и твоими устнами вся учиши поклонятися в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, всеблаженне преподобие, достойно хвалим тя: еси бо наставник, яко Божественная являя.
Уст твоих, яко же светлость огня, воссиявши, благодать вселенную просвети, не сребролюбия мирови сокровища сниска, высоту нам смиренномудрия показа; но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте, моли Слова Христа Бога спастися душам нашим».
Житие святого апостола Филиппа
14 ноября
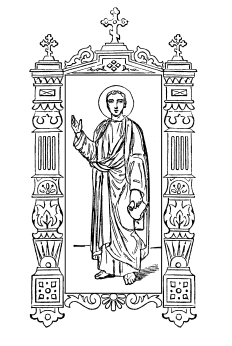
Апостол Филипп был родом из города Вифсаиды, как Петр и Андрей. Спаситель, видя его, велел ему идти за Собой. Филипп сообщил другу своему Нафанаилу, что он нашел Мессию. «Мы нашли, – сказал он, – Того, о котором писали Моисей и пророки; это Иисус из Назарета». – Назарет был презираем иудеями, потому что в нем жило множество язычников, и Нафанаил отвечал Филиппу: «Из
Назарета может ли что доброе быть?» – «Поди и посмотри», – возразил Филипп. Нафанаил, увидев Спасителя и будучи поражен Божественным всеведением, воскликнул: «Равви! Ты – Сын Божий, Ты – Царь Израилев» (Ин. 1:43–49).
Филипп последовал за Христом и был свидетелем многих Его чудес. Имя этого апостола упоминается в евангельском рассказе о том, как Иисус Христос пятью хлебами напитал пять тысяч человек. После Тайной вечери, когда Иисус в беседе с учениками наставлял их и укреплял в вере, Филипп сказал:
– Господи! Покажи нам Отца, и довольно будет для нас.
– Столько времени Я с вами, и ты еще не знаешь Меня, Филипп? – отвечал Спаситель. – Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: «Покажи нам Отца»? (Ин. 14:8–9).
Этими словами святые отцы Церкви опровергали лжеучение Ария, не признавшего Божества в Иисусе Христе и единосущия Его с Богом Отцом.
По сошествии Святого Духа на апостолов Филипп проповедовал Евангелие сперва в Галилее, где именем Божиим воскресил умершего младенца, и потом в Греции. Чудеса его и святое его учение привлекли множество людей, которые, оставляя идолов своих, обращались к Богу. Видя это, иудеи, находившиеся в Греции, писали в Иерусалим к первосвященникам: «Какой-то человек, пришедший от вас, проповедует здесь Христа распятого, исцеляет больных, воскрешает мертвых, и уже многие уверовали по слову его». Прислали из Иерусалима одного из начальников для рассмотрения дела; он потребовал Филиппа на суд и с гневом сказал ему: «Не довольно ли ты прельщал простых и неученых людей в Галилее и Самарии? А еще пришел к мудрым эллинам проповедовать свое ложное учение. Не пострадал ли и Сам учитель твой Иисус за ложные слова Свои? Он был распят на кресте и умер! А вы, украв из гроба тело Его, проповедуете, будто Он воскрес».
Услышав это, стоявший тут народ стал требовать казни Филиппа; апостол смело сказал начальнику: «Зачем сердце твое ожесточилось и не хочет познать истины? Не вы ли сами запечатали гроб и приставили к нему сторожей? И когда Господь воскрес, не вы ли подкупили их, чтобы они сказали, будто ученики ночью украли тело Его? Печать гроба свидетельствует об истине воскресения Христова и обличит вас в день отмщения».
Начальник гневно устремился на Филиппа, но внезапно ослеп. Такое же наказание постигло и других, требовавших казнить Филиппа как волшебника. Тогда только они познали силу Христову. Филипп, помолившись о них, возвратил зрение ослепшим, и все приняли крещение, кроме начальника иудейского, который был наказан смертью за свое жестокосердие.
Филипп, пожив некоторое время с уверовавшими и поставив им епископа, оставил Грецию и пошел проповедовать в другие страны. Господь оказывал ему помощь Свою и укреплял его чудесными явлениями благости Своей. Филипп проповедовал в Аравии, в Эфиопии и везде обратил очень многих ко Христу. Отправляясь на корабле в город Азот, он однажды ночью был застигнут страшной бурей; но, по молитве его, вдруг на небе явился сияющий крест, который озарил темноту ночную, и буря внезапно утихла. В Азоте Филипп силой Божией исцелил девицу и успешно проповедовал Евангелие. В городе Иераполе народ, слыша, что он излагает новое учение, хотел было побить его каменьями, но старец по имени Ир удержал сограждан своих, говоря: «Послушайте его сперва, и если окажется, что учение его ложное, то убьем его». Затем Ир взял Филиппа к себе в дом и вскоре, убедившись, что учение его истинно, уверовал в Господа со всем семейством своим. Прочие же жители и начальники города еще долго упорствовали в неверии. Они призвали Филиппа к суду, хотели погубить его; но чудеса, совершенные святым апостолом, который перед всем народом воскресил умершего, наконец убедили язычников, и многие из них приняли Святое крещение.
Филипп обошел разные области Малой Азии, смело проповедуя слово Божие и перенося терпеливо гонения и страдания. Ему сопутствовала сестра его, девица Мариамна; тут же, по повелению Божию, присоединился к ним и святой апостол Варфоломей и делил труды святых проповедников. Они встретили святого Иоанна Богослова, тоже проповедовавшего в Малой Азии; и с ним вместе пришли в другой Иераполь, Фригийский. Там оставил их Иоанн и сам пошел далее.
Город Иераполь был полон идолов и идольских капищ; там между прочим стояло капище, в котором поклонялись ехидне. Ее считали каким-то божеством, многочисленные жрецы служили ей, и суеверные жители приносили ей дары и жертвы. Апостолы обличили ложь и суету этого поклонения, убили ехидну, и храм ее опустел, потому что множество язычников уверовало в Господа.
Среди них находился известный в городе человек по имени Стахий, который уже сорок лет был слепым. Святые апостолы возвратили ему зрение, и благодарный Стахий, уверовав и приняв Святое крещение, упросил апостолов жить в доме его. Тут собрались все желавшие слышать святое учение, приносили больных, и апостолы исцеляли их и обращали к Богу. Так исцелили они в том числе жену начальника города, которая тоже уверовала. Донесли начальнику, что жена его приняла новое учение, которое проповедуют иностранцы, живущие у Стахия. Начальник в страшном гневе велел тотчас же схватить проповедников Христовых и сжечь дом Стахия. Схватили Филиппа, Варфоломея и Мариамну, били их, волокли по улицам и наконец заключили в темницу.

Через несколько дней привели их на суд. Собралось множество народа, пришли и жрецы идольские, которые сильно негодовали на апостолов и старались все более и более возбудить против них гнев начальника. «Отмсти за богов наших, – говорили они ему. – С тех пор как эти люди вошли в наш город, храмы наши опустели и народ перестал приносить богам подобающие им жертвы. Казни этих волхвов». Тогда начальник приговорил апостолов к крестной казни. Филиппа распяли головой вниз, повесив крест на высоком дереве против капища ехидны, и бросали в него каменьями. Варфоломей распят был при стене того же храма. Но внезапно началось страшное землетрясение. Взволнованный народ стал просить молитв святых апостолов и бросился снимать их с крестов. Сняли Варфоломея, который еще был жив; подошли к Филиппу, но он уже предал дух свой Богу. Последними словами его была молитва за мучителей. Варфоломей похоронил честное тело его. Рассказывают, что на месте, где оно было положено, через три дня выросла виноградная лоза.
Многие жители Иераполя приняли крещение; Варфоломей и Мариамна укрепляли их в вере и научали слову Божию. Потом святой Варфоломей поставил им епископом благочестивого старца Стахия.
Впоследствии Варфоломей пошел в Армению, где принял крестную смерть, а Мариамна11 – в Ликаонию, где обратила многих ко Христу и где умерла в старости.
После дня памяти святого апостола Филиппа, т. е. 15 ноября, начинается пост, который служит приготовлением к празднику Рождества Христова. Потому в простонародье этот пост называется Филипповским.
Страдания святых мучеников Гурия, самона и Авива
15 ноября
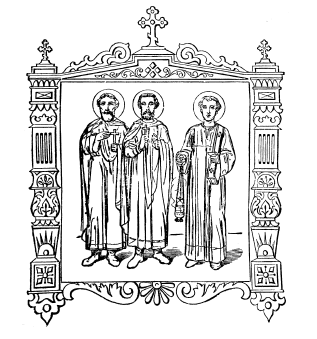
Святой Гурий и Самой пострадали в городе Эдессе во время гонения при Диоклетиане. Самыми ужасными истязаниями понуждали их возложить фимиам на идольский жертвенник, но христиане готовы были скорее идти на смерть, чем совершить языческий обряд. Среди страданий своих они молили Господа о помощи. «Господи Боже наш, – восклицал Самой, – Ты, без воли которого ни одна птица не погибает, Ты, возвеличивший гонимого Давида, Ты, избавивший Даниила от уст львиных и даровавший еврейским отрокам безопасность среди пламени, Ты, укрепляющий немощь естества нашего, помоги нам силою Твоею, охрани в нас неугасимый светильник заповедей Твоих, руководи нас Твоим светом и сподоби нас достигнуть блаженства, яко благословен еси вовеки». Господь услышал молитву святых и даровал им необычайную твердость. Претерпев страшные истязания, мученики были усечены мечом.
Спустя несколько лет при императоре Ликинии диакон Авив был замучен в Эдессе за веру Христову. Тело его, оставшееся невредимым в огне, было погребено при гробе святых Гурия и Самона, и впоследствии христиане эдесские соорудили церковь над мощами святых мучеников, которых Господь прославил чудесами.
Житие святого евангелиста Матфея
16 ноября
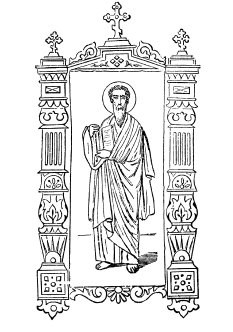
Святое Евангелие повествует, что Иисус Христос после исцеления расслабленного пошел к морю Тивериадскому, что недалеко от Капернаума. Он остановился у того места, где собирались подати. Увидев там Матфея-мытаря, Он сказал ему: «Иди за мною» (Мф. 9:9; Мк. 2:14). Должность мытаря, или сборщика податей, была в большом презрении у иудеев, потому что мытарь собирал подати с народа Божия для правительства языческого. Мытари, сверх того, слыли весьма корыстолюбивыми людьми. Когда Иоанн Креститель проповедовал людям покаяние и мытари вместе с прочими приходили к нему спрашивать, что им должно делать, чтобы получить Царство Небесное, Предтеча говорил им: «Не берите более надлежащего».
Господь знал душу мытаря, презираемого иудеями. Он нашел его достойным принять истинное учение. И действительно, Матфей с радостью услышал слова Спасителя, попросил Его в дом свой и пригласил туда некоторых знакомых своих. Господь милостиво беседовал с ними. Гордые фарисеи стали осуждать Спасителя и сказали Его ученикам: «Отчего Учитель ваш ест и пьет с грешниками?» На это Спаситель сказал: «Не здоровые нуждаются во враче, но больные. Я пришел призвать к покаянию не праведных, а грешных» (Мф. 9:12–13). Как утешительны слова эти для всех нас, грешных людей!
С этого времени Матфей был всегда с Иисусом Христом в числе двенадцати учеников Его. Называют его тоже Левием, но он сам из смирения называет себя Матфеем-мытарем, как будто для того, чтобы напомнить о своем прежнем звании.
Матфей написал Евангелие свое по просьбе апостолов через восемь лет после вознесения Спасителя. Он первый описал события земной жизни Господа нашего. Повествование его отличается необыкновенной простотой и понятно для каждого; оно передает подробно высокое и Божественное учение Христа о блаженствах, о молитве и проч. Обыкновенно на иконах, изображающих святого Матфея, пишут возле него, как таинственный символ евангелиста, ангелоподобного человека, выражая тем кротость его духа и чистоту учения.
Жизнь святого евангелиста Матфея очень мало известна. Он был братом святого апостола Иакова Алфеева и, как и другие апостолы, проповедовал учение Христово и был во многих и далеких странах: в Мидии, Персии, Парфии и Индии. Предание рассказывает, что он пришел к одному дикому народу, который поразил его своим отвратительным безобразием. Там явился ему Господь, дал ему жезл, который велел водрузить в землю, и обещал, что жезл этот принесет плоды, а из корня его истечет чудный источник. Действительно, Матфей, собрав всех жителей, посадил жезл, который сейчас же расцвел и в глазах изумленного народа покрылся чудными плодами; из корня же его забил чистый ключ. Все бросились к этому дереву, пили воду из чудесно открывшегося источника и, по внушению апостола, принимали здесь Святое крещение, после чего исходили из воды уже без прежнего безобразия.
Святой евангелист Матфей окончил жизнь свою мученически. Страдания и смерть его ознаменовались многими чудесами. Когда хотели взять его на мучение, лицо его поразило гонителей чудесным светом; они ослепли, но он молитвой возвратил им зрение. Пламя не прикасалось к нему при мученическом его подвиге; и когда наконец он предал дух свой Богу, то мучители с ужасом и изумлением исповедали силу Божию, почтили его святые мощи и стали ревностными христианами.
Житие святого Григория, Неокесарийского чудотворца
17 ноября
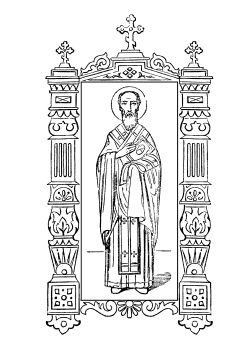
Григорий Неокесарийский жил в III веке. Он родился в языческой семье и до крещения назывался Феодором. Когда же он достиг юношеского возраста, то, готовясь вступить в мирскую службу, отправился с братом своим Афинодором в город Верит, чтобы окончить образование в тамошней знаменитой школе правоведения. По пути юноши посетили Кесарию, где в то время великий наставник Александрийского училища Ориген преподавал философию. Каппадокийский епископ Фирмилиан познакомил с ним двух неокесарийских юношей. Это имело огромное влияние на всю их жизнь. Феодор и Афинодор, послушав великого наставника, решились не идти далее, а стать его учениками. Вскоре под его руководством они поняли, что мудрость и истина – только в учении Христовом. Божественный свет веры озарил их сердца, и оба они приняли Святое крещение, при чем Феодор был назван Григорием.
Григорий привязался всем сердцем к великому наставнику, указавшему ему путь истины; слушал его несколько лет сряду и в Кесарии, и в Александрии и потом вернулся в отечество свое, Неокесарию, ревностным христианином. Жить для Бога, угождать Ему исполнением Его святых заповедей стало предметом всех его стараний. Презрев всякие богатства и почести, он на время удалился в пустыню, чтобы в молитве и уединении укрепиться для трудного подвига жизни. Там дошла до него весть, что неокесарийские христиане желают иметь его епископом. Эта весть устрашила его. Полный искреннего и глубокого смирения, он не считал себя достойным пасти Церковь Божию и решился уклониться от избрания, скрывшись в глубину пустыни. Но неокесарийские христиане настаивали на избрании своем; епископ Амасийский Федим, с которым они советовались и которому были известны великие достоинства избранного, пламенно молил Господа, чтобы Он расположил Григория принять епископское звание, и наконец, горя ревностью к общему благу, решился посвятить его отсутствующего. «Ты, всеведущий и всеблагой Господь, – воскликнул он, – призри в час сей на меня и на Григория и освяти посвящение благодатью Твоей». Известили о сем Григория; он не решился воспротивиться общему желанию, видя в нем проявление воли Божией, призывающей его на трудное служение. Он прибыл в Кесарию, принял рукоположение по установленному порядку и вступил в звание епископа с твердым намерением посвятить все силы и средства на служение Богу и ближним.
Паства его была немногочисленна; Неокесария была полна язычников, и христиан было не более семнадцати человек; но тем не менее трудное дело предстояло епископу; множество ересей тогда волновало Церковь; но Григорий надеялся, что Господь, призвавший его на трудное служение, не откажет ему в помощи Своей; он беспрестанно молил Его сохранить его на пути истины и помочь ему правильно наставлять паству свою. И Господь исполнил эту молитву. Однажды ночью святому Григорию явилась Пречистая Богородица со святым апостолом Иоанном Богословом, который в кратких словах изложил ему высокое учение о Святой и Нераздельной Троице. Слова его были записаны епископом; и долго Церковь Неокесарийская хранила благоговейно Символ веры, известный под именем символа святого Григория Чудотворца.
Господь прославил верного служителя Своего даром чудотворения. По молитве Григория больные получали исцеление, духи нечистые повиновались слову его; тайные помышления и будущие события были открыты ему; и чудеса его были так многочисленны, что вся страна звала его вторым Моисеем; язычники, изумленные чудными проявлениями силы Господней, во множестве обращались к Богу истинному. Толпами приходили к святому епископу за наставлением и помощью.
Настало страшное гонение по повелению императора Декия. Григорий считал обязанностью каждого христианина охранять жизнь свою, пока это возможно без нарушения долга, ибо жизнь есть драгоценный дар, который мы должны употреблять во славу Божию; он убедил новообращенных чад своих укрыться от гонителей, с отеческой любовью заботился об их безопасности, и сам удалился из города, чтобы подать им пример. В убежище своем он постоянно молил Господа укрепить верующих силой Своей. Однажды воины, искавшие его, чтобы предать суду, дошли до самого места, где он укрывался; однако волей Божией он остался для них невидимым.
Гонение было жестоко, но непродолжительно. Когда оно миновало, Григорий вернулся в Неокесарию, где ревностно продолжал святую деятельность свою: он принимал горячее участие во всех делах Церкви, наставлял и устно, и письменно, присутствовал на соборах против лжеучителей и, когда настал час смерти его, имел утешение узнать, что в Неокесарии осталось всего семнадцать человек язычников. Славя и благодаря Бога за оказанные ему милости, святой чудотворец скончался мирно в 276 году. Вся страна долго хранила память о нем, и Церковь Неокесарийская свято соблюдала чин святых служб, оставленный им.
Память святого мученика Платона
18 ноября
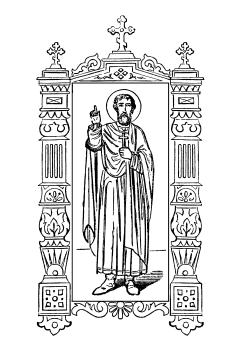
Святой Платон родился в Малой Азии от благочестивых родителей, которые воспитали его в законе христианском. Брат его Антиох скончался мучеником, и вскоре и юный Платон был призван на суд за веру. Правитель страны старался склонить его к отречению.
– Сбереги жизнь свою, – говорил он ему.
– Я так и делаю, – отвечал Платон, – я спасаюсь от смерти вечной и ищу жизни бесконечной.
– Разве две смерти? – спросил правитель.
– Две, – отвечал Платон, – одна временная, другая вечная; так же и две жизни: одна краткая, мгновенная, другая же бесконечная.
– Оставь эти басни и поклонись богам, – увещевал правитель.
– Не надейся преклонить меня, – говорил Платон. – Ни огонь, ни раны, ни ярость зверей, ни сокрушение всех членов моих – ничто не разлучит меня от Бога живого. Я не здешние блага люблю, но люблю Христа, умершего за меня и воскресшего.
Правитель велел отвести Платона в темницу. Перед темницей собралось множество народа, среди которого были и христиане. Платон, обратившись к ним, сказал громогласно: «Знайте, братья, я страдаю не за преступление какое, а единственно за исповедание Бога истинного, создавшего небо и землю и весь мир. Умоляю же вас, христиане, не смущайтесь, видя страдания мои; многие скорби праведнику, и от всех их избавит его Господь. Будем стоять твердо на непоколебимом камне веры и не убоимся претерпеть страдание за благочестие, ибо несравненны страсти нынешнего века со славой, уготованной нам».
Затем мученик вошел в темницу. Тут, пав на колени, он стал молить Господа Бога, чтобы Он помог ему претерпеть до конца за веру и явил бы неверующим славу Свою.
Господь услышал и исполнил молитву мученика. Когда через неделю его опять повели к допросу и правитель подверг его самым ужасным истязаниям, все оказалось бесполезным. Платон оставался здрав и невредим и громогласно славил и благодарил Бога. После этого его долго мучили голодом в темнице и наконец, убедившись, что ничто не преклонит его к отречению, осудили на смертную казнь. Платон с молитвой принял смертельный удар.

В тот же день совершается память святых мучеников Романа, диакона церкви Кесарийской, и отрока Варула.
Память преподобных отцов Варлаама и Иоасафа
19 ноября
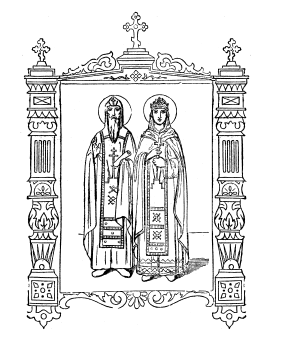
Далеко на востоке есть страна богатая и обширная, которая называется Индией. Предание говорит, что в ней святой апостол Фома проповедовал слово Божие; но христианская вера не успела утвердиться между язычниками, и впоследствии верующие подвергались тяжким гонениям от идолопоклонников. Особенно жестоко обращался с ними один царь, Авенир, который ненавидел христиан. Многие из них, страшась мучений, отрекались от веры своей; другие, оставив города, удалялись в пустыни и горы и продолжали служить Господу и исполнять заповеди Божии.
У царя Авенира родился сын, которого он назвал Иоасафом. Следуя обычаю страны, царь созвал волхвов и мудрецов, чтобы узнать от них о будущей судьбе младенца. Призванные предрекли младенцу множество благ: кто сулил ему богатство, кто красоту, кто мудрость; но один из волхвов сказал: «Ребенок сей будет премудр, но не земной мудростью, ибо он примет христианскую веру».
Эти слова опечалили царя, и он решился принять всевозможные меры, чтобы отвратить сына от христианского учения. Он усилил еще гонение на христиан и потом повелел им немедленно оставить его государство.
Затем он построил для сына своего богатый великолепный дворец, окруженный роскошными садами. В нем воспитывался юный царевич. Царь избрал для него молодых воспитателей, товарищей и служителей, которые должны были беспрестанно заботиться о том, чтобы ничто печальное и неприятное не достигло Иоасафа. Не позволялось говорить ему ни о болезни, ни о старости, ни о смерти; заболевал ли кто из окружавших его, его немедленно удаляли и заменяли другим. Велено было беспрестанно занимать царевича разнообразными приятными предметами, чтобы он ни о чем не мог ни задуматься, ни опечалиться; о Христе же и христианах было запрещено упоминать в его присутствии. Устроив все таким образом, царь надеялся, что удалил от сына всякую возможность сделаться христианином.
Иоасаф достиг юношеского возраста, не зная ничего о печалях и о скорбях людских. Он знал только удовольствие и наслаждения жизни; во дворце находилось все, чего только можно пожелать; воспитатели и товарищи любили царевича, который был добр, умен и прекрасен собой; все наперебой старались угождать ему и забавлять его. Однако царевичу очень захотелось выйти из ограды прекрасного дворца своего и посмотреть на незнакомый ему мир. Это желание усиливалось с каждым днем, и царевич стал грустен и задумчив.
Царь заметил задумчивость сына и сказал ему однажды:
– Что опечалило тебя, любезный сын мой? Открой мне скорбь свою, и я постараюсь превратить ее в радость.
Иоасаф открыл отцу желание свое. Царь опечалился.
– Чего же недостает тебе в этом дворце? – сказал он. – Здесь все, чего только можно пожелать; здесь все существует и все живут лишь для твоего удовольствия. В мире же тебе могут встретиться предметы, которые опечалят тебя, а я желаю, чтобы жизнь твоя текла в непрерывном веселье.
Но Иоасаф продолжал убедительно просить отца, чтобы он позволил ему выехать из ограды дворца, и царь наконец согласился, боясь опечалить сына отказом. Он подарил Иоасафу прекрасных коней, и царевич стал часто выезжать из дворца, окруженный многочисленной прислугой и всей пышностью царской. Отец его, однако, принял все предосторожности. Он повелел приближенным Иоасафа строго наблюдать за тем, чтобы царевичу во время прогулок не встречалось ничего неприятного и по дороге были приготовлены музыка и увеселительные зрелища.
Но при всем этом царевичу однажды встретились двое несчастных; один был слеп, другой одержим проказой. Царевич с ужасом спросил, кто эти люди и что с ними. Смущенные служители должны были открыть царевичу, что страдания постигают иногда людей.
– Всем ли суждено испытывать их? – спросил изумленный царевич. – И те, которых постигают такие несчастья, знают ли о том заранее?
– Будущее сокрыто от нас, – отвечали ему.
Царевич замолчал, но в сердце его проникла грусть. Он долго оставался печален и задумчив.
Через некоторое время после этого он однажды встретил седого и согбенного старика.
– Что с ним? – спросил Иоасаф. – Какая это болезнь?
Ему ответили, что человек этот давно живет на свете и что силы его ослабли.
– Что же будет после, когда он проживет еще несколько лет? – спросил царевич.
– Тогда его постигнет смерть, то есть конец всему, – отвечал наставник.
– Неужели все осуждены на страдания и смерть и нет ли какой хитрости или искусства, чтобы избавиться от таких бед? – спрашивал удивленный царевич.
Ему ответили, что смерть есть неизбежная участь всякого человека, что по неизвестному закону природы всякий, кого не поразила она в молодости, должен ожидать ее в старости, когда постепенно ослабевают его силы.
– Как грустна наша жизнь! – воскликнул Иоасаф. – Как полна скорби и страданий! Можно ли жить в радости, когда мы знаем, что нас неизбежно ждет смерть и что она может постигнуть нас во всякий час?
С тех пор как царевич услышал о смерти и болезни, он весь погрузился в грустное размышление о недолговечности всего земного. Эти мысли беспрестанно волновали его ум и отравляли все его радости. Он часто думал о смерти и томился смутным желанием привязаться к чему-нибудь вечному и непреходящему. Он таил от отца грустное настроение свое, но был откровенен с любимым наставником и расспрашивал его, все ли кончается жизнью этой и не слыхал ли он о другой, загробной жизни. Наставник не мог ему дать на это удовлетворительного ответа; он рассказал только, что были здесь люди, которых называют христианами, что они веруют в вечную жизнь за гробом и жертвуют для нее всеми радостями мира, проводя дни свои в молитве и труде, но что царь почитал их людьми вредными и изгнал их из своего государства.
В это самое время в стране той жил, скрываясь в отдаленной пустыне, святой отшельник по имени Варлаам. Господь внушил ему сильное желание увидеть Иоасафа. Переодевшись купцом, он проник во дворец и после многих затруднений был принят любимым наставником царевича.
– Передай питомцу твоему, – сказал Варлаам, – что я пришел из далекой страны и принес ему драгоценный камень, который ценой выше всех сокровищ мира. Камень этот дает слепым зрение, больным здравие, страждущим утешение; дает все блага тому, кто обладает им.
Наставник попросил увидеть этот необыкновенный камень, не веря словам купца, но Варлаам объявил, что одному царевичу покажет сокровище. Наставник, желая чем-нибудь развлечь постоянную задумчивость царевича, привел к нему мнимого купца.
Царевич, оставшись один с Варлаамом, стал с любопытством расспрашивать о принесенном сокровище. Старец отвечал ему:
– Царевич, я говорил правду твоему наставнику, у меня есть сокровище; но прежде чем показать его тебе, я должен знать, как ты примешь его. А для этого я расскажу тебе притчу, которую сказал Господь мой и Учитель. Вышел сеятель сеять. Иное семя его упало на дорогу, и птицы поклевали его; другое упало на каменистую почву и высохло, не дав корня; третье упало в терние и было заглушено им; иное же семя упало на добрую землю и принесло плод во сто раз больше посеянного. Что найду я в сердце твоем? Если камень и терние, то не следует мне сеять в такую почву драгоценное семя; но если я найду в тебе добрую землю, то есть сердце, готовое принять истину, то я не поленюсь посеять в него божественное семя. Тогда получишь ты камень драгоценный, просветишься светом истины и плод воздашь сторицею.
– Старец честный! – воскликнул царевич. – Давно я одержим желанием услышать слово новое и благодатное; давно сердце мое горит жаждой истины, но до сих пор я не встретил человека, который бы разрешил мои сомнения и наставил меня. Если ты это можешь, не скрой от меня того, что знаешь. Твои слова падут не на камень и не в терние; не унесет их легкомыслие; но я приму их с благодарностью и свято сохраню их в сердце своем. Уже одно пришествие твое исполнило сердце мое радостью и неизъяснимой надеждой.
Варлаам, видя желание царевича узнать истину, стал говорить ему о Боге, Создателе вселенной; потом открыл ему Священное Писание, рассказал о сотворении мира, о грехопадении человека, о страданиях и бедствиях его, о сошествии Иисуса Христа на землю для спасения погибающих людей, о воплощении, вольной смерти и воскресении Господа нашего.
Каждое слово старца глубоко западало в сердце царевича и наполняло его любовью и умилением; он понял, что драгоценный камень, который принес ему старец, есть вера во Христа. Он со слезами обнимал и благодарил Варлаама.
Наставник, видя, как обрадовался царевич, позволил старцу посещать его. Варлаам продолжал открывать ему учение Христово; рассказывал ему о жизни праведных, о блаженной смерти их, о воскресении мертвых, о Страшном суде и воздаянии за гробом. С изумлением услышал царевич о жизни пустынников, об их вольной нищете и беспрестанных молитвах. Жизнь их показалась ему блаженной; он захотел идти в пустыню вместе с Варлаамом; но святой старец сказал ему, что такой поступок навлечет на христиан новое гонение, что царевич должен жить с отцом своим и что он и здесь может исполнять заповеди Господни.
– Если Богу угодно, чтобы я служил Ему здесь, – сказал Иоасаф, – то дай мне, по крайней мере, Святое крещение и возьми часть моего богатства; отдай его бедным и пустынникам.
– Убогий не дает богатым, – отвечал Варлаам, – мы богаты небесными дарами, нам не нужно твоего золота, а ты еще язычник. Приготовься, сын мой, к Святому крещению молитвой и постом.
Через несколько дней, посвященных изучению Священного Писания, Варлаам окрестил царевича во имя Отца и Сына и Святого Духа и причастил его Святых Таин. Потом он простился с юным учеником своим и вернулся в пустыню. На прощание Иоасаф выпросил у него власяницу, которую всегда носил пустынник.
Царевич стал ревностно исполнять обязанности христианина; полный любви к Богу, он проводил дни свои в молитве и чувствовал душевное спокойствие и неизъяснимую радость; но вскоре царь узнал от одного служителя об обращении сына к закону христианскому. Он разгневался и стал отыскивать везде святого старца, не нашел его, но замучил много христиан. Между тем он принимал все меры, чтобы отклонить сына от нового учения; старался на него действовать то угрозой, то ласками; но царевич оставался тверд и только мудрыми и кроткими словами доказывал отцу ложь язычества.
Царь, видя непреклонность сына, решился созвать для состязания о вере всех индийских мудрецов и христианских отшельников. Он надеялся на одного ученого волхва, который, по его мнению, мог с успехом оспаривать учение христианское, и велел христианам явиться в столицу, но они были рассеяны недавним гонением, и потому явилось их очень мало, между ними был только один старец, искусный в Святом Писании. Много же собралось индийских и халдейских мудрецов. Царь заранее радовался торжеству язычества, тем более что упомянутый волхв, похожий лицом на Варлаама, стал на стороне христиан, будто был сам действительно Варлаам. Что же случилось? Этот самый ученый волхв, на которого царь так надеялся, вдруг убедился в той истине, которую хотел опровергать, и, исполнившись благодати Божией, стал красноречиво доказывать ложь и суету язычества. Озаренный светом истины, он посрамлял язычников сильным словом своим, и таким образом то, что было назначено в хулу, послужило к торжеству христианства. Число верующих умножилось, и все приходили к Иоасафу за наставлением и советом.
Сам царевич желал оставить мир и посвятить себя служению Богу. Царь напрасно употреблял все средства, чтобы привлечь сына своего к радостям мира. Ни удовольствия, ни роскошь, ни разные обольщения не могли отвратить сердце его от Бога. Напрасно собрали в столицу самых прекрасных девиц, чтобы избрать для царевича достойную невесту. Все было тщетно. Господь укрепил сердце Иоасафа видениями райского блаженства, перед которым казалось ничтожным все блаженство земное; и среди великолепия и богатства, окруженный удовольствиями, царевич томился желанием жить в нищете и труде и в отдаленной пустыне посвятить дни свои постоянной молитве. Царь был в отчаянии и уже не знал, что ему делать.
Наконец один из приближенных его сказал ему: «Государь! До сих пор сын твой не знал ни труда, ни заботы. Ты, вероятно, ничего не пожалеешь, чтобы спасти его. Может быть, заботы и деятельность отвлекут ум его от постоянной его мысли». Царь тогда отдал сыну половину своего царства и требовал от него, чтобы он деятельно занялся правлением.
С этих пор жизнь царевича изменилась; он понял, что может служить Богу на другом поприще, и не просился в пустыню. Он устремил все мысли свои к заботам о счастье подданных, старался упрочить их благосостояние, но всегда больше думал о том, чтобы просветить их души учением истинной веры. Он призвал к себе на помощь испытанных скорбями прежнего времени служителей Церкви и имел счастье видеть, что многие из подданных его обратились к вере истинной.
Наконец и сам царь убедился в истине; он отдал сыну остальную часть государства и, приняв Святое крещение, провел в благочестии и покаянии последние годы жизни. По смерти отца Иоасаф, упрочив мудрыми распоряжениями благосостояние подданных, передал правление в другие руки, а сам решился исполнить давнишнее свое желание. Оставив всю роскошь царского своего жилища, он надел власяницу, данную ему Варлаамом, и пошел по пустыням отыскивать своего наставника. Долго ходил Иоасаф; наконец он нашел престарелого пустынника в далекой, никому не известной пещере. С радостью услышал Варлаам, как благословил Господь благое семя, посеянное им в сердце царевича, и прославил Бога за обильный плод, который оно принесло. Достаточно времени прожил Иоасаф со своим добрым учителем, слушал его наставления и молился вместе с ним. Наконец, он закрыл ему глаза и потом продолжал свою уединенную жизнь. В двадцать пять лет оставил он земное царство, а в тридцать пять лет отошел ко Господу. Пустынник, живший недалеко, похоронил его возле Варлаама. Мощи двух святых творили многие чудеса и были впоследствии перенесены в столицу и в церковь, построенную Иоасафом.

В тот же день память святого пророка Авдия.
Память святого Прокла, патриарха Цареградского
20 ноября

Святой Прокл, ученик Иоанна Златоустого, с великой силой опровергал ложные учения патриарха Константинопольского Нестория, который неправо учил о Пресвятой Деве, утверждая, что не следует именовать Пресвятую Деву Богородицей, потому что будто бы она родила не
Бога, а простого человека. Эта ересь возбудила общее негодование и была осуждена Третьим Вселенским собором Ефесским в 431 году. Несторий был низложен и изгнан, и на его место назначен другой патриарх, Максим, которому наследовал святой Прокл. Было тогда смутное и тяжелое время; беспрестанно возникали различные ереси и, вследствие этого, печальные раздоры и волнения. Прокл постоянно действовал в духе кротости и любви; он стоял твердо за истину; старался наставлениями оградить паству свою от вредных лжеучений и кротко увещевал заблуждающихся. Он убедил императора Феодосия Младшего перенести в Константинополь мощи святого Иоанна Златоустого, умершего в изгнании, и это перенесение было торжественно совершено в 438 году 27 января.
Другое удивительное событие ознаменовало святительство Прокла. Однажды случилось в Константинополе страшное землетрясение. Весь народ пришел в ужас; патриарх совершил торжественное молебствие с крестным ходом, все восклицали: «Господи помилуй!» – и со слезами молили Господа о прекращении бедствия. Вдруг отрок был вознесен чудесным образом на воздух и потом, опуставшись на землю, рассказал, что слышал ангельские голоса, воспевающие: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный». Как только это пение, с прибавлением слов «Помилуй нас», было повторено, то землетрясение внезапно прекратилось; с этих пор эта священная песнь вошла в употребление при богослужении. Святой патриарх скончался в 446 году.
В тот же день память преподобного Григория Декаполита, жившего во время иконоборчества.
Введение во храм Пресвятой Богородицы
21 ноября

Когда Пречистой Деве исполнилось три года, праведные ее родители захотели исполнить обещание, данное ими Богу. Они до рождения Пречистой Девы обещали посвятить Богу рожденное от них дитя; потому они торжественно ввели дочь свою в храм Иерусалимский.
Древние отцы Церкви, воспевая Введение Богородицы, рассказывают в священной песне, как святые Иоаким и Анна собрали в Назарете родных и друзей своих. Юные девы со свечами в руках шли перед Святой Отроковицей; Ее вели родители, а за ними следовали друзья и родные. Таким образом шли они из Назарета до самого храма Иерусалимского. Первосвященники и служившие в храме встретили их с молитвами и пением. Святой Герман в священной песне приводит слова святой Анны: «Приношу Господу обет мой, произнесенный в скорби устами моими; для сего я собрала священников и сродников и говорю им: радуйтесь со мною, и я пред вами явлюсь теперь матерью, и дочь привожу, и отдаю не земному царю, но Богу, Царю Небесному».
Святая Дева была поставлена на первую ступень церковного крыльца и, к удивлению всех присутствующих, Она, никем не поддерживаемая, вошла твердо по пятнадцати ступеням и остановилась только на верхней.
Первосвященник Захария ввел Пречистую Отроковицу во Святая Святых, куда входил только первосвященник однажды в год. Матерь Божия, по выражению Церкви, введена в храм законный, как одушевленный храм великого Царя.
Праведные родители принесли дары и жертвы Богу и потом, приняв благословение священников, возвратились с родственниками своими в Назарет.
Святая Дева Мария поселилась при храме. Там, в отдельных помещениях, жили юные девы, посвященные Богу, также и вдовицы, которые служили во храме, подобно Анне Пророчице; тут жили также странники и пришельцы. К ним присоединилась и святая Анна, мать Богородицы, овдовевшая вскоре после введения Пречистой
Девы, но она жила недолго с Пресвятой Дочерью своей: вскоре после мужа своего и она предала дух свой Богу.
Святая Дева воспитывалась под надзором старших благочестивых девиц, опытных в Святом Писании и рукоделиях. Она беспрестанно трудилась, часто молилась, любила чтение Святого Писания. Таким образом готовилась Она к высшему Своему назначению. Церковь называет Ее прекрасной зарей, от которой воссияло Солнце Правды. «Всю ее, – говорит священная песнь, – пребывающую внутри храма и питаемую пищей небесной, освятил Дух Всесвятый».
Когда Пречистая Дева достигла возраста, в котором девы, воспитывавшиеся при храме, обыкновенно возвращались в мир и вступали в супружество, то священники хотели, чтобы и Она поступила таким же образом. Но Пречистая Дева открыла им желание Свое – посвятить Себя Богу и не вступать в брак. Тогда они, по внушению Святого Духа, обручили Ее престарелому Иосифу, родственнику родителей Ее. Он сделался покровителем Пречистой Девы и уважал обет, данный Богу.
Икона Введения Матери Божией представляет трехлетнюю Святую Отроковицу, входящую по ступеням храма. Событие, тут изображенное, должно внушать нам желание водить детей в храм Божий, с малых лет приучать их к молитве и слушанию Священного Писания, чтобы и они росли в благочестии и все выше поднимались по ступеням добрых дел и благочестивых помышлений.
Церковь, празднуя день Введения во храм Пресвятой Девы, воспевает:
«Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопием: радуйся, смотрения Зиждителева исполнение».
Житие святого благоверного князя Михаила тверского
22 ноября

Святой Михаил, князь Тверской, жил в XIII и XIV столетии. Тогда вся Россия была разделена на многие княжества, или области. В каждой из этих областей был свой князь, или государь. Главное место между ними занимала область Владимирская. Она называлась великим княжеством, а государь ее – великим князем. Великий князь был старшим над всеми другими князьями, которые должны были повиноваться ему, как дети повинуются отцу.
В ту пору Россия находилась под властью татар. Войска хана, или царя татарского, часто опустошали Россию, грабили города и селения, уводили в плен жителей, а князья наши признавали власть хана. Они платили ему дань, ездили к нему в Орду судиться в своих спорах и возили дорогие подарки. Без согласия хана ни один князь не мог вступить на великокняжеский престол.
По смерти сына Александра Невского, Андрея, который был великим князем Владимирским, место его должен был занять Михаил, князь Тверской, как старший в роде княжеском. Все другие князья, бояре владимирские и новгородские и митрополит признали старшинство Михаила; не признал его только племянник его, князь Георгий Данилович Московский. Он был богаче других и с помощью подарков надеялся склонить хана в свою пользу. Оба князя поехали в Орду. Но на этот раз хан решил дело вполне справедливо, и Михаил с указом хана благополучно возвратился во Владимир. Здесь блаженный митрополит Максим благословил и возвел его на великокняжеский престол. Первые годы его правления прошли мирно и тихо. Благочестивый князь спокойно правил своими княжествами. Георгий, по-видимому, помирился с Михаилом.
Но хан умер, и великий князь должен был снова ехать в Орду на поклон к новому хану, Узбеку. Он пробыл в Орде два года. Во время его отсутствия Юрий возмутил новгородцев, выгнал из Новгорода великокняжеских наместников и с помощью новгородского войска пошел воевать Тверь, но старший сын Михаила успел защитить ее. Слухи о таких поступках князя Юрия дошли до Михаила, который жаловался хану. Хан велел Юрию ехать в Орду, чтобы дать ответ на справедливую жалобу, а Михаила отпустил на великое княжение с милостивым словом и сильным войском. Новгородцы должны были покориться, но скоро опять восстали, а наступившая зима помешала Михаилу усмирить их вторично.
Прошло три года. Во все это время князь Юрий жил в Орде, дарил князей татарских, угождал им и наконец достиг того, чего так долго добивался: хан сделал его великим князем, женил его на своей сестре и отпустил с ним на Русь сильное войско под начальством Кавгадыя. Услышав об этом, великий князь Михаил очень опечалился; он не хотел напрасно проливать кровь христианскую и уступил Юрию великое княжество Владимирское. Но Юрий, взяв Владимир, не хотел оставить Михаилу и Твери. С татарским войском вступил он в Тверскую область, начал опустошать ее, забирать в плен жителей. Тверитяне, любившие князя своего, советовали ему отстаивать право свое; епископ и бояре говорили ему: «Князь, ты прав перед лицом Всевышнего, возьми меч, с тобой Бог и верные слуги». Михаил ополчился, произошел жестокий бой, и успех остался на его стороне; он освободил русских пленных, разбил татар и взял в плен Кавгадыя и татарскую царевну, жену Юрия. Он тотчас же отпустил Кавгадыя, но, к несчастью его, сестра хана скоропостижно умерла у него в плену. Юрий стал тотчас распространять слух, что она отравлена и, отправившись в Орду, оклеветал Михаила перед суровым Узбеком, уже раздраженным поражением войска своего. Узбек прислал объявить Михаилу гнев свой и звать его в Орду к ответу, готовя между тем сильное войско на случай неповиновения.
Михаил снарядился в Орду; ожидая там смерти, он приобщился Святых Таин. «Может быть, в последний раз открываю тебе душу мою, – говорил он духовнику, – я всегда любил отечество, но не мог прекратить междоусобий. Благослови меня пролить кровь за Русь, если будет нужно, и моли, да простит мне Бог грехи мои».
Бояре и народ умоляли князя не идти в Орду. Сыновья просили его послать одного из них, дабы умилостивить хана. «Не вас, дети мои, а меня требует хан, – отвечал князь. – Можем ли бороться со всей силой его? Если не повинуюсь, он опять пришлет войско, чтобы опустошать область мою; тысячи христиан сложат головы свои или пойдут в плен. Умереть же всем надо; лучше положить душу за многие души».
Михаил отправился к Узбеку. Шесть недель жил он там довольно спокойно, потом был устроен суд. Обвиняли его в неисправной уплате дани, в смерти ордынской царевны и едва слушали его оправдания, потому что главными судьями были Кавгадый и татарские вельможи, подкупленные Юрием. Сам Юрий был тут и употреблял все средства, чтобы погубить бывшего соперника. Несчастного князя Михаила оковали цепями, возложили ему на шею железную колодку и повлекли его вслед за ханом, который тогда отправлялся на охоту к берегам Терека. Эта любимая забава хана должна была представить все величие его данникам и иностранным послам, находившимся при нем. Она продолжалась месяц или два, и вся Орда в несколько сот тысяч человек двигалась за ханом; войска в лучших одеждах своих красовались на отборных конях; купцы с греческими и азиатскими товарами следовали за ханом, и степь оглашалась шумом и криком. За охотой влекли и князя Михаила в оковах и ежедневно подвергали его оскорблениям; Кавгадый всячески унижал его перед бесчисленной толпой народа, который с любопытством, а иногда и с сожалением смотрел на пленника, бывшего великим государем в земле своей. Все эти унижения Михаил переносил с христианской покорностью воле Божией. «Человеколюбивый Владыко, слава Тебе! – восклицал он. – Ты удостоил меня начать страдальческий подвиг, удостой же и кончить его!» Верные бояре, спутники князя, невыразимо скорбели о его страдании и унижении, но князь утешал их. «Друзья мои, – говорил он им, – вы долго видели меня в чести и славе, возропщем ли на Бога за унижение кратковременное?» Но спутники князя все думали, как бы спасти его, и тайно готовили ему средства к бегству. Они сказали ему: «Князь, беги в горы, лошади и проводники готовы». Но князь отверг их предложение. «Не дай Бог мне сделать это, – говорил он, – я никогда не бегал от врагов, и если я один спасусь, а народ подвергну новой беде, какой ответ дам я Богу? Нет, воля Божия да будет».
Уже около месяца продолжалась пытка князя, когда Узбек, беспрестанно подстрекаемый врагами Михаила, произнес ему смертный приговор. Смерти князь ждал как избавления. Возложив на Господа упование свое, он переносил земной позор со смирением; страдания свои переносил с твердостью и терпением, имел он при себе священника и часто приобщался Святых Таин, укреплял себя постоянной молитвой, ночи не спал, а молился или читал Псалтирь; верный отрок переворачивал листы святой книги, потому что князю на ночь забивали руки в колодки. В богодухновенных псалмах Давида князь находил утешение и отраду.
«Векую прискорбна еси душа моя? – восклицал он часто. – …Уповай на Бога, яко исповемся Ему: спасете лица моего и Бог мой!» (Пс. 41:6). При князе был младший сын его, двенадцатилетний отрок; князь ему поручал передать семье слова любви, приказывал ему наградить верных слуг своих.
В самый день кончины, 22 ноября, князь еще раз приобщился Святых Таин и отпустил сына, поручив его одной из ханских жен, которая, вероятно, была христианка. Выслушав обедню, князь взял у священника Псалтирь и, разогнув книгу, прочел: «Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя». «Князь, – сказал священник, – тут есть и другие слова: „Возверзи на Господа печаль твою». – „Кто даст мне криле, яко голубине, и полечу и почию!“» (Пс. 54:5, 23, 7.) – воскликнул страдалец, приветствуя смерть, как желанную свободу. В эту самую минуту вбежал в шатер отрок и, бледный, весь дрожащий, объявил, что князь Юрий, Кавгадый и много людей идут к шатру Михаила. «Знаю для чего», – сказал князь спокойно. Юрий и Кавгадый остановились на площади и послали палачей совершить приговор. Как звери, ринулись в шатер палачи, разогнали всех тут бывших; князь остался один; он молился; они бросились на него, повергли на землю, стали бить и топтать его; наконец один из них вонзил ему меч в грудь. «И тако предаше душу в руце Господни, ноября 22-го, в 7 часов дня, – гласит древняя летопись, – и причтеся к лику святых со сродниками своими: Борисом и Глебом, и с Михаилом Черниговским». Это было в 1318 году и происходило недалеко от Дербента.
По распоряжению Юрия повезли в Москву тело погибшего князя, не позволяя никому оказывать почет останкам его. Многие из знавших Михаила хотели встречать тело его, покрывать его покровами, ставить в церковь со свечами, но бояре Юрия не допускали этого, ставили тело в хлевах, в сараях; но иногда светлый столб озарял место, где лежал страдалец, и по всему пути многие говорили: «Это святой, пострадавший безвинно». В Москве похоронили Михаила в Спасском монастыре.
Вскоре прибыл в Москву Юрий, уже великим князем. Тогда только скорбное семейство Михаила узнало о его участи и выпросило тело страдальца. Оно было перевезено в Тверь, в Спасский храм, построенный самим Михаилом. Бог прославил тело его чудесами. Еще по пути из лагеря ханского в Москву жители некоторых городов видели над его гробом два светлых облака, другие видели пешие и конные дружины, которые провожали его, тогда как в самом деле их не было, а в Твери многие больные, приходившие к гробу его, получали исцеление.

В тот же день память святых апостолов Филимона и Архиппа и святой Апфии, пострадавших при Нероне.
Житие святого благоверного князя Александра Невского
23 ноября

В XIII веке Россия еще не занимала такого большого пространства, какое она занимает теперь. Часть Финляндии принадлежала шведам, а часть Ливонии – немцам; на юго-западе в дремучих лесах жили литовцы. Все эти соседи враждовали с Россией; шведы беспрестанно ссорились с новгородцами; ливонские немцы нападали на ближайшие области и особенно на Псков, с намерением ввести в этих областях латинскую веру; литовцы грабили соседние русские города. Кроме того, и внутри России не было спокойствия, ибо князья спорили между собой из-за уделов.
В это время Бог испытал Россию тяжким бедствием. Татары под предводительством Батыя прошли всю Русскую землю, жгли и грабили города и села, брали в плен тысячи жителей, их жен и детей и опустошали всю землю до самого Новгорода. Этим несчастьем России воспользовались соседние враждебные народы и со всех сторон возобновили свои нападения. Русские князья должны были защищать свою родину. В числе этих князей был Александр, второй сын великого князя Ярослава И. Александр, родившийся в 1220 году, с ранней молодости отличался разумом, кротостью, мудростью и благочестием, умел свято исполнить свой долг и заслужить любовь народа. Бог помогал ему.
Опустошив наше отечество, татары заняли степи по рекам Днепру, Волге и Уралу до морей Черного и Каспийского. Там Батый основал свое царство, или Золотую Орду, и построил город Сарай, недалеко от устьев Волги. Князья наши должны были ездить в Орду, чтобы получить от хана право на княжение; народ был обложен данью. Батый утвердил великим князем Владимирским Ярослава II Всеволодовича; Александр же правил областью Новгородской, которая еще оставалась свободной от татар.
Но хотя Новгород и уцелел от грабежа татар, он подвергался, однако же, несчастьям другого рода. Сильные пожары истребляли и опустошали целые улицы в городе; от засух и неурожаев жители часто терпели страшный голод, вследствие которого распространялись повальные болезни; немцы и литовцы каждый день готовы были к нападению на область. Став князем Новгородским, Александр старался по возможности облегчить несчастья народа и защитить его от врагов. Он заботился о том, чтобы судьи вершили суд справедливый, увещевал жителей жить в мире и помогать бедным; строил пограничные крепости для защиты против литовцев и немцев.
Между тем король шведский собрал сильное войско и под предводительством зятя своего Биргера послал рать свою на ладьях в Неву. Смелый Биргер, надеясь завоевать Новгород, велел сказать князю: «Ратоборствуй со мною, если смеешь». Ужас объял новгородцев; они никак не надеялись с малым войском отбить сильного врага; но Александр положил упование свое на Бога и на справедливость своего дела. Он помолился в храме Святой Софии, взял благословение у епископа и бодро сказал дружине своей: «Нас немного, а враг силен; но не в силе Бог, а в правде!» С этими словами вышел он в поход.
Ночью приблизился он к берегам Невы, к тем местам, где ныне стоит Петербург, и расположился ночевать. Поутру, 15 июля 1240 года, один воин рассказал Александру видение, которое он имел. Всю ночь стоял он на страже при море. На рассвете вдруг слышит он шум на море. Обернувшись в ту сторону, он видит, что плывет по морю ладья, а на ладье стоят, обнявшись, святые мученики Борис и Глеб и ведут тихие речи. Святой Борис говорит святому Глебу: «Брат мой Глеб, поспешим на помощь сроднику нашему Александру; ему грозит большая опасность». После этих слов святые угодники и корабль стали невидимы.
Это видение ободрило князя. Около полудня Александр сошелся со шведами на берегах Невы. Бой продолжался долго. Александр сам ранил копьем Биргера и к вечеру совершенно одолел врагов; они сели на корабли и отправились за море, потеряв множество воинов; а Александр за славную победу прозван Невским.
С торжеством возвратился Александр в Новгород, но здесь ожидало его большое горе. Новгородцы возмутились против своего князя. Огорченный недоверием их, Александр не хотел более оставаться у них; взяв семейство и имущество, он уехал в Суздаль. Как только литовцы и немцы узнали об отъезде Александра, они напали на новгородские и псковские земли. Тогда новгородцы опомнились, раскаялись и послали епископа просить Александра, чтобы он простил им вину их и защитил от врагов.
Александр не помнил зла; он собрал дружину, явился в областях новгородских, и враги должны были удалиться.
Но немцы не усмирились. Через некоторое время они снова поднялись войной на Новгород. На этот раз собрали они большое войско и призвали из немецкой земли своих земляков на помощь. Полки их были гораздо многочисленнее дружины Александровой; но смелый князь без страха выступил в поход, встретил немцев на льду Чудского озера и разбил их. Много врагов было побито, много взято в плен. Этот бой известен под именем Ледового побоища. Много раз еще приходили немцы и литовцы на Русскую землю, и всякий раз Александр побеждал и прогонял их. Бог, видимо, помогал благочестивому князю.
Между тем отец Александра, Ярослав, великий князь Владимирский, скончался на пути из Орды.
Хан татарский утвердил на великокняжеском престоле брата его, дядю Александра, Святослава. Но скоро между новым великим князем и младшими братьями Александра начались ссоры за великое княжение. Александр советовал им порешить дело судом ханским. Князья согласились, и сам Александр с младшим братом Андреем поехал к хану. Сначала прибыли они в Золотую Орду, но отсюда должны были отправиться далее, в степи монгольские, где царствовал Менгу, которому повиновался сам Батый. После долгого путешествия оба князя благополучно вернулись назад. Андрей утвержден был великим князем Владимирским, а Александр – Киевским. Старый дядя Святослав должен был поневоле уступить Андрею Владимир; но на самом деле он не помирился с ним и донес хану, что Андрей не хочет слушать ханских повелений и противится его воле. Хан послал большое войско; Андрей встретил его со своей дружиной, но был разбит и убежал к немцам. Область Владимирская была разорена. Александр знал, что хан не оставит без наказания поступок Андрея, что вся Россия должна ожидать кары. Чтобы спасти отечество от разорения, он поехал в Орду ходатайствовать за Андрея и за всю землю Русскую. Хан милостиво принял Александра, утвердил его великим князем Владимирским, Киевским и Новгородским и отпустил в Россию.
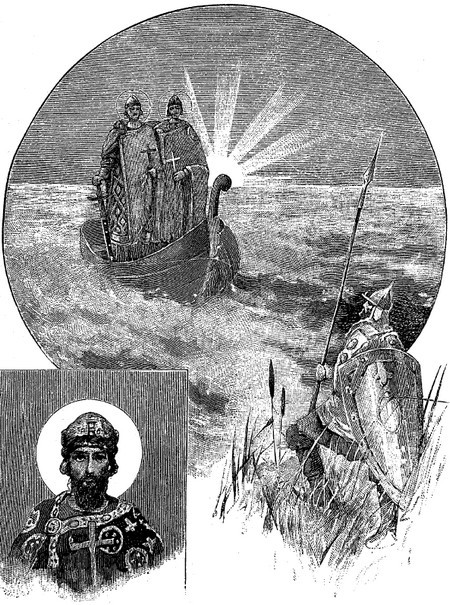
С восшествием Александра на великокняжеский престол Владимирский умножились заботы и труды его. Теперь он сделался единственным защитником православной веры и народа против татар. Александр должен был действовать терпением и покорностью, а не мечом. Он знал, что у него недостанет сил противиться многочисленным толпам татар и что всякое сопротивление поведет только к большему разорению народа. Одиннадцать лет был Александр великим князем и в это время успел сделать много доброго для веры, Церкви и народа. Своим ходатайством он освободил духовенство, т. е. епископов и священников, как служителей Божиих, от дани татарской; получил от хана позволение поставить православного епископа в самой столице татарского царства и заставил татар уважать христианскую веру.
Одной из главных забот его было облегчить народу платеж татарской дани и спасти его от нищеты. Покорив Россию, татары оставили владеть ею русских князей и требовали дани. Каждый год хан присылал чиновников своих, баскаков, за сбором дани, и они угнетали народ, иногда отнимали даже необходимое. Чтобы избавить народ от бедности и окончательного разорения, Александр уговорился с ханом сделать поголовную народную перепись, или ревизию, и потом брать с каждого столько, сколько придется по расчету. Татарские переписчики, или численники, переписали всю землю, кроме Новгорода. Но хан потребовал, чтобы и новгородцы наравне с другими были обложены платежом. Такое требование опечалило великого князя. Он предвидел, что здесь не обойдется без волнений и тревоги, и сам вместе с татарскими численниками поехал в Новгород. Предчувствие не обмануло его. Новгородцы не хотели и слышать о дани; большая часть жителей возмутилась, и в числе непокорных оказался молодой сын Александра, Василий, бывший тогда князем Новгородским. Вместо дани послали они хану дары, говоря, что желают быть в мире с ним, но не признают себя его данниками.
Александр был принужден строго наказать виновных. Пронесся слух, что хан собирает сильное войско на Новгород, и тогда новгородцы покорились. Но когда началась перепись, причем не обошлось без угнетений со стороны татар, новгородцы опять возмутились и хотели перебить татар; но и на этот раз Александр успел усмирить их.
В некоторых областях дань собиралась хивинскими купцами, которые откупали ее. Новые сборщики были еще корыстолюбивее прежних, не щадили никого и глумились над самой святыней. Народ наконец потерял терпение. Многие города, Владимир, Суздаль, Ростов, восстали и перебили своих притеснителей. В Ярославле и Устюге были страшные мятежи. Уже огромное ополчение готовилось в Орде, чтобы наказать ослушных. Великий князь сам поехал в Орду, решившись или умереть за отечество, или спасти его. Бог благословил успехом последнее дело святого Александра, и земля наша спасена была от нового нашествия татар.
На дороге из Орды, в Городце Волжском, селе Нижегородской губернии, Александр занемог; почувствовав близкую смерть, он пожелал постричься в монахи и принять схиму. По совершении священного обряда, Александр, принявший в пострижении имя Алексий, созвал князей, бывших с ним бояр и простых людей, сделал последние распоряжения, благословил всех присутствующих, простил их во всем и просил прощения самому себе. Потом он исповедовался, приобщился Святых Таин и отдал Богу душу 14 ноября 1263 года, в возрасте около сорока четырех лет. Все оплакивали святого князя в Городце Волжском, но во Владимире еще не знали о смерти Александра и ждали его. Вдруг митрополит Кирилл во время церковной службы, обратившись к народу, сказал: «Зашло солнце земли Русской». Никто не понял слов его. Тогда он со слезами повторил: «Нынче преставился благоверный великий князь Александр».
Погребальное шествие двинулось из Городца во Владимир. За десять верст до Владимира митрополит и народ встретили со слезами гроб святого князя. В соборной церкви Владимирской совершилось отпевание, а потом тело покойного было перенесено в обитель Рождества Богоматери и там погребено в соборной церкви. Отсюда разнеслась по всей России слава о чудесах святого князя Александра. Многие больные и увечные, приходя ко гробу его, получали исцеление.
При императоре Петре Великом мощи святого Александра перенесены были в Петербург и положены в построенной в память его Александро-Невской лавре, где они почивают и доныне. Память святого Александра Невского Православная Церковь празднует 23 ноября, а перенесение святых его мощей из Владимира в Санкт-Петербург – 30 августа.

В тот же день память святого Амфилохия, епископа Иконийского, который жил в одно время с Василием Великим, Григорием Богословом и, как они, защищал истинное учение Церкви против ереси ариан.
Житие святого Митрофана, Воронежского чудотворца
в тот же день
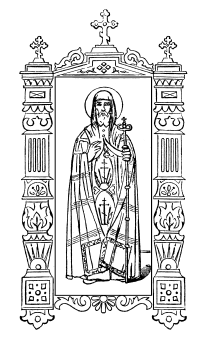
Святой Митрофан родился в 1623 году недалеко от Владимира. Его жизнь до вступления в монастырь мало известна. Мы знаем только из его завещания, что он был женат и имел детей. Овдовев, он постригся в Болотниковской обители Успения Богоматери, что близ города Суздаля. Там благочестием и трудами своими он заслужил общее доверие и любовь братии. Его рукоположили в священники и вскоре назначили игуменом соседней Ахремской обители. Десять лет он управлял монастырем, который об этом времени сохранил благодарное воспоминание. Он построил новую церковь, снабдил ее богатой утварью и много способствовал благоустройству обители. Патриарх Иоаким поручил ему управление другим монастырем, Унженским, в пустыни Желтоводской в окрестностях Галича. Святой Митрофан семь лет жил в монастыре, построил церковь Благовещения Богоматери, утверждал благочестие между окрестными жителями. Царь Феодор Алексеевич посылал в монастырь богатые дары.
В 1682 году открылась кафедра святительская в Воронеже; туда назначили Митрофана. Торжественное рукоположение его в архиерея было в Москве незадолго до смерти царя Феодора Алексеевича. Митрофан присутствовал при венчании царей Иоанна и Петра Алексеевичей, был при соборе, созванном в Грановитой палате против раскольников, и при возмущении стрельцов.
Отправившись потом в Воронеж, святитель Митрофан с мудростью и великой заботливостью занялся паствой своей. Полный любви к ближним, он был доступен для каждого; принимал милостиво бедных и простых людей, помогал им всем, чем мог, часто посещал больных и заключенных в темницах, подавал им помощь, убеждал и утешал их словами христианской любви. Понимая высоко обязанности духовенства, он окружными посланиями возбуждал ревность и деятельность подчиненных ему священников.
«Вы, честные иереи Бога вышнего, вожди словесного стада Христова, – говорил он им, – должны иметь очи ваши, просвещенные светом разума, чтобы вести других по пути правому, по слову Господню: вы есте свет мира. Как пастыри, должны вы преподавать овцам словесным манну слова Божия и, как ходатаи, подражать в молитвах ваших ревности Моисея и Павла, которые сами соглашались быть отлученными от Господа ради спасения людей своих. Добрые пастыри готовы положить души свои за овец своих; и Христос Спаситель, вручая паству апостолу Своему, трижды сказал ему: „Паси“, как бы внушая тем, что три есть различные образа пасения: слово учения, молитва при пособии Святых Таин и пример жизни. Действуйте и вы всеми тремя способами: подавайте пример доброй жизни, учите людей своих и молитесь о них, укрепляя их Святыми Тайнами, наипаче же неверных просвещайте Святым крещением, а согрешающих приводите к покаянию. Будьте внимательны к болящим, чтобы не отошли от сей жизни без причащения Святых Таин и помазания святым елеем».
Петр Великий в это время бывал часто в Воронеже, где он строил корабли для завоевания Азова. Он очень любил святителя и часто посещал его. Заботясь о пользе отечества, святитель Митрофан не раз жертвовал собственные доходы для продолжения корабельных работ и для содержания ратных людей во время войны со шведами. Смело говорил он правду царю, не боясь обличать, когда какое-нибудь действие его было несогласно со строгими правилами благочестия. Так, царь, построив себе деревянный дворец в Воронеже, украсил его изображениями языческих богов, которые подавали соблазн народу. Святитель Митрофан шел однажды к царю, но, увидев эти изваяния, воротился и велел сказать царю, что придет к нему только тогда, когда они будут сняты. Разгневанный Петр посылал за ним трижды и наконец грозил смертью, если святитель не придет. «Мне бо еже жити – Христос, а еже умрети – приобретение (Филип. 1:21), – отвечал епископ, – тело мое в руках царя, он властен умертвить его; но на душу мою никакая власть человеческая не простирается… Мне лучше умереть, нежели нарушить долг святительского моего сана. Лучше мне умереть, нежели боязливым молчанием изъявить соизволение на поставление гнусных кумиров и на соблазн православному народу, младенчествующему в вере».
Царь не настаивал. Но между тем святитель, не зная его окончательного решения, готовился к смерти и велел звонить ко всенощной. Царь, услышав звон, прислал спросить, какой на следующий день праздник и почему всенощная. Святитель отвечал: «Мне, как преступнику, словом царским изречена смерть, и посему я спешу принести Господу соборное моление о грехах моих, да явит Он мне милость Свою и дарует спасение».
Удивленный царь послал успокоить святителя и немедленно велел снять с дворца своего языческие изображения.
Двадцать лет управлял Митрофан своей епархией. Предчувствуя близкую свою кончину, он принял схиму, причастился Святых Таин и тихо скончался, повторяя слова: «Кто даст ми криле, яко голубине, и полечу и почию?»
Царь приехал в Воронеж в самый день смерти святителя. Он уже не застал его в живых, но закрыл ему глаза, распорядился похоронами и сам благоговейно нес гроб его.
Святитель Митрофан оставил после себя завещание, в котором он дает мудрые советы людям всех состояний, особенно священникам. «Подавайте пример доброй жизни, – говорит он, – учите людей своих и молитесь о них, укрепляя их Святыми Тайнами. Простой человек, когда согрешает, за одну только свою душу дает ответ Богу; а иереи будут истязуемы за многих, как не радевшие об овцах, с которых собирали млеко и волну».
«Впрочем, – продолжает он, – для всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни умеренность – богат будеши; твори благо, бегай злого – спасен будеши».
В завещании своем святитель Митрофан много просит о том, чтобы молились о спасении души его. «Помяните душу мою грешную, да и сами поминовени будете от Господа в день праведного суда. Сей глагол мой предстанет пред вами и мною на Страшном суде Христове. Не презрите моего прошения; слезно молю и прошу последней вашей любви ко мне грешному, не забудьте меня в молитвах своих, по апостолу: „Братия, молите друг за друга“ (Иак. 5:16)».
Жители Воронежа не забыли завещания их доброго святителя; беспрестанно приходили к месту его погребения, служили панихиды, просили молитв его в болезнях и скорбях. Благоговение к нему умножалось с каждым годом, и многие по вере своей получили исцеление от недугов. В 1831 году, когда ремонтировали церковь, где похоронен был святитель Митрофан, были открыты нетленные мощи его, которые были торжественно перенесены в собор Архангельский в день Преображения Господня.
Житие и страдание святой великомученицы Екатерины, девы премудрой
24 ноября
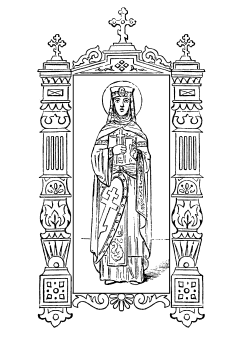
При императоре Максимиане в IV веке жила в городе Александрии девица царского рода по имени Екатерина. Мать ее была христианка, но скрывала веру свою, потому что в то время было жестокое гонение на христиан.
Екатерина была девицей редкой мудрости и красоты. Восемнадцати лет она уже была известна своей великой ученостью, знала книги философов и стихотворцев, изучила науку врачевания.
Богатые князья искали руки прекрасной Екатерины. Мать и родные уговаривали ее вступить в супружество, но она отказывала женихам и говорила близким своим: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, который бы был мне равен в благородстве, богатстве, красоте и учености». Такой юноша не встречался. Были между сынами царскими женихи знатные и богатые, но красотой и мудростью они не могли равняться Екатерине.
В окрестностях города скрывался в это время пустынник, человек светлого ума и праведной жизни. Он был духовным отцом Екатерининой матери; она повела к нему единственную дочь свою для того, чтобы он дал ей благие советы. Он, видя мудрость девицы, решился обратить ее к познанию истинного Бога и сказал ей:
– Я знаю одного чудного отрока, который превосходит тебя во всем: красота Его светлее солнечного сияния; мудрость Его управляет всем миром; богатство Его разделяется беспрестанно, но не уменьшается от этого; благородство Его неизреченно; нет Ему подобного.
Екатерина смутилась, изменилась в лице и спросила, правда ли это.
– Правда, – отвечал старец, – да еще кроме того в Нем есть такие совершенства, которых и выразить невозможно.
– Чей же сын этот юноша, которого ты так хвалишь? – спросила девица.
– У Него нет отца на земле, – сказал пустынник. – Он родился чудесным образом от Пресвятой и Пречистой Девы, которая, по великой чистоте и святости Своей, сподобилась быть Матерью такого Сына; Она осталась бессмертна душой и телом и вознесена на небо, где ангелы поклоняются Ей, как Царице.
Екатерина спросила, можно ли ей видеть чудесного юношу.
Старец сказал, что она увидит юношу, если исполнит его повеления. Он дал ей икону Пресвятой Богородицы с Божественным Младенцем и велел ей отнести эту икону к себе в дом и в комнате своей провести ночь в молитве пред святой иконой. «Тут изображена Мать Того юноши, о котором я говорил тебе. Зовут ее Девой Марией. Помолись Ей с верой, и я уповаю, что Она исполнит желание твое, и ты увидишь лицо Сына Ее», – прибавил старик.
Екатерина послушалась старца. Во время молитвы своей от утомления она заснула и увидела чудный сон.
Ей приснилось, что Царица Небесная стоит перед ней и держит в руках Младенца, от коего исходят как бы солнечные лучи; но напрасно старалась Екатерина взглянуть на лицо Младенца: Он отворачивал от нее Свой светлый лик. Тогда Матерь Божия стала упрашивать Сына, чтобы Он взглянул на девицу, и хвалила ее красоту и мудрость; но Младенец отвечал, что она безобразна, безумна и убога и что Он не хочет смотреть на нее.
– Не презирай Твоего создания, – говорила Божия Матерь, – скажи ей, что она должна делать, чтобы наслаждаться славой Твоей и увидеть светлое Твое лицо.
– Пусть идет она к старцу, – отвечал Младенец, – и узнает от него, что ей должно делать; если она это выполнит, то увидит Меня и обрящет у Меня благодать.
Чудный сон глубоко поразил девицу. Как только настало утро, она пошла к старцу, упала к ногам его и просила его помощи и совета. Старец подробно объяснил ей истинную веру, говорил ей о блаженстве райском, о погибели грешников. Ученая и мудрая дева скоро поняла истину, уверовала всем сердцем и приняла от старца Святое крещение.
Екатерина возвратилась домой, обновившись душой, долго молилась она, много плакала и снова заснула посреди молитвы своей. Она увидела во сне Матерь Божию, но теперь лицо Божественного Младенца обратилось к ней; Он кротко и милостиво посмотрел на девицу.
– Угодна ли теперь девица эта? – спросила Богоматерь.
– Теперь, – отвечал Младенец, – она столь же богата и премудра, сколько прежде была бедна и неразумна. Хочу, чтобы она была Моя нетленная и вечная невеста.
Екатерина пала на землю и сказала:
– Я недостойна, Преславный Владыко, видеть царствие Твое, но сподоби меня быть рабой Твоей.
Пресвятая Дева взяла правую руку девицы; Младенец надел ей чудный перстень и сказал ей:
– Не знай жениха земного.
Екатерина проснулась с неизъяснимой радостью в сердце, на руке ее был чудный перстень. С этих пор она изменилась совершенно. Она уже не думала о земном, душа ее была исполнена Божественной любви, она мыслила только о Небесном Женихе своем.
В это время прибыл в Александрию царь злой, гонитель христиан. Он разослал вестников по всем городам, созывая народ на языческий праздник. Вскоре город наполнился толпой пришедших; каждый принес что мог для жертвоприношения, и началось празднество. Екатерина очень сожалела о таком безумии царя и народа; взяв с собой несколько служителей, она пошла в языческий храм и остановилась у порога. В храме совершалось жертвоприношение. Все обратились к ней, дивясь красоте ее. Царь подозвал ее; она поклонилась ему и сказала:
– Не стыдно ли тебе, царь, молиться мерзким идолам! Ваши же ученые говорят, что боги, которым вы кланяетесь, были людьми и что им за какое-то славное дело поставили столбы и статуи. Познайте истинного Бога, беспечального и бесконечного; Им цари царствуют и мир стоит; Он сошел на землю и сделался Сам человеком для спасения нашего. Он не любит жертв, не радуется закланию животных, но хочет, чтобы мы жили по святым Его заповедям.

Царь разгневался, но велел продолжать жертвоприношение и сказал, что после еще поговорит с девой. Когда праздник кончился, он велел привести к себе Екатерину. С изумлением смотрел он на красоту ее и спрашивал, кто она, как зовут ее родителей и какое проповедует она учение.
– Мое имя Екатерина, – отвечала девица, – я дочь князя, который царствовал прежде тебя. Я изучила всю премудрость человеческую, но познала суетность земного учения и стала невестой Христа Бога, который сказал чрез пророков Своих: «Погублю премудрость премудрых и разум разумных опровергну» (1Кор. 1:19). Сама я – земля и прах, но Бог почтил меня красотой, чтобы познали люди силу Творца, который и праху земному может дать красоту и премудрость. Те же боги, которых вы почитаете, ничтожны и ложны и влекут ваши души в погибель.
Царь рассердился.
– Не хули богов, имеющих славу бессмертную, – сказал он.
Екатерина отвечала:
– Если хочешь только отрясти мрак, затемняющий ум твой, то познаешь суету своих богов и уразумеешь истинного Бога.
Царь не хотел продолжать спора с Екатериной и сказал ей:
– Не подобает царю входить в споры с женщиной, но я соберу мудрых философов, пусть они докажут тебе заблуждения твои.
Вслед за тем царь велел стеречь Екатерину и между тем послал звать мудрецов и ученых, чтобы оспорить слова девицы и обличить ее в неправде. Пятьдесят мудрецов прибыло в город. Один из них особенно отличался остроумием и ученостью. Множество народа собралось слушать прение о вере. Послали за девицей. Сердце ее было твердо и спокойно, ибо ей явился архангел Михаил и сказал ей, что Господь даст ей силу победить мудрецов и что она многих обратит к истинной вере.
Началось состязание. Языческий мудрец защищал своих ложных богов, потом стала отвечать ему кроткая дева. Сначала доказывала она ложность богов языческих из слов философов и стихотворцев, объяснила те места в их сочинениях, в которых видно как бы предчувствие или предсказание нового истинного учения. Наконец она рассказала присутствовавшим о жизни и смерти Иисуса Христа.
– Он милует грешных, – сказала девица, – прощает кающихся, говорит: «Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). Уверуйте в Него, и вы будете спасены.
Мудрец слушал с удивлением и наконец признал себя побежденным. Все прочие отказывались продолжать спор. Напрасно царь гневался, угрожал смертью и мучением. Мудрецы исповедовали истинного Бога, которому поклонялась Екатерина. Они приняли мученическую смерть и с радостью услышали от Екатерины, что мучение им будет вместо крещения и откроет им Царство Небесное.
Царь не оставлял, однако, намерения своего убедить Екатерину. Чудная красота ее внушала ему грешную любовь; он предлагал ей полцарства своего, старался прельстить ее дарами и обещаниями почестей и славы; но Екатерина отвечала, что одежда мученицы краше царской багряницы. Напрасно царь убеждал ее различными обещаниями и потом угрожал страшной казнью. Она сказала, что страдания Ее приведут многих людей к Богу и откроют им Царство Небесное. Тогда царь велел ее жестоко бить и мучить; били ее нещадно, так что все тело ее покрылось ранами, и потом заключили в темницу.
Долго была в заключении святая мученица; ее хотели замучить голодом, но Господь не оставил ее. Каждый день голубица влетала к ней и приносила ей пищу. Чудное видение укрепило ее веру. Она увидала Небесного Жениха своего, окруженного ликами ангелов. «Не бойся, – сказал Он ей, – Я всегда с тобой, терпением своим ты многих обратишь ко Мне».
Между тем царь по делам удалился из города. Царица Августа, жена его, много слышала о красоте и мудрости Екатерины и давно желала ее видеть; она сказала о своем желании Порфирию сотнику и другу царскому. Желание это особенно усилилось с тех пор, как Августа видела чудный сон. Ей приснилось, будто Екатерина стоит, окруженная прекрасными юношами и девами. Все они были одеты в белые платья и озарены чудным сиянием. Екатерина призвала к себе Августу, надела на нее золотой венец и сказала, что Владыка и Христос посылает ей этот венец. Рассказав Порфирию этот сон, царица прибавила, что она не будет покойна, пока не увидит девицы. Порфирий обещал исполнить ее желание и сам повел ее ночью в темницу, где была заключена святая. За ними шли многие воины. Светлое лицо Екатерины так поразило царицу, что она упала к ее ногам и воскликнула:
– Счастлива я, что наконец узрела тебя; не буду сожалеть даже, если потеряю за то жизнь и царство свое. Веселюсь душой и сердцем, что вижу светлую красоту твою. Блаженна ты и достойна похвалы, что прилепилась к такому Владыке и получила от Него столь чудные дары.
Святая отвечала ей:
– И ты блаженна, царица: я вижу над главой твоей венец, поддерживаемый руками ангелов. Ты получишь этот венец за немногие мучения, которые вытерпишь, и пойдешь к истинному Царю в вечное царство.
Царица отвечала:
– Боюсь мучений, особенно боюсь жестокого супруга.
– Иисус Христос будет всегда с тобой, – отвечала ей Екатерина, – немного пострадает тело твое, а там успокоится вечно.
Порфирий, слыша эти слова, спросил:
– Что дает Христос тому, кто в Него верует? Я хочу сделаться воином Его и веровать в Него.
– Не слыхал ли ты или не читал ли писаний христианских? – спросила святая.
– Нет, – отвечал Порфирий, – я с младенчества упражнялся в делах воинских и не имел других попечений.
Тогда святая объяснила всем присутствовавшим учение Христово и сказала, что нельзя и выразить тех радостей, которые Господь преблагий и человеколюбивый уготовал любящим Его и исполняющим Его заповеди. Царица, Порфирий и воины, их сопровождавшие, уверовали во Христа и благоговейно простились со святой девой.
Когда царь возвратился, то снова послал за Екатериной. Сияние красоты ее удивило его. Он спрашивал, каким образом долгое заключение и голод не изменили ее вида; он хотел наказать стражей и привратников; но Екатерина сказала, что не рука человеческая питала ее, а Сам Бог. Царь опять обратил к ней свои льстивые речи; он говорил:
– Ты краше и мудрее богини нашей Артемиды, не губи красоты своей, раздели со мной царство и веселье земное.
– Не думай о красоте моей, – сказала девица, – это прах и брение, которые отпадут, как цвет, и исчезнут, как сон.
Непреклонность Екатерины возбудила снова ярость и злобу царя; он велел принести колесо с острыми зубцами и грозил девице привязать ее к этому страшному орудию казни, если не поклонится богам. Эти угрозы не устрашили девицу. Тогда царь велел предать ее ужасным мучениям; но едва только они начались, как невидимый ангел Божий сокрушил орудия муки, и девица встала невредимой. Народ в изумлении воскликнул: «Велик Бог христианский!»
Царица Августа, услышав о случившемся, вышла из дворца своего и громко стала упрекать царя в том, что он смеет бороться с живым Богом и мучить рабов Его. Страшно разгневался царь, он обратил ярость свою на царицу, замучил ее и осудил на смертную казнь.
– Раба истинного Бога, – говорила царица, обратившись к Екатерине перед смертью своей, – сотвори обо мне молитву.
– Иди с миром, – отвечала Екатерина, – и да царствуешь вечно со Христом.
Царице отсекли голову мечом.
Порфирий в ту ночь вместе с уверовавшими воинами похоронил честное тело царицы; потом они пошли к царю и объявили, что и они – христиане, воины истинного Бога. Их всех казнили.
На другой день царь в последний раз призвал деву и сказал ей:
– Ты заслуживаешь строгого наказания: ты прельстила мою жену, ты погубила и мужественного воина и смутила народ; но все это я прощу тебе, если ты поклонишься богам, ибо мне жаль предать тебя смерти. Я с тобой разделю царство свое; ты будешь жить в богатстве и удовольствиях, которых не испытывала еще никакая царица.
Но лукавые речи не могли отлучить святую деву от любви Христовой. Видя тщету усилий своих, царь велел предать ее смерти.
Когда вели ее на место казни, за ней шло множество народа. Все плакали и жалели о ней. Молодые жены и девицы говорили:
– Зачем ты губишь свою молодость и красоту? Иди лучше к царю и послушайся его.
– Не плачьте обо мне, – отвечала им святая, – но радуйтесь со мной; сегодня увижу я Иисуса Христа, Творца и Спасителя моего; Он – красота, слава и венец мучеников. Он призывает меня к неизреченным радостям райским. Плачьте лучше о себе, ибо неверие ваше погубит вас.
Перед смертью святая молилась: «Господи Иисусе Христе! – говорила она. – Благодарю Тебя, что Ты поставил ноги мои на камни терпения и указал мне истинный путь. Простри пречистые руки Твои, на кресте израненный, и прими душу мою, которую приношу Тебе, как жертву любви моей. Помяни, Господи, немощь человеческую и прости согрешения мои, сделанные по неведению, – да омоет их кровь, которую я проливаю за имя Твое. Сделай, Господи, чтобы тело это, которое будет посечено мечом, осталось невидимым для врагов и гонителей моих. Призри с высоты Твоей, Господи, и на стоящих здесь людей, настави их светом познания Твоего; яви милость Твою тем, которые обратятся смертью моей, да воспевают они величие Твое вовеки».
Воин отсек голову святой. Предание рассказывает, что святые ангелы взяли тело ее и понесли на Синайскую гору.
Через два века с небольшим после кончины мученицы братья Синайской обители обрели главу и руку ее и перенесли эти святые мощи в храм, находящийся в обители.

В тот же день память святого великомученика Меркурия, пострадавшего при Декии.
Память святого мученика Климента, папы римского
25 ноября
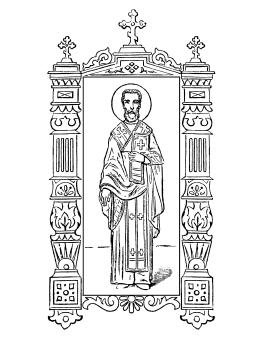
В Риме, при императоре Тиверии, в первом столетии после Рождества Христова, жил богатый и знатный язычник по имени Фавст. Он женился на близкой родственнице царя, Матфидии, девице необыкновенной красоты. Супруги нежно любили друг друга, и рождение трех детей довершило их семейное счастье; сначала родились у них два сына-близнеца, которых они назвали Фавстом и Фавстинианом; через некоторое время родился третий сын, Климент. В продолжение нескольких лет семья наслаждалась полным счастьем, но злоба одного человека все расстроила. Человек этот был родной брат Фавста; он поселился у него в доме и, завидуя счастью брата, стал оскорблять добродетельную невестку свою. Матфидия не хотела открыть мужу своему коварство злодея, но решилась во что бы ни стало удалиться из Рима. Она рассказала мужу, что видела во сне старика почтенной наружности, который велел ей непременно выехать из Рима и грозил наказанием, если она этого не исполнит. Муж не соглашался на отъезд ее, старался рассеять грустные предчувствия, которые, казалось, мучили жену его. Но наконец, видя ее беспрестанные слезы и тоску, он согласился и решил, что Матфидия со старшими сыновьями поедет в Афины, где дети будут обучаться в тамошних известных училищах; маленького Климента оставили в Риме. Для Матфидии изготовили корабль, богато нагруженный всяким имуществом, множество рабов следовало за ней; нежный муж проводил ее до морского берега; много плакали супруги, прощаясь друг с другом и с детьми своими.
В первые дни плавание было спокойно, но вдруг поднялась страшная буря; долго корабль несся по воле бурного ветра, волны качали и заливали его. Несчастные ждали смерти; и действительно, корабль разбился об острые скалы. Матфидию унесло далеко на обломках корабля; волны бросили ее на берег; там нашли ее жители, подали ей помощь и привели в чувство. Бедная Матфидия, видя себя в кругу чужих людей и вспоминая о погибели детей своих, была в отчаянии. Добрые женщины, жившие на острове, приходили к ней, и каждая из них рассказывала о потерях и страданиях, испытанных ими в жизни, стараясь этими рассказами рассеять грусть бедной чужестранки. Одна вдова рассказала, что муж ее погиб на море, что она его нежно любила даже и после смерти и потому отказалась от второго брака и живет теперь трудами рук своих. Она предложила Матфидии жить вместе с ней. Матфидия приняла это предложение. Таким образом несчастная римлянка провела двадцать четыре года на острове, оплакивая детей своих и не имея возможности уведомить мужа о своей участи.
Дети ее были, однако же, живы, промысел Божий спас их от кораблекрушения. Морские разбойники взяли их на свой корабль и продали рабами в город Кесарию. Там они перешли к одной благочестивой вдове, которая сжалилась над их участью и воспитала как родных детей. Их учили всяким наукам, и они узнали закон Христов. Спустя несколько лет они приняли Святое крещение от апостола Петра, который проповедовал в той стране, и поступили в число его учеников.
Отец ничего не знал обо всех этих происшествиях. После отъезда жены и детей он много тосковал о них и через некоторое время послал в Афины верного раба, чтобы их проведать; но раб не возвращался. После двухлетнего ожидания он послал другого верного служителя; этот вернулся только на четвертый год с горестным известием, что он не видал ни Матфидии, ни детей ее, что они никогда не приезжали в Афины и что никто о них ничего не знает. Фавст повсюду разослал рабов отыскивать следы путников, но все поиски были напрасны. Тогда он поручил имение и воспитание маленького Климента верным рабам, а сам пошел искать жену и детей своих по всем прибрежным городам. Долгие и напрасные поиски навели на него ужасное уныние. Он не захотел возвращаться в Рим, скитался, как нищий, скрывая от всех свое имя и звание.
Между тем Климент воспитывался тщательно и быстро успевал в науках. Он достиг совершеннолетнего возраста. С ранней молодости он мог располагать своим имением, но он вырос, не зная ласк отца и матери, которых оплакивал, как умерших. Постоянная мысль об их смерти навела его на размышление о недолговечности всего земного; он старался разгадать, все ли кончится этой жизнью или есть другая жизнь, загробная. Всегда погруженный в такие мысли, он ходил мрачный и унылый, не принимая участия в делах и удовольствиях людей, его окружавших. Случайно познакомился он с одним христианином, который рассказал ему о жизни Христа Спасителя и открыл, что блаженство вечное обещано Спасителем последователям Его. Сердце Климента разгорелось желанием узнать больше об этом утешительном учении. Он решился посетить место земной проповеди и страданий Спасителя, чтобы там услышать самих апостолов. Взяв с собой часть денег, он отправился в путь. Достиг он Александрии. Там проповедовал в то время святой апостол Варнава. С наслаждением внимал ему Климент и пожелал стать христианином. Из Александрии он поехал в Кесарию; там принял крещение от апостола Петра и присоединился к его ученикам. В числе учеников были, как мы уже сказали, два старших брата Климента; но, расставшись во младенчестве, братья не узнали друг друга и считали себя чужими.
Апостол Петр отправился морем в Сирию и взял с собой нового ученика своего; старшие братья были посланы туда же, но другим путем. Дорогой апостол спрашивал молодого ученика своего о прежней его жизни. Климент рассказал ему о своих первых горестях и о своем воспитании, и рассказ этот глубоко тронул святого апостола.
Путешественники пристали к одному небольшому острову. Это был тот самый остров, где жила Матфидия. Апостол Петр сошел с корабля; недалеко от берега в близлежащем селении он увидел бедную женщину, которая просила милостыню. Печальное и болезненное лицо ее поразило апостола: он вступил с ней в разговор и, узнав, что она иностранка, стал расспрашивать ее, и таким образом открылось, что это была сама Матфидия. Болезни давно лишили ее и старушку, ее призревшую, возможности добывать себе хлеб работой, и потому они жили милостыней. Святой Петр обрадовал несчастную мать утешительным известием о ее сыне: «Я знаю младшего сына твоего Климента», – сказал он. Услышав это, Матфидия почти лишилась памяти от радости. Петр, взяв ее за руку, поднял и повел к кораблю.
Климент вышел к ним навстречу, недоумевая, что за старушка идет со святым апостолом. Матфидия же, лишь только взглянула на него, узнала его по сходству с отцом и бросилась обнимать его. Апостол объяснил удивленному юноше, что это мать его, так долго им оплакиваемая. Тогда Климент бросился к ногам матери, целуя их и обливая радостными слезами. Молитвами святого апостола Матфидия получила исцеление от недуга своего и вместе с прочими пошла к доброй женщине, у которой жила. Апостол возвратил и ей силу и здоровье; Климент щедро наградил ее и уговорил ехать вместе с матерью за ними.
Завершив морское путешествие, они прибыли в Лаодикию сухим путем. Там вышли к ним навстречу два ученика Петра, Фавст и Фавстиниан. Увидев двух старух, ехавших за ними в колеснице, они спросили у Климента, кто эти две женщины. «Одна из них мать моя», – отвечал Климент и тут же рассказал двум товарищам своим о прежней жизни своей и о неожиданной встрече с матерью, которую считал умершей. Тогда Фавст и Фавстиниан узнали в нем родного брата. С какой радостью бросились они обнимать мать свою, вспоминая страшное крушение корабля и рассказывая о своей судьбе! Матфидия, обнимая милых детей, которых не надеялась уже видеть, расспрашивала о муже, плакала о нем, но благодарила Бога за спасение детей и решилась последовать их совету и принять Святое крещение. На другой день апостол пошел к берегу моря и в уединенном месте окрестил Матфидию и другую старушку во имя Отца и Сына и Святого Духа.
После этого, оставив радостное семейство, святой апостол пошел другим путем. Навстречу ему попался старец почтенной наружности, но бедно одетый, который, казалось, ждал его; он подошел к Петру и сказал:
– Я имею нечто сказать тебе. Я вижу, что ты человек благоразумный, и хочу дать тебе совет. Сегодня утром я видел, как ты, придя к берегу морскому, долго там молился, и мне стало жаль твоих напрасных трудов. Я решился убедить тебя, что нет Бога ни на небе, ни на земле, что никто о нас не заботится. Мир составился случайно, и те, которые молятся, напрасно обманывают себя.
– Как дошел ты до этого убеждения? – спросил апостол. – Если нет Бога, то кто же устроил небо и украсил его звездами? Кто основал землю и одел ее цветами?
Незнакомец, глубоко вздохнув, отвечал:
– Я изучал науки, усердно служил богам и по опыту знаю, что нет Бога. Если бы был Бог, то Он услыхал бы воздыхания плачущих, утешил бы изнемогающих от печали, но нет слушающего, нет утешающего! Сколько я проливал слез, молясь всевышним богам, ибо вот более двадцати лет, как я в скорби необъяснимой. Сколько принес я жертв, сколько молитв! Но некому внимать моим мольбам и рыданиям, и все тщетно!
– Оттого-то ты и не получал утешения, – сказал Петр, – что ты молился ложным богам своим, а не Тому истинному Богу, которому мы поклоняемся.
Тут апостол стал ему объяснять истинную веру, убеждал его, расспрашивал о несчастьях его. Чужестранец все рассказал ему, и Петр из его рассказов с радостью узнал, что это был Фавст, муж Матфидии. Апостол обещал ему скорое утешение и сейчас же повел туда, где находилась Матфидия с сыновьями. Несмотря на долгую разлуку, супруги узнали друг друга и долго не могли выговорить слова от радости. Сколько было пролито радостных слез при этом свидании! Как утешался отец, видя сыновей своих! Все прежние горести были забыты, все благодарили Бога, а Фавст уверовал и принял крещение от святого апостола.
Все вместе отправились в Антиохию. Правитель, узнав о них и всех их приключениях, дал знать о том в Рим. Туда потребовали царского родственника, приняли его торжественно и возвратили ему все его богатство.
Все семейство поселилось в Риме и, живя в почестях и славе, не забывало Бога. Много оно помогало бедным и старалось распространять слово Божие. Через несколько лет родители с миром отошли ко Господу, а дети продолжали усердно проповедовать слово Божие. Климент был особенно ревностен в этом святом деле. Он находился неотлучно при Петре; во время его пребывания в Риме святой апостол рукоположил его епископом перед своей смертью.
В тяжелое время гонений Климент мудро управлял Церковью. Он многих обратил, избрал семь писцов, чтобы записывать подвиги мучеников, и таким образом сохранил для нас драгоценные известия о страданиях их за Христа. Во время народного восстания язычники жаловались на низвержение своих идолов и на успешную проповедь Климента; вследствие этого император Траян сослал его в заточение в Херсонес Таврический, нынешний Крымский полуостров, вместе со многими верующими.
На месте изгнания близ города Херсона, или Корсуни12 Климент нашел много христиан, которые были осуждены на тяжкие работы в каменоломнях. Приезд Климента утешил их. Святой епископ ободрял их и трудился вместе с ними. Работникам недоставало воды; Господь чудесным образом указал Клименту светлый источник. Слух о целительной силе чудесной воды распространился по всей окрестности. Многие приходили к нему, и Климент всем проповедовал слово Божие. Таким образом, множество людей каждый день присоединялось к Церкви и принимало крещение от Климента в чудном источнике. Но злоба гонителей вскоре остановила ревность епископа. Хотели принудить его принести жертву богам, и когда он от этого отказался, то осудили его на смерть. Посадили его в лодку и, привязав ему якорь на шею, потопили его в Черном море.
Предание говорит, что однажды после единодушной молитвы учеников Климента, Корнилия и Фива, и всех христиан море расступилось, и все увидели чудесную мраморную пещеру, в которой покоились мощи святого. Рассказывают, что чудо это повторялось ежегодно в день памяти Климента и что раз одна женщина, придя поклониться гробу мученика, не успела унести своего маленького сына, когда нахлынули волны, но через год нашли его живого и веселого в чудной пещере.
В IX веке просветители славян, философ Константин (нареченный Кириллом по принятии схимы) и брат его Мефодий, прибыв в Херсон, чудесным образом обрели мощи святого Климента и, вынув их из моря, отнесли часть их в Рим. Другая часть осталась в Херсоне и была впоследствии перенесена в Киев святым Владимиром. Древняя церковь святого Климента в Риме построена над останками дома священномученика. В ней были положены мощи святого Климента. В ней похоронен и святой просветитель славян Кирилл.

В тот же день память святителя Петра, епископа Александрийского.
Память святителя Иннокентия Иркутского
26 ноября

В этот день, вместе с памятью преподобного Алипия Столпника, жившего в Малой Азии, наша Церковь творит память русского епископа Иннокентия, просветившего истиной дальнюю Сибирь. К сожалению, сохранилось весьма немного подробностей о его жизни. Он был современником святых Димитрия Ростовского и Митрофана Воронежского, родился в Малороссии и получил образование в Киевском Братском училище. Там же он постригся в инока в Печерском монастыре, после чего был призван в Москву, где его ученость и добродетели обратили на него внимание митрополита Стефана Яворского, который поручил ему преподавание философии в духовной академии. Затем он был посвящен в епископа Переяславльского; но вскоре новая деятельность открылась ему.
При Петре Великом христианская вера быстро распространилась в Сибири, и Петр, желая усилить деятельность китайской миссии, хотел, чтобы был русский епископ в Пекине. Для этого епископ Иннокентий был назначен и отправился в путь; но переговоры с китайским богдыханом не привели к соглашению: он отказался принять в Пекине епископа. Пока велись эти переговоры, в продолжение нескольких лет, Иннокентий пребывал то в Иркутске, то в Селенгинске и деятельно занимался просвещением язычников – бурят и тунгусов. Через несколько лет, уже при императрице Екатерине, он был назван епископом Иркутским. Живя в Воскресенской обители, он с горячей ревностью трудился для блага общего, проповедовал слово, основал училище, в котором новообращенные учились закону Божию и русскому языку.
Много трудов предпринял святитель, много было ему огорчений; в акафисте, сочиненном в Иркутске, славится его терпение среди горьких испытаний, которым он подвергался частью от начальника миссии, частью от неверующих. «Витийство человеческое не возможет изрещи всех скорбей, лишений, унижений, болезней и страданий, ради спасения паствы твоей подъятых; но мы, терпению твоему дивящеся и любовию побеждаемы, с благодарственным чувством вопием: радуйся, воине Христов непобедимый; радуйся, яко ярость неблагомыслящих потерпел еси, гневающихся неправедно; радуйся, угнетенных и страждущих рабов скорое заступление; радуйся, яко корение и терние неверия трудолюбно посекал еси!»
После четырех лет апостольских трудов Святитель почил мирно в 1731 году.
Через тридцать лет после его кончины по случаю работ, производившихся в церкви, где покоился святитель, гроб его был открыт; он был цел, и святые мощи его были обретены нетленными. Жители Иркутска сохранили благодарную память о святом муже, который столько трудился для их блага; многие приходили молиться к его гробнице. Чудесные исцеления и явления засвидетельствовали о новом угоднике Божием; в 1805 году мощи иркутского святителя были торжественно открыты, и было положено совершать его память 26 ноября, в день его преставления.
«Восхвалим новаго апостола Христова, – восклицает Святая Церковь, – и грядущаго со Евангелием в землю языков чуждих, облагоухавшаго верою последние концы России, процветившаго яко крин на востоке царство Сибирское, на языки, ненапоенные струями благодати, одождившаго глаголы премудрости небесныя».
Страдания святого мученика Иакова Персиянина
27 ноября

При персидском царе Издегерде в IV веке жил добрый христианин по имени Иаков. Он был богат и знатен и занимал важную должность при дворе царя, который очень любил его. Но вот вдруг Издегерд стал жестоко преследовать христиан, требуя, чтобы они отреклись от Христа, и Иаков не устоял против угроз и против опасения лишиться всех преимуществ своих и согласился совершить обряд, требуемый царем.
Когда об этом узнали мать и жена Иакова, они глубоко огорчились, потому что обе были ревностными христианками. Они в то время не были при Иакове, но написали ему письмо, в котором строго укоряли его за отступничество. «Как мог ты, – писали они между прочим, – отступить от Царя Небесного ради мирских почестей, погубить жизнь бессмертную, оставить истину ради лжи, ради земных выгод сделаться недостойным любви Божией? Со слезами умоляем тебя, покайся и обратись опять к милосердому Богу; если же ты не познаешь греха своего, то мы не хотим видеть тебя, не хотим иметь ничего общего с тобой».
Это письмо очень смутило и взволновало Иакова. «Если мать и жена отвращаются от меня, – подумал он, – что будет со мной, когда Господь придет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его?» Раскаяние и глубокое сокрушение пробудились в душе отступника. Он лил горячие слезы и все помышлял о том, как бы загладить преступление свое; вместе с тем он чувствовал себя до того виновным, что единственная надежда его была в милосердии Господа, который не отвращается от кающегося грешника. «Буду стучаться в двери милосердия Божия, пока они отверзутся мне, – говорил он. – Господь благ и милостив; Он не хочет смерти грешника и с радостью приемлет кающегося». Молитва постоянная и надежда на Господа ободрили Иакова, и, когда через некоторое время царь вопросил его о вере, он с твердостью отвечал, что верует во Христа. Царь стал грозить ему смертью. «Это не страшит меня, – отвечал христианин, – смерть есть только временный сон, от которого все восстанут».
Царь употреблял все усилия, чтобы склонить Иакова к вторичному отступничеству, но, наконец убедившись в его непреклонности, осудил его на мучительную казнь. Он повелел отрезать у него все члены один за другим. Но этот страшный приговор не поколебал твердости Иакова; он радовался, что Господь дает ему средство хоть несколько загладить грех отступничества своего, и молил только
Бога о терпении. «Господи Боже мой, – воскликнул он, когда привели его на место казни, – услышь меня, раба Твоего, и, призрев на меня с высоты святыни Твоей, дай мне силу вытерпеть страдание и воздать кровью моей за преступление мое. Исповедаю имя святое Твое, Боже мой, и полагаю жизнь мою за Тебя!»
Началась страшная казнь, от которой содрогались все присутствовавшие; у мученика отрезали один за другим пальцы одной руки, потом другой; затем руки и ноги; он только славословил Господа и не обращал внимания на увещание друзей, которые умоляли его спасти жизнь свою. Казнь продолжалась долго; но твердость мученика ни на миг не поколебалась; уже едва живой, он находил силы славить Бога и восклицал: «Свят, свят, свят еси Бог Вседержитель, восхваляемый небесными силами; призри на меня, Богживых и мертвых, и услышь моление мое. Уже отняты все члены мои, и тело мое почти мертво; не имею ног, чтобы стать перед Тобою; не имею рук, чтобы поднять их к Тебе, Творцу моему; не имею колен, чтобы припасть и поклониться Тебе; я повержен перед Тобою, Владыко мой, как дом разрушенный и дерево, лишенное ветвей. Молю Тебя, не оставь меня до конца и милостиво выведи из темницы душу мою». Едва он кончил молитву, как нанесли ему смертный удар. Христиане честно похоронили тело святого мученика.
Память преподобномученика Стефана Нового
28 ноября

Преподобный Стефан, пострадавший за иконы в VII веке, родился в Константинополе и с самого рождения своего был посвящен Богу благочестивой матерью. В юношеском возрасте он постригся в иноки в Авксентиевом Вифинском монастыре и прославился святой жизнью и благотворительностью. Он хранил строжайший пост, молился постоянно, трудами своими помогал бедным. Он желал уединенной жизни, но принужден был пожертвовать собственным желанием для пользы общей; его избрали в игумены монастыря.
В это время свирепствовала ересь иконоборчества. Лев Исаврянин и сын его, Константин Копроним, яростно преследовали почитателей святых икон. Из церквей и домов выносили святые образа и сжигали их на площадях или рубили на мелкие части, разбивали и топтали ногами священные сосуды, имевшие на себе изображение Христа. Церковь Богородицы во Влахернах была вся изукрашена по стенам живописью, представлявшей всю земную жизнь Спасителя; по повелению императора стерли всю эту живопись. Константин Копроним шел еще далее отца своего; он велел выбросить из храмов святые мощи и на беззаконном соборе, созванном в Константинополе, постановил: называть иконы идолами, уничтожить чествование святых и Богородицы, запрещая называть святыми пророков, апостолов и мучеников; всех сопротивлявшихся этим постановлениям считать еретиками наравне с Арием, Несторием и Евтихием. Вслед за тем началось также страшное гонение на иноков. Византийские монастыри опустели; иноков заключали в темницы.
Император знал о мудрости и святости Стефана и потому желал склонить его к своим мнениям. Он послал к нему доверенное лицо с богатыми дарами и с поручением уговорить его подписать определение собора, но Стефан окончательно отказал. «Не подпишу вашего беззаконного собора, – говорил он, – не могу назвать горькое сладким, ни тьму светом. Я готов умереть за истину и рад пролить до последней капли кровь за икону Спасителя моего». Этот ответ привел царя в ярость. Он велел заключить Стефана в темницу; но вскоре враги неожиданно напали на империю, и Копроним, боясь гнева Божия, освободил праведника.
Но как только утихла война, гонение возобновилось с еще большей силой, и весь гнев царя излился на Стефана. Подкупали недостойных людей, чтобы клеветать на него и обвинять его в преступлениях; наконец разорили его обитель и его самого после тяжких истязаний отвезли в заточение на остров Проконнис. Но ничто не могло победить твердости святого мужа; он равнодушно переносил лишения и заточение, не переставал учить истине и силой Божией творил столько чудес, что имя его прославилось по всей стране той.
Тогда император вызвал его к себе и сам долго спорил с ним, стараясь склонить его к своим мнениям.
– Неужели ты думаешь, – говорил император, – что, попирая ногами икону, мы попираем Самого Христа?
Стефан, показав царю монету с царским изображением, спросил:
– Что будет тому, кто бы это изображение попирал ногами? Не достоин ли он строгой казни?
– Конечно, – отвечали ему, – строгая казнь постигнет того, кто станет ругаться над царским изображением.
– Какую же казнь заслуживает тот, кто ругается над изображением Сына Божия и Пречистой Его Матери? – сказал Стефан и вслед за тем, бросив монету на пол, стал топтать ее ногами.
Царедворцы бросились на Стефана и, схватив его, хотели утопить в море, но Копроним приказал заключить его в темницу. В этой темнице святой муж нашел более трехсот узников, заключенных, как и он, за почитание икон. Все уже претерпели тяжкие мучения и ждали смерти за твердость в вере, но утешались молитвой и упованием на Бога. Прибытие Стефана еще более возвысило дух узников. И день и ночь темница оглашалась молитвой и псалмопением; она походила более на храм, чем на место заключения. Огромное множество народа ежечасно толпилось вокруг нее, чтобы получить благословение или наставление от преподобного или помолиться с теми, которые так мужественно страдали за святую истину. Об этом донесли царю. Он велел вывести Стефана из темницы, чтобы предать его казни. Иконоборцы влачили его по улице, осыпая его ругательствами и побоями. Наконец один из них, ударив его тяжелым бревном по голове, прекратил его жизнь. Это было в 767 году.
Память святого Парамона и 370 мучеников в Вифинии
29 ноября
В середине III века, при императоре Декии, было жестокое гонение на христиан. Принуждали их совершать жертвоприношения и несогласившихся предавали страшным истязаниям. Однажды в Вифинии один христианин, видя мучения единоверцев своих, воскликнул: «Сколько невинных страдают за то, что не хотят поклониться бездушным идолам!» Его тотчас схватили, прокололи ему язык и наконец пронзили копьями. С ним же замучили 370 христиан.

В тот же день воспоминается святой Филумен, торговец хлебом в Алкире, замученный за исповедание Христа, и преподобный Акакий Синайский, живший в VI веке.
Житие святого апостола Андрея Первозванного
30 ноября
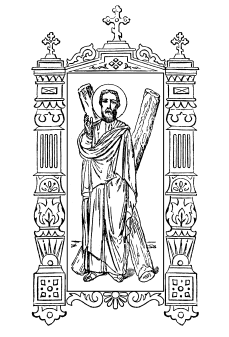
Святой апостол Андрей называется Первозванным потому, что первым из апостолов последовал за Христом. С ранних лет он жаждал истинного учения, и, когда Иоанн Креститель явился в Иудее, стал одним из его учеников. Он стоял на берегу Иордана, когда Иоанн Предтеча, указывая народу на проходящего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий!»
Услышав эти слова, Андрей пошел за Спасителем и провел с Ним весь день тот; потом он пошел за братом своим Симоном (Петром) и, передав ему радостную весть: «Мы нашли Мессию», привел его ко Христу. Оба брата продолжали, однако, свою прежнюю жизнь и занимались рыболовством. Родом они были из Вифсаиды. Спаситель увидел их однажды на берегу моря Галилейского и сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19). С тех пор они всюду следовали за Спасителем и были свидетелями Его чудес, смерти и воскресения.
Имя святого Андрея нередко встречается в Евангелии; о нем упоминается при повествовании о насыщении народа пятью хлебами. Андрей с тремя другими апостолами расспрашивал Господа о будущей судьбе Церкви и услышал пророчество о разорении Иерусалима и об окончании мира. Он вместе с Филиппом сказал Иисусу, что некоторые эллины желают видеть Его, и услышал слова Спасителя: «Пришел час, да прославится Сын Человеческий… Кто Мне служит, мне да последует, и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой. Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! Избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел. Отче, прославь имя Твое!» – Тогда пришел с неба глас: «И прославил и еще прославлю» (Ин. 12:23,26–28).
После Вознесения Господня и сошествия Святого Духа, когда апостолы рассеялись для проповедания слова Божия, апостол Андрей отправился в страны северо-восточные. Через Грецию, Малую Азию, берега Черного моря он проник до страны, обитаемой скифами. Эта страна, тогда дикая и неизвестная, есть нынешняя Россия. Вся жизнь святого апостола была посвящена благовествованию; в терпении переносил он гонения от язычников и варваров и везде словом своим, чудесами и примером приобретал новых последователей Христу.
В Понтийском городе Синопе, близ Черного моря, куда святой Андрей прибыл с апостолом Матфием, оба проповедника Христова претерпели ужасное гонение от иудеев, которые с гневом видели, что святое учение приобретает много последователей. Они посадили в темницу Матфия и Андрея и, избив их до полусмерти, бросили их за ворота города: но, исцеленный чудесным явлением Спасителя, Андрей возвратился в город, продолжал проповедь и обратил многих ко Христу. Еще в VII веке показывали в Синопе кафедру, с которой учил апостол, и мраморную икону его.
Святой Андрей проповедовал усердно и в других городах Понта и Греции, исцелял больных, прогонял нечистых духов, убеждал новообращенных быть милосердными к странникам и рабам своим и иметь любовь ко всем.
Святые апостолы, рассеянные по всему миру для проповедования Евангелия, собирались иногда в Иерусалиме для праздника Пасхи. В этих радостных свиданиях они сообщали друг другу об успехе общего дела, черпали в общей молитве новые силы для продолжения трудов и потом предпринимали новые путешествия. Считают три таких апостольских пришествия святого Андрея. Вместе со святым Иоанном Богословом апостол Андрей во втором путешествии посетил Эфес и потом пробыл два года в Никее, где совершил много чудес и обратил ко Христу множество язычников. Кротость и добродетельная жизнь святого апостола привлекали к нему любовь народа, который, слушая его, восклицал: «Воистину ты ученик и друг благого и милостивого Бога, и Он говорит нам твоими устами!» Святой апостол проповедовал в Ираклии, Халкидоне, Трапезонте, посетил Армению и Грузию; в этой последней стране сохранились и доныне предания о его пребывании в ней.
В третьем путешествии своем святой апостол проник в горы Осетии и Абхазии, проповедовал в Севасте, нынешнем Сухуми, обошел берега Черного моря и посетил Херсонес Таврический, нынешний Крымский полуостров. Там в это время находились богатые греческие колонии. О стране же, лежавшей на севере, – о России – мало тогда знали; племена, населявшие ее, были известны под общим именем скифов. Первый летописец наш Нестор рассказывает по преданию, сохранившемуся до его времени, что святой апостол доплыл по Днепру до самого того места, где ныне стоит Киев. Поднявшись на гору, он водрузил крест и сказал находившимся с ним ученикам: «На сем месте воссияет благодать Божия, воздвигнутся церкви Христу, а свет истинный изыдет отсюда на всю страну». Теперь на той самой горе, где, по сказанию предания, остановился святой апостол, стоит церковь во имя святого Андрея Первозванного.
После этого трудного путешествия Андрей еще посетил Синоп и города, лежавшие близ Черного моря. Он посетил и Византию и туда назначил первым епископом Стахия, одного из семидесяти учеников Христовых. Обходя города Греции, он уже в преклонных летах дошел до города Патры, где должен был кончиться его земной подвиг. Многие из жителей Патр, слыша его святое учение, оставили идолов и обратились к Богу истинному, и среди них жена губернатора города, которую апостол исцелил от тяжкой болезни, и брат губернатора, философ Стратоклий. Сам губернатор, Егеат, находился в то время в Риме, где царствовал жестокий Нерон.
По возвращении в Патры Егеат узнал, что новое учение быстро распространяется по городу и даже проникло в семейство его. Полный гнева, он стал понуждать уверовавших принести жертвы богам. Святой Андрей смело заступался за христиан; он говорил Егеату:
– Тебе самому, судье людей, следовало бы познать верховного Судью, Бога истинного.
Губернатор начал хулить Господа и учение Его.
– За это ложное учение, – говорил он, – иудеи распяли на кресте Учителя твоего Иисуса.
– О, если бы ты захотел понять тайну креста! – воскликнул Андрей. – Не неволей, а добровольно пострадал на нем Спаситель наш, чтобы искупить людей Своих.
– Удивляюсь, – сказал губернатор, – как ты можешь веровать в человека, который каким бы то ни было образом, волей или неволей, был пригвожден ко кресту.
Надо помнить, что смерть крестная считалась у римлян самой позорной казнью, на которую осуждались лишь злейшие преступники.
Андрей стал славить Господа и объявил Егеату, что радостно примет крестную смерть за имя Господне.
– По безумию своему хвалишь ты крест, – сказал Егеат, – и по дерзости не боишься смерти.
– Не по дерзости, а по вере не боюсь смерти, – отвечал Андрей и начал объяснять Егеату тайну искупления рода человеческого через крестную смерть Спасителя, но слова его не вразумили губернатора; он требовал, чтобы Андрей поклонился богам языческим и совершил в честь них жертвоприношение, грозя ему крестной смертью за ослушание. Святой апостол остался тверд и непреклонен, и Егеат велел заключить его в темницу.
Христиане, узнав о заключении любимого учителя своего, с плачем окружили темницу, чтобы увидеть его, но двери были затворены. Андрей сотворил крестное знамение, и двери отворились перед христианами; они вошли, и святой апостол молился и беседовал с ними. Попросив вина и хлеба, он совершил таинство евхаристии, причастил всех, потом рукоположил Стратоклия епископом. Христиане были в ужасном волнении, хотели убить Егеата и силой освободить Андрея, но он удерживал их, говоря: «Не претворяйте мира Господа нашего Иисуса Христа в мятеж диавольский. Господь Сам не подал ли нам пример терпения, когда был осужден на смерть? Молчите и успокойтесь. Не препятствуйте моему мученичеству, но сами будьте готовы перенести испытание и страдания, как добрые воины Христа. Если есть чего страшиться, то следует страшиться тех страданий, которые не имеют конца; земные же страдания скоро прекращаются».
В молитве и беседах с верующими провел Андрей всю ночь. Потом, обняв и благословив каждого, он отпустил их и крестным знаменем снова заключил двери темницы.
На следующее утро Егеат стал снова убеждать Андрея отречься от Господа. Услышав отказ, он велел его жестоко бить, продолжая в то же время грозить ему крестной смертью.
– Я – раб креста Христова, – отвечал апостол, – я более желаю, нежели боюсь смерти крестной. Уверуй сам во Христа и избавишься от муки вечной. Я более скорблю о твоей гибели, нежели о своих страданиях, ибо мои страдания продолжатся день-два; твои же мучения не минуют вовеки.
Не обращая внимания на кроткие увещания святого Андрея, Егеат присудил его к крестной смерти; но, дабы продлить страдания его, он велел не пригвоздить, но привязать его к кресту. Когда вели святого на казнь, народ толпился вокруг него, восклицая: «Чем согрешил этот праведник, этот друг Божий, что его ведут на пропятие?» Но Андрей усмирял народ и шел с радостью на казнь. Увидев приготовленный для него крест, он воскликнул: «Радуйся, крест, плотью Христовой освященный! Прежде нежели был распят на тебе Христос, ты был страшен для людей; ныне же ты с любовью и радостью приемлешься, ибо верные знают, какое даруешь счастье. С любовью гряду к тебе; ты же прими меня, ученика Христова. О крест, издавна любимый! О крест, давно желаемый! Возьми меня от людей и отдай меня Учителю моему, да тобою примет меня Тот, Кто тобою искупил меня!»
Андрея привязали ко кресту. Несколько тысяч людей толпились около него, негодуя на решение правителя и громогласно восклицая: «Напрасно страдает этот святой муж!» Апостол старался успокоить волнующихся и продолжал учить их слову Божию. «Люди, здесь стоящие, – говорил он, – жены и дети, старики и молодые, рабы и свободные! Послушайте слова мои и не думайте более о суете временной жизни; но посмотрите на меня, висящего на кресте ради Христа и уже готового выйти из сего тела. Не должно страшиться смерти тем, которые подвергаются ей за истину в этом мире; они достигают блаженного успокоения. Одни только рабы греха идут на казнь; очистите себя, братия, не забывайте моего учения; возлюбите искренно веру в Отца и Сына и Святого Духа. Храните заповеди Господа нашего Иисуса Христа и тем явите себя достойными вечного блаженства, которое уготовал Господь любящим Его».
Дни и ночи проходили таким образом, старец не переставал беседовать с народом, но продолжительное его мучение усиливало ропот и неудовольствие народа. Наконец народ с криком окружил жилище Егеата, требуя освобождения старца, уже третий день висевшего на кресте без пищи. «Напрасно страдает сей святой и кроткий человек, – говорил народ. – Вот уже два дня, как он висит на кресте и не перестает учить нас правде; надо его снять».
Егеат, устрашась волнения, согласился на желание народа и сам пошел на место казни, чтобы велеть при себе снять Андрея со креста. Святой Андрей, увидев его, сказал: «Для чего пришел ты, Егеат? Если хочешь уверовать во Христа, то отверзутся тебе двери благодати. Если же пришел для того, чтобы снять меня со креста, то я этого не желаю. Уже вижу Царя моего, уже поклоняюсь Ему, уже стою перед
Ним, но жалею о тебе, ибо ты готовишь себе вечную муку. Позаботься о душе своей, пока еще не поздно».
Слуги Егеата по повелению губернатора начали было отвязывать его от креста. Тогда Андрей, подняв очи к небу, воскликнул: «Не допусти, Господи, снять меня со креста и не лиши меня подобия с Тобою образом таинственной Твоей смерти; не дай поколебаться тем, которые познали и возлюбили Тебя через мое благовестие, сохрани их и утверди во святой вере и даруй им прославлять Тебя, истинного Бога… Прими и меня с миром в вечные Твои обители». Сказав это, апостол предал дух свой Богу, и лицо его просияло небесным светом. Это было в 70 году. Христиане похоронили тело святого мученика. Через несколько дней после этого Егеат сам лишил себя жизни. Вдова и брат его не воспользовались богатством умершего, но до смерти своей находились при гробе апостола, служа Богу и помогая нищим.
При императоре Констанции мощи святого Андрея Первозванного были перенесены в Константинополь и положены в церкви Святых апостолов. Но когда крестоносцы овладели Константинополем, то их перевезли в итальянский город Амальфи 6 мая 1208 года. Там они почивают и доныне; честная же глава святого Андрея Первозванного находится в Риме13.
* * *
Примечания
Преподобный Николай исповедник был впоследствии игуменом Студийского монастыря и много пострадал за истину. Память его совершается 4 февраля.
Литра – мера веса.(Примеч. ред.)
В Православной Церкви литургия святого Иоанна Златоуста совершается почти в продолжение целого года, исключая день памяти святого Василия Великого, навечерия Рождества Христова и Богоявления Господня (если только они случатся не в дни субботние или воскресные), а также воскресных дней Святой Четыредесятницы, в которые, по уставу Церкви, совершается литургия Василия Великого.
Память святой Мариамны 17 февраля.
Древний город этот находился близ нынешнего Севастополя.
В настоящее время святыни хранятся в г. Патры в Кафедральном соборе во имя святого Андрея Первозванного, воздвигнутом на месте кончины апостола. Частица главы Андрея Первозванного есть также в Афонском Андреевском скиту.(Примеч. ред.)
