Высокопреосвященнейший Дмитрий ( Муретов), архиепископ Херсонский и Одесский
Содержание
Глава 1. Родина и школа I II III IV Глава 2. Киев I II III IV V VI VII Глава 3. Тула I II III ΙV V Глава 3. Одесса I II III IV V VI VII VIII IX X XI Глава 4. Ярославль I II III IV Глава 5. Волынь I II III Глава 6. Одесса (вторично) I II III Приложение
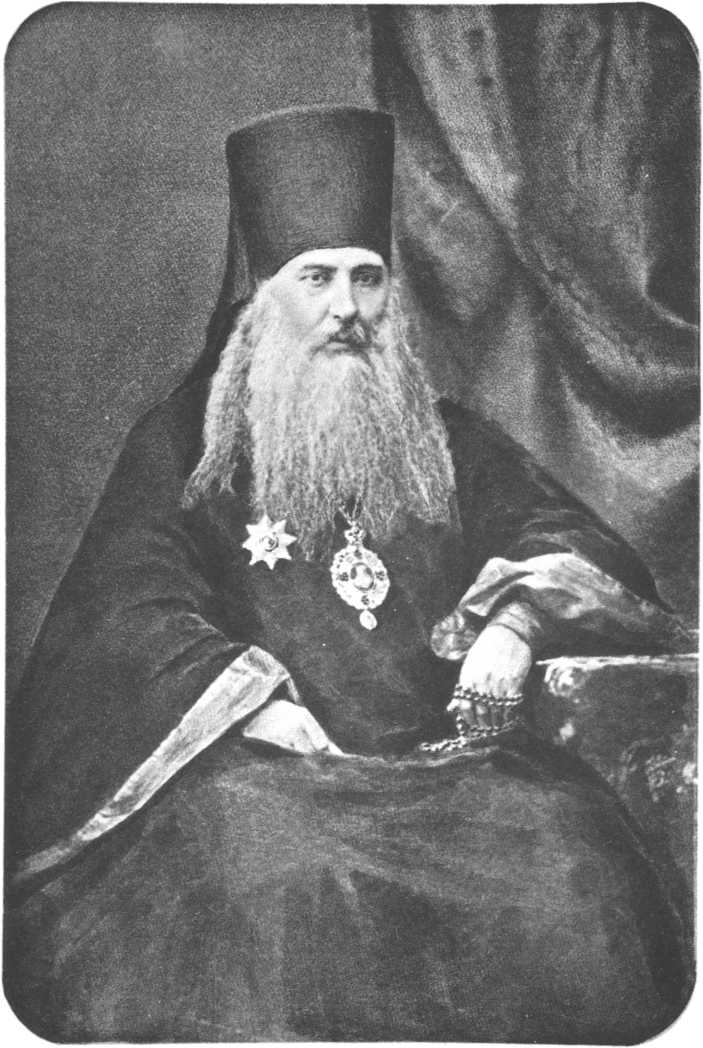
Суть, иже оставиша имя, еже поведати хвалы: телеса их в мире погребена быта, а имена их живут в роды: премудрость их поведят людие, и похвалу их исповесть церковь.
«Строго и полно воспроизвести и оценить величественный образ архипастыря Димитрия, как человека и деятеля, может только внимательный суд времени, поколений и истории» (Рязан. еп. вед. 1883 г. № 24). – «Невозможно пока очертить даже и то, как высказалась высокая и светлая личность Архипастыря Димитрия за последние полтора года, когда он вторично вступил в управление Херсонскою епархией. Еще труднее представить теперь краткий очерк его высокой жизни» (Херсон, еп. вед. 1883 г. № 23).
Так писали в «некрологах» вскоре после смерти преосвященного Димитрия. Прошло не мало времени, а сказанное тогда остается, пожалуй, в той же силе и теперь. Понятно, что писать полную биографию приснопамятного святителя Божия, всесторонне обнимающую его жизнь и могущую точно воспроизвести его привлекательный нравственный облик, возможно будет тогда, когда труд не одного строгого судьи пройдет по хартиям и книгам, в которых записано имя Димитрия, описаны его дела, или внесены личные труды его богопросвещенного ума. Будущий историк отечественной церкви XIX века, на основании письменных данных, воздаст, конечно, должное покойному Архиепископу Херсонскому, отведя ему надлежащее место в ряду других деятелей на ниве Божией. Но для биографа, который всегда должен иметь в виду главную свою цель – сохранить для потомства все черты, имеющие войти, в изображение отдельной личности, – наряду с письменными памятниками должны быть дороги и устный предания. К сожалению, люди – хранители преданий – уходят с жизненного поприща, едва переживая героев своих повествований. Немного осталось в живых учеников преосвященного Димитрия, очень мало – из его сотрудников, и почти никого – из свидетелей его детства. Желание сохранить дошедшие до нас достоверные воспоминания людей близких к нему и побуждает теперь же записать их на ряду и в сопоставлении с документальными данными, в виде предлагаемой «биографии», представляя будущему времени должные исправления и пополнения.
Приснопамятный владыка Димитрий принадлежит к числу людей редких, – можно сказать, людей высшего порядка – все же он был человек – родившийся, воспитавшийся и служивший церкви Божией при условиях и обстоятельствах своего времени и своей среды, а потому и в жизнеописании его далеко не излишни более или менее подробные описания этой среды и разных обстоятельств времени и мест. Недостатки в описаниях и могущие встретиться пробелы в самой биографии пусть читатель отнесет к вине составителя, который по разным причинам не мог побывать на всех местах служения покойного Архиепископа и воспользоваться всеми материалами, так или иначе относящимися к его жизнеописанию.
С.-Петербург, 1898 г.
Глава 1. Родина и школа
I
Архиепископ Димитрий (Муретов) родился в селе Лучинске, Пронского уезда, Рязанской губернии.
Укромный уголок, где находится Лучинск, лежит на границе трех уездов Рязанской губернии, разделяющихся здесь рекою Пронею и ее притоком Рановым. Вдали от городов и больших дорог, уголок этот, когда-то окружаемый лесом, ныне открывает начало степной полосы, тянущейся на юг, к пределам Тамбовской губернии. Коренное русское население, свободное от инородческих примесей, удержало здесь во всем характер исконной старины.
Лучинск, как населенная местность, известен с древних времен. В самом начале XV-го века, в списке с правовой грамоты (1403 г.) село Лучинск стоит в числе вотчин рязанских владык. В XVI–XVII вв. при Лучинской Николаевской церкви постоянно был «двор преосвященного митрополита рязанского и Муромского». Здесь жили «его приказные люди», управлявшие этой богатой вотчиной, которая имела большое значение в экономии архиерейского дома, так как здесь были богатые рыбные ловли в реке Проне и окружавших ее озерах, а за рекою тянулся в бесконечную даль «архиепископский бортный лес» с большими благоустроенными пчелиными пасеками. В прошлом столетии, вместе с другими церковными и монастырскими поместьями, перешли в ведение «государственной экономии» многочисленные вотчины рязанского митрополита; в числе коих и Лучинск. Благодаря тому, что лучинские крестьяне никогда не были помещичьими, у них сохранились в первобытной простоте и нравы и обычаи. При большом количестве хорошего чернозема исключительным занятием для них всегда было земледелие; а до проведения железных дорог они почти и не знали; отхожих промыслов. При таких условиях быта народ жил в полной простоте; даже школы в Лучинске не было до позднейшего времени, и редкие грамотеи почерпали книжную мудрость у церковников.
Река Проня, протекающая больше 300 верст по Тульской и Рязанской губерниям, впадает в Оку верстах в 30-ти от Лучинска, а здесь делает крутую излучину (откуда, вероятно, и название села1 и изобилует полнотой вод. По живописности и красоте берегов Прони под Лучинском местность может равняться с Гремячкою или городом Пронском, лежащими на той же реке. С высокого, крутого и обрывистого левого берега, на котором расположены усадьбы церковного причта, прямо на восток открывается необыкновенно красивый вид: по направлению к северо-востоку далеко виднеется широкая лента реки; а там, за рекою, по низменному правому её берегу раскинулась зеленая равнина поемных лугов, за которыми по всему восточному горизонту тянется вековой лиственный лес, изобилующий дубом и липою2. Из-за луговой равнины отчетливо видны далекие каменные церкви, с высокими их колокольнями, трех, когда-то богатых, сел: Жерновищ, Столпцов и Перевлеса; а в праздничные дни, вверх по реке, ясно доносится до Лучинска звон тяжелых колоколов этих церквей. – Преосвященный Димитрий, в своих беседах с родными и земляками, любил вспоминать красоту родной природы. Она действительно способна произвести впечатление на каждого, даже случайно полюбовавшегося ею, а на душе человека, выросшего на лоне этой природы, оставить глубокий благотворный след, – и нет сомнения, что широта и картинность местного кругозора имела немаловажное влияние на развитие дарований талантливого богослова-витии, лучинского уроженца.
Быт духовенства Рязанской епархии в начале нашего века немногим чем отличался от крестьянского быта3. Еще в тех селах, где жили помещики, духовные (собственно священники) усвояли некое подражание «благородным», как в домашней обстановке, так и в покрое одежды для своих домочадцев; но в таких благодатных уголках, как Лучинск, в домах священно-церковно-служителей царила простота патриархальная. Те же, что и у крестьян, бревенчатый избы, с маленькими окнами и широкими лавками такие же плетневые дворы с соломенными навесами и с одностворными воротами; такие же, через сени, небольшие холодные пристройки, называвшиеся горницами, с примыкавшими к ним чуланами. Изба, постоянное жилище всей семьи священнослужителя, непременно имела отделение для зимних сожителей молодого поколения домашнего скота. Домашняя обстановка носила тот же вполне деревенский характер: отсутствие чаепития и других городских потребностей давало полную возможность ограничиваться покупкой деревянной и глиняной посуды, а затем употреблять другие, необходимые для домашнего обихода, принадлежности своего, домашнего производства. Самая одежда не только их семейных, но и самих лиц духовного звания, за малыми исключениями, приготовлялась дома из своих материалов. «Полукафтанье» (подрясник4) священника было из того же домашнего сукна, из которого мужик шил себе «зипун» (местное название), и отличался от последнего небольшою разницей в покрое, да иногда синим, кубовым цветом. На ногах у батюшки, как и у мужика, домашние онучи, лычные лапти и пеньковые оборы; хотя про случай имелись и сапоги. А в зимнее время нагольный тулуп или полушубок на плечах и валенки на ногах окончательно сравнивали все население деревни, и пастыря и пасомых. Ряса была не у всякого даже священника, особенно из поживших и успевших сносить ту единственную рясу, которая обязательно делалась (преимущественно из синего немецкого сукна) ко дню посвящения5. Такая внешность и обстановка в духовном быту того времени вызывалась самым образом жизни духовенства. Умственные запросы у него были не широки; да и число образованных, даже по тогдашнему времени, между священниками было очень ограничено. Не зная ни школ, ни проповедей, ни того обширного письмоводства и делопроизводства, какое обязательно теперь, они отправляли службу Божию в церкви, исполняли положенные требы на домах прихожан, а затем остальное время употребляли исключительно на благоустройство своего дома, в простом материальном смысле этого слова. Единственная, для многих тяжелая, но уже требовавшаяся в то время от духовных, умственная работа была; – обучить букварю и псалтырю собственных, же сыновей. Дочери и у священников в большинстве оставались неграмотными. За то в хозяйстве духовные не ленились и стыдились отстать в чем-нибудь от соседей крестьян: все они, не исключая священников, умели не хуже любого мужичка исправно ходить и с косою на лугу и за сохою на пашне. Так же, как и крестьяне, духовные с раннего возраста приучали своих детей к сельским работам и к тяжелому земледельческому труду; и этот труд не только не считался унизительным, но до позднейшего времени у рязанского духовенства почитался необходимым6, и семья, в которой было много работников, пользовалась особенным почетом. – Отцы Мирон и Конон – священники, одновременно служившие при Лучинской церкви, – которых так любил вспоминать преосвященный Димитрий в своих беседах с родственниками-сверстниками, и ставить в пример молодому, требовательному поколению своих сродичей, были истинные типы своего времени: многосемейные, и домовитые, они вели свое хозяйство на славу и во всем служили примером не только низшим членам причта, но и крестьянам-прихожанам. По крайней мере, семья о. диакона, к которой принадлежал покойный преосвященный, и при скудости своих средств старалась подражать порядкам, заведенным в домах представителей всего сельского люда, местных священников.
II
Родоначальником Муретовых был (хотя сам и не носил еще этой фамилии) священник соседнего с Лучинском села Столпцов Алексий, сын Феодулов, человек по своему времени далеко не дюжинный, почтенный у Бога и людей.
Пользовавшийся почетом и уважением от окружного духовенства и своих прихожан, начиная с местного владельца игольной фабрики, почетного гражданина Рюмина, Алексей Феодулович отличаем был и духовным начальством: он был «десятоначальником» и «духовным закащиком» или судьей «на всю Пронскую округу», а такие звания, в прошлом XVIII веке, высоко ставили носивших их, и епархиальная власть нередко удостаивала столпянского иерея «своего благоволения за полезное прохождение должностей». От Бога же он награжден был добрым достатком и многочисленным семейством: пять сыновей его, из которых двое окончили семинарский курс учения, – все потом были на приличных местах службы, а из трех дочерей его две были выданы в замужество за священников и только младшая прожила до глубокой старости девицею в родительском доме, переходившем наследственно сначала к старшему сыну Алексея Феодуловича, а потом к его внучке7.
Иван Алексеевич Столпянский8, второй сын Алексея Феодуловича, отец преосвященного Димитрия, родился в 1782 году и учился в старой рязанской семинарии в счастливые её времена, когда приснопамятный для Рязанской епархии, гуманный и просвещенный архиепископ Симон (Лагов. 1778–1804) был для семинарий всем – и постоянным ее протектором, и преподавателем многих наук, и ближайшим воспитателем учеников. Симон почти жил в семинарий и знал всех учеников по именам и фамилиям. По словам историка, «при преосвященном Симоне рязанская семинария, одушевляемая его духом, была по тогдашнему времени в цветущем состоянии, так что и высшая церковная власть – св. Синод, при устройстве, напр., тамбовской семинарии, предписывал иметь образцом – рязанскую»9. Заботясь не только о возвышении образовательного уровня, но и об улучшении быта учеников семинарий, пр. Симон устроил обширные здания для общежития всех учеников и учителей; но, не имея больших средств, принужден был сокращать число воспитанников и удерживал в семинарий до окончания курса только особенно способных и благонадежных. К числу таковых принадлежал Иван Столпянский. В 1804 году он окончил полный курс богословских наук и вышел из семинарий с таким запасом знаний, которому нередко потом удивлялись его зятья и племянники, учившиеся в новой, преобразованной семинарий. Как один из немногих, оканчивавших тогда курс, студентов, Иван Алексеевич мог бы занять лучшее священническое место; к сожалению, он имел физический недостаток, при котором считается не каноничным рукоположение во священника: еще в детстве у него потерян был один глаз. Сознавая это законное, хотя и невольное, препятствие, Иван Алексеевич и не стремился к чему-либо высшему, а устроившись диаконом в с. Лучинске, совершенно был доволен своим «жребием» и всю жизнь благодарил Бога за дарованные ему блага. Лучинск, соседний с Столпцами, был для него почти родина; приход был большой, с двухштатным причтом; земля церковная была добрая, хотя и не в достаточном количестве (на два причта 32 десятины). Требовались только труд и усердие; а в трудолюбии никто не мог отказать Лучинскому о. диакону. Дом его, устроенный по общему типу того времени, не отличался, правда, изобилием благ земных, однако и не страдал от крайней нищеты и скудости. Своих сыновей, когда учились в школах, Иван Алексеевич, водил в лаптях и домашних свитках; но это по тогдашнему не служило еще признаком крайней бедности: при помощи других, более состоятельных родственников, он мог содержать обоих сыновей и в училище и в семинарий на собственном коште10. – По воспоминаниям близких родственников, Иван Алексеевич был высокого роста и, благодаря своему недостатку, не отличался представительной наружностью; но по душе был человек в высшей степени симпатичный, сердечный, приветливый и умный. Обладая хорошею памятью, он любил рассказывать просто, но весьма остроумно, все пережитое-виденное и слышанное, не редко пересыпая свою речь латинскими присловьями и поговорками; любил декламировать заученные в семинарий стихи и даже сам писал гратуляции на торжественные дни, для почитаемых им особ.
Мать преосвященного Димитрия – Наталья Семеновна была также дочерью священника11, но совершенного простеца XVIII века, дошедшего когда-то до «синтаксимы» и потом во всей долголетней жизни не имевшего ни случая, ни подобности прилагать к делу школьную эрудицию. Наталья Семеновна, как и её сестры, была неграмотна; но это была поистине высокодобродетельная женщина, набожная и строго соблюдавшая все правила христианской жизни, благопопечительная и не лишенная природных дарований. Внуки, хорошо помнящие свою бабку – согбенную старушку, нередко и теперь вспоминают свое детское удивление, как она, неграмотная, могла останавливать и поправлять ребенка в чтении псалтири; а псаломские изречения у нее были постоянно на языке во время занятий каким-либо ручным делом, и особенно часто почему-то она произносила: «помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю». В добром настроении она любила слушать пение и сама певала какую-то старинную «Канту», называемую ею – «Плач Иосифа», и начинающуюся стихами:
Кому повем печаль мою,
Кого призову к рыданию?
В минуты же грусти и скорби, никак не соглашаясь с доводами, что ее сыновьям Бог указал иной – высший жребий, она обыкновенно жаловалась на отсутствие прямых ее кормильцев и всегда заканчивала эти жалобы деревенским причитанием: «разлетелись, мои ясные соколы, оставили меня – горькую кукушечку».·– Пережив своего супруга почти на тридцать лет, Наталья Семеновна жила до глубокой старости у своих дочерей, преимущественно у младшей, в Лучинске, и постоянно пользовалась заботами и помощью, далеких от нее по жительству, но близких по сердцу, своих даровитых сыновей. Ходила она всегда в пестрядинном или кубовом сарафане и душегрейке; раз только в жизни она изменила свой костюм, когда, по желанию и требованию ее старшего сына, тогда уже епископа, родные привозили ее из Лучинска в Тулу.
О. диакон Иоанн Алексеевич поступил на место в 1806 году, и несмотря, на то, что как он, так и жена его вступили в супружество в возрасте совершенном, у них долго не было детей. Только через пять лет супружеской жизни Бог даровал им сына. Родившийся 16-го января 1811 года первенец наречен был Климентом, в честь священномученика Климента, епископа Анкирского, память которого приходилась в восьмой день по рождении младенца (23-го янв.). В ближайший воскресный день, 21-го января, новорожденный был просвещен св. крещением. На радостях Иван Алексеевич осмелился пригласить восприемниками к своему первенцу помещика – господина Вельяминова с дочерью, которые жили недалеко от Лучинска и благоволили к молодому ученому о. диакону. Впоследствии, крестная мать Климента, дожившая до старости участливо следила за своим даровитым крестником: помогала ему во время школьного учения и долго утешалась его славою12.
Промыслу Божию угодно было дать некое указание на будущность новорожденного младенца еще до появления его на свет. Незадолго до рождения сына, Наталья Семеновна видела следующий, поразивший ее, сон13. Стоит она на самом берегу реки и моет белье. Не успела еще кончить работу, как видит, что по берегу реки прямо к ней идет человек в необыкновенном, невиданном ею церковном облачении, с золотой шапкой на голове. Страх заставил ее проснуться. Некоторое время соседи и родные, по рассказанному Натальей Семеновной сновидению, называли ее, конечно в шутку, архиерейской матерью. Потом забыли об этом; не забыла только сама видевшая пророчественный сон и дожившая до исполнения его.
Кроме Климента, у Ивана Алексеевича было еще только трое детей – сын Матфий и дочери Евдокия и Анна, и замечательно, что все они родились через пять лет один после другого14.
Как любимый первенец и единственное, в первые пять лет, Богом данное чадо, Климент рос под особенною заботливостью о нем отца и матери. Самыми ранними впечатлениями на детскую душу были, и потом оставались на всю жизнь, тяжкие бедствия отечества в годину испытаний, – в 1812 году. Рязанская губерния, правда, не подвергалась нашествию врагов; но бежавшие жители Москвы и ее окрестностей укрывались по разным городам и селам рязанской земли и всюду разносили панику; а постоянный движения новых войск и ополчений, возвращение на родину раненых и увечных, наконец партии пленных французов, проводимых по ближайшим трактам, – все это было на глазах местных жителей и заставляло жить под гнетом постоянного страха, говорить и думать об одном и том же – о страшном попущении Божием. Мальчика Климента бедственная година застала на втором году, когда он только начинал ходить и говорить. «И вот, – рассказывала его мать, вспоминая и первую радость в семье и тяжелое время той зимы, – ходит, бывало, наш Клима мерным шагом по широкой лавке и повторяет, едва выговаривая слова: француз придет – зарежет.» Буря, поднятая Наполеоном на русской земле, едва улеглась уже в 1815 году, и во все это время на впечатлительную душу даровитого ребенка наслоились носившиеся еще отклики народного бедствия. Эта буря, так живо изображенная и глубоко изъясненная в нескольких проповедях преосвященного Димитрия15, послужила, как увидим, благодарною темою для него еще в самом раннем периоде его авторства. Самые игры подраставшего мальчика долго носили на себе печать событий из эпохи отечественной войны.
В ту же эпоху началось и домашнее обучение Климента. Вместе с ним начал учиться, а потом был самым близким товарищем и школьным другом, двоюродный брат – Иван Столпянский (после Сапфиров), сын старшего брата Ивана Алексеевича – Григория. Столпянский диакон Григорий Алексеевич по-своему малограмотству, рад был отдать в науку своего сына ученому брату; со своей стороны и Иван Алексеевич с удовольствием взял племянника «для охоты к ученью» своему сыну. Передавая впечатления детства, Иван Григорьевич часто вспоминал, с одной стороны, о своем удовольствии от сердечных задушевных отношений к нему друга детства, а с другой – о своей детской зависти к талантливому сотоварищу: почти каждый день приходилось ему долго еще досиживать за книгою, когда Климент, выучивший твердо урок, давно бегал на свободе за детскими играми.
При обучении своих сыновей Иван Алексеевич держался старинной методы, по которой сам учился. Усаживал он их за науку не ранее семилетнего возраста и начинал со славянского букваря. Наученный твердо славянской грамоте, с изустным знанием приложенных к букварю молитв и разных житейских правил, ученик переходил к чтению Псалтири и часослова и только на вторую зиму начинал учиться читать по «гражданской» печати и писать «азы» и цифры. Затем проходился весь курс «заправной школы» даже с начатками латинского элементаря включительно. Дело, однако, не в программе этого домашнего обучения, а в тех педагогических отношениях умного учителя – отца, к способному ученику – сыну, о которых впоследствии преосвященный Димитрий вспоминал, как о самых добрых, благодетельных для него. Пр. Димитрий, как и его младший брат, легко и успешно проходили школьные курсы благодаря, конечно, своим природным дарованиям, но не мало, по их же сознании, способствовала тому домашняя подготовка.
Успехи домашнего обучения Климента скоро обратили на себя внимание даже простого сельского люда. Научившись твердо читать псалтирь и часослов, Климент с большою охотою и с успехом выступал чтецом на церковном клиросе и своим прекрасным чтением доставлял истинное удовольствие не только родителям, но и всему лучинскому приходу. На беду, один случай едва не отбил охоту к этому излюбленному занятию у необыкновенно скромного, но весьма чувствительного мальчика. Одному мужичку-прихожанину, во время праздничного славления, вздумалось публично, в присутствии всего церковного причта, отличить Климента от других мальчиков и наградить его пятаком за то, что он «так сладко и внятно» читает в церкви. О. Конон не одобрил такого суждения прихожанина, заметив, что ничего нет особенного, если мальчик, готовящейся быть вечным дьячком, учится теперь исправлять свою будущую должность, а что его (Кононову) сыну – Бог даст – не предстоит такая доля16. Чуткий мальчик сердцем понял, что своими успехами он невольно возбуждает в людях не добрые чувства. Климент глубоко оскорбился и медным пятаком за службу Божию с одной стороны, и плохо скрытым чувством зависти – с другой: со слезами он бросился бежать домой и, после того, долго ни за что не хотел ни читать в церкви, ни ходить по приходу со славою. Впоследствии, когда уже подрос и приезжал домой из училища и семинарии, он снова возвратился к участию в чтении и пении церковном. Неопустительно посещая все церковные службы, он обнаруживал такое знание устава и такую освоенность с клиросным делом, что другие члены причта серьезно почитали его настоящим клириком. По крайней мере, сосед о. диакона, престарелый дьячок, давно любовавшийся скромностью и деловитостью Климента, решился однажды сделать соседу серьезное предложение – уступить ему старшего сынка, которому он готов сдать свое место, а вместе с тем и полный очень нескудный дом и добрую невесту, единственную дочку. Как, по тогдашнему времени, много искушений представляло подобное предложение! Возможность освободиться от тяжести школьного содержания сына, когда семья увеличивается и младшие дети подрастают, а с другой стороны перспектива легко и выгодно устроить первенца, который был бы соседом – помощником, – вот соображения, которые легко могли поколебать сельского диакона в решении участи своего сына. И Бог знает, не пришлось ли бы, при других обстоятельствах великому иерарху пройти земное поприще в звании сельского причетника?! Но судьбы Божии неисповедимы! Отец преосвященного Димитрия сам был человек, вкусивший плодов науки: высоко он ценил науку и в ней видел все счастье для своих способных сыновей. Не долго думая, Иван Алексеевич отвечал отказом на предложение доброго соседа: «Бог даст жизни, Бог даст и средства на школьное воспитание сыновей; а там, какой будет их жребий, на то воля Господня»
Из окружавших в детстве Климента лиц более других производит на него впечатление дядя его Иван Алексеевич Муретов (первый из братьев, получивший от семинарского начальства эту необъяснимую фамилию17. Иван Муретов учился сначала в старой рязанской семинарий, при режиме преосвященного Феофилакта (Русанова), и окончил курс уже в новой, преобразованной, при новом составе профессоров – питомцев I курса С.-Петербургской академии. По окончании курса, он, как лучший студент после назначенных в академии, определен был в скопинское духовное училище учителем. Затем, оставив по болезни (глухоте) службу, всю свою долгую жизнь провел «свободными педагогом», на «кондициях» у помещиков, угождая своим меценатам и воспитанием недорослей и обязательным плетением вирш на торжественные случаи. Этот «оригинальный» дядя – любитель муз, живя в свободное время у братьев, в Столпцах и Лучинске, давно заметил дарования своего племянника Климента и с особенною любовью занимался его развитием. Его рассказы о семинарии, о науке и людях науки – профессорах – возбуждали в мальчике крайнее любопытство и жажду все это видеть и переиспытать; а добрый характер дяди и его любовь к детям на долго привязали к нему сердце племянника. Впоследствии Ив. Алексеевич Муретов уже старцем посетил преосвященного Димитрия в Туле (в 1853 г.) и получил предложение остаться у благодарного племянника доживать свой век; но привычка к своему обществу и к постоянным передвижениям заставили его отказаться от верного приюта. Это было последним свиданием признательного Владыки с простосердечным, любимым дядей, который пережил всех братьев и умер глубоким старцем, гостя у одного из своих племянников.
Из периода раннего детства памятен был преосвященному один случай. Летние игры его со сверстниками, как и у всех деревенских мальчиков, были на широкой улице и на поле, но больше всего тянула их к себе широкая река. Спуститься с крутого берега, отвязать челн и плыть с детскими рыболовными приборами на средину реки – было у них делом одной минуты. Однажды маленькие рыболовы потеряли равновесие, перевернули челн и очутились в реке на самом глубоком месте. К счастью, это было во время сенокоса и работавшие за рекою крестьяне скоро спасли тонувших рыболовов. – «Так промыслу Божию угодно было сохранить мою жизнь!» – вспоминал преосвященный.
III
На десятом году Климента отдали в духовное училище. Ближайшим училищем было Сапожковское, а в Сапожке у Ивана Алексеевича был брат, диакон Николаевской церкви, Михаил Алексеевич Муретов, к которому он и поставил своего сына на квартиру, в общество других училищных мальчиков, квартировавших у о. диакона. Обеспеченный более или менее в хозяйственном и воспитательном отношении, Климент оказался, на первых порах, беспомощным в главном – в своих учебных занятиях. Дядя Михаил Алексеевич, сам едва прошедший низшие классы семинарии, не брал на себя обязанностей педагога, и племяннику его пришлось учиться самому, присматриваться к другим мальчикам и усвоять новые для него школьные порядки и правила, – что, конечно, дается не сразу: одно дело было учиться дома, и другое – в школе.
По предварительному испытанно о. смотрителем, Климент, как подготовленный дома, принят был во второй класс приходского училища и записан с фамилией своих дядей – «Муретов». По принятому обычаю он внесен был в классный список в число новичков, т.е. оказался ниже половины списка, да так и остался там на долгое время. Несмотря на хорошие природные дарования и изрядную домашнюю подготовку, Муретов в первые годы своего учения в училище оказывал успехи только посредственные. Объясняется это отчасти старинными методами и приемами учителей, а больше всего характером самого ученика. Климент был мальчик очень скромный, крайне застенчивый и робкий: и хорошо приготовленный урок он отвечал не смело и с боязнью, а на строгий вопрос учителя у него сейчас же, вместо ответа, являлись слезы и полная растерянность. «В училище и даже в семинарий я много плакал, – говорил покойный преосвященный Димитрий, – меня так и звали плакса»18.
Из приходского в уездное училище Климент Муретов переведен был под № 45-м, и Бог знает, долго ли пришлось бы ему занимать это место, если бы случай не послал в училище двух новых учителей, которые, благодаря практикованному ими методу классных занятий, одновременно и скоро обратили внимание на способного ученика. Нужно заметить, что тогда в духовных школах места, занимаемые учениками на классных скамьях, определяли и достоинство учеников. После каждого экзамена (а их было три в году) составлялись новые списки, по которым производилась общая пересадка учеников; кроме того, старшие учители пользовались правом частной пересадки. Учитель, требуя ответа на частный вопрос, поднимал какого-либо ученика на месте, и если не получал удовлетворительного ответа, то поднимал «следующего и следующего» из сидевших ниже. Случалось, что последний из «следующих» удачно отвечал за то получал поощрительную резолюцию учителя: «пересядь их всех!» Новые в Сапожковском училище учители латинского и русского языков – Иван Исидорович Соборов и Григорий Иванович Покровский19 широко практиковали такой прием и, что было особенного у них, не оставляли в покое, а напротив, чаще беспокоили учеников, «сидящих во тьме, и сени смертной», и таким образом доходили до Климента Муретова. Раз получен был добрый ответ от заброшенного ученика; в другой раз он уже получил похвалу; а потом, после третьего хорошего ответа, учитель латинского языка сам подошел к Муретову, взял его за руку и, с словами «тебе мальчик, я вижу, место-то не здесь», провел его через всю классную комнату и, к удивлению товарищей, посадил его на первую скамейку. Мало-помалу, в короткое время, Климент Муретов дошел до самых первых мест и уже отселе ревниво держал их за собою во все последующее время учения, и в училище и в семинарии и даже до окончания академического курса.
Были в то время в сапожковском духовном училище и другого, старого закала учителя, которые сами были знатоками своего предмета, но в преподавании держались старинных приемов и широко применяли старинные наказания: собственноручно, например, отсчитывали «пали» – удары линейкой по рукам мальчиков; ставили на колена на целую неделю и под. Места учеников они определяли больше по количеству и качеству приношений, на обязательных «третных явках» после отпусков; некоторые даже не удовлетворялись добровольными приношениями и при отпуске учеников обыкновенно распределяли, что кому следует привести из дома; иные, сверх того, пользовались трудами учеников для успехов своего садоводства и огородничества. Преосвященный Димитрий и в старости нередко вспоминал, как учитель греческого языка однажды заказал ему, как уроженцу с берегов большой реки, непременно привезти после пасхи рыбки. – «На праздниках то я совсем забыл о наказе, и вспомнил уже тогда, когда собирали меня опять везти в училище. Со слезами я сообщил свою оплошность родителю. Рыбы не оказалось во всем Лучинске; но у отца в доме оставалось от зимы полмерки гороху, который он и вручил мне для презента строгому учителю. Не забыл, однако, учитель своего заказа и, хотя принял горох, но отпустил со строгим выговором и замечанием на будущее время. До самого перехода в семинарию я ходил под страхом жестокого наказания за горох вместо рыбы».
Не красна была жизнь мальчиков – учеников училища, живших по квартирам в разных уголках города. Дом о. диакона Муретова был даже не в городе, а в подгородней слободе – «Пушкарях» и имел при себе приездной постоялый двор. Большая изба разделялась перегородкой на две половины, из которых в одной жил сам о. диакон с своею семьей и с артелью квартирантов – учеников, а в другой была постоянная смена приезжающих и уезжающих извозчиков. При такой обстановке занятия учеников, особенно в зимнее время, сопряжены были с неизбежными препятствиями и неудобствовами; за то в летнее время широкий постоялый двор и большой при нем огород представляли прилежному мальчику любой уголок, чтобы засесть с книжкою и учиться, учиться... Довольны были ученики этою квартирою и по другой причине. Дворник – содержанием постоялого двора – был мужик добрый и за услуги мальчиков в уборке сена или в очистке снега не редко угощал их горячим завтраком в виде ржаной саломаты или кулеша с салом. Простые эти кушанья были редким и лакомым блюдом для многих бедных мальчиков и в скудном содержании служили не малым подспорьем. Преосвященный Димитрий раз задал своему сродичу – воспитаннику семинарии такой вопрос: «Ел-ли ты когда пеструю кашу?..» – Затруднившемуся в ответе сам же дал такое объяснение на данный вопрос: «а мы в училище ели ее каждый третий день: квартирная хозяйка, в наших же интересах и из экономии, в один день варила гречневую кашу, на другой – пшенную, а на третий отпаривала корки в том и другом горшке и устраивала нам пеструю кашу». – Вот образец из школьного житья-бытья приснопамятного Владыки!
В самом училище обстановка была не лучше квартирной. Сырые и никогда не топленные классы, битком набитые учениками, одетыми в тулупы и валенки или лапти, при утомительных двухчасовых уроках, не представляли хороших гигиенических условий; да об них тогда не особенно и заботились. Несмотря на то школьники забирались в училище очень рано – зимой чуть свет, а летом не позже шести часов утра, хотя уроки начинались только в 8 часов. А все нужда заставляла оказывать такую любовь к храму науки. Дело в том, что книг было мало: недостаточные ученики, каким был Климент Муретов, не имели и половины нужных учебников, а таких, например, как словари и лексиконы, у него не было и в семинарии. И только взаимопомощь восполняла этот недостаток! Один из самых ранних являлся в училище Климент Муретов. Он, как лучший в старших классах ученик, назначался «авдитором» и проходил эту должность (если можно так назвать ее) совсем особенно, благодаря доброте – врожденной черте характера. Обыкновенно «авдиторство» в старой школе было педагогическим злом, извиняемым разве тогдашним методом учения и многочисленностью учеников: оно вселяло между детьми не естественные в их возрасте отношения начальствующих и подчиненных!.. Ничего такого не было у Климента Муретова. Его аудиенты сами старались пораньше приходить в школу, доставали и приносили своему авдитору необходимые книжки, по которым он и сам восполнял в это время свои знания и успевал подготовить к добрым ответам уроков всех «слушающихся» у него. Редко в его «нотах» ставились отметки «nesciens» или «errans» и еще реже кто-либо из порученных его надзору подвергался «жестокому наказанию». Так, на школьной скамье обнаруживал себя будущий знаменитый профессор и гуманный педагог! – Наклонность к учительству в училищном мальчике находила себе приложения и вне училища. Был у Климента в Сапожке другой дядя, брат его матери, подъячий Тарасий Семенович Белков, к которому он часто ходил, чтобы полакомиться куском пирога или молочною кашею. За доброе гостеприимство он усердно платил обучением грамоте и письму своего двоюродного брата Федю, которому впоследствии, когда уже был Тульским епископом, оказывал покровительство и постоянную родственную помощь.
И все это не мешало Муретову учиться прилежно и успешно, так что в окончательном (в 1826 г.) училищном списка он записан под № 1-м, с аттестацией – «при добропорядочном поведении, отличных способностей, прилежания и успехов».
IV
В 1826 году Климент Муретов, на 16-м году от рождения, перешел из сапожковского училища в рязанскую семинарию. Здесь он вскоре же оказался выдающимся по способностям и познаниям между всеми поступившими с ним в «риторику». Прежде всего, он обращал на себя внимание солидным не по летам – знанием латыни. Его товарищи по учению живо вспоминали почти ежедневную у них в классе картину до прихода профессора: густая толпа учеников собиралась в каком-нибудь уголку классной комнаты и в средине этой толпы ораторствовал их добровольный ментор Муретов, переводя и комментируя Цицерона, или объясняя непривычные еще латинские записки профессора словесности, и с удовольствием и добродушием восклицая по временам: «да ведь это, господа, очень просто!»20
На счастье Климента Муретова он попал во вторую половину низшего отделения семинарии, где словесность в это время преподавал талантливый молодой профессор Беневоленский21, только что прибывший (в сент. 1826 г.) из Моск. академии. Быстро и успешно он повел своих учеников по пути изучения латинско-российского красноречия. К концу первого года у него уже писали периоды, хрии и силлогизмы, и лучшие сочинения почти всегда были у Муретова, которого профессор любил ставить в пример другим ученикам. На второй год этого курса проходилось учение об ораторской речи вообще и в частности и преимущественно – о церковном красноречии: эта часть словесности заменяла в семинарий гомилетику, которой в то время еще не было в кругу богословских наук. Заканчивался словесный курс поэзией. Климент Муретов оказывал отличные успехи22 по всем частям словесных и других наук; но особенно ему далась поэзия. Объясняется это отчасти прирожденною поэтическою наклонностью, присущею всему роду Муретовых. В преданиях рязанской семинарии долго хранился рассказ «о ревизоре Голубинском и ученике риторики Муретове». В 1828 году, к концу учебного курса, из Московской академии прислан был ревизором известный профессор Ф. Ал. Голубинский (тогда еще светский). После устных испытаний в низшем отделении ревизором дана была тема для русского экспромта «Наполеон на острове св. Елены»23. Присутствовавший проф. Беневоленский, указывая ревизору на Муретова, сказал: «а этому ученику позвольте написать сочинение стихами; он у нас поэт». Разрешение дано, и Муретов, действительно, написал (размером Жуковского «Громобоя») длинное стихотворение, обратившее особенное внимание как правильностью стиха, так и содержанием. В послеобеденные часы, когда ученики писали другой – латинский экспромпт, Федор Александрович читал утренние задачки, гуляя в семинарском саду. Дошел он до сочинения Муретова и прочитав, не утерпел – сейчас же пошел в класс с задачками и с набранными в саду вишнями в руках. Вызвав на средину автора стихотворения, он высказал ему такую похвалу: «твои стихи так хороши, что их хоть сейчас можно напечатать в любом журнале. Я их возьму себе на память, а тебе дарю вот три ягодки: я уверен, что ты созреешь в науках, как эти плоды». – «Замечательно, говорит воспоминатель этого случая, что Кл. Муретов, по выходе из класса ревизора, поспешил раздать ягодки своим соседям, прося их кушать за здоровье ревизора: видимо было, что по своей скромности он не желал выделяться, и не хотел воспользоваться знаками отличия». – Результатом этой ревизии и публичных испытаний для Климента Муретова был перевод его в философский класс первым учеником.
Здесь кстати заметить, что скромность и детская робость, так вредившая Клименту на первых порах в училище, долго еще не оставляла его и в семинарии. Иначе ничем нельзя объяснить такого, например, явления, что первый ученик, в котором профессор вполне уверен, на экзамене отвечает недостаточно для чести первенца: в списке против его имени, рукою испытателя, о. ректора архим. Илидора, поставлена отметка – «St. bene; exprompt, dixit bene, но тут же приписано по-русски – «почти хорошо, скоро, но нужно лучше». Этим же объясняется и то, что Муретов не всегда назначался на публичные экзамены, которые в рязанской семинарии до последнего их существования (до 1866 г.), отличались парадностью Симоновских времен, с рассылкой по городу печатных программ и с приглашением высшего чиноначалия и почетных горожан.
Со временем перехода Муретова из низшего отделения в среднее совпадало разделение философского класса в рязанской семинарии на две половины. При разбивке переводных списков низшего отделения, разделили сначала список первого класса, а потом к той и другой половине приписали учеников второго класса, и Климент Муретов оказался в списке под № 48-м. Обстоятельство, напоминавшее ему первое положение в сапожковском училище! Но хозяином в классе был старый знакомый – проф. Беневоленский, перешедший на кафедру философии в том же 1828 году24, и Муретов к декабрю месяцу занял второе место и в этом класса. Философию в то время проходили по обширной программе: в нее входили логика, чистая и прикладная, всеобщая философия (метафизика), естественное богословие и полная история философии. Все это преподавалось на латинском языке, по новым в каждом курсе запискам профессоров. Второстепенными предметами философского класса были: математика с физикою и языки греческий и новые. Весь курс среднего отделения Климент Муретов в общих разрядных списках, составлявшихся преимущественно на основании списка проф. философии, значится под № 3-м25. Под этим же № он переводится и в высшее, богословское отделение.
В «богословии» Климент Муретов обратил на себя особенное внимание деятельного и умного, нового о. ректора, архимандрита Арсения26 своими сочинениями на богословские темы и в особенности первыми опытами церковной проповеди. Здесь получили начало те добрые отношения между учителем и учеником, из которых впоследствии образовалась искренняя глубокопоучительная связь двух святителей, продолжавшаяся во всю их земную жизнь и, конечно, перешедшая за пределы ее.
Отличаясь в семинарий хорошими успехами, Климент Муретов еще более отличался от своих товарищей поведением. Добрые ростки нравственности, привитые в родительском доме, возрастали в школе и приносили свои плоды. В сохранившихся официальных списках аттестации семинарского начальства и особые отметки против имени Муретова весьма метко характеризуют его нравственные черты и склонности, а вместе с тем указывают на постепенное развитие и образование определенного характера. Скромный мальчик низшего отделения «очень кроткого нрава», «послушанием и смирением заслуживающий внимания начальства», в среднем отделении аттестуется уже как «примерно-благонравный», «преимущественно отличающийся от других всегдашних благоповедением, кротостью и усердием к церкви Божией»; а в высшем отделении его отличают по поведению не как ученика, а скорее как мужа совершенна: он «отменно добр и кроток», «отличается постоянством и тихостью», «его кроткая и честная жизнь ставить его выше других»27. В последний год учения, начальство избрало его, по благонадежности, главным старшим над квартирными учениками.
Суждения начальства о нравственности ученика Муретова вполне оправдываются отзывами о нем неофициальными: его товарищи по семинарии всегда говорили о нем с особенными похвалами его нравственным качествам. Его любили как доброго товарища, всегда предупредительного и услужливого, никогда не чуждавшегося товарищеского общества и умевшего вносить в него приличный тон и какое-то невольное обаяние; «только неприличные речи товарищей вызывали у него краску на лице и заставляли не редко удаляться»28. Особенно ценили товарищи его трудолюбие. Нынешние ученики семинарий не могут представить себе тогдашней тяготы – учения без книг. «Египетское плинфоделание»29 – ежедневное списывание латинских записок, сдаваемых профессорами, отнимали больше половины времени30. А кроме уроков обязательно было еще писание рассуждений, по два и по три в месяц. Понятно, что менее прилежные и способные не всегда исполняли, да и не могли исполнить всех требований, а потому пользовались трудами хороших учеников. Климент Муретов, легко усваивавший уроки во время переписывания, усердно писал их для товарищей, пользуясь за свой труд значительною помощью в содержании.
Для родителя Муретова, у которого в это время учился уже в сапожковском училище другой сын, содержание Климента в семинарий было ощутительно тяжело; в Рязани и квартира была дороже и требования ученика семинарии были шире: ему нельзя было ходить в лаптях и домашней свитке, – требовались и сюртучок, хотя казинетовый, и сапоги. Несмотря на помощь родственников-соквартирантов и кое-какой заработок, Климент Муретов вынужден был, через два года по поступлении в семинарию, просить начальство об определении его на бурсу. «Обучаюсь я, – писал он в своем прошении31 от 28 апреля 1829 года, – в означенной семинарии 8 лет (очевидно считая ученье в училище) и имею у себя родного брата, ученика сапожковского духовного училища нижнего отделения Матфия Муретова, обучающегося в оном училище 4 года. В продолжение всего оного времени содержались мы на собственном иждивении родителя нашего, пронской округи села Лучинска Диакона Ивана Алексеева, который кроме нас пропитывает в доме семейство, состоящее из четырех человек. От сего родитель наш, по бедности прихода и по слабости здоровья, пришел в крайнюю бедность и претерпевает великий недостаток во всем нужном к содержанию нашему и к пропитанию в доме находящегося семейства. А посему всепокорнейше прошу Правление семинарии определить меня на Казенное содержание и учинить о сем надлежащее благорассмотрение». По поводу этого прошения Правление семинарии входило к высокопр. Григорию с представлением, в котором «мнением положило: по неимению теперь вакансий, впредь до открытая оных дозволить ученику Кл. Муретову, в уважение его очень хороших успехов и честного поведения, по бедности жить в семинарском корпусе и пользоваться казенною пищей». Резолюцией Его Высокопреосвященства предписано «исполнить». Не долго, однако, Муретову пришлось пользоваться приютом в семинарском корпусе и казенною пищей. Штатной казенно-коштной вакансии не открывалось; а между тем, в том же 1829 году, его отрекомендовали в качестве домашнего учителя к почтенному в Рязани человеку, секретарю дворянского собрания. Муретов с разрешения начальства занял эту «кондицию» и перешел опять на квартиру. Прекрасное семейство, в которое он вошел в качестве учителя, так скоро полюбило симпатичного юношу за разумное и усердное обучение детей, а больше за прекрасный характер, что на бедного семинариста, неожиданно для него самого, посыпались земные блага: его одели так прилично и даже щегольски, как одевались очень немногие из его товарищей; ему давали на содержание так щедро, что отселе он не только ничего не требовал от своего отца, но и ему часто отсылал остающиеся у него деньги; на короткие зимние отпуски его приглашали гостить в том же семействе и он с удовольствием и пользою для себя проводил эти дни в хорошем обществе: в эти дни ему приходилось быть с детьми не только определенные часы, в которые он являлся как учитель, но и постоянно, в качестве гувернера.
Не оставался в Рязани Климент Иванович только на летние каникулы, когда он нужен был в Лучинске, как работник – помощник отцу. Приученные с детства к сельским работам, оба брата Муретовы обыкновенно отправлялись в семинарию после каникул не прежде, как уберут с полей озимый и яровой хлеб и засеют новые озими. Иначе и нельзя было ехать: нужно было для себя же приготовить и муки на хлеб и круп на кашу. А работать они были мастера: оба рослые и сильные, они хорошо умели и пахать и сеять, и косить и молотить. Не даром лучинские крестьяне, принимавшие участие в важных обстоятельствах жизни отца диакона, при отправлении им сыновей в академию, более всего высказывали ему сожаление о том, что он лишается таких спорых работников.
Последний год учения Климента Муретова в семинарии был тяжелым, по особым обстоятельствам. Не бывалое еще бедствие – холера отозвалась и на состоянии учебных заведений. Эпидемия, появившаяся в Рязани в августе 1830 года, возобновилась летом 1831 года, и ученики семинарий, как и духовных училищ, по распоряжению архиепископа Григория, дважды были распускаемы по домам: в первый раз с октября 1830 г. по январь 1831 г., и второй – с июня по сентябрь 1831 года. Учебные занятия шли неправильно: третные испытания не производились совсем, а годичные были уже после каникул. Между тем Муретову, вскоре же по переходе его в богословский класс, объявлено было, что он должен готовиться в академию. Почему он, не находя возможным воспользоваться первым трехмесячным роспуском, остался в Рязани и, благодаря любезному приюту в том же семействе, в котором обучал детей, свободно употребил все это время на указанное ему дело. Почти каждодневно он посещал семинарию – не для уроков, конечно, которых не было, а за советами и указаниями гг. профессоров, преимущественно же о. ректора, архимандрита Арсения, который был лучшим и полезнейшим его руководителем. При таких обстоятельствах прохождение курса богословских наук для Климента Муретова было удобнее и даже полезнее32, чем обыкновенное – классное, так как прямее отвечало цели. К концу года он готов был к академическому испытанию и только не знал, в какой именно академии придется ему сдавать приемный экзамен.
Глава 2. Киев
I
В мае 1831 года из Киевской академии в первый раз было прислано в рязанскую семинарию требование двух студентов в состав седьмого академического курса. Выбор семинарского начальства пал на учеников богословия – Климента Муретова и Якова Виноградова. Некоторые члены семинарской корпорации предлагали поберечь Муретова для своей (т.е. окружной – московской) академии, напоминая при этом об особом внимании к нему ревизора Голубинского33, но ректор настоял на посылке именно Муретова, надеясь на его способности и имея в виду особые обстоятельства.
Таким образом назначенные в академию слушали богословские уроки только несколько месяцев и к предстоящим приемным экзаменам в академии должны были готовиться дома. Между тем и этого времени оставалось очень мало: в конце июня был отпуск, а в начале августа нужно было собираться в дальний путь. В первый раз пришлось Клименту Ивановичу провести каникулы не обычным образом, отказавшись от участия в сельскохозяйственных работах. Окружив себя книгами и разными записками, он целые дни просиживал за чтением и заучиванием, или за писанием экспромтов на разные темы. Прошло нисколько дней каникул и родитель Климента, так привыкший к его спорой работе и неизменной помощи, обратился к сыну с такою речью: «что ты, Клима, все с книгами беседуешь? не видишь разве какая пора то горячая? А нам с Матвеем, пожалуй, не управиться». – «Батюшка! с сердечностью отвечал Климент Иванович, не все-то землю пашут, да все хлеб едят; мне же теперь не до снопов». Тут только добродушный Иван Алексеевич понял своим сердцем, что его первенец более уже не земледелец и что ему указана другая жизненная дорога. Он не только удовлетворился ответом сына, но и проникся новым к нему чувством уважением к ученому: заботливо сам стал хлопотать, чтобы не было никаких опущений в домашних приготовлениях к отправлению Климента в академию.
В конце июля из села Полян (Рязан. уезда) прибыл в Лучинск спутник Климента Ивановича, Яков Григорьевич Виноградов34; а 1-го августа, помолясь Богу, проводили их в далекий путь. Этот знаменательный в доме лучинского о. диакона день остался навсегда памятным, особенно для младших детей Ивана Алексеевича, которые живо представляли себе и рассказывали все обстоятельства проводов старшего брата. Прощание Климента с родителями было необычайно трогательно. Прощались навсегда! О временных приездах из далекого Киева на каникулы нельзя было и думать бедному будущему студенту. А там, по окончании курса академического, он должен будет ехать туда, куда укажет воля начальства. Доброта души Климента Ивановича подсказывала ему утешение родителям и он искренно убеждал их не печалиться о временной разлуке, высказывая свое желание и решительное намерение возвратиться, по окончании курса, на родину в звании профессора рязанской семинарии, чтобы потом жить одною жизнью с родною семьей. Но мог ли он тогда думать, что Бог приведет ему только дважды в жизни обнять старушку мать и никогда уже больше не видать отца?!...
Однако, прежде чем говорить об академической жизни Климента Муретова, необходимо сказать, что из себя представляла в то время Киевская академия. – Если можно сравнить наши академии с древне-классическими, носившими имена великих учителей, то Киевская Духовная академия тридцатых годов по справедливости могла называться «Академией Иннокентия»: имя этого великого мужа слишком ярко в ее истории. Вступив в управление родною академией (в 1830 г.), Иннокентий сразу же наложил на нее свою мощную руку и повел ее по пути совершенствования далеко вперед.
«После пяти лет первого десятилетия, академия около десяти лет живет с одним ректором, ее воспитанником и первенцем, возвратившимся к ней (из С.-Петербургской академии) с новым запасом развившихся редких дарований, знаний, опытности, энергии и уже нажитой известности. Разнообразие знаний, широта воззрений, дар инициативы, чуткой к запросам современной науки и жизни, давали ему уменье открывать и постигать, и, когда нужно, оживлять и направлять сказавшиеся дарования и научные стремления в среде академической»35. Первою и важною реформою Иннокентия в Киевской академии было введение русского языка (вместо латинского) в преподавании наук богословских и философских36. Доктор богословия, блестящий профессор, Иннокентий умел вызывать энергию и у других деятелей науки: поощряя полезных и достойных профессоров, которых застал в академии, он особенно удачно умел выбирать и намечать новые силы; следя за преподаванием всех наук, он открыл несколько новых кафедр и руководил учеными занятиями как студентов, так и бакалавров; сам составлял программы, читал примерные лекции и произносил блестящие проповеди; словом – во всем подавал лучший пример подражания и энергично проводил свои идеалы. Со стороны ближайших сослуживцев и подчиненных, равно как и со стороны высшего попечителя – ученого митрополита Евгения, реформаторская деятельность Иннокентия не только не встречала никакого противоречия, напротив, все его благие начинания принимались с доверием и любовью, пользуясь сочувствием и содействием всех, желавших общего блага. Именно с начала 30-х годов жизнь Киевской академии потекла по широкому руслу благодаря главным образом Иннокентию: «он, по словам историка, все одушевлял, всему давал движение и жизнь».37.
Другим «столпом» Киевской академии того времени был первый ее философ, доктор богословия, протоиерей Иван Михайлович Скворцов. Сей ученый муж, в течение почти тридцати лет, имел видную и влиятельную роль не потому только, что оставался долго единственным представителем первых организаторов нового строя академии, после ее преобразования, и занимал важнейшую кафедру, в звании ординарного профессора, но и по своему личному характеру и, особенно, по той широкой известности и славе, какою он заслуженно пользовался, как самостоятельный философ и редкий профессор. «Богато одаренный от природы и умственными способностями и сердечными чувствами доброго и прекрасного, он был философски строг к самому себе, неутомимо деятелен, – скуп на слова и щедр на дело; – и в то же время не был он ни замкнутым, ни чуждым к интересам других. По отзывам людей, близко знавших Ивана Михайловича, в нем удивительно гармонировали: с одной стороны, устойчивость, выдержанность, верность себе и принятой системе, а с другой – уживчивость с людьми, общительность и та благородная людскость, с какою он умел проводить свое влияние, свою систему, не оскорбляя людей»38. Как профессора, его не даром называли в Киевской академии отцом философии. «Насажденная твердою рукою Ивана Михайловича, философия скоро заняла здесь видное место. Из воспитанников его явился ряд преподавателей, сил и знаний которых достало и для других высших учебных заведений. И если у учеников первого, начального профессора философия получила дальнейшее развитие и применение, то развитие это никогда не доходило до разрыва с основным характером философии учителя, до забвения влияния его как создателя философской кафедры в академии»39. Если прибавить к этому высокое доверие, с каким относились к слову и делу Ивана Михайловича митрополиты Евгений и Филарет40, и те наилучшие, дружеские отношения, какие питал к нему ректор Иннокентий, то будет понятно, почему в истории академии того времени почти ни одна страница не может обойтись без имени Скворцова. Иннокентий и Скворцов были и руководителями и вершителями всех дел академических, и ближайшие к их времени историки, не колеблясь, желали бы назвать тот период жизни Киевской академии «Иннокентие-Скворцовским».41
Нельзя обойти здесь молчанием третьего «мужа совета» – инспектора академии, архимандрита Иеремии. В истории академии он не стоит в ряду ее видных деятелей и могучих сил; тем не менее, «отличаясь истинно-благочестивым настроением, он, по отзыву современника-сослуживца42, имел значительную долю влияния на учащихся, как носитель «духа древнего и чистого, коим жили и управлялись подвижники первых веков христианства». Кроме того, он имел особенное влияние на судьбу Климента Муретова: он был, инспектором и наставником Муретова во время его учения, а впоследствии его предместником по ректуре. – Школьные товарищи и друзья с детства Иннокентий и Иеремия не расставались в жизни до последней возможности, до занятия ими самостоятельных архиерейских кафедр. Еще на семинарской школе дали они друг другу слово быть монахами и сдержали его, хотя не в одно время: Иван Борисов отправился в академию, а Иродион Соловьев из учителей училища в монастырь, в послушники. Через пять лет, бакалавр С.-Петербургской академии Иннокентий настоял и вызвал своего друга для поступления в академию. Неразлучны, потом, они были в Петербурге; а затем, в 1830 г. вместе с новым ректором, архимандритом Иннокентием, в Киевскую академию прибыл и новый инспектор, архимандрит Иеремия43. Замечательно, что дружба двух земляков основывалась больше на разностях, на противоположностях характера, чем на сходстве: оба они от юности стремились к идеальному; но каждый из них и ставил свои идеалы и стремился к ним по-своему, и именно потому, что это были два характера различные как полюсы. Постоянно живой, отдающийся впечатлениям минуты, увлекающийся полетами своей быстрой и игривой мысли, Иннокентий готов быль на скороспелое решение, – без колебаний привести в исполнение только зародившуюся блестящую мысль44. Напротив, Иеремия быль осмотрителен и осторожен, сводил свою деятельность к ближайшим, практическим целям, – смотрел на вещи не свысока, а непосредственно и просто, и, не обладая даже особенным тактом, легко разбирался в житейских обстоятельствах. Иннокентий потому и дорожил этою дружбою, потому и держал при себе своего друга, что сам проверял и, так сказать, восполнял себя Иеремией. Довольно указать на то, что Иннокентий, так ревнивый к своим литературным произведениям и так мало обращавший внимание на своих ценителей, ни одного сочинения, ни одной почти проповеди не отдавал в печать, не отослав предварительно рукописи Иеремии на прочтение, с требованием дружеских замечаний45. С своей стороны Иеремия, постоянно стремившейся в монастырь, в келью, в пустыню, не мог оторваться от Иннокентия, ум которого так ясно освещал ему все недоуменное. «На постоянное мое желание, вспоминал преосв. Иеремия, уйти в монастырскую келью, Иннокентий всегда отвечал: повремени, если не я для тебя, то ты мне нужен... Явно было, что мы друг другу надобны для поддержки в этом, мудреном мире»46.
Итак, вот триумвират, стоявший во главе Киевской академии в то именно время, когда Клименту Муретову пришлось проходить курс академического учения! Все трое – Иннокентий, Иеремия и Скворцов – имели, как увидим, особое влияние на образование его ума и сердца и на дальнейшую судьбу в его жизни.
Рязанскому студенту Муретову посчастливилось на первом же шагу в академии, на приемных экзаменах. Написанный им на философскую тему экспромт, как выдающийся из ряда других и по объему и по глубине мыслей, обратил на себя внимание строгого судьи – Ив. Мих. Скворцова. Впоследствии, ученики Димитрия, зная об этом первом знакомстве Скворцова с Муретовым, высказывали свое удивление, как широковещательный Муретов мог понравиться Ивану Михайловичу, не любившему лишнего слова и «вечно затянутому в логический мундир». Но, вероятно, глубина мыслей и в глазах строгого судьи выкупала этот недостаток (если только можно назвать его недостатком) у Муретова, еще в семинарии выработавшего приемы излагать свои мысли и широко и красно. Как бы то ни было, но на сочинении Муретова Иван Михайлович выставил наивысший балл – единицу, даже без минуса, что у него бывало очень редко. На другой день испытаний новички предстали пред лицом самого о. ректора, чтобы дать отчет в своих богословских познаниях. Иннокентий сам, как ректор, в первый еще раз производил прием в академию; но известно, что он на всех экзаменах и на приемных и на курсовых ставил себе задачею выбирать дарования. На приеме 1831 года он, без всякого предварения, своим орлиным взглядом сразу усмотрел и богатые способности и солидную подготовку Муретова. Это видно было, между прочим, из того, что Муретову пришлось отвечать на различные вопросы экзаменатора весьма продолжительно сравнительно с другими товарищами. На этот раз, однако, о. ректор не выразил своего мнения о рязанском студенте ни словесно, ни письменно (в приемном списке). Составление первоначального списка вновь принятых студентов обычным правом в академиях предоставлялось профессору философии, который становился главным руководителем новичков на младшем курсе. Ив. М. Скворцов, по преданию, слыл в этом отношении замечательным угадчиком: составленные им первоначальные списки редко подвергались существенным изменениям и почти в том же виде доходили до окончания курсов. По крайней мере, такой взгляд нужно считать верным относительно Климента Муретова. Проверив письменные экспромты новичков устными испытаниями их в философских познаниях, Иван Михайлович не усомнился поставить во главу нового VII-го курса рязанского студента Муретова, который и оправдал выбор профессора, удержав за собою первенство даже до окончания курса. При утверждении списков конференции Иннокентий высказал свое полное удовольствие, именно по случаю совпадения его мнения о Муретове с мнением Скворцова. С того времени можно сказать, Иннокентий не сводил глаз с Муретова.
Приятная весть о таком блестящем вступлении Климента Ивановича в академию скоро дошла до его родины и, конечно, порадовала и утешила его родителей. Не менее приятна была эта весть и для рязанской семинарии – для товарищей Муретова, остававшихся еще в семинарии, для его наставников и учителей и особенно для молодого инспектора, священника Н. А. Ильдомского47, который с большим интересом следил потом за дальнейшею карьерою своего первого питомца и уже на склоне лет имел удовольствие принимать его у себя в сане архиепископа.
По первоначальному уставу академий, которого держались без значительных изменений до пятидесятых годов, все академические науки делились на шесть классов (групп): а) класс наук богословских, б) философских, в) словесных, г) исторических, д) математических и е) языков – греческого, еврейского и новых. Каждый класс наук поручен был одному профессору (ординарному, т.е. штатному), у которого было по одному или по два (иногда и по три у проф. богослов. наук) адьюнкта-баккалавра; хотя нередко, особенно в раннее время, профессора читали все науки своего круга (как напр., проф. Скворцов первые четыре года). Отчеты о преподавании известного круга наук, конспекты пройденного и списки об успехах студентов подавались академическому правлению непременно общие, за подписью профессора и его бакалавров48. На младшем отделении поставлены были обязательными к изучению науки философские, словесные, чтение свящ. писания и греческий язык; науки же исторические и математические, равно как и новые языки были (до 1844 г.) факультетными и изучение их, предоставлялось выбору студентов. Климент Муретов записался на класс математических наук и избрал французский язык.
Во главе преподавателей на младшем отделении академии стоял профессор философии Ив. М. Скворцов. Седьмому курсу студентов он читал историю философии. «Философская мысль профессора проходила одна по всему кругу философских наук. В его воззрении философские идеи стремились гармонизоваться с началами откровения и сближаться с выводами наук естественных. Такое направление вытекало не только из сознания долга преподавателя науки духовному юношеству, но и из глубокого убеждения профессора, утвердившегося в живом сознании, как бы ощущении единства истины общечеловеческой с истиною божественною»49. Характер преподавания у него определялся тем солидным взглядом, по которому профессор должен способствовать раскрытию собственных сил и деятельности разума в воспитанниках. Не эффектная для первого впечатления философская речь Скворцова постепенно, глубже и глубже, проникала в сознание, увлекая слушателя в интересы науки, приучая любить ее не в блестящем, внешнем убранстве, а в её прямом, строгом и безыскусственном виде. От своих слушателей, как в письме – в сочинениях, так и в устных ответах на репетициях и экзаменах, он требовал прежде всего отчетливого, ясного и твердого разумения науки: пред ним стыдно было бы говорить что-нибудь без достаточного сознания дела. – Помощниками Скворцова по классу философских наук были: экстраординарный профессор, священник А. А. Шокотов50, и новый бакалавр, впоследствии знаменитый философ-профессор, В. Н. Карпов51. Первый из них, давно уже заявивший солидность своих познаний в философии, по всем ее отраслям, читал седьмому курсу метафизику и нравственную философию; второй в это время положил начало своим, важным в истории русской философии, трудам по преподаванию логики и психологии.
Преподавание словесности в Киев. академии за это время было в руках опытного профессора Я. И. Крышинского. «Редкий знаток своего предмета, внимательно следивший за ходом современной литературы, он не любил ни высокопарных выражений, ни излишней лощености слога, убивающей живую мысль; современная борьба романтизма с классицизмом была любимою его темою, которая вызываема была его постоянною заботою о чистоте и строгости речи в сочинениях его слушателей52. Не менее солидным преподавателем был профессор физико-математических наук В. П. Чехович, читавший те же науки и в Киевском университете. Его помощником в академии был бакалавр Подгурский.
Ученье в академии Климента Ивановича Муретова, благодаря природным способностям, хорошей подготовки и от юности приобретенной усидчивости, не представляло для него трудностей и шло вообще правильно и успешно; а счастливое сочетание в его время научных сил в академии естественно возбуждало у него любовь к науке и серьезное внимание к чтениям выдающихся профессоров. Результатом его добросовестных, усердных занятий были прекрасные успехи по всем наукам. Аттестации профессоров в представленных ими отчетах за истекший (в 1831–33 гг.) академический курс выражали и похвалу и особенное внимание к студенту Муретову. Так в курсовом списке по истории философии он значится под № 1 – с отметкой профессора Скворцова – только у Муретова и Василия Курковского53 «отличных дарований и успехов»; по нравственной философии и метафизике (у проф. Шокотова) также под № 1; по классу всеобщей словесности (у проф. Крышинского) – под № 1, по математике (у проф. Чеховича и бак. Подгурского, под № 2; причем только у П. Попова54 и Муретова поставлены высшие отметки; по французскому языку – под № 355. После частных и публичных испытаний, на которых присутствовал митрополит Евгений, Климент Муретов переводится в высшее отделение первым студентом.
В старшем отделении академии преподавались тогда науки исключительно богословские, изучение которых было обязательно для всех студентов; из языков греческий, еврейский также были обязательны. Науки, входившие в круг богословских, в то время еще не имели определенных границ и тех планов, которые выработались впоследствии: все они в ранний период существования наших академий представляли из себя «части богословия», входя последовательно в состав общей богословской системы56. Почему преподавание всех богословских наук (за исключением церк. истории и гомилетики, выделенных в самом начале) лежало на ординарном профессоре богословских наук, который, но своему усмотрению, передавал ту или другую часть богословия своим бакалаврам. Иннокентий, как профессор, не придерживался какой-либо системы и никогда не заканчивал полного курса богословия; но обыкновенно избирал предметом своих чтений «введение в богословие» – которому он положил начало, как науке, и какую-либо часть «догматического богословия». Студенты VII курса Киевской академии слушали Иннокентия в лучший период его профессорства. Сделавшись ректором, он свободно выбирал темы для своих лекций и не стеснялся границами программ; с другой стороны, годы опытности сделали его более солидным и более глубоким в богословствовании; блестящая внешность его чтений оставалась неизменною. Что бы ни говорили о достоинствах и недостатках Иннокентиевых чтений, но всем известно, что никто из наших профессоров – богословов не производил такого сильного и глубокого действия на слушателей, как Иннокентий. Все ученики Иннокентия всю жизнь, можно сказать, жили под впечатлениями его уроков: они любили вспоминать своего учителя и даже гордились званием его учеников. Какое впечатление производил Иннокентий на студента Климента Муретова? Без сомнения, самое глубокое и благотворное. Преосвященный Димитрий, независимо от особых отношений его к Иннокентию, всегда благоговел пред неизмеримою широтою талантов своего учителя, удивлялся всеобъемлемости его ума и высоко ценил его мнения и суждения57. И такой взгляд на учителя составился именно на школьной скамье: при всяком воспоминании об Иннокентии он всегда представлял его себе как профессора на академической кафедре. С своей стороны и ректор видимо выделял студента Муретова из среды его товарищей. Нередко Иннокентий любил начинать свою лекцию каким-нибудь вопросом, обращенным к одному из студентов: в этих случаях, чаще других, делался его мишенью Муретов. Давались ли семестровые сочинения каким бы ни было профессором, сочинение Муретова обязательно прочитывалось ректором. Писались ли очередные проповеди, проповедь Муретова не только прочитывалась, но и разбиралась, вместе с автором, где-либо на прогулке в ректорском саду. Составление конспектов к частным экзаменам поручалось тому же Муретову. Явление, пожалуй, обыкновенное, повторявшееся всегда и везде, – что первый в классе ученик становится в более близкие отношения к своему учителю или начальнику, но первенцу VII курса Киевской академии оказывалось особое внимание: видны были особые заботы о нем, имевшие целью подготовлять его к особому предназначению.
Чтения по нравственному богословию инспектора, архимандрита Иеремия также приходились по душе Клименту Ивановичу. Уроки благочестиво настроенного инока, постоянно сопровождаемые примерами из житий святых, из историй монашества, как нельзя больше отвечали душевному складу Муретова, с детства воспитанного в строго-церковном и созерцательном направлении. А что Иеремия имел влияние на студентов, как наставник, об этом в свое время заявлялось с кафедры лучшим профессором, когда инспектор Иеремия выбыл ректором семинарии: «дух древний и чистый, коим жили и управлялись подвижники первых веков христианства – этот дух управлял действиями вашего начальника. Он старался перелить его в ваши сердца, поселить в вас охоту и вкус к чтению Писаний отцов церкви, к чтению слова Божия»58.
Был в то время в числе преподавателей Киевской академии еще талант, увлекавший своих слушателей не меньше самого Иннокентия, – это профессор церковного красноречия Яков Космич Амфитеатров. Сам Иннокентий называл его «золотым гомилетиком и отличным проповедником». В деле освобождения гомилетики от схоластических пут Киевская академия еще в первую пору успела (у бакалавра Пушнова) больше других академий. Но в руках такого профессора, как Амфитеатров, этой науке суждено было стать на высокую степень совершенства: это был настоящей реформатор науки! Амфитеатров сразу отбросил все прежние образцы и пошел новою, им самим проложенною дорогой. Он открыл глаза своим слушателям на недостатки прославленных западных проповедников и вместо них положил в основу проповедничества творения св. Отцов церкви. «Забыть нельзя, – говорит его слушатель, – того искреннего одушевления, с каким Амфитеатров объяснял бывало слезоточивые беседы св. Ефрема Сирина, или простую, но полную высшего помазания речь св. Димитрия Ростовского: вот где, восклицал он, наше родное красноречие; вот у кого учитесь писать»59. По содержанию было и изложение лекций Амфитеатрова. «Он заговорил просто, слишком просто; но какая была бездна мысли и чувства в этой простоте»60. Широта взглядов, глубина мысли, естественность слова, полного благочестивого одушевления, – вот черты, характеризующие этого профессора, так глубоко понимавшего свое дело61. Если к этому прибавить прекрасные образцы проповедей, которые Амфитеатров сам произносил с церковной кафедры; то понятно будет постоянное увлечение им студентов всех курсов. По новому плану Амфитеатров начал читать свои лекции с 1833 года, т.е. VII именно курсу, к которому принадлежал Климент Муретов. – Нужно ли говорить о несомненном, непосредственном влиянии Амфитеатрова на Муретова? «Сделавшись впоследствии ректором академии, – говорится в ее истории, – Димитрий внимательно следил за проповедничеством студентов и, как ученик Амфитеатрова, предъявлял к начинающим проповедникам те же самые требования, какие предъявлял и его учитель»62. В годы зрелого богословствования, во время святительства, Димитрий решил предавать печати плоды своего боговедения исключительно в форме церковной проповеди; и кто знаком с его проповедями, тот не может не признать в авторе одного из лучших представителей школа Амфитеатрова.
Но пока речь о студенте Клименте Муретове. До глубокой старости он вспоминал, как о лучшей поре в своей жизни, о времени пребывания в стенах Академии63. Переступив академический порог, он в первый раз в жизни почувствовал то удовольствие, какое доставляет полная обеспеченность и, так отвечающая его характеру, беззаботность о том, что есть и пить, во что одеваться: все было готово и все вполне удовлетворительно. Но что было всего важнее, это – богатые средства к учению и образованию: все было под руками, и Климент Муретов работал, можно сказать, не покладая рук. «Еще на скамье учащихся он удивлял и наставников и своих сослушателей беспримерным, неутомимым трудолюбием»64. При всем том он находил еще свободное время и для обучения других. Не получая ни копейки из дома, он зарабатывал уроками необходимое для студента пособие – на чай и на корреспонденцию: еще в недавнее время, в одном из известных в Киеве купеческом доме г. Балабухи65, жива была старушка, которая хорошо помнила приходившего к ним на уроки студента Муретова, – высокого роста, немного сутуловатого, в длиннополом сюртуке, и не по летам застенчивого. Между тем в своем студенческом кружке это был симпатичный и общительный товарищ, необыкновенно простой и открыто-добродушный. Очевидная неподдельность его добрых качеств привлекала к нему товарищей, искренно любивших и в тоже время уважавших своего представителя. Обладая хорошим голосом (бас-баритон) и любя церковное пение, он принимал живое участие в академическом хоре, исстари славившемся в Киеве; только, когда приходилось петь Solo, он всегда приговаривал: «ох! братцы, – боюсь я»66. Как первый из рязанцев, он не имел в Киеве ни родства ни землячества, так много ценимого обыкновенно студентами во всех академических городах; но близкими товарищами введен был в некоторые дома городского духовенства и изредка посещал их. Оставаясь в академии на каникулы, он свободное время посвящал на изучение Киева, его древностей и святынь. Поэтическую натуру увлекала красота гор и окрестностей города; но больше других влекла к себе святая гора Печерская, где так легко и полно удовлетворялась религиозная потребность его духа. В лавре он нередко проводил целые дни и особенно любил посещать торжественные службы митрополита Евгения67.
Оторванный от родины, Климент Иванович не мог не предвидеть, особенно с переходом на старший курс, что ему надолго придется отказаться от удовольствия видеть родной Лучинск. Однако, письма его к родителям были редки и не обширны; содержание их: выражения сыновних чувств, скромные известия об успехах в науках и – чем дальше, тем яснее – намеки на то, что Промысл Божий готовит ему особый путь в жизни. С своей стороны и родители Климента Ивановича предвидели и предчувствовали долгую разлуку с ним. Они, конечно, радовались успехам своего первенца, тем более, что и младший их сын уже перешел (в 1832 г.) из училища в семинарию с отличными успехами; но родительское сердце, особенно матери, не переставало чувствовать тоску... И вот, Наталья Семеновна видит необыкновенный сон, который удивил ее и поставил в полное недоумение относительно его значения. Видит она, что стоит на берегу реки Прони и смотрит на какую-то блестящую точку на далекой поверхности реки. В приближающейся мало-по-малу по течению точке она ясно различает напрестольный или благословенный крест, который горит золотом, плывет и, к удивленно, не тонет. Откуда-то явился рядом с ней ее первенец – Клима. Она просит сына достать крест. Климент готов уже плыть за крестом; но при этом говорит: «Я, матушка, достану этот крест, только он будет мой!». Странный сон! Не прошло; однако, месяца, как в Лучинске получено было из Киева письмо, которое поразительно объяснило пророчественный сон матери Климента Ивановича. «Я беру на себя крест иночества, пишет он своим родителям, чтобы всецело посвятить себя на служение церкви». Подробно, затем, излагает он в этом письме давнишние свои желания и намерения, равно как и ближайшие побуждения, которые привели его к настоящему решению; утешает родителей надеждой и обещанием быть лучшей поддержкой их в старости, как одинокий и не обремененный своею семьей; наконец, слезно просит родительского благословения на предстоящий подвиг и молитв за будущего инока.
Между тем в Киеве в это время действительно подготовлялось событие, которое должно было решить дальнейшую судьбу студента Климента Муретова: он готовился к пострижению. Вот что говорит о том в своих «воспоминаниях об Иннокентии», бывший тогда инспектором академии, преосвященный Иеремия: «Преемник почившего святителя Иннокентия – Димитрий, есть общий любимейший наш питомец по академии Киевской – Климент Муретов, из Рязанской семинарии. Великую радость доставил он изъявлением первее мне своего желания принять монашество и просил меня доложить о сем о. ректору, сам как бы не смея. Но я внушил ему, чтобы, помолясь, шел завтра сам к о. ректору Иннокентию. Когда вышло из Святейшего Синода постричь его: случилось нам – мне и о. ректору быть в его монастырском саду. – «Вот хорошо, что Муретов будет монах», сказал он. – «Да, отвечал я, это радостное для сердца нашего приобретение». – «Как бы его назвать?» И стал перечислять имена иноческие. – «Нет, вот что, – сказал я, – Святитель Димитрий Ростовский есть киевлянин и питомец нашей академии. Указывают даже номер (комнату), где жил он и где студенты старшие собираются теперь для утренней и вечерней молитвы. Посвятим мы Климента святому Димитрию и назовем его Димитрием». – «Вот мысль! (так говорил он охотно соглашаясь с кем-либо). И вот сей Димитрий теперь Херсонский Архиерей! Господи! молитвами Святого Димитрия подкрепи его, в утешение и отраду душам почившего (Иннокентия) и моей»68. Очевидно, что память не изменила старцу преосвященному. В короткой заметке он прекрасно охарактеризовал и лица – себя, Иннокентия и студента Муретова – и взаимные их отношения. Ни из рассказов самого Димитрия об академической жизни, ни из воспоминаний о нем его современников и сверстников нельзя уяснить вопроса: кто больше имел влияния на его решимость быть иноком – Иннокентий или Иеремия, или ни тот ни другой. Но несомненно, что Климент Муретов был действительно любимейшим питомцем и того и другого: Иннокентий ценил дарования Муретова; Иеремия отечески любил его за доброе сердце. Несомненно также, что своим изъявлением желания принять иночество, он доставил великую радость обоим: Иннокентий ждал этого с нетерпением; Иеремия радовался за самого Климента Муретова – монаха и до пострижения. Скромный и боязливый Муретов не решается идти к о. ректору, чтобы объявить такое важное и строго обдуманное свое намерение, а предварительно открывает его добродушному о. инспектору, прося его предупредить Иннокентия; но получает совет «помолясь, идти к самому о. ректору». На другой день прошение было подано и принято.
В конце августа 1834 года пришло разрешение Св. Синода на пострижение студента Муретова, а с 1-го сентября, которое приходилось в субботу, во время всенощного бдения в большой монастырской церкви, и совершилось это пострижение нового инока Димитрия. Одновременно с ним пострижен был другой студент того же VII-го курса – Иван Кульчицкий, нареченный в монашестве Василием. Оба они приняли пострижение от руки самого Иннокентия. На другой день после пострижения, при окончании литии он говорил им поучительную речь. – Произнеся возглас «благословение Господне на вас, Того благодатью и человеколюбием, он обратился к новым инокам, стоявшим по обычаю близ царских врат, со следующими словами: «Особенно благословение Господне да пребудет на вас новые воины Христовы. Благо вам, что вы не уподобились упоминаемому в ныне чтенном Евангелии юноше (2-ое сент. в 1834 г. приходилось в нед. 12-ю по пятидес.) и желая наследовать живот вечный, не усомнились подобно ему, оставить все, дабы идти за одним Христом. – Благо вам! Господь найдет средство провести вас безбедно среди всех напастей и покушений; возвеселить сердца ваши среди всех горестей; вознаградит сторицею все ваши настоящие жертвы и лишения». Объяснив затем, что все лишения так называемых благ мира для инока суть истинные приобретения о Господе, что искушения не страшны для воина Христова, с которым выну помощь всевышнего, – оратор предостерегает слушателей от одного: «бойтесь единого – быть неверными Христу и своим обетам; а доколе вы верны, Он весь ваш – со всем своим могуществом и премудростью... Но, нынешний день должен быть для вас и для нас днем радости и славословия. Возблагодарим убо Господа, изведшего вас из тьмы в чудный свет свой и преставившего в царство Сына любве своея»69.
Замечательно, что Димитрию пришлось проходить степени священства не по одному дню или неделе, как это бывает со всеми священниками и со многими священноиноками, но и послужить церкви в каждой степени довольно продолжительный срок. Два месяца он оставался простым иноком-клириком. 27 октября 1834 г. рукоположен был в иеродиакона и служил в этом сане до окончания курса учения. «Иннокентий любил служить сам-пят, т.е. с четырьмя архимандритами или иеромонахами и с двумя или тремя иеродиаконами»70. Особенно благолепны, по словам воспоминателей, были богослужения в братском монастыре в 1834–35 годах, когда с Иннокентием служили два иеродиакона – Димитрий и Евсевий – оба представительные по росту и внешнему виду и оба обладавшие хорошими голосами. За протодиакона всегда служил Димитрий.
II
В 1835 году Димитрий окончил академический курс. В архиве академии сохранились документы, свидетельствующие о тех блестящих успехах, какие он оказал при окончании курса. Так, в общем списке по богословию, представленном ординарн. профессором Иннокентием, э.-ордин. профессором Антонием (Шокотовым) и бакалавром Мелитоном (Переверзевым), иеродиакон Димитрий записан под № 1-м, при чем против имени одного только Димитрия рукою самого Иннокентия написано: «отличных пред всеми» (т.е. способностей, успехов и прилежания); в списке Я. К. Амфитеатрова, по церковному красноречию, он так же значится 1-м, при чем против только одного имени Димитрия самим Амфитеатровым написано: «отличных способностей, прилежания и успехов»; по церковной истории (у временного бакалавра Минервина) – под № 1-м, при чем только у Димитрия и Евсевия отметки: «прилежания примерного, успехов вполне удовлетворительных»; по греческому языку (у проф. Пушнова) иеродиакон Димитрий записан под № 12-м и по еврейскому языку под № 3-м.71 Есть предание, что на последнем экзамене по богословию Иннокентий еще раз подверг Димитрия продолжительному и всестороннему испытанию, желая выведать не только сумму знаний, но и направление его богословствования и способность излагать устно свои знания. Скромная застенчивость и природная робость не оставляли студента Димитрия Муретова до самого конца его учения. С его именем связывают сохранившийся в преданиях академии один случай, когда первенец – представитель курса потерпел некоторое фиаско на последнем, заключительном акте академического образования. Ему – как говорит предание – поручено было произнести на публичном экзамене благодарственную речь. Но, благодаря указанным свойствам характера, он до того растерялся в произношении, что сбился в порядке речи, запутался и должен был (по совету милостивого м. Евгения) окончить свою речь по тетрадке. По тому же преданию, ректор Иннокентий, отлично знавший характер Димитрия, поспешил успокоить его тотчас же после экзамена: он призвал его к себе и, вместо выговора, сказал ему: «вы просто сделались ребенком; перестаньте скорбеть – подобный конфуз бывает и не с вами одними».72 Что же касается письменных опытов его богословского мышления, то они давно известны были, как ректору, так и другим профессорам, из его семестровых сочинений и проповедей, а в заключении засвидетельствованы с отличной стороны в его прекрасном курсовом сочинении «О путях Промысла Божия в обращении грешников и о путях покаяния для обращаемых».73 Сочинение это, как одно из лучших, напечатано было в 1-м томе «собрания сочинений студентов Киевской Духовной академии». Чтобы правильно судить о достоинствах этого сочинения, необходимо заметить, что в те времена к курсовым – представляемым на ученую степень – диссертациям предъявлялись совсем другие требования, чем ныне. Теперь от сочинения кандидата требуют полноты и широты сведений не только по частному, взятому вопросу, но и по всей подлежащей науке, научной эрудиции, вооруженной цитатами из первоисточников, а от магистранта и докторанта непременно желают слышать и «новое слово» в науке. Тогда же курсовое сочинение служило, так сказать, аттестатом зрелости – общим показателем результатов воспитания и образования духовного юноши; лучшими качествами почитались: глубина мысли и в то же время краткость, строгость выражений и чистота языка, а главное – дух или направление сочинения.74 Сообразно с такими требованиями и самые темы для сочинений давались более общие и отвлеченные.75 К числу таких нужно отнести и тему Иннокентия, данную иеродиакону Димитрию. Первым ценителем его сочинения был тот же Иннокентий, который и представил его в конференцию академии с отличным отзывом, как заслуживающее автору звание магистра. Однако, сами академии в то время не были еще крайними судьями о достоинствах своих воспитанников. Обыкновенно, вместе с разрядным списком оканчивавших курс, академическая конференция должна была представить в комиссии духовных училищ и курсовые сочинения или всех предназначенных к степени магистра или, по крайней мере, лучших студентов, не меньше пяти. Такое требование считалось нужным как для окончательной оценки сочинений,76 так особенно для общего суждения о состоянии наук и их преподавании в данное время в той или другой академии. Для указанных целей представляемые сочинения рассылались для прочтения известным авторитетам богословских наук, преимущественно членам Св. Синода и другим старейшим иерархам. Сочинение иеродиакона Димитрия (Муретова) направлено было к отцу богословов, митрополиту Московскому Филарету; который, как известно, относился к подобным поручениям с особенным вниманием и нередко давал подробные рецензии на сочинениях, несогласные с академическими отзывами о них. Сочинение Димитрия заслужило у него похвалу.
Краткая рецензия строгого судьи выражала как удовольствие читавшего, так и одобрение и меткую характеристику автору. Филарет написал только три слова: «добр отец Димитрий», выражая этими словами и достоинство доброго хорошего сочинения и проницательно усматривая доброту души автора – отличительную черту будущего иерарха. Что такая рецензия на сочинении молодого инока не была случайною со стороны высокого авторитета, видно из того, что Филарет хорошо помнил это сочинение и после. Отвечая (11-го января 1838 г.) на «пятиличное письмо Иннокентия и его сотрудников» по изданию «Воскресного Чтения», приглашавших Московского митрополита оказать честь новому журналу помещением какого-либо творения, Филарет благодарит «за доброжелательное памятование о нем» и приписывает: «с удовольствием встречаюсь здесь (т.е. в письме) и с старым знакомым о. протоиереем Иоакимом77, и с о. Димитрием, недавним знакомым по его сочинению».78
Первым магистром VII-го курса воспитанников Киевской Духовной академии, общим голосом членов конференции, признан был иеродиакон Димитрий Муретов, который и предназначен был к занятию преподавательской должности в своей академии.79 Вскоре затем он рукоположен был в иеромонахи (24 июня 1835 года).
Перед началом следующего учебного курса в составе академической корпорации произошли перемены. Инспектор академии, архимандрит Иеремия назначен ректором Киевской семинарий, а на его место определен экстро-ордин. профессор, архимандрит Антонии (Шокотов). Оставшаяся вакантною новая кафедра «чтения священного писания и герменевтики» поручена была иеромонаху Димитрию, который и утвержден был, 7-го октября, в звании бакалавра. Кафедра священ. писания до того времени не имела определенного положения, так как наука эта составляла первоначально часть богословской системы, как богословие истолковательное и собирательное (th. praeparation); преподавание св. писания предваряло догматическое богословие и обыкновенно лежало на профессоре догматики. Выделенная затем из общего состава богословия, эта наука преподавалась по частям разными профессорами, и сначала только на младшем философском курсе. В Киевской академии «чтение свящ. писания и герменевтики» сделались предметом отдельной кафедры именно в 1835 году, когда начал службу Димитрий. Молодому бакалавру предстояла труда не мало. Требования к этой кафедре предъявлялись большие80: желательно было, чтобы излагалась история библейского канона и священного текста, и общее обозрение книг В. и Н. завета, и последовательное чтение с толкованием каждой книги. Между тем готовых средств к выполнению широких требований было, сравнительно, мало. Димитрий и начал трудиться со всею молодой энергией. К счастью его, почти одновременно с утверждением в звании бакалавра, он определен был (27-го того же октября) помощником библиотекаря академии. Библиотекарь, протоиерей Ав. Ив. Пушнов, жил вне академии и библиотека была в полном и постоянном распоряжении его помощника. Преподавателем священ. писания Димитрий оставался не долго, – меньше полугода. В такой короткий срок сделать что-либо важное для кафедры, конечно, немыслимо. Однако, и на этой кафедре он оставил видимые следы своих ученых трудов. «В науке свящ. писания, – говорится в одних воспоминаниях, – о. Димитрий оказал великую услугу тем, что издал (в записках) обозрение многих книг Ветхого завета. До него по этой науке довольствовались незначительными толкованиями псалмов Филарета и записками пр. Моисея на Екклезиаста.»81 Кроме того, пять первых месяцев усидчивого труда были весьма полезны для самого бакалавра: самостоятельное изучение науки о священ. писании, полагаемой в основание православного богословия, послужило хорошею подготовкой будущему профессору богословия.
В январе 1836 года бакалавр богословских наук, иеромонах Мелитон (Переверзев) определен был профессором богословия в Харьковский коллегиум, а 7-го февраля на свободную бакалаврскую вакансию перемещен Димитрий. О. ректор поручает новому бакалавру часть догматического богословия и, как прикладную (к «учению о церкви», как этого требовала современная программа) науку, – общее каноническое право. На новой кафедре деятельность Димитрия была многоплодная: в это время он много потрудился для обогащения новой, намеченной Иннокентием, науки – еклизиастики (как называлось тогда «введение в Богословие», переименованное впоследствии в «основное Б.»). Один из учеников академии того времени говорит: «О. Мелитон положил только начало науке екклезиастике, а о. Димитрий преобразовал и усовершил эту науку, по мысли и плану Иннокентия.»82 – Оставаясь заведующим библиотекою, Димитрий снова углубляется в эту сокровищницу. «Должность библиотекаря, как говорится в одном воспоминании о преосвящен. Димитрии, была весьма сподручна для его любознательности. Он проводил в библиотеке, говорят, целые дни и ночи за чтением, не находя удобным брать в свою келью массу книг, какая оказывалась нужною для чтения и справок. Здесь приобрел он громадный запас познаний богословско-исторических, благодаря которым он совершенно видоизменил преподавание богословия, внесши в него новый метод – исторический, который только был намечен его учителем Иннокентием.83 Уже начиналась заря заслуженной славы, которая потом упрочилась в академии за профессором богословия Димитрием. «Солидность дарований и познаний сразу выдвинула его из ряда прочих преподавателей академии».84 Его лекции стали вызывать у слушателей неподдельный научный интерес и пользоваться таким же вниманием, как и других выдающихся талантов – Иннокентия и Амфитеатрова.
Между тем в том же 1836 году, в июле месяце, инспектор академии архимандрит Антоний выходит ректором Полтавской семинарий, а на его место назначается инспектор Казанской семинарии, иеромонах Григорий (Миткевич), бывший здесь прежде (1831–33 гг.) бакалавром. До приезда Григория (с августа до октября) Димитрий исправляет должность инспектора. В награду за успешное преподавание наук и за сверхдолжные труды, по указу Св. Синода (от 2-го ноября), он помещается в число соборных иеромонахов Киево-Печерской лавры.
Начало 1837 года ознаменовалось для Киева и академии крупным событием: 23 февраля скончался ученейший проректор академии, митрополит Киевский Евгений – знаменитый историк, покровительствовавший историческому направлению богословских наук в академии, представителем которого был ректор и его ближайшие сотрудники. Последним добрым делом Евгения для академии было ходатайство его об издании журнала «Воскресное Чтение». В 1836 году ректор академии Иннокентий вместе с профессором Скворцовым, бакалавром богословия иеромонахом Димитрием, э. орд. проф. Амфитеатровым и бакалавром философии Авсеневым выработали программу задуманного издания и представили ее в академическое правление, которое и вошло, 30 янв. 1837 г., через митрополита Евгения с представлением о том в Комиссию Дух. Училищ. Однако, издание журнала при Киевской академии окончательное утверждение, Высочайшим на то соизволением, получило только чрез несколько дней после смерти Евгения, именно 27-го февраля.85 На место м. Евгения 18-го апреля назначен был член Св. Синода, Ярославский архиепископ Филарет (Амфитеатров), который прибыл в Киев только 26-го июня. «У Филарета взгляд на потребности духовного образования был не таков, как у Евгения. Выше всего он, Филарет, ставил знание строго-догматическое, особенно знание священ. писания, которое сам знал удивительно, как знали древние отцы подвижники, день и ночь изучавшие слово Божие. Сам аскет, он аскетизм ставил выше учености.»86 Новый митрополит ничем не выражал неудовольствия или недоверия к академии; напротив, в течение всего двадцатилетнего служения в Киеве он находился в самых добрых, близких и искренних отношениях к академии и ко всем ее членам, а замечательного представителя ее Иннокентия умел ценить и любил даже называть его, в своих письмах, rector rectorum. Тем не менее Иннокентий, не раз уже оскорбляемый разными подозрениями, предъявляемыми ему, как профессору богословских наук, а в то время побуждаемый еще новым требованием из Петербурга подробного конспекта его лекций,87 находил теперь самый удобный случай оградить себя на будущее время решительным шагом. Как только кончился, в июле 1837 года, VIII-й учебный курс в Киевской академии, Иннокентий подал прошение об увольнении его от должности профессора. Прошению дан был ход, и 6-го сентября 1837 года в Комиссии Духовных Училищ состоялось постановление, по которому Иннокентий, оставаясь ректором, освобождался от профессорских обязанностей, а на должность профессора богословских наук определялся бакалавр, соборный иеромонах Димитрий, в помощь которому назначался новый бакалавр, только что окончивший курс иеромонах Серафим Аретинский.88 Вскоре затем ректор Иннокентий, в воздаяние отличных заслуг, возводится (3-го октября) в сан епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии, получает в управление Михайловский Златоверхов монастырь и переселяется туда на постоянное жительство. Димитрий занимает кафедру своего учителя полностью: подобно Иннокентию, он, с начала IX курса, преподает «введение в богословие» и «догматику», передав канонику профессору Скворцову, который в то время преподавал церковное право и в университете. Новое звание открывает Димитрию более широкое поле деятельности и в общих делах академии: как ординарный профессор, он делается членом конференции и вскоре избирается присутствующим в окружном правлении.
На быстрое возвышение Димитрия указывали как на явление необычное в академической жизни. Прошло только два года со времени окончания курса учения и юный бакалавр, сделавшись профессором, стал, в учебном отношении, выше других, не только сверстников, но и своих учителей, как напр. инспектора Григория, который некоторое время (в 1833 г.) был учителем Димитрия и прослужил уже шесть лет бакалавром и э.-орд. профессором (с февр. 1837 г.), будучи инспектором академии и архимандритом (с 11-го окт. 1836 г.). В объяснении такого явления нужно принять во внимание, что тогдашнее звание профессора – и по требованиям устава и по установившимся взглядам – не столько обозначало преимущество чести, сколько налагало лишние обязанности. В каждом классе наук был один профессор (ординарный – штатный), занимавший обыкновенно важнейшую кафедру. В классе богословских наук профессором всегда был преподаватель догматического богословия; а Димитрий состоял на такой кафедре почти сначала своей службы. Но, разумеется, одно это еще не давало бы Димитрию права на такое повышение, если бы обнаружившийся талант не выдвигал его из ряда других.
Новое положение дел в Киевской академии оставалось, однако, недолго. В конце того же 1837 года инспектор академии, архимандрит Григорий, определен ректором Ярославской семинарий; 8-го января 1838 года профессор, соборный иеромонах Димитрий, назначен исправляющим должность инспектора, а 14-го февраля, определением Комиссии Духовных Училищ, утвержден в должности инспектора академии, с увольнением от обязанностей библиотекаря. При этом Академическое Правление «сочло долгом объявить, с согласия митрополита, бывшему библиотекарю благодарность за усердное прохождение им этой должности». В начале марта получен был указ Святейшего Синода о возведении инспектора академии, иеромонаха Димитрия, в сан архимандрита, с назначением его настоятелем второклассного Киево-Выдубицкого монастыря и с остановлением в прежних должностях. Исполнение указа приурочено было к храмовому празднику в академической конгрегационной церкви: Димитрий возведен был в архимандрита 25-го марта, при служении преосвященного ректора Иннокентия. – К концу учебного (IX) курса, в июне 1839 года, митрополит Филарет, по поручению Св. Синода, ревизовал академию и в представленном Синоду отчете во главе отличившихся и достойных поощрения поместил инспектора академии. В силу такой рекомендации Св. Синод, определением от 19-го октября 1839 года, постановил: «объявить архимандриту Димитрию благословение Св. Синода за благоуспешное преподавание возложенного на него предмета учения».
С началом нового (X) курса в академии опять произошла важная перемена. Преосвященный ректор Иннокентий, побуждаемый сложностью занятий епархиальных и других, решился совсем оставить дорогую для него академию. Соответственное представление в Св. Синоде сделано было митрополитом в сентябре, а 19-го октября 1839 года последовало Высочайшее соизволение на увольнение Иннокентия от ректорства. На его место определен был друг его, ректор семинарий, архимандрит Иеремия. Неизвестно, брал ли какую кафедру возвратившийся в академию Иеремия; но Димитрий оставался при прежних должностях, то есть инспектором и профессором богословских наук.
Каково было инспекторство Димитрия? Самая должность, с ее беспокойными обязанностями надзирать и держать порядок, с неизбежным оттенком полицейского отношения к делу, была, конечно, не по характеру Димитрия, всегда скромного и тихого, постоянно открытого и добродушного. На первых порах действительно замечалась некоторая перемена в инспекции, особенно после архимандрита Григория, искусного и твердого администратора89. При всем том, дела у инспектора Димитрия шли как нельзя лучше. Весьма кстати было в это время учреждение в академиях новых штатных должностей – суб-инспекторов. В 1839 году Св. Синод предписал академическим правлениям избрать из бакалавров по два помощника инспектору «для ближайшего надзора за воспитанниками в жилых комнатах, спальнях, столовой за обедом и ужином и в церкви за каждым богослужением90 для руководства же избранным составить надлежащие инструкции. В Киевской академии по поручению правления, инспектор Димитрий составил такую инструкцию для своих помощников, которая по справедливости заняла место в историй академии.91 Инструкция эта отличается прежде всего краткостью и отсутствием мелочных регламентаций, а с другой стороны обнаруживает в авторе гуманный взгляд на студентов, как на имеющих возраст и разумно относящихся к предъявляемым им требованиям92. О. инспектор сам показывал пример исполнительности: он взял на себя для очередного надзора (дежурства) по три дня в неделе, оставив своим помощникам только по два. Неизменно он являлся в эти дни в столовой и на молитве; но редко посещал жилые комнаты, и то больше затем, чтобы дать полезный совет и указание в домашних занятиях студентов. Замечание и выговоры, когда приходилось их употреблять, у него были похожи скорее на поучения и назидательные речи. Вообще же инспекторский надзор, по свидетельству современников, был отдаленный, не входивший в мелочи студенческой жизни. Но нравственное влияние на студентов инспектор Димитрий имел несомненное и верное: оно лежало на прочном фундаменте – на личном примере и добрых качествах его души. Студенты умели ценить эти качества; а лучшим побуждением к исполнительности для них был установившийся высокий авторитет Димитрия, как профессора. Хорошо зная характер своего инспектора, студенты сами берегли его. Между прочим, это видно из «историй перевода св. писания Павского», насколько она коснулась Киевской академии. Как известно, высшее начальство разослало тогда по академиям конфиденциальное предписание – через инспекторов отобрать от студентов экземпляры перевода, если таковые найдутся. У студентов Х-го курса действительно находился один экземпляр перевода. Узнав своевременно о требовании начальства, они решили объявить имеющиеся у них записки начальству прежде, чем потребуют от них, и поручили исполнить решение свое первенцу курса – Михаилу Булгакову (пр. Макарий), который, при объяснении от имени всего курса, представил найденный экземпляр перевода прямо ректору Иеремии93. Таким образом инспектор Димитрий, которому предстояла тяжелая обязанность испытывать совесть целого курса, остался совершенно в стороне в этом деле.
За исправное прохождение инспекторской должности и обязанностей профессора Димитрий в мае 1840 года, по особому ходатайству митрополита Филарета, получил редкую награду – золотой, украшенный наперсный крест из Кабинета Его Величества94
III
Ректор Иеремия пробыл на этой должности только полтора года. 6-го апреля 1841 года он был хиротонисан во епископа Чигиринского, викария Киевской митрополии (опять на место Иннокентия, получившего в управление Вологодскую епархию), с увольнением от академии. Вакансия была замещена очень скоро, в виду бывшего на лицо и давно рекомендованного кандидата, который и раньше (в июле и августе 1840 года), за отсутствием Иеремии, исправлял обязанности ректора. Указом Св. Синода, от 24-го числа того же апреля, ректором Киевской Духовной академии определен инспектор, архимандрит Димитрий, с поручением ему управления первоклассным Киево-Братским монастырем и с правом, по званию ректора, присутствовать в Духовной консистории. Первое известие о новом назначении в Киеве было получено от Филарета, митрополита Московского, который в письме из Петербурга (от 22-го апреля) поздравляет о. Иеремию с архиерейством и прибавляет: «о. Димитрия с преемством Вам поздравляю»95.
Десятилетнее ректорство Димитрия представляет в истории Киевской академии эпоху, не менее замечательную, чем время Иннокентия, как по высоте научного уровня, так и по особенному характеру и складу внутренней академической жизни, и по тому направлению, какое выносили из академии ее питомцы. Общий характер этого периода хорошо выражается в присвоенном ему современниками названии «благостного»96. Время, действительно, было благостное, и эта благостность обусловливалась всего больше личными характерами и взаимными отношениями двух главных деятелей всего этого периода – ректора Димитрия и высокого протектора академии, митрополита Филарета. Сам бывший ректором академии, в.-преосвященный митрополит принимал живое участие в жизни Киевской академии с самого начала своего святительства в Киеве, и при Иннокентии и при Иеремии; но в особенно близкие отношения к академии Филарет стал при ректоре Димитрий, благодаря тому, что киев. митрополит с начала 1842 г. был освобожден от присутствия в Св. Синоде и жил в Киеве безвыездно97. На такие именно отношения и указывают современники. Иннокентий, выбывши из Киева, не мог, конечно, не интересоваться жизнью дорогой ему академии и имел усердного и верного корреспондента в лице беспристрастного судьи, Ивана Михайловича Скворцова. Передавая в своих письмах нередко подробности о лицах и делах в Киеве, Скворцов выражался очень коротко, но всегда характерно, о делах академических. «Экзамены у нас, пишет он в 1841 году, шли хорошо, а 27-го июня отпраздновали и публичный экзамен. Целую неделю, почти каждый день, с нами был владыко митрополит, как ревизор». В другой раз (в 1845 г.) он еще живее указывает на благостные отношения митрополита к академии: «завтра мы начинаем экзамены. Владыко у нас ревизором: значит, все у нас хорошо». А в следующем (1846) году, в такое же время, корреспондент Иннокентия просто извещает его: «у нас в академии благостный мир и тишина»98. Главным миротворцем, разумеется, был Филарет, который, имея в академии двух «столпов» (как он любил называть их) – ректора Димитрия и профессора Скворцова, во всем доверял и вполне надеялся на доброе их руководство в делах академии. Одинаково уважал он и ценил того и другого, и Скворцова и Димитрия; но последнего, кроме того, отечески любил и даже гордился любимым ректором. В 1845 году Киев посетил Государь Император, которого встретил в соборе митрополит с братией. Николай Павлович, при входе же в собор, обратил внимание на стоящего в голове духовенства, высокого, необыкновенно представительного монаха, и, приложившись к кресту, спросил у митрополита: «кто этот архимандрит?» – «Это Ваше Величество, у меня ученый муж, отвечал Филарет, – ректор Духовной Академии, архимандрит Димитрий». Об этом первом знакомстве и рекомендации Филарета сам Государь напомнил впоследствии Димитрию, епископу Тульскому. Посещая часто академию, м. Филарет всегда оказывал знаки своего внимания к Димитрию: почти постоянным было явлением, что митрополит, по окончании экзаменов, при профессорах и студентах, публично высказывал благодарность о. ректору, в выражениях теплых и сердечных. С своей стороны и Димитрий не мог не ценить отеческой о нем заботливости Филарета. Можно даже сказать, что Димитрий, по своей природной скромности и застенчивости, только при Филарете мог так долго и с таким успехом и честью стоять во главе академии; к Филарету он всегда мог идти со спокойною и открытою душою, что так дорого было для его характера. Глубоко и искренно чтил о. ректор своего Владыку, видя в нем образец святителя: и в классных чтениях и в частных беседах с студентами он, необинуясь и без тени лести, указывал на м. Филарета, как на живой пример высоких христианских добродетелей99.
«Тишину в академии можно, пожалуй принять за признак застоя и неподвижности, но в Киевской академии 40-х годов засвидетельствованные Ив. Мих. Скворцовым мир и тишина хорошо уживались с самою живою деятельностью: жизнь в академии, правда, не казалась шумною и кипучею; за то она спокойно лилась по широкому и глубокому руслу, неся обильные плоды трудолюбия и талантов. Примером трудолюбия и образцом профессорского успеха был ректор Димитрий.
«Новый о. ректор, пишет о нем Иван Михайловича, сильно занят делами академическими»100. А дел у него, по сложности обязанностей, лежавших в то время на ректоре, действительно было много. Оставляя пока в стороне важную обязанность Димитрия, как профессора, обратим внимание на его деятельность и занятия по должности ректора.
Прежде всего на ректоре лежал общий надзор за ходом учебного дела в академии – за преподаванием всех наук, за своевременным и исправным выполнением программ со стороны преподавателей, особенно же за усвоением наук слушателями и за их письменными работами. Как велось это дело у Димитрия? Как и во время инспекторства, надзор был «общий и отдаленный». Посещения лекций профессоров бывали весьма редки, так что некоторые воспитанники того времени помнят случаи посещения ректором аудитории младшего курса только при вводе в должность новых бакалавров. Лучшую характеристику Димитрия в этом отношении дает один из магистров ХIII курса101 в своих воспоминаниях о любимом ректоре. «В продолжении первых двух лет, говорит он, мы видели своего о. ректора довольно редко: на экзаменах, на богослужении, при переходе из кельи в классную аудиторию или в правление. Лекции прочих профессоров он посещал довольно редко. Как человек характера благородного, души возвышенной, точный исполнитель своих обязанностей, он так мыслил и о всех служивших под его начальством, а потому совестливому сознанию долга он вручал порученное каждому дело, довольствуясь сам общим наблюдением за всем строем академической жизни. Кажется, о. ректор руководился в этом отношении правилом: ведай каждый порученное ему дело, с полным разумением дела и с полною ответственностью за него; к нему обращайся только в случаях недоуменных, выходящих из общей колеи». К этому нужно прибавить, что Димитрию не было и надобности проверять каждого из сослуживцев. Добрую половину профессоров и бакалавров составляли его же учители или товарищи-сверстники, хорошо ему известные и носившие свое звание с достоинством и честно; остальные были его учениками и им самим подготовлялись к занятию академических кафедр. Бывали, и даже не редкие, случаи, когда о. ректор являлся в аудитории не к профессору, а за профессора, отсутствовавшего по какой-либо причине: а в промежутках, до назначения на вакансии новых преподавателей, держал даже по нескольку рядовых лекций102. В этих случаях он, не затрудняя других профессоров, сам всегда заменял отсутствовавших, если позволяло время; и в этих-то случаях он особенно удивлял студентов своею широкою и многостороннею ученостью. «Читая случайные лекции посторонней кафедры, он излагал их с такою полнотою и знанием дела, что казалось – целые годы трудился именно над этим предметом, и нередко освещал его такою новизною для слушателей, какой они не знали от специалиста профессора103.
Не входя непосредственно в дела двигателей науки – гг. профессоров, ректор Димитрий однако внимательно следил за успехом и прилежанием учащихся. Внимательно прочитывая и исправляя семестровые сочинения по своему предмету, равно как и все очередные проповеди студентов, ректор нередко требовал, чтобы другие преподаватели представляли ему письменный работы их слушателей: по сочинениям он достаточно знакомился со студентами еще во время учения их на младшем курсе. Что касается курсовых сочинений, которые обязательно подавались ректору, он обыкновенно прочитывал их раньше представления в конференцию, которая потом распределяла их по специалистам, для официальных рецензий. Еще больше средств к такому знакомству представляли устные испытания студентов в усвоении ими пройденных наук. По старому уставу экзамены в академиях производились по всем предметам в каждое полугодие. Димитрий обыкновенно проводил целые дни за экзаменами, присутствуя ежедневно в комиссиях испытаний на старшем или на младшем курсе, и присутствовал не слушателем только, а принимая постоянное и живое участие, по какой бы науке ни производился экзамен. Для студентов присутствие ректора на экзаменах, несмотря на их продолжительность, было не только нестеснительно, но, напротив, всегда желательно: «благостный характер главного экзаменатора помогал давать добрые ответы и недостаточно готовым к ним». Вот как вспоминают академические экзамены сами ученики Димитрия! «Нам, студентам младшего курса, говорит один, приходилось удивляться многосведущему уму нашего о. ректора при производстве годичных и полугодичных испытаний. В ректоре-экзаменаторе мы видели, кроме высокого богослова, также и глубокого философа, и математика, и физика, и историка»104. «Замечательная особенность в испытательных приемах о. ректора – это отсутствие всякой формальности. На предлагаемые вопросы от нас требовали ответов не программы, не учебника, нет, с вами беседовали, рассуждали. Даже внешние приемы экзаменатора неотразимо действовали на бодрость духа испытуемых. Тихая интонация в голосе, терпеливое ожидание ответов на предложенные вопросы, отсутствие и тени намерения уронить, сбить с толку испытуемого, а напротив – явное желание ободрить, поддержать, наводящими вопросами дать возможность высказать сведения, какие кто имел, – вообще ласковость и доброта о. ректора весьма ободрительно действовала на нас». Знания, конечно, требовались; но заметно было, что для ректора не столько интересны были излагаемые сведения по подлежащему предмету, сколько дознание степени развития мыслительных способностей испытуемых. Особенно это заметно было на экзаменах приемных, когда распознание умственного развитая и подготовленности к слушанию академических курсов было на первом плане. При этом о. ректор всегда был одинаково ровен: «с заметным удовольствием он выслушивал ответы бойкие и осмысленные, но терпеливо выжидал ответов и посредственных, давая время для припоминания или обдумывания»105.
«Редко о. ректор посещал жилые комнаты студентов и всегда почти ограничивался посещением одного или двух нумеров. Но эти посещения были для студентов великим учебным праздником. Являлся он в этих случаях к ним совсем не за тем, чтобы проверять их быт по предписаниям правил, а скорее с целью внести в их однообразную, будничную жизнь разнообразие и оживление. За какими бы занятиями он ни заставал студентов – за сочинениями ли, или за составлением проповедей, за чтением книги или просто за общей товарищеской беседой – у него всегда находился повод, чтобы начать свою беседу, которая всех заинтересовывала, всем была полезна и на долго оставалась темою для разговоров. Студенты старшего курса, трудившиеся в последний год над курсовыми сочинениями, обыкновенно с нетерпением ожидали таких посещений ректора, которого, так сказать, стоило только затронуть, чтобы вызвать на самую широкую беседу об интересующем предмете»106. Впрочем, работы по этим сочинениям ни у одного почти из студентов не обходились без участия в них ректора. Порядок обыкновенно был такой: темы для сочинений давались всеми профессорами; студенты выбирали из них каждый по своему расположению и по мере подготовленности к тому или другому предмету; все своевременно заручались достаточными указаниями и советами профессоров, но сознавали себя обеспеченными только тогда, когда эти заручки проверялись о. ректором. Обращались к Димитрию за этим делом совершенно свободно, так как он сам принимал просителей охотно, считая себя в известной степени ответственным за качество курсовых сочинений, как имевших решающее значение – и в судьбе каждого студента и в репутации всей академии, за каждый курс отдельно. Всегда указывал он студенту лучшие пособия и источники, давал обстоятельную характеристику и оценку их и делал необходимые предостережения. Случалось иногда, что ректор, прочитав поданное сочинение возвращал его автору для исправления или пополнения, если время позволяло это сделать, а иногда, замечая упущенное время или несоразмерность сил студента с избранным предметом, он легко выручал из затруднения, давая новую, более легкую, тему, или указывая границы сочинения107.
При выпусках окончивших курс, в конференции, во время присуждения ученых степеней, Димитрий был усердным защитником студентов и на свой страх увеличивал число магистров до возможного. В каждом из пяти, бывших при нем, выпусков число студентов первого разряда было больше половины108, чего в других академиях почти не бывало. В самой конференции, особенно внешними членами, иногда заявлялись указания на излишество магистров; но ректора всегда поддерживали старшие профессоры, а митрополит Филарет охотно вызывался быть защитником решений конференции перед высшим начальством109. Бывали даже возражения по этому поводу и от высшего начальства, как напр. в 1843 г. после выпуска ХI-го курса. Почему в 1845 г. Димитрий, вызванный в Петербург, запасся целым транспортом магистерских диссертаций и представил их куда следует, настойчиво прося сравнить сочинения его студентов не только с сочинениями других академий, но и с диссертациями, защищенными на степень магистра в университетах, чтобы судить беспристрастно. Неизвестно, как отнеслись к такой просьбе о. ректора; но именно ХII-й курс Киевской академии (1845 г.) оказался самым обильным магистрами. Приведенный пример доказывает, что если боязливый Димитрий выступил с такою защитою, то и сам он был уверен и других желал убедить, что Киевская академия делает блестящие выпуски не по милости только и благоволении к своим воспитанникам. – В то же время, в конференции Димитрий не хотел пользоваться какими-нибудь преимуществами по звании ректора и ничего не предрешал, всегда полагаясь на справедливое решение ученой корпорации. Известен один пример его уступчивости, вопреки желанию, в истории студента Х-го курса Ивана Гепнера110. Окончивший Деритский университет, бывший сначала католиком, потом протестантом и, наконец, принявший православие – Гепнер обратился к Иннокентию, ища его руководства и покровительства. Иннокентий, приняв живое участие в образованном молодом человеке, прислал его (в 1839 году) в академию при официальной бумаге с резолюцией: «принять его паче студента». Гепнер, в одежде монастырского послушника, принят был прямо на старший курс. Во время учения он пользовался постоянною благосклонностью о. инспектора и потом ректора Димитрия; а по окончании курса Димитрий, из уважения к высокому претектору, предложил конференции удостоить Гепнера степени магистра. Но, несмотря на поддержку Скворцова, конференция отвергла предложение ректора и не удостоила высокого звания весьма способного, но ничего в академии не делавшего, студента.
Кроме занятий, вызываемых прямыми обязанностями ректора, у Димитрия не мало было дела, или связанного так или иначе с академией, или и совсем постороннего. К последнему относились его труды по должности, напр., члена консисторий, члена особого комитета по изысканию средств к обеспечению духовенства (1841–43 годов), и особенно по званию настоятеля Киево-Братского монастыря. Оставляя пока в стороне речь о сторонних занятиях, продолжаем описание Киевского периода жизни покойного преосвященного изложением сведений о его деятельности, как ректора, по исполнению разных поручений или требований, или по собственному вызову на различные работы.
IV
Ректор академии был в известных правах и ответственный начальник всего духовно-учебного округа. Отношения академии к семинариям подведомого округа были самые близкие. Огромное большинство воспитанников академии были из своего округа, равно как и окончившие курс распределялись по тем же окружным семинариям. Академия ведала всем ходом семинарского быта и имела высший надзор как над администрацией, так и над учебною и экономическою частями. Ревизии, назначавшиеся академиями, для семинарий были делом очень серьезным. Ревизор обыкновенно проживал по неделе и больше, производя полные экзамены во всех классах семинарий и ближайших училищ. Димитрий назначался ревизором несколько раз. Еще в должности инспектора он в 1838 году, по поручению Комиссии Дух. училищ, обозревал Орловскую семинарию, с подведомыми ей училищами. В 1842 г., как ректор академии, по поручению Св. Синода, ревизовал Курскую и Воронежскую семинарии; в 1846 г. ревизовал Херсонскую и в 1847 г. – Киевскую семинарию. Нечего и говорить, что ревизии его были такие же «благостные», как и управление академией: ревизор усердно производил экзамены, писал обстоятельные отчеты; а в результате всегда выходили польза и выгода ревизуемых семинарий. Например, после ревизии 1838 г. из Орловской семинарии принято в академию 8 студентов; а в составе ХIII-го, сравнительно небольшого, курса (1843–1847 гг.) окончили 5 из Курской и 5 из Воронежской семинарий. Характер ревизора очень скоро и верно подмечался даже ревизуемыми мальчиками. Известный военный протоиерей, о. Вакх Гурьев, учившийся в 1842 г. в Воронежском училище, дает в своих воспоминаниях такую заметку о ревизоре Димитрии111. «Вызванный ревизором, я, чтобы скорее предстать пред ним, юркнул под парту, но там головою задел за гвоздь, и уже стоял у стола с билетом в руках, не чувствуя, что по лицу течет кровь. Увидел это ревизор и поспешил отправить меня в больницу, освободив от всех экзаменов. Через день я был обласкан ревизором, посетившим больницу. Но начальство, усердное в исполнении указаний так и не дало мне отличиться пред ревизором, выпустив меня из заключения только после отбытия его».
Дома у ректора Димитрия были и другие дела, требования не мало забот и времени. Так на нем лежали обязанности по изданию академического журнала, редактором которого он был во все время ректорства. Первое время у него были усердные и деятельные сотрудники – те избранники Иннокентия, которые вместе с Димитрием подписались под выработанною программою «Воскресного чтения». Но выбыли из академии – сначала Авсенев (архим. Феофан), а потом и Скворцов; умер затем Амфитеатров112, и Димитрию, чтобы удержать издание на высоте, нужно было и самому работать много и привлекать и побуждать новых сотрудников. Перу самого редактора, за десятилетний период заведывания его журналом, принадлежит много статей научных и популярных, нравственно-поучительных. В «Воскресн. Чтении» он начал печатать свои чтения по каноническому праву (в кратком, конспективном виде. К сожалению, по некоторым неблагоприятным обстоятельствам, автор не захотел окончить печатание этих чтений и большая часть их осталась в рукописи113. Но самую большую часть трудов Димитрия, напечатанных в академическом журнале, составляют его проповеди и поучения, помещавшиеся всегда без имени автора и не редко в, форме назидательной статьи. Он, как известно, был усердный проповедник с самого начала служения своего церкви. В этом отношении, в 30-тых и 40-вых годах, Амфитеатров и Димитрий были самыми верными и талантливыми сподвижниками Иннокентия. Сделавшись ректором Димитрий не только не изменил своему усердию, но проповедовал чаще прежнего: по примеру Иннокентия, говорил он проповеди во время службы в братской церкви, любил предначинать годовой круг проповедей, говоренных наставниками академии, и так называемых «пассий», столько любимых киевлянами114. Кроме того, не редко приходилось ему проповедовать при торжественных службах в лавре или Софийском соборе. Бывали, наприм., и такие случаи: Преосвященный Иннокентий, накануне одного высокоторжественного дня, усмотрел, что из представленных ему на цензуру очередных проповедей нет ни одной достойной к произнесению в Лавре. Послал он за о. Димитрием (тогда еще иеромонахом) и попросил его написать проповедь. В ночь Димитрий исполнил заданную работу, а на утро с нею явился к Иннокентию, от которого, бес рассмотрения проповеди, получил благословение: «шествуйте и благовествуйте!»115. Впрочем, Димитрий и все проповеди приготовлял накануне произношения, вечером, и сам обыкновенно не писал, а диктовал кому-нибудь из проживавших у него родственников-семинаристов. Проповеди его привлекали массу слушателей, находили благосклонное внимание высоких ценителей и вызывали у почитателей его таланта желание видеть их в печати. Сам Димитрий ставил главною целью своего проповедничества – служить примером для воспитанников академии, которым «при всяком удобном случае внушалась мысль, что сила проповеди не в красивой фразе, не в тонком умствовании, а в силе убеждения, в силе внутреннего проникновения проповедника своим предметом и своим священным призванием, требующим благоговейного и молитвенного настроения, искренней ревности о славе Божией и благе ближнего»116. Некоторые проповеди были напечатаны в «Воскр. чтении», но больше в форме назидательных журнальных статей. Только под конец своего ректорства, уступая советам близких сослуживцев и желанию м. Филарета, он приступил к изданию своих киевских проповедей. В начале 1849 года вышел из лаврской типографии первый том этих проповедей, а в конце того же года напечатан был и второй том. К сожалению, увидеть свет пришлось не многим экземплярам первого тома. Ив. Мих. Скворцов, извещая Иннокентия о киевских новостях, между прочим пишет ему, от 4 июня 1849 г., следующее: «о. ректор Димитрий печатает свои проповеди (Давно пора!)»; а в следующем письме (4 Февр. 1850 г.) сообщает, что «в лаврский пожар пошла на воздух не одна тысяча книг, в листах. В том числе сгорел и весь 2-ой том проповедей о. ректора, только что отпечатанный. Остались (в переплете) несколько экземпляров 1-го тома. Жалко! Проповеди стоили лучшей участи»117. Одной только киевской проповеди Димитрия посчастливилось в более широком распространении, с давних пор. Это – «надгробное слово, сказанное при погребении профессора Киевской духовной академии Я. К. Амфитеатрова, 10 июля 1848 г.». Глубоко-искренняя, красноречивая дань благодарного ученика учителю, – представителя академии даровитому ее профессору, – проповедь эта, как верная оценка дел непостыдного делателя, печаталась и печатается при каждом (синодальном) издании лучшего из сочинении Амфитеатрова, – его «Бесед об отношении церкви к христианам».
Однородные с проповедническими и журнальными, были еще у Димитрия работы по поручениям начальства. Так, в 1841 году указом Св. Синода предписывалось академиям составление «сборников рассуждений догматических и нравственных». Цель этих сборников была доставить народу краткие, удобоподобные поучения, расположенные по числу воскресных и праздничных дней. Митрополит Филарет, признавая особую важность настоящего предписания, указал «заняться составлением рассуждений, под председательством ректора академии Иеремии, инспектору архимандриту Димитрию, ректору семинарии архимандриту Евсевию и профессорам Скворцову и Амфитеатрову». Иеремия вышел из академии через месяц и главным руководителем этого дела остался Димитрий. Исполнение поручения не заставило себя ждать. В следующем 1842 году Киевская академия представила первый том сборника, составленного по указанному плану, а в начале 1843 г. готов был и второй том. – Почти в тоже время, Св. Синод, озабоченный выбором новых руководств по богословским наукам, остановил внимание на рукописном богословии Иерусалимского патриарха Анфима, которое и было разделено между академиями для скорейшего перевода на русский язык. Правление Киевской академии, получив 4-ю часть богословия, поручила указанный труд четырем баккалаврам; но исполненный ими перевод, по указанию митрополита, должны были проверить и исправить оо. ректор и инспектор академии, что и было ими сделано в короткое время118.
Казенные поручения, однако, не были для Димитрия так важны, как частные – домашние, к которым он, по своему характеру, должен был относиться со своею строгостью. Дело в том, что старец Филарет, митрополит Киевский, хотя уже не ездил в Петербург, но как член Синода получал оттуда разные предложения к рассмотрению и подаче своего заключения. Не надеясь на свои старческие силы, митрополит в большинстве случаев передавал присланные бумаги на рассмотрение о. ректору академии. Особенно часто это делалось при получении дел, касающихся наук и вообще учебной части: так все магистерские диссертации других академий, присылавшиеся по обычаю митрополиту, обыкновенно читались и оценивались ректором. Но исполнение подобных поручений не было формальною только передачею трудов одним другому, – митрополитом ректору: опытный и прозорливый старец, проверяя представляемые ему (обыкновенно лично) отзывы и заключения, нередко находил в них пробелы или недостаточность внимания, а иногда в прочитанных диссертациях указывал такие промахи, которые просто поражали просмотревшего их о. ректора119. Димитрий, глубоко чтивший Филарета, не только не пропускал без внимания подобных уроков митрополита, но почитал себя счастливым, – как он выражается, – «лишний раз стать на экзамен пред лицом старца».
Кроме трудов, понесенных для своей академии, кроме исполнения частных и временных поручений начальства, ректор Димитрий, в течение своей долголетней учебной службы, оказал не мало услуг высшему духовно-учебному управлению в решении разных вопросов, особенно же в постановке многих наук, как в высших, так и средних училищах. Нужно вообще заметить, что время служения Димитрия в Киевской академии совпало с течением новых веянии и стремлений в высших сферах к реформам в духовном ведомстве, преимущественно в духовно-учебных заведениях. «Постановления о методе преподавания наук в духовных академиях и семинариях в конце тридцатых годов, вследствие обогащения богословской и философской литературы множеством новых сочинений, признаны требующими изменений и дополнений»120. Еще в 1837 году Комиссия Духовн. Училищ, имея рассуждения о том, чтобы, при возрастающем образовании и умножении способов его, преподавания богословских наук в духовных училищах возводимо было к большему совершенству, систематической правильности и единообразному порядку, учредила при конференции С.-Петербургской Духовной академии комитет, которому поручено было взять в рассмотрение все книги, употребляемые в богословском учении, и указать, какие из них могут быть оставлены и по каким частям должно составить новые учебные книги. В то же время предложено было ректорам академий и семинарий прислать конспекты преподаваемого в них богословского учения с показанием его состава и порядка и самого способа преподавания, в особенности же по тем предметам, для которых нет еще удовлетворительных пособий121. В Киевской академии по исполнению настоящего требования вышло временное недоразумение. Преосвященный ректор Иннокентий, закончившей в это время свой последний курс, – имея в виду прежние неблагоприятные отношения к его профессорству, – не пожелал еще раз подвергать далекой цензуре свои научные труды и не представил конспекта богословских наук, а вскоре затем подал прошение об увольнении от профессорства. Иеромонах Димитрий вступивший в конце 1837 г. в отправление обязанностей ординарного профессора, не счел себя в праве представлять свой конспект помимо ректора, к которому собственно и предъявлялось требование. Так, в комитет при С.-Петербургской академии и не было киевских конспектов. Между тем Ком. Дух. У-щ требовала исполнения своих предписаний и побуждала. В начала 1838 года митрополит Киевский писал из Петербурга Иннокентию: «извольте усмотреть непременное желание К. Д. Уч-щ получить от вас конспект богословских наук. На мои представления об увольнении вас от сего занятия не согласились. Почему прошу вас исполнить требование К. Д. У. Очень знаю, что вы обременены делами и говорил об этом здесь, но что делать? В облегчение вам получил ответ, что от вас не требуется подробное и большей частью мелочное изложение уроков богословского учения, – а желают знать ваше мнение о том: 1) Какую потребовать наилучшую методу к успешному преподаванию богословского учения в духовных академиях и семинариях, сообразно с потребностями собственно нашей православной, отечественной церкви. 2) Какие принять меры к отвращению могущих вкрасться в духовные училища новых лжеученый, не сообразных с духом православной веры, – рассеиваемых инословными писателями. 3) Какие употребить книги для преподавания богословия в академиях и семинариях, – и какие изобрести средства для составления вновь классических книг по богословскому учению... А что еще, изволите дополнить вашею опытностью, на которую здесь все очень, очень и очень полагаются после того, Иннокентий написал свои общие соображения на предложенные вопросы и послал их по назначению. Но ими не удовлетворились и вновь требовали от Киевской академии полный конспект богословских наук. Тогда составление конспекта поручили Димитрию. «Мысли вашего преосвященства, писал к Иннокентий Филарет, касательно преподавания богословских наук в академии граф (об.-прокурор Протасьев) очень одобряет; оба мы приемлем их под свою защиту. Но ожидаю исполнения обещанного вами, сиречь: богословского конспекта о. архим. Димитрия». Обещанное, однако, не было еще готово. В ноябре 1838 г. м. Филарет опять пишет Иннокентию: «сделайте милость, поскорее пришлите ко мне конспект богослов. наук, составленный о. архим. Димитрием. В этом здесь большой недостаток. Я употреблю его в пользу»122. Наконец, в начале 1839 года конспект, составленный Димитрием, был представлен в Ком. Дух. Уч-щ. Но «употребили ли его на пользу», как желал Филарет, и вообще какова была судьба этого конспекта – неизвестно, так как особый комитет 1837–38 годов для академий мало что мог сделать. Для семинарий этим комитетом выработан был проект значительных реформ, которые большей частью и были приведены в действие в 1840 году; но занят его по вопросам, касавшимся академии, были только подготовительными работами, так как с самого начала занятий усмотрена была необходимость расширить пределы и перестроить весь план академического преподавания богословских наук, – а для этого нужны были и время и новые работы. Требовалось выработать более прочную постановку тех наук, которые практикой уже выделились из общего курса богословия, и обосновать новые кафедры, намеченные представленными соображениями. В этих целях Комиссия Духовн. Училищ предписала академическим конференциям составить особые конспекты и планы преподавания: а) церковного права, б) исторического учения об отцах церкви и в) о церковных древностях. – В Киевской академии конспекты по первым двум наукам составлены были инспектором, архим. Димитрием – и в 1839 году предоставлены в Св. Синод. О конспекте Димитрия по каноническому праву сказано будет ниже. Конспект его по патрологии, при котором, в виде образцов, были представлены им две статьи: о св. Клименте и св. Иринее, – вместе с конспектами по тому же предмету из академии С.-Петербургской и Московской, – передан был на рассмотрение московскому митрополиту Филарету. В своем донесении Св. Синоду, от 8 декабря 1839 г., Филарет дал одобрительный отзыв о Киевском конспекте, равно как и о приложениях к нему, – хотя преимущество пред всеми оказал конспекту Московскому (Филарета Гумилевского). «План учения об отцах церкви – писал Филарет – представленный от конференции Киевской академии, краток; но в нем состав учения довольно определенен, и показано, на что надлежит обратить внимание в каждом отце, как разделить все учения по периодам, и какой характер каждого периода. Образцы предполагаемого учения заключают довольно сведений подкрепленных указаниями на источники оных»123. Вскоре же, именно в 1841 году, по этому плану и была открыта в Киевской академии кафедра патрологии, сначала не штатная, а потом, с закрытием класса польского языка, сделалась штатною. Кононика продолжала еще составлять часть богословия», а что касается науки «о церковных древностях», поставленной первоначальным уставом академии в крайне неопределенное положение по отношению ее к двум богословским наукам, то в Киевской академии в это же время (1842 г.) она была заменена «библейской историей с археологией».
Одновременно с этими реформами, или, вернее, по поводу реформ, вводимых высшею властью в академиях, в академии Киевской – по собственной ее инициативе – возникло предположение: а) о выделении из общего курса богословия «богословской энциклопедии», которая, в виде обширного введения к курсу богословских наук, преподавалось бы в самом начала академического учения, и б) о введении в академии новой науки, о которой тогда еще и не думали «Педагогики». – Митрополит Филарет в своем представлении Св. Синоду, вместе с отчетом о ревизии академии (в 1841 г.), изъяснил и указанные предположения. Св. Синод предписал правлению академии войти по сему предмету в особые соображения и представить таковые на усмотрение духовно-учебного управления. Дело было поручено ректору Димитрию. В исполнение данного поручения он скоро представил: 1) план введения новых кафедр, с сокращением уроков по общей словесности и греческому языку, и 2) составленные им программы новых наук. В основание программы по «богословской энциклопедии» он положил конспект своих чтений по богословию, в который новая наука входила, как предварительная или вступительная часть; но по педагогике, как науке совершенно новой, он составил такую полную хотя и сжатую, программу, которая и в свое время обратила на себя внимание и в будущем послужила основою для этого предмета. «Педагогия, по этой программе, заключает в себе две науки: а) науку воспитания и б) науку обучения. По мысли автора, она должна быть обоснована не столько на твердых выводах здравой философии, сколько на учении церкви: самый предмет науки – воспитание христианина есть такое, по объяснении профессора, развитие умственных и нравственных сил человека, какого требует дарованная ему благодать крещения и звание истинного христианина благопослушного православной Церкви Христовой и верного сына Отечества». Программа заканчивается особым обширным отделом – «обучение духовного юношества», начиная с домашнего и кончая академическим. Этот то отдел собственно и послужил побуждением ввести особую науку педагогику, которая, по мысли Димитрия, должна служить вступлением или первою частью другой науки – «пастырского богословия». Историк Киевской академии, поместивший в своем сочинении124 Димитриеву программу педагогики, замечает, что «план этот, составленный одним из опытнейших в деле христианского просвещения мужей нашего времени, есть достояние науки и вместе непререкаемое свидетельство, что академии духовные привыкли видеть в своих ректорах настоящих, а не номинальных только педагогов и воспитателей юношества». Однако, настоящие представления Киевской академии остались на этот раз одними проектами, без исполнения. «Введение в богословие» вошло в состав академического учения, как самостоятельная наука, только через пять лет после этого представления. А педагогику в то время не решались еще признавать за науку: через 25 лет после первой программы эта наука получила право гражданства в духовно-учебных заведениях, когда введено было в круг наук в проекте преосв. Димитрия (в 1861 году).
Важным обстоятельством в деле участия Димитрия в духовно-учебных реформах был экстренный вызов его в 1845 г. в С.-Петербург, где в это время «очень серьезно заняты были мысли об усовершенствовании академического учения. Комитетами 1837 и 1840 годов сделано было не мало подготовительных работ в этом направлении; но всеми сознавалось, что не достает единства системы и удобного плана к желаемому усовершенствованию125. В 1844 году при Св. Синоде учрежден был «особый комитет» именно с целью выработать новый план учения, не нарушая однако оснований устава академий. На основании программ и конспектов, вытребованных от академий ранее, комитет составил нормальные академические конспекты: по 1) введению в православное богословие, 2) православной догматике, 3) нравственному и 4) пастырскому богословию. Все эти конспекты были посланы на рассмотрение Московскому митрополиту Филарету, который и произнес над ними свой строгий суд. Написавши множество замечаний на первые три конспекта, он не одобрил их к употреблению в настоящем виде и возвратил в комитет с мнением, что «конспекты требуют дальнейшего пересмотра, соображения и усовершения». Особенно не соглашался он с мнением комитета об изъятии из употребления некоторых учебных книг, как непригодных и даже вредных. Конспект же по пастырскому богословию, по отзыву Филарета, совсем не может быть употреблен, как составленный по немецкому руководству рационалиста Гифштица126. Со своей стороны члены комитета не находили возможным согласиться с некоторыми замечаниями м. Филарета. Тогда, в 1845 г., признано было нужным усилить состав комитета новыми членами, более опытными и компетентными, и для этого вызваны оо. ректоров; Московской академии архимандрита Евсевия и Киевской – архимандрита Димитрия.
В июле месяце 1845 года в Киеве был получен указ Св. Синода о вызове ректора академии в С.-Петербург «по делам службы». Неожиданность такого указа (ректоры академии обыкновенно не вызывались на так называемое очередное архимандритское служение) и, всего более неопределенность целей вызова привели в немалое смущение и самого о. ректора и всю академию: Димитрий недоумевал, какая может быть для него служба в Петербурге; а служащие и учащиеся в академии боялись, чтобы этот вызов совсем не лишил их любимого ректора; были слухи,(что предстоит выбор нового ректора для Петербургской академии.127 Были еще и другие догадки, по которым впоследствии сложились целые легендарный сказания о необычайном, по Высочайшему повелению, требовании Димитрия в Петербурге: догадки эти в свое время основывались на том внимании, которое изволил обратить на ректора академии Государь Имиератор во время посещения Киева.128 Как бы то ни было, а предписание содержало не только вызов, но и требование явиться в столицу не позже 20-го июля. Димитрий только успел закончить экзамены и 13-го числа выехал из Киева. Оказалось, однако, что «дела службы» в Петербурге не так важны и даже не так интересны, как это казалось издалека. Вызванным оо. ректорам предложено было рассмотреть те же конспекты по богословским наукам, с накопившимися при них материалами, и представить свои замечания и мнения. Исправленные Комитетом, в новом его составе, конспекты опять препровождены были к м. Филарету и опять возвращены с новыми замечаниями, но вскоре же были утверждены и разосланы к руководству. Димитрию, как видно из его писем того времени,129 не были симпатичны эти занятия в Комитете. Дело в том, что академии 40-х годов давно переросли требования первоначального их устава, – особенно его указания на определенный «состав» учения и на «классические книги», по которым должно преподавать учение: наука академическая, постопенно возраставшая, не могла уже укладываться в какие-нибудь предначертанные рамки – конспекты; а о словах или выражениях в этих конспектах, по настоящему, не должно бы быть и речи. Сам Димитрий, как и все лучшие профессора академии, читали свои лекции по собственным программам, выработанным многолетней практикой, и разумеется – эти программы не были неподвижными и постоянными, но обновлялись с каждым курсом. С другой стороны – может ли какая-нибудь нормальная программа ручаться за содержание лекций профессора? Конечно, официально признавать свободу преподавания в православных духовных академиях было бы несправедливо: притом – это было не в духе того времени: тогда еще не полагались на здравую критику представителей богословской науки, и даже заботились об «изыскании мер к отвращению могущих вкрасться новых лжеучений, не сообразных с духом православной веры, – рассееваемых инославными писателями». Золотая середина, очевидно, лежала в доверии, какое могут заслужить профессора богословских и философских наук, если они будут смотреть на свои труды как на прямое и честное служение церкви: это и было глубоким убеждением профессора и ректора Киевской академии Димитрия; это убеждение он высказывал и отстаивал в Комитете.
Главною целью занятий Комитета 1844–45 годов было «усиление богословского учения в академиях». К достижению указанной цели прямее, чем нормальные программы, послужили труды Комитета, направленные к более широкой постановке наук. В это время получили свое определенное положение новые кафедры: богословской энциклопедии, пастырского богословия, патрологии и библейской истории с археологией. Преподавание последних двух наук в Киевской академии было введено, как мы видели, еще за пять лет до настоящего времени, тогда же было сделано представление от ректора и о выделении из общей системы богословия «введения в него». Что касается пастырского богословия, то, по взгляду Димитрия, оно должно быть тесно связано и составлять предмет одной кафедры с педагогикой, программа которой, как первой части кафедры, в свое время была также представлена им высшему начальству.
Увеличение числа кафедр требовало увеличение учебного времени или изменения всего «плана учения», как он изложен был в уставе. Решение этой задачи Комитету облегчал опять представленный Димитрием еще в 1843 г., а теперь утвержденный и принятый почти без изменений, новый план распределения учебных часов по урокам. «Не выступая из пределов общего количества учебного времени – шести часов в день, план этот разделил учебное время дня не на три, как было до того, а на четыре лекции, назначив для каждой не два, а полтора часа, с роздыхом в четверть часа между лекциями».130 А так как расширение произошло только в круге богословских наук, то, согласно с тем же планом, некоторые богословские науки отнесены к философскому отделению (младшему курсу), при чем факультетные прежде – науки математические и исторические, по желанию обер-прокурора, сделались обязательными для всех студентов.
Были и еще в Комитете рассуждения о реформах административных, – о возвышении положения лиц начальствующих в академиях и семинариях, о привилегиях ученого сословия и подобн.; но все эти рассуждения остались без последствий.131
Пребывание в столице, хотя и короткое, было, конечно, не бесполезно для самого Димитрия. Важно было для о. ректора совместные занятия с представителями других академий для уяснения общих требований и высших руководительных начал в воспитании духовного юношества; необходимо было ознакомление с течением дел вообще у их центра; полезно было даже внешнее обращение с людьми, стоявшими у кормила высшего управления; наконец, и самый Петербург был не совсем чужд для него: были здесь Киевляне – старые знакомые сослуживцы, был и самый близкий человек – родной брат, священник Исакиевского собора, в семье которого Киевский гость находил и радушный прием и указание полезных советов, даже касавшихся мелочей костюма, по требованиям столичного вкуса. При всем том, Димитрий как будто тяготился Петербургом и стремился в Киев. Причиною к тому была обычная мнительность, которую он так откровенно высказал в письме к Иннокентию из Петербурга. «Вызван я, пишет он, по определению Св. Синода «по делам службы». Главным побуждением было, конечно, желание графа (т. е. об.-пр-ра) и здешнего митрополита посмотреть и порассмотреть меня, и я послужил сначала выставкою, потом нашли занятия pro forma, привязали к существующему здесь Комитету о конспектах, который, существуя несколько лет, не произвел еще ничего. Теперь идут хлопоты об издании программы предметов учения для наших училищ, подобно тому, как издана в 1840 году для семинарий; заботятся также, чтобы устроить какой-нибудь единообразный порядок преподавания для академии, которого, по милости Божией, доселе не обреталось. Впрочем, обещаются не задержать...»132 Как только окончились занятия Комитета, Димитрий заявил обер-прокурору свою просьбу об увольнении его из столицы, указывая на некоторые особенные обстоятельства, которые требовали его присутствия в академии.133 От 29-го сентября 1845 года последовало в Киевскую академию отношение духовно-учебного управления со следующим извещением: «Св. Синод, имея в виду, что вызванный сюда по делам службы ректор К. Д. академии, архимандрит Димитрий, окончил ныне возложенные на него обязанности, определением 24–26 сент. разрешил ему отправиться обратно в Киев к месту его служения». Выехав из Петербурга в начале октября, Димитрий решил воспользоваться удобным случаем – побывать на родине и направил свой обратный путь через Рязань.
Четырнадцать лет прошло с того времени, как Климент Муретов оставил Лучинск, и теперь архимандрит Димитрий нашел большие перемены в положении родного гнезда. Цел еще был дом, в котором родился и вырос Климент; но не было уже в живых его родителя. О. диакон Иван Алексеевич умер 8 марта 1841 года, на 69 году от рождения. Замечательно, что смерть отца преосвященного Димитрия почти совпадала со временем определения его на должность ректора академии.134 Брат Димитрия, Матфий Иванович давно окончил Киевскую академию и состоял, как мы видели, на службе в Петербурге. Старшая сестра, Евдокия Ивановна еще при жизни отца (в 1837 г.) была выдана замуж за священника, поступившего на место родителя Натальи Семеновны, т. е. деда ее. Младшая – Анна Ивановна сделалась теперь хозяйкой в родительском доме, как жена нового лучинского о. диакона, который определен был преосвященным Гавриилом на место Ивана Алексеевича «с тем, чтобы вступил в брак с дочерью покойного».135. Но жива была мать Димитрия, которой он доставил неизъяснимую радость своим первым посещением родного дома. Свидание старушки с сыном архимандритом было трогательное: в короткий трехдневный срок мать и сын, казалось, не хотели оставить друг друга ни на одну минуту. С умилением слушала Наталья Семеновна длинную повесть своего первенца «о путях промысла Божия» в его собственной жизни в Киеве; с своей стороны Димитрий живо интересовался рассказами матери о пережитом в его далеком отсутствии и с особенною заботливостью расспрашивал о последних днях жизни своего родителя... Но, время было дорого! Родные, извещенные заранее, все собрались в Лучинске для свидания с высоким родственником (благо, время было осеннее, удобное для сельских жителей) и вполне были удовлетворены и любезностью дорогого гостя и посильною помощью нуждающимся. В глубоком смирении Димитрий вознес благодарение Господу Богу, совершив божественную литургию в том сельском храме, который воспитал его; оросил слезами дорогую для него могилу родителя, и затем... поспешил туда, где его давно ожидали, во вторую его родину – Киев. В половине Ноября он снова вступил в отправление обязанностей ректора и профессора, и временное отсутствие его в академии было почти незаметно. Все были рады возвращению ректора. Сам Димитрий тоже был очень доволен и даже не хотел, как видно, придавать значение своей поездке в Петербург.
V
Главная заслуга преосвященного Димитрия для Киевской академии, несомненно, состоит в его профессорстве: здесь – в его ученых трудах по преподаванию богословских наук лежит, так сказать, центр тяжести для незабвенной памяти о нем в старейшем духовном училище. Еще не настало, конечно, время для точного определения места, какое должен занять Димитрий в ряду отечественных богословов, – для полной оценки его значения в истории развития православной богословской науки. Но мы имеем уже непререкаемые свидетельства о его высоком таланте, обширной учености, замечательном усердии и любви к науке, о глубоком интересе его академических чтении, и, наконец, о благотворном влиянии их на слушателей. В свое время признавали и поощряли указанный достоинства профессора Димитрия и ближайшее начальство и высшая церковная власть; высоко ценили их современники, трудившиеся на том же поприще: громко прославляли своего профессора целые сонмы учеников его. Награждаемый знаками Монаршей милости и благоволения высшего начальства, ректор Димитрий три раза удостоивался получать благословение Св. Синода именно за труды по должности профессора: «за благоуспешное преподавание возложенного на него предмета учения (в 1839 году)», «за усердную деятельность и трудолюбие в исполнении возложенных на него обязанностей и особенное споспешествование к благопроцветанию Киевской академии (в 1841 г.)», «за отлично-основательны-богословские познания и особенное искусство преподавания богословия (1844 г.)». Не официальные, но не менее компетентные ценители, как напр. Ив. М. Скворцов и Як. К. Амфитеатров ставили Димитрия выше всех современных преподавателей богословских наук. Наконец, свидетельство такого авторитета, как московский митрополит Филарет, писавший в 1851 году архиепископу Смарагду, что «учение в Киевской академии приведено в законную силу: надлежит только поддерживать», – прямо относится к тому же архимандриту Димитрию – главному руководителю сего учения за последние пред тем десять лет.
Представитель Киевской академии, посланный в 1883 г. в Одессу «поклониться гробу умершего архиепископа Димитрия и воздать последнюю дань благодарной любви родной для него академии», в своем обращении к усопшему святителю говорил между прочим: «На ниве, нами возделываемой, ты провел более глубокую борозду, чем другие твои сотрудники, и колос, возросший на ней, возвышается над другими и превосходить другие своею полнотой... Ты стоишь перед нами, как исполин, на которого мы, позднейшие преемники твоих слушателей, смотрим не с почтением только, но и с удивлением». Что же вызывало такое глубокое почтение и удивление? – Те «мощные силы духа, которыми Димитрий долго и неустанно работал для академии; тот сильный дух веры и науки, который он насадил там, и который свято хранится и по днесь».136.
Димитрий непосредственно принял от Иннокентия профессорство и почти непосредственно, через два года, сделался ректором академии. «Он был истинным продолжателем богословской науки знаменитого учителя. Более определительное в теоретической стороне, чем у Иннокентия, богословствование профессора Димитрия отличалось еще более широким развитием исторического изучения догматов и канонов, начатого Иннокентием»137. Оставаясь верным учеником и последователем Иннокентия, Димитрий, как профессор, имел свои отличительные черты, – самостоятельно выработанный образ учительства, давший ему право на свою славу, равную славе его учителя. Сравнивая ученика и учителя современники дают свои преимущества тому и другому. «Дарования Димитрия не имели того блеска и оригинальности, какими отличался Иннокентий; но они имели ту твердость, основательность и глубину мысли и чувства, каких не имел знаменитый вития. Блеск дарований и смелость воззрений Иннокентий подавал иногда повод к недоразумениям, лекции Димитрия никогда не возбуждали недоразумений и толков. Ни преосвященный Иннокентий, ни преосвященный Димитрий не издавали своих лекций, а студенты записывали за ними во время произношения их. Но только лекции Димитрия положили прочное начало установке и разработке богословской науки»138. Если, однако, не осталось подлинных лекций Димитрия, по которым бы можно было судить о высоте профессора; то для нас вдвойне дороги те короткие сведения, которые передают в своих воспоминаниях, и за восторженными выражениями глубокого чувства благодарности и удивления учеников, с достаточною ясностью видна полная характеристика богословствования их учителя: его строго-определенное направление, высокие внутренние достоинства его лекций, метод изложения их, задачи, который он ставил в своей науке, и средства к выполнению этих задач, и наконец результаты его чтений – постоянное внимание слушателей, широкое обладание истиною, воспитание и направление их богословской мысли.
Что касается содержания курсов Димитрия и той системы, которой он держался в распределении догматического материала в своих лекциях, – об этом отчасти можно судить по его профессорским программам, представляемым в конференции в конце каждого курса.139 Но программы обыкновенно ограничивающиеся перечнем главных предметов науки, не дают еще возможности заключать о реальном, так сказать, содержании того или другого трактата науки, того или другого вопроса, как предмета отдельной лекции. Кроме того, если и предположить, что Димитрий постоянно держался одного общего плана в своих чтениях, то нельзя, конечно, сказать, чтобы он всегда одинаково, в одном и том же объеме, в одной форме излагал свои лекции по разным частям науки. Есть, напр., указания на совершенно различные начала в его курсах: Так один курс (ХII-й) он начинает обзором тех знаний, касавшихся религии, которые получили его слушатели еще на младшем курсе, из уроков философии, посвящает три лекции обобщению религиозно-философских воззрений, и затем уже переходит к положительному богословию; в другой раз (ХV-му курсу) он прямо начинает определением догмата и возможности догматики, как науки. Точно так же, первые свои курсы он заканчивал общею каноникою, употребляя на этот предмет до 15-ти лекций; в позднейших же курсах канонике посвящал не больше 4-х лекций. В одно время он излагал полную историю науки богословия, в другое – ограничивался образом главнейших систем православно-догматического учения. Вообще же нужно сказать, что по своему объему богословские курсы Димитрия были весьма обширны, на что указывает самое количество времени, употребляемого им на преподавание. «Расширяя область своей богословской науки, говорится о Димитрии в исторической записке академии, ректор-профессор, чтобы вместить ее в пределы курса учебного, брал на себя по шести полуторачасовых (а до 1845 г. двухчасовых) лекций в неделю, давая пример неохлаждавшейся до последнего дня его ректорства преданности своему делу».140 О неутомимой профессорской деятельности о. ректора, – о его обширных и много содержательных лекциях, с своеобразною похвалою отзывается известный ученик, и потом сослуживец Димитрия, В. И. Аскоченский, вообще резко отзывавшиеся о большинстве своих сослуживцев. «Ректор наш Димитрий, говорит в своем дневнике» В. И., знает только свое дело – говорит без умолку битых 11/2 часа, изумляет всех разнообразием своих сведений, необъятностью своей памяти, энциклопедическим знанием всего, что входит в среду Богословия, и, кончая свою необъятную лекцию, выходит сам со своими слушателями утомленным, измученным».141
«Задача чтений профессора Димитрия, по словам учеников, была – изложить раскрытие догматических истин до окончательно определенного формулирования их в учении церкви и, следовательно, окончательно возможного уяснения их в сознании и приближении к вере церкви, в связи с развитием церковной жизни.»142 Наилучшим средством к выполнению такой задачи служил избранный им исторический метод исследования. Полагая в основу догматического учения богооткровенную истину слова Божия, профессор излагал пред слушателями историю догмата в области церковного предания, – в тех вероучениях и вероопределениях, какие от времени до времени делались церковью и ее свв. отцами и учителями, с целью приблизить откровенную истину к человеческому сознанию и оградить ее от неправильного понимания испытующею человеческою мыслию. «Почему догмат в его устах является не сухою, отвлеченною истиною, а жизненною силою церкви, постоянно ей присущею, животворящею и укрепляющею ее, воспитывающею ее членов в мужей совершенных, – до меры, указанной самим Христом, – истиною победоносною выдержавшею самую упорную борьбу со всеми враждебными ей ухищрениями лжеименного разума, – тою истиною, которая составляет неодолимую силу церкви и до самых сил адовых.143
Исторический метод необходимо предполагал широту чтений и даже возможность уклонений в область истории; но этот только метод, с одной стороны, представлял профессору возможность полного и определенного изложения предмета, а с другой – лучше иных методов – способствовал к возбуждению и поддержанию внимания у слушателей и сравнительно легкому усвоению преподаваемого. «Широта чтений ректора Димитрия не была обременительна для слушателей. Опытный, вполне овладевший своим предметом, глубоко ученый профессор умел в своих чтениях всему давать свое место; главный же предмет всегда был на виду, всегда занимал свое центральное положение. От того чтения его были всегда ясны и определенны».144 «Димитрий, часто только затрагивал вопрос, но, как невходящий в последовательную цепь его мысли, оставлял его на рассуждение слушателей. Но в общем чтения его представляли необыкновенно строгую систему; даже, если судить о них по оставшимся студенческим запискам, которые, быть может, и невидали редакторской руки автора, то нельзя не поражаться их логическою последовательностью: весь курс Димитрия представляет одну неразрывную цепь силлогизмов»145
Но кроме широты богословского ведения и всесторонней учености, кроме опытности и умения овладеть слушателями, ученики Димитрия не могли не видеть высоких внутренних достоинств его чтений, – глубокой убежденности в истине преподаваемого учения, его смиренной веры и всецелой преданности высшему водительству святой Православной церкви. Тайна живого интереса к его лекциям заключалась в высоком доверии слушателей к профессору, речь которого всегда была проникнута и горячею любовью к науке и стойким убеждением глубоко верующего богослова. «С любовью и благоговением вводил профессор своих слушателей в новый, казалось, дотоле неведомый им, мир боговедения и человековедения; за то и студенты благоговели перед его лекциями»146. «Чтения о. ректора были строго православны. Глубокое его убеждение в святости и непререкаемости истин, им раскрываемых, высказывалась во всем. И это убеждение не было только убеждением ума, наукою выработанным, но и убеждением верующего сердца. А потому, обращение с предметом своей науки было у него опасливое и весьма благоговейное. Главные руководители его были отцы православного Востока и вселенской церкви. Он был убежден, что существенная цель его профессорского служения – раскрытие православной истины, как изложена она в слове Божием и как понимает ее святая церковь, и образование твердого и непоколебимого убеждения в своих слушателях, – что так, а не иначе должна быть понимаема и исповедуема эта истина»147. Нельзя думать, что бы он не был знаком с современным рационалистическим направлением в западно-европейском богословии; но, входя нередко в обширный и подробный обзор ересей и лжеучений из истории церкви вселенской, нераздельной: он никогда почти не касался современных философско-богословских заблуждений. Объясняют это опять поставленной целью. «Укореняя в своих слушателях благоговейное убеждение в непогрешимом уразумении истины св. церковью, он прежде всего желал образовать православных богословов и дать своим ученикам крепкую охрану против всех суемудрий. Знакомить молодых студентов с произведениями отрицательной критики, с учениями об истинах веры заграничного рационализма, прежде утверждения их в православном понимании вероучения христианского, он считал преждевременным и опасным.148
Кому неизвестно – как бывает важно и как много значит для профессора внешняя сторона его дела? И в этом отношении Димитрий обладал самым счастливым сочетанием наилучших качеств. Его язык, выработанный и гибкий, ясно и точно выражавший его мысли и чувства всегда у него был послушным орудием, как на кафедре академической, так и церковной, – как в устной речи, так и на письме.149 Академические лекции он всегда говорил без тетрадей и книг: «на его кафедре никогда, никто не видал записок; иногда он приносил в аудиторию лист исписанной бумаги (может быть конспект лекции), но никогда в него не заглядывал». Правда, речь профессора, как экспромт, не блистала изысканностью и внешнею красотою; напротив, как говорят, у него замечались иногда прямые дефекты насчет стройности, особенно когда уклонялся в сторону от главного предмета речи. При всем том его речь была необыкновенно живая, увлекающая. «Она была проста, ясна и в то же время изящна, обстоятельна и чрезвычайно убедительна150. Самая дикция профессора располагала слушателей в его пользу. Он обладал редким органом речи: тембр его певучего баритона, мягкая и плавная интонация как нельзя более гармонировали и с предметом лекций и с настроением самого лектора. Наконец, нельзя оставить без внимания самого внешнего вида профессора; а если правду сказать, то наружность ректора Димитрия играла большую роль в том обаянии, под которым постоянно находились студенты его времени. Все воспоминания студентов 40-х годов Киевской академии – и письменные и устные – обыкновенно начинаются тем впечатлением, какое производил на них о. ректор, при первом их знакомстве с ними на приемных экзаменах. И действительно, кто видел Димитрия хоть раз в жизни, у того навсегда оставался в памяти его образ: так внушительна была его величественная фигура. Необыкновенно высокий рост, с соответственным ·сложением; крупные и приятные черты лица, окаймленного густою и длинною бородою, выразительные глаза, полные ума и сердечной доброты; всегда спокойное выражение лица и скромные манеры, – все это невольно обращало на себя внимание и заранее располагало людей, входивших с ним в какие-либо сношения. В нем поистине была полная гармония высоких качеств духа с крепостью и красотою телесною.151 Студенты любили изучать приемы своего ректора везде – и в церкви, и в аудитории, и в случайных встречах. «Мы любили наблюдать, говорит один из них в своих воспоминаниях, как о. ректор почти со звонком выходил из своей квартиры и медленным шагом двигался по аллее, по направлению к нашему корпусу. Входил он в аудиторию и немедленно, после молитвы начинал лекцию; иногда, для начала и возбуждения внимания, он предлагал одному из студентов вопрос, который служил исходным пунктом для его беседы. Редко восходил он на кафедру и садился; больше говорил ходя, никогда не снимая клобука и, по привычке, держась левою рукою за конец наперсного креста». В таком виде он изображен был на литогравированном портрете, изданном, по желанию студентов, в 1846-м году152.
Знакомые с догматическим учением по курсам семинарским, слушатели Димитрия глубоко были заинтересованы новизной, как им казалось, знакомого предмета. Не редко и по окончании лекции, студенты собирались группами и долго обсуждали слышанную лекцию, с целью восстановления подробностей и возможно полного усвоения слышанного. И это со стороны студентов не было простым любопытством или временным увлечением внешнею стороною лекции; нет, по всему заметно было, что они желали и стремились не только воспринять полноту знания от своего учителя, но и проникнуться тем духом боговедения, который они ясно усматривали в его учении. «Пред лекциями Димитрия благоговели его ученики». «Мы слушали его чтения, говорит один из них153, с разверстым умом и сердцем; проникались глубоким убеждением в истинности нашей святой веры и сознанием готовности, или, по крайней мере, возможности дать ответ вопрошающим словеси упования нашего. Мы чувствовали себя объятыми со всех сторон возвышенностью, широтою и глубиною богословских знаний нашего профессора: мы учились у него и научились богословскому мышлению». Таковы были ближайшие результаты богословских лекций Димитрия; таковы добрые плоды неутомимых трудов этого талантливого и непостыдного делателя на ниве богословской науки. Его учеников, на всех поприщах их деятельности – на богословских ли кафедрах в академиях, университетах и других училищах, в церковной ли проповеди или в литературных трудах, – всегда можно было узнавать по особому складу богословской мысли и по особенным качествами речи, в которой видны основательное знание и широкое пользование словом Божиим, благоговейное, опасливое отношение к истинам веры. Влияние это не ограничивалось только учениками Димитрия. Ученики учеников его, помнившие ту особенно – искреннюю любовь и благоговейное почтение, с которым учители их произносили имя Димитрия, дорожили преданием и с любовью слушали то учение, которое преемственно передавалось им от великого учителя.
Мало того, имя Киевского ректора в свое время было популярно и в других академиях, как в профессорских корпорациях, так и между студентами. Один студент Московской академии, Владимирский уроженец, в письме к земляку – студенту Киевскому (1848 г.) восхваляет своих профессоров, но в то же время отдает справедливое предпочтение Киевскому профессору Богословия: «Радуюсь твоему счастью и радости, которыми полно твое сердце от лекций вашего почтеннейшего о. ректора. Ваша академия отличается учеными ректорами: недавно она имела своим светильником Иннокентия, теперь имеет Димитрия»154.
«Слава Димитрия, как профессора, упрочена за ним в Киевской академии навсегда. – Уже совсем поредели ряды твоих питомцев, – говорил профессор академии при гробе пр. Димитрия, но до сих пор цела, свежа и неуведаема в академии слава и благодарная память о тебе, и имя твое и ныне, как прежде, окружено в ней благословениями. Целые сонмы преемственных поколений воспитал ты в ней для достойного служения церкви, и каждый из твоих питомцев, оставляя место своего воспитания, уносил с собою в сердце благоговение пред твоим великим умом, пред твоей обширною ученостью, пред твоею твердою верою, пред твоею несказанною добротой... Давно ты оставил нас, но сильный дух веры и науки, тобою насажденной, свято хранится у нас, как дорогое твое наследие, и мы не перестаем пользоваться плодами твоих трудов и твоего великого ума... В наших летописях, твое имя всегда пребудет священно и славно наравне с именем твоего предшественника, великого Иннокентия»155.
VI
Шестнадцать лет профессорства! Шестнадцать лет неутомимого труда, посвященного разработке науки по новому методу, – и при этом, почти ежедневное приготовление двухчасовых лекций! При таких трудах профессора, какое огромное количество книг должно быть им прочитано и усвоено, и какая масса бумаги должна быть исписана! И что же? – До сих пор не найдено ни одного листа, ни одной страницы из собственноручных лекций Димитрия. Известно, что он никогда не сдавал студентам своих записок. Почти в каждом курсе находилось не мало усердных слушателей, которые записывали, как могли, устную речь профессора в аудитории. Из записей составлялись впоследствии «сборники»156; но эти сборники не могли, разумеется, давать полного понятия о живых, увлекательных лекциях профессора: они не отличались, притом, ни полнотой, ни цельностью системы, так как записывались не стенографически и составлялись не в одно время. Говорят, что при окончании каждого курса, для публичного экзамена ректор Димитрий выдавал собственного изложения какой-нибудь трактат из богословия; но никто из учеников его доселе не указал, где найти подлинники или списки этих трактатов. Для приготовления же к частным экзаменам, Димитрий обыкновенно спрашивал у самих студентов, нет ли у кого путных записок, и если находились, брал их к себе, исправлял, дополнял и возвращал к надлежащему руководству; иногда же, он просто указывал, для этой цели, на готовые записки других авторов, как, напр., архим. Антония.
Кроме коротких статей, большею частью в простом, популярном изложении помещавшихся в «Воскр. Чтении», Димитрий во все время профессорства и ректорства, как и впоследствии, ничего не писал для печати (если не считать его многочисленных проповедей). Литература не была его уделом. В то время, как многие из наших иерархов, пользовавшихся заслуженною ученою славою, на профессорской академической кафедре полагали только начало своим учено-литературным трудам, а потом, во время епископского служения, разрабатывали начатое, умножали и усовершали свои труды (Макарий, Филарет Гумилевский, Никанор и другие), Димитрий, переступив академический порог, можно сказать, сжег за собою корабли: он не только никогда не возвращался к ученым занятиям, но и, вопреки своему обещанию, уже ничего не писал для возлюбленного своего детища – «Воскресного Чтения». Почему такой талантливый профессор и глубоко ученый богослов не выступал с научными трудами в духовной литературе? Вопрос этот ставили многие и при жизни, и особенно по смерти преосвящен. Димитрия. Но, знавшие покойного святителя близко, знали, или, по крайней мере, достоверно объясняли и те причины, по которым он настойчиво отказывался от ученого авторства. Прежде всего, и не без основания, находить эти причины в особенностях его личного характера. Димитрий был необычайно скромен: искреннее иноческое смирение удерживало его не только от общественной славы, но и от простой известности. Его скромность, притом, близко граничила с застенчивостью и робостью, особенно в Киевский период жизни. Нужно было, наприм., настоять митрополиту Филарету, чтобы Димитрий решился напечатать отдельным изданием свои проповеди. При таком характере, быть может не остался без влияния и пример его учителя Иннокентия, печатное слово которого нередко подвергалось строгому осуждению высоких авторитетов. С другой стороны, самое профессорство, как его понимал и проходил ректор Димитрий, не могло способствовать успехам литературных занятий. Ежедневное приготовление лекций, при других многосложных обязанностях, не оставляло и времени для подробного записывания и литературного изложения их. Между тем, испытанная, феноменальная память Димитрия всегда давала возможность полагаться на нее: все прочитанное, усвоенное и обдуманное легко укладывалось в этой памяти и воспроизводилось потом с отчетливого полнотой. «Нужно было удивляться, как он на память, и всегда точно, приводил не только множество текстов священ. писания, но и целые трактаты из отеческих, творений»157. Наконец, преподавание богословских наук, больше чем другие обязанности, Димитрий понимал как иноческое послушание, которое налагало на него прямую обязанность научить вверенных его руководству студентов, насадить в их умах истины богословского знания и укоренить в сердцах твердую, непоколебимую веру. Так понимали своего учителя и ученики его (как мы видели); так надеялся сам учитель, слагая все богатство знания в аудитории, – в уверенном довольстве тем, что из его слушателей выйдут твердые православные богословы. Литературные труды, предназначаемые для читателей, поэтому казались ему не совместимыми с прямыми его обязанностями по отношению к слушателям.
Выдающейся профессорский талант и основательный богословские познания Димитрия подавали в свое время повод высказывать надежду и желание – видеть в печати его «богословие»; при появлении же подобных трудов его учеников выражалась даже сожаление, что «юнейшие» восхищают ученую славу своего учителя. Не так смотрел на это сам Димитрий. Никогда ни в речах, ни в письмах его, не высказывалось и тени его личной зависти или ревности к учено-литературным трудам учеников. Напротив, он всегда радовался и искренно выражал свою радость158, когда ему приходилось читать или только слышать о появлении новых трудов Киевских ученых мужей: так он дорожил славою и процветанием наук в родной академии. Легендарные сказания о нескромных, приписываемых Димитрию, отзывах об ученых трудах его учеников, не имеют никакого фактического основания. К возникновению подобных легенд и различных толков послужили, главным образом, два случая: печатание «Догматики» архимандрита Антония и выход в свет многотомного «догматического богословия» преосвященного Макария. Оба эти случая в ходячей молве тесно связывались с именем Димитрия; а потому, в биографии его они, без сомнения должны быть раскрыты в надлежащем свете, чтобы установить их истинное значение в жизни покойного преосвященного.
Архимандрит Антоний (Амфитеатров), родной племянник Киевского митрополита Филарета, первый магистр IХ-го курса Киевской академии, был учеником Димитрия, потом его помощником – бакалавром и впоследствии – его непосредственным преемником по должности ректора академии. Состоя десять лет (с 1841 г. инспектор и с 1845 по 1851 ректор) профессором богословских наук в Киевской семинарии, он скоро начал составлять и выдавать ученикам свои записки по догматическому богословию. По мысли и настоянию митроп. Филарета эти записки получили форму полной системы догматики, которая, после исправления и пополнения под «непосредственным руководством» самого Владыки и после шестилетней проверки преподавательским опытом, приготовлена была к изданию. На сколько справедливы были ходившие в то время «толки и слухи» о зависимости трудов архим. Антония от лекций ректора академии Димитрия – судить трудно по неимению подлинных лекций последнего. Но несомненно, что ученик в своих ученых работах не мог вполне отрешиться от влияния талантливого учителя. Биограф же преосв. Антония положительно утверждает даже, что «о лекциях архимандрита Димитрия пр. Антоний сохранил неизменно самое высокое понятие и по содержанию и по направленно, и пользовался ими при составлении Догматического Богословия, так как и слушал их в свое время с особенным вниманием и составлял записки по ним с такою же тщательностью»159. В 1847 году архим. Антоний представил свою систему в конференцию Киевской академии на цензуру, со скромною просьбою «разрешить к напечатаннию». Конференция в свою очередь поручила рассмотреть рукопись о. ректору, по его специальности. Представленный труд давно известен был Димитрию, как и другим профессорам академии, и не по слухам только, а конфиденциально и в подлиннике160. Почему Димитрий не замедлил представить в конференцию вполне одобрительный отзыв, без всяких замечаний о каких-либо недостатках. Вместе с академическим отзывом м. Филарет представил «богословие» Антония в Св. Синод и ходатайствовал о введении, одобренного уже к печати, сочинения в качестве учебника в духовно-учебных заведениях. Однако Синод подверг Киевское одобрение проверке и передал рукопись на рассмотрение в С.-Петербургскую академию. Оттуда последовал отзыв161, хотя и одобрительный, но с указанием недостатков и несоответствий с утвержденными программами; почему, рукопись из Синода возвращена была автору к исправлению. Самое событие – возвращение сочинения в Киев с замечаниями Петербургского рецензента не особенно смущало первого рецензента – ректора Димитрия, тем более, что, по исправлении, сочинение вскоре же получило одобрение высшей церковной власти и к напечатанию и к обязательному употреблению в семинариях. Но не могли не смущать смиренного о. ректора Киевской академии возникшие по этому поводу толки и даже заботы о нем, – особенно с того времени, как архим. Антоний представлен был к удостоению степени «доктора богословия». Вот что писал тогда Иннокентий Ив. М. Скворцов: «у нас замышляют докторство писателю догматики. Почему бы и не так? Только, по моему мнению, нужно бы представить вместе и ректора Академии к тому же достоинству, а для сего потребовать от него (сам он не решится) какого-нибудь трактата богословского». Иннокентий, присутствовавший тогда в Синоде, сочувственно отнесся к мысли Скворцова и, вероятно, отвечал ему выражением содействия и побуждениями к достижению желанного, так как Скворцов в одном из следующих писем к Иннокентию возвращается к тому же предмету, и высказывается более определенно: «Об о. ректоре академии нашей скажу опять то же, что прежде писал, т.е. что если не потребуют от него свыше какой-нибудь статьи его пера, то сам он никогда не решится искать докторства. Из слов его видно даже, что он намерен по окончании настоящего курса (1849 г.) просить себе увольнения от академии. Он, кажется, обижен тем, что Петербург не уважил прежнего трактата его (по церковному праву), который он представил лет 5 или 6 тому назад»162.
Считал ли, на самом деле, Димитрий себя обиженным от неуважения к его каноническому трактату – неизвестно, да и сам Скворцов говорит только «кажется»; но история с этим трактатом во всяком случает имеет интерес в биографии Димитрия. – Дело в том, что по первоначальному уставу академии профессору богословских наук дозволялось избирать двух бакалавров, из которых один должен был быть прямым помощником профессора по преподаванию наук, а другому комиссия Дух. уч-щ давала особливые занятия. «Так как, говорится в одном её постановлении, нет еще доселе полного состава канонического права, то поручить способнейшему из бакалавров выбирать из историй и временных, как древних так и новейших церковно-политических постановлений, положения, касающиеся до хода важнейших духовных дел, и представить их в особом, кратком хронологичиски-систематическом сочинении»163. Иеромонах Димитрий, как младший в свое время бакалавр, которому потом было поручено преподавание общего канонического права, счел своею обязанностью заняться указанным делом, имея главным образом в виду составить полный академический курс церковного права. Беда его, быть может, была в том, что он приступил к этому труду с установившимся уже в Киевской академии, и особенно излюбленным самим автором, историческим методом. Прежде, чем излагать положительное, частное право, он, в интересах академической кафедры, счел нужным предпослать исторический обзор первоисточников канонического права православной церкви, что собственно и составило предмет написанного им трактата. Между тем, в «обозрении богословских наук, в отношении к преподаванию их в высших духовных училищах», составленном некогда ректором С.-Петербургской академии Филаретом и обязательным для всех академий, к науке канонического права предъявлялись несколько иные требования, рекомендовалась другая система. «Правильный состав канонического права, как системы – по мысли «Обозрения» – образовать могут следующие важнейшие члены: I – предварительные понятия о церкви, соборах и преданиях, II – церковное чиноначалие, III – церковное чиноположение, IV церковное домостроительство и V – церковное судопроизводство164 – По настоянию Киевского митрополита, Димитрий, действительно, представил, в 1839 г., свой трактат, вместе с программами по канонике и другим наукам, в Св. Синод. Случилось, что рассмотрение представленного трактата поручено было автору «Обозрения» – митрополиту московскому Филарету. Ни трактат ни программа каноники не были одобрены, как не отвечающие требованиям. Помимо того, Димитрий, принявший вскоре кафедру догматического богословия, не имел уже возможности продолжать начатый труд по канонике; но именно в силу неодобрения он прекратил даже печатание подробного конспекта своего трактата, на половину помещенного уже в «Воскресн. Чтении»165.
Случай с трактатом по канонике имел место, как видит читатель, еще во времена инспекторства Димитрия; а вспомнили его и, так сказать, присовокупили к делу только на восьмом году его ректорства. Все, однако, на этот раз кончилось благополучно. Архим. Антоний получил звание доктора богословия; а от архимандрита Димитрия не потребовали «свыше какой-либо статьи его пера», и он остался совершенно спокоен, так как никогда не желал искать высшей ученой степени. Улеглись и несправедливые толки о ревности учителя-магистра к ученику-доктору, как толки неосновательные: «догматическое богословие Антония», еще в записках, самим Димитрием рекомендовано было студентам академии, как руководство для приготовления к экзаменам, а с выходом в печати оно неизменно потом служило этой цели в академии. Оставались еще отклики, в виде косвенных укоров, которые Димитрий мог принять на свой счет. Так, в письмах к архим. Антонию, после выхода в свет его догматики, высказывалась благодарность «за снятие позора, какой несла доселе русская школа, не имевшая русского руководства по главнейшей науке, – за избавление учеников духовных школ от египетского плинфоделания», – и при этом выражалась радость, что автор «презрел оные толки и предрассудки, коими другие талантливые лица, по какому-то малодушию, удерживаются от составления и издания своих трудов»166. – Но личные, взаимные отношения Димитрия и Антония оставались навсегда добрые. Это отчасти выражалось в общем строе академической жизни при ректоре Антонии, непосредственном преемнике Димитрия, особенно же ясно обнаружилось впоследствии (в 60-х годах), когда, по поводу преобразования духовно-учебных заведений, оба иерарха высказывались гласно с замечательным согласием и единомыслием.
Еще настойчивее и продолжительнее держались слухи и толки по поводу отношений Димитрия к трудам другого его ученика – архимандрита Макария, который почти одновременно с Антонием выступил в печати с началом своего обширного «Богословия», и раньше последнего удостоен был степени доктора. Молва о том, что Макарий полною рукою заимствовал материалы для своих сочинений из академических лекций Димитрия, возникла при выходе в свет (1847 г.) его «Введения в Богословие», а затем, возобновлялась и повторялась при появлении каждого нового тома его «Догматического богословия». Заглохшая было на много лет, эта молва снова появилась и проникла в печать по смерти митрополита Макария; а со смертью преосвященного Димитрия стали печататься даже легендарные сказания о личных отзывах последнего о трудах первого167. Такие толки распространялись не в одном Киеве, как это было с догматикой Антония, но и везде где были ученики Димитрия и куда доходило «Богословие» Макария. А известно, что чем шире идет молва, тем она менее разборчива в выборе красок. Вот где источник легенды, в которой набрасывается некоторая тень на взаимные отношения двух великих иерархов. На самом деле ничего подобного не было, да и не могло быть. Теперь уже достаточно выяснено, что Догматика пр. Макария – совсем не то, что – догматические курсы, читанные Димитрием в Киевской академии. Но и в то время, когда труд преосвященного Макария только начал печататься, первый суждения о нем не давали повода к каким-либо сближениям. Во время каникул 1847 г. в Киеве был получен первый экземпляр «Введения в Богословие» архимандрита Макария. Студенты академии с живым интересом прочитывали новое сочинение. Сравнивая, из любопытства, некоторые трактаты из книги с такими же из записок Димитрия, выдаваемых к публичным экзаменам, они «находили полное превосходство в богословствовании своего любимого о. ректора»168. После смерти преосвященного Димитрия, составитель одесского некролога, хорошо знавший своего архипастыря и помнивший предания Киевской академии, прекрасно оценил отношения пр. Макария к Димитрию, как даровитого ученика к своему учителю богослову. «Довольно и самого беглого взгляда на труды преосв. Макария, чтобы видеть их самостоятельность. Он, конечно, обязан преосв. Димитрию, как ученик своему учителю. От учителя получил он твердость православных убеждений; от него узнал он более верный и основательный метод разработки; от него познакомился с некоторыми лучшими источниками и литературою предмета. Но нет сомнения, что в руках преосв. Макария, даровитого ученика преосв. Димитрия, богословская и церковно-историческая наука пошла далеко, и это нисколько не умаляет славы знаменитого учителя. О, если бы у знаменитых учителей был всегда хоть один знаменитый ученик, который с честью продолжал бы дело своего учителя! А справедливость требует воздать каждому свое169. В жизни, на службе, преосвященным Димитрию и Макарию не приходилось потом стоять близко друг к другу; тем не менее многим известны их добрые личные отношения. Димитрий отличал еще студента Михаила Булгакова, точно так же, как сам был отличаем в свое время Иннокентием. Еще бывши инспектором, он давал важные поручения студенту Булгакову. Заметив в одном номере (комнате) студентов непорядки и относя их к неисправности старшего, не имевшего надлежащей авторитетности в глазах подчиненных – товарищей, Димитрий поставил в этом номере старшим Булгакова, обратив его внимание на замеченные недостатки. Чрез несколько времени студент Булгаков в инспекторских донесениях аттестован был как «имеющий доброе влияние на товарищей, по обязанностям комнатного старшего170». По окончании курса, иеромонах Макарий, по желанию ректора Димитрия, оставлен был при академии бакалавром по кафедре гражданской и церковной Русской истории. Впоследствии преосв. Димитрий всегда одобрительно отзывался и о литературных трудах и об администрации епископа Макария: так, в свое время он высказывал в письмах полное свое удовольствие, что дело академической реформы (1869 года) находится в руках архиепископа Макария. С своей стороны преосвященный Макарий никогда не отделялся от других питомцев Киевской академии питавших глубокие чувства к своему о. ректору и хранивших благодарную о нем память: он так же высоко ставил своего учителя, как и все киевляне. В своих воспоминаниях об Иннокентии пр. Макарий ставит ему в заслугу «уменье отличать, воспитывать и образовать такие таланты, как Димитрий (Муретов)»171.
В 1887 году в церковно-археологическом Обществе при Киевской академии читан был интересный реферат, посвященный «памяти высокопреосвященных Димитрия (Муретова) и Макария (Булгакова)». Профессор Μ. Ф. Ястребов, имевший под руками профессорские программы Димитрия и сборники его лекций, составленные по записям слушателей, сличил их с «догматическим богословием» пр. Макария и пришел к следующему выводу: «все суждения и толки о каких бы то ни было заимствованиях, которые будто бы вошли в Догматику преосв. Макария из лекций преосв. Димитрия, не имеют ни малейшего основания. Набрасывая совершенно безвинно тяжелое нарекание на светлое ученое имя высокопр. Макария, суждении этого рода едва ли прибавляют славы и высокопр. Димитрию, потому что прав на славу ищут для него на стороне, как будто на эту славу нет у него прав собственных172.
Через семь лет после этого реферата, в Киевском академическом журнале появилась обширная биография митрополита Макария, автор которой, в виду близких отношений Макария к Димитрию, как ученика к учителю, счел нужным ввести в свой труд целое исследование о их взаимных учено-литературных отношениях. Для этой цели он входит в подробное сопоставление профессорских программ того и другого, и затем (в другом месте) – еще более подробное сличение печатных литературных трудов пр. Макария – его «Введения» и «Догматического Богословия» – с лекциями Димитрия, по записям его слушателей. Результатом такого исследования является заключение автора о полной самостоятельности первого и совершенной независимости от трудов, последнего; в частности, указывается различие в программном порядке предметов, в составе и объеме содержания различных частей в методе изложения и, наконец, во внешней форме. И хотя биограф пр. Макария признает сходство в его богословии с богословием Димитрия – «не только, в совпадении общих и главных пунктов программы, но и в частнейших подразделениях и нередко даже в самой внешней форме выражений», – признает, что «Макарий в первое время своей преподавательской деятельности в С.-Петербургской духовной академии имел под руками программу своего учителя Димитрия, и вероятно, выписывал (чрез своего, товарища, бакалавра Киев. академии С. Серафимова) лекции от слушателей Димитрия», – тем не менее он приходит к такому справедливому заключению: если Макарий и был зависим от своих учителей, то настолько, насколько он не мог не быть зависимым от преданий духовной школы вообще и от влияний предания Киевской академии – в частности»173.
Нельзя при этом не пожелать, чтобы Киевская академия позаботилась издать догматические чтения Димитрия, хотя только по записям его слушателей, хотя и не в полном виде этих записей, а под своею редакцией. Этим делом (если оно исполнимо) академия выразила бы наилучшим образом благодарность «одному из даровитейших и влиятельнейших своих наставников, любимейших и уважаемейших начальников»174.
Прошло, однако, время; изменились обстоятельства! И никто, пожалуй, столько не сожалел, как сам Димитрий, об утраченном для науки вкладе его академических ученых трудов. Такое сожаление, между прочим, высказано покойным преосвященным через двадцать лет после ректорства – в его речи на юбилее Киевской академии, когда он говорил, что пришел на праздник «с пустыми руками». Эта откровенная, полная глубокого чувства, речь настолько живо выражает характер бывшего ректора академии – его скромную оценку своих заслуг, его глубокий интерес к науке, его неохладевшую любовь и привязанность к академии, – что, по справедливости, должна занять здесь место полностью, как лучшее, веское слово, в дополнение ко всему сказанному о значении Димитрия для Киевской академии. На торжественном юбилейном собрании, 28-го сентября 1869 года, пред сонмом иерархов и многочисленными своими учениками, он, как бывший питомец и потом ректор академии, обратился к ней, в лице ее представителей, с таким приветствием:
«Преподобнейший о. ректор и все достопочтенейшие члены академического сословия! Примите братское, теплое, задушевное приветствие от старого сослуживца вашего в день светлого торжества родной нам академии.
«Двадцать лет провел я посреди мирной и дружной семьи вашей, под матерним крылом незабвенной матери нашей – академии, – это были самые счастливые, самые отрадные годы жизни. Глубоко запечатлели они в моем сердце самое приятное и утешительное, самое теплое и благодарное воспоминание – о мудрых, трудолюбивых и попечительных наставниках, о добрых, усердных и братолюбивых товарищах и сослуживцах, о достойных всякой похвалы и искренней любви воспитанниках. Вечная память тем из них, которые отошли от нас ко Господу! Сердечное благодарение тем, которых благодать Божия сохраняет еще живыми! Да упокоит Господь души усопших в селениях праведных; да пробавит богатые милости своя живущим; да воздаст всем по милости своей и по щедротам. своим!
Двадцать почти лет, как промысл Божий вывел меня из среды вашей на другое поприще; но мысль моя и сердце мое всегда с вами. С сердечным утешением взирал я издали, как возлюбленная матерь наша, при вашей дружной и усердной деятельности, возрастала постоянно в силе духовной, украшаясь, как многоценными перлами, прекрасными произведениями ваших талантов. С истинным наслаждением встречал я каждое произведение вашей богословствующей и философствующей мысли. С живейшею радостью видел в этих, полных жизни и силы, произведениях – как далеко подвинута вперед трудами вашими русская богословская наука, которая – в наше время – едва выпутывалась из оков чуждого языка, на котором дотоле излагалась она в школах, можно сказать – только начинала самостоятельную жизнь свою, шла робкими, опасливыми стопами по непроторенной еще дороге! Хвала и честь вам, усердные труженики науки! Да утешит Господь сердца ваши своею благодатью, как утешаете вы святую церковь Его своими многоценными трудами! Ныне – ваш, по преимуществу, светлый праздник!
Не могу умолчать пред вами, что не без тягостного смущения шел я на этот праздник богословской науки. Сознание того, что немаловременное служение мое в среде вашей не ознаменовалось явственно никаким, достойным того плодом, – что я прихожу к вам с пустыми руками, не имея что вложить от себя в богатую сокровищницу богословско-литературных трудов ваших; это горькое сознание и смущало и тяготило мое сердце. Но я надеялся и надеюсь, что ваша братская любовь и снисходительность позволят мне утешаться хоть тою мыслью, что в вашем полном, душистом соте
«И моего хоть капля меду есть».
И только в этой утешительной надежде дерзнул я приобщиться светлой радости торжества вашего. Буди благословена от Господа эта святая радость! Да будет она начатком той вечной радости, которую обещал Господь наш Иисус Христос всем труждающимся в духовном вертограде Его, и да послужит новым побуждением к расширению полезной и благотворной деятельности вашей.
«Отныне 250-тилетняя старица – мать наша вступает не только в новую эру лет, но и в новую эпоху жизни. Да благословит Господь венец новых лет многовековой ее жизни! До восходит она и вперед, как восходила доселе, от силы в силу и от славы в славу. А прежде и паче всего да пребудет над нею выну, как пребывал доселе; благодатный покров Пресвятые Владычицы нашей Богородицы. – Се моя усердная молитва не только до гроба, но и за гробом175.
Эта речь, произнесенная с заметным от полноты чувства волнением и с особенною задушевностью, произвела сильное впечатлите, и многочисленным слушателям – ученикам пр. Димитрия живо напомнила времена их студенчества, когда они восторгались богословскими лекциями своего о. ректора. «Вот что значит говорить от сердца, от души»! – со слезами на глазах говорил по поводу этой речи профессор И.; а почетный гость на академическом празднике, граф М. Толстой в своем описании торжества замечает, что «для изображения твердых уз, связывавших Киев. академию с ее бывшим ректором Димитрием, излишне было бы прибавлять что-нибудь к тому, что им самим было сказано в юбилейной речи»176.
Со своей стороны «академическое сословие» закрепило свою связь с преосв. Димитрием лучшим выражением ему благодарности – избранием его (в заседании совета академии 1-го октября 1869 года) в почетные члены академии «в уважение, как сказано в определении совета, к высокому просвещению и заслугам его для духовной науки и церкви православной».
По смерти преосвященного Димитрия, в печати больше всего появлялось воспоминании о нем, как ректоре и профессоре академии, – что само собою указывает на особенное значение в его жизни киевского периода. В этих воспоминаниях указывалось и место его в ряду других деятелей, с целью дать некоторое определение его значения для богословской науки. «Наука веры, – говорилось при его гробе, – освободившись от уз бесплодной и сухой схоластики в устах и под пером знаменитого Иннокентия, получила в наших школах живое и жизненное направление, основательную постановку и полную разработку, благодаря трудам и таланту почившего Димитрия, а завершено в письменном изложении одним из даровитейших учеников его, митрополитом московским Макарием»177. В другом воспоминании это положение Димитрия в ряду Киевских ученых обрисовано еще полнее и ярче178. «С Димитрием, – говорит автор статьи, – отошел в вечность последний представитель того блестящего триумвирата, который подарила русской церкви Киевская академия. Этот триумвират представляют: Иннокентий (Борисов), ученик его Димитрий (Муретов) и ученик Иннокентия и Димитрия Макарий (Булгаков)179. Таких резко очерченных типов церковно-христианской деятельности, какие представляют собою эти три Киевские мужа, не имела, можно сказать, ни одна из остальных наших академий. Иннокентий образовал новую школу богословов, питавшихся его идеями и разрабатывавших их в науке и жизни. Димитрий продолжал его дело; но к своим прекрасным академическим лекциям, не уступавших Иннокентиевским, он присоединил еще особенное нравственно-сердечное влияние на студентов, какого не имел сам Иннокентий. Иннокентия уважали, Иннокентию удивлялись: пред ним преклонялись. Димитрия любили; к Димитрию влеклись души особенными детскими симпатиями... Макарий, ученик Димитрия, раскрыл свои научные таланты состоя на службе в С.-Петербургской академии. Там господствовал в это время дух обрядового риторизма; но Макария удержало Киевское предание: его сохранила от духа, принижающего душу живу, любовь к научной истине, – та свобода богословского созерцания в пределах строгого православия, которую он вынес из Киевской академии – из уроков Иннокентия и Димитрия. В своей разработка богословия он шел по следам Димитрия».
Каждый из членов триумвирата, в котором Димитрий занимает центральное положение, имел свою отличительную славу; но все они составили неотъемлемую и прочную славу в Киевской духовной академии.
VII
Круг общественной деятельности архимандрита Димитрия вне академии был не обширен. Но была одна область, вызывавшая его на особые труды и заботы, которые так же отличали его от других и оставили добрую память о нем у киевлян, это – его настоятельство в Киево-братском монастыре. Более подробные данные для биографии Димитрия с этой стороны имели бы несомненный интерес; но по недостатку сведений, приходится ограничиться одним отзывом о нем, как о братском настоятеле, вошедшим в недавнюю историю монастыря. «Архимандрит Димитрий, – говорится в этой истории, – заявил себя широкою деятельностью на пользу управляемого им Братского монастыря, который, по его ходатайству, в 1842 году возведен был в штат первого класса, во внимание к положению настоятеля его, как ректора академии. Димитрий сделал три добавочных яруса в иконостасе большой церкви и на собственные средства устроил новый предел в ней, на хорах с правой стороны, во имя своего ангела – святителя Димитрия Ростовского. Ему же монастырь обязан и сооружением самого большего колокола, который висит на его колокольне. Вместе с тем он не упускал из виду и монастырского хозяйства и заботился о поддержании его. – Как начальник, он во всем был образцом для братии управляемого им монастыря. Он вставал рано и почти ежедневно приходил в церковь к утрени и выслушивал затем раннюю литургию. В праздничные и воскресные дни он всегда сам в сослужении с монашествующими, монастырскими и академическими, совершал литургию и своим неподдельным религиозным чувством, которое сказывалось в интонации его задушевного голоса и в мерных телодвижениях, невольно располагал к молитве и заставлял забывать продолжительность самой службы. Надобно было слышать, например, как он читал канон Андрея Критского, чтобы уразуметь всю силу, все достоинство сей покаянной песни-молитвы, этого вопля кающейся в своих грехах души, взывающей к Богу о помиловании. Представительная наружность Димитрия и в особенности благолепное богослужение, которое он совершал с архиерейскими принадлежностями, усвоенными архимандритам Братского монастыря, как первоклассного и ставропигиального, были причиною того, что киево-подоляне называли Димитрия не иначе, как братским архиереем и до настоящего времени сохраняют о нем самые светлые воспоминания»180.
После обзора официальной, так сказать, жизни Димитрия в Киеве, нельзя не сказать еще несколько слов о его домашнем быте за этот период времени, так как и ученики его в своих воспоминаниях не обходят молчанием этой стороны, справедливо указывая на такие особенности в ней, которые свойственны только характеру Димитрия. Отличительною чертою его жизни в Киеве, по общим, согласным отзывам, были замкнутость и уединенность. Общительный и словоохотливый студент Климент Муретов, после пострижения в инока, особенно же со времени определения бакалавром, почти нигде не виден, кроме аудитории и церкви. Объясняется это частью природными свойствами характера, частью же условиями жизни. Усиленные занятия иеромонаха Димитрия в первые годы профессорства не оставляли времени для приемов или посещения других. Потом уединенность обратилась в привычку; при чем новые обязанности по должности инспектора и, наконец, ректора не представляли, ни удобств, ни особенной потребности заводить знакомства и обращаться в обществе. «Наш о. ректор, – говорит его ученик, – не любил светского общества; изредка посещал он дома не многих из киевского градского духовенства»181. Но, разумеется, замкнутость о. ректора нельзя понимать в смысле монастырской заключенности: по самому положению, он должен был и посещать разных лиц и общества и у себя принимать гостей, хотя бы только в урочные дни академических праздников. Притом, дома он почти никогда не был один: в его квартире были постоянно жильцы-родственники. Через два года службы его, в академию поступил родной брат, Матфий Иванович, который хотя жил как казеннокоштный студент в общем корпусе, но ежедневно посещал старшего брата. В 40-х годах учился двоюродный брат Димитрия, Дмитрий Васильевич Ракитин182, который так же был очень близок к о. ректору. Кроме того, у ректора жили постоянно родственники и земляки, которые учились в Киевской семинарии.183 Услугами последних он, между прочим, пользовался для домашнего письмоводства, и особенно для писания проповедей и журнальных статей под диктовку.
«В обыденной жизни приснопамятный о. ректор был очень прост. В занимаемых им келлиях казенная обстановка никогда не поновлялась и не пополнялась. При посещении классной аудитории, мы всегда почти видели на нем одну и ту же рясу, черную атласную, несколько по его росту коротковатую и не весьма полную по объему тела; кафтан (подрясник) самой простой материи. Выездной его экипаж – поезженная казенная коляска и пара неказистых лошадей, в простой упряжи... Некоторое улучшение во внешней обстановке и некоторый даже комфорт в жизни о. ректора стал заметен по возвращении его из Петербурга в 1845 году184.
Живя таким образом, киевский о. ректор мог бы не только прослыть, но и на самом деле быть состоятельным и даже денежным человеком. Но кому не известно, что казна Димитрия была в печальном состоянии всегда, – начиная с первого дня получения им возмездия за труды и до последних дней его жизни? И в Киеве хорошо знали доброту и простоту Димитрия и пользовались ею многие и многие. Там началось, столь известное, его «нищелюбие». Квартира о. ректора – настоятеля монастыря была в таком удаленном уголке, что не всякий нищий мог пробраться туда; но нищелюбивый архимандрит сам ходил к нищим и отыскивал их. Ученик185 Димитрия рассказывает, что жил в их время при Андреевской церкви какой-то юродивый, который любил собирать нищих и кормить их. К нему-то Димитрий, еще бакалавр-иеромонах, нередко носил свои сбережения и передавал, как верному посреднику между ним и нищею братией. Как рано «нищелюбие» стало потребностью души Димитрия, указанием на это служит, между прочим, один из рассказов его родных. В 1842 году к нему в Киев приехали гости – старшая сестра и зять, лишившиеся в этом году всего имущества в страшном пожаре. Радушный хозяин, так любезно принимал гостей, что сам вызвался руководить их в обзоре киевских святынь и достопримечательностей. Обзор, конечно, начался с лавры. После поклонения святым угодникам печерским, выходя из пещер, он обратил особенное внимание родственников на толпы нищих, тянувшихся длинными вереницами, от великой церкви до дальних пещер. «Что же, говорят ему, здесь замечательного? Нищие то и у нас есть». – «Да, есть они и у вас; но такого собрания вы нигде не увидите больше. Вот где христолюбивая душа может найти себе великое утешение и широкое поле для доброго делания!».
Бывали у о. ректора и такие случаи, когда приходилось помогать людям не нищенскими подачками. Не редко он ссужал значительными суммами студентов, отправлявшихся на родину на каникулы, или оставшихся по окончании курса без назначения на места. Рассказывают, например, такой случай. Во время экзаменов приходит к ректору студент и в слезах объясняет ему свое горе: пишут ему с далекой родины, что отец умирает, что семья расстраивается, и зовут его домой; выписывать себе прогоны при таких обстоятельствах немыслимо, а внутренний голос побуждал бедного юношу ехать немедленно. Ректор успокаивает студента, увольняет его от экзаменов и советует немедленно ехать домой, но с тем, чтобы он напрасно не бросал прожитые в академии три года, а непременно возвращался оканчивать курс; для этого он находит и дает студенту безвозвратно прогоны до Калуги, – туда и обратно. – Всего больше, однако, сбережения Дмитрия направлялись на его родину. Ежегодно, к праздникам Рождества Христова и Пасхи, он отправлял срочными посылками рублей по 50-ти и больше отцу, пока тот был жив, а потом матери и сестрам; по заявленным же просьбам, – в них недостатка не бывало – и другим родственникам. Такие случаи, как выход в замужество сестер (в 1837 и 1841 гг.), или вышеупомянутый пожар, заставляли его не только очищать свою копилку, но и прихватывать сотню-другую на стороне. На беду еще, он не умел во время расплачиваться с должниками: с долгами он и уехал из Киева...
Шел уже десятый год ректорства Димитриева в Киевской академии. Несмотря на то, что Димитрий душою привязан был к Киеву, а с другой стороны все в академии и любили и уважали его, он почему-то начал высказывать желание уйти с занимаемого поста. Еще в 1849 г. Скворцов в письме к Иннокентию намекал на то, что о. ректор, по окончании текущего курса, намерен просить увольнение от должности. В январе же 1850 года сам Димитрий пишет тому же Иннокентию: «Всепокорнейше прошу внять с архипастырским снисхождением и моей, кажется, удобоисполнимой, просьбе. Здесь, в Киеве, я стал теперь и не нужен и излишен; возвращаться о. Антонию186 на прежнее место как-то уже странно, притом же это возвращение сопряжено с участью еще двух человек. Я просил бы покорнейше, в случае утверждения отца Григория Казанского (т. е. ректора Казанской академии) Вольским епископом, переместить меня в Казанскую академию. Или же не благоугодно ли будет Св. Синоду определить меня на место о. Поликарпа, хотя тамошняя жизнь, по словам о. Поликарпа, может сравняться с любою каторжною жизнью»187. Не знающий Димитрия, читая это письмо, может подумать, что с ним случилось что-то необычайное, от чего он «по ненужности и излишеству» готов просить места с каторжною жизнью. Дело же объясняется очень просто. По своему мнительному характеру, по природной боязливости и смирению, Димитрий не знал, куда посторониться от нового доктора богословия, давно, по его мнению, имевшего право занять его место. После долгих приготовлений, Димитрий осмелился даже объяснить так свое положение митрополиту Филарету; но старец не только не принял от ректора заготовленного прошения об увольнении, но и выразил ему по этому поводу свое неудовольствие строго заметив, что «монах не имеет права просить себе ни награды, ни наказания». – Только Иннокентий, отлично знавший характер своего ученика, решил «извести из темницы душу» Димитрия и указал на него Св. Синоду, как на достойного кандидата для занятия епископской кафедры. И тем охотнее Иннокентий оказал в данном случае покровительство Димитрию, что хорошо узнал в Петербурге и намеченного ему преемника, будущего ректора дорогой для них (Иннокентия и Димитрия) Киевской академии.
В начале декабря 1850 года освободилась епископская кафедра в Туле. Св. Синод постановил, для замещения вакансии, представить на Высочайшее усмотрение трех кандидатов: ректора Киевской академии, архимандрита Димитрия, ректора Казанской академии, архимандрита Григория и ректора Новгородской семинарии, архимандрита Антония188. 23-го декабря последовал именной Высочайший указ Св. Синоду о бытии епископом Тульским архимандриту Димитрию, о чем и послан был в Киев указ Св. Синода. 24 января 1851 г. в Синоде последовало назначение преемника Димитрия, как и ожидали все, архимандрита Антония; а 27-го числа студенты ΧV-го курса Киевской академии слушали последнюю лекцию своего любимого ректора Димитрия: предметом этой лекции было изложение учения о действиях благодати – покаянии, вере и добрых делах189.
При всей своей скромности Димитрий не мог отказать своим почитателям в выражении чувств, при проводах его из Киева. Проводы эти остались памятны для всех современников и свидетелей, не по какой-либо торжественности – они были очень скромны и просты, – а именно по той сердечности и теплоте чувств, которые наполняли и самого о. ректора, оставлявшего вторую родину, и провожавших его учеников и сослуживцев. В числе последних были учители самого Димитрия, и его сверстники, и – в большинстве уже его ученики: все они неподдельно высказывали глубокую благодарность доброму деятелю, так долго и с такою любовно, всеми своими мощными силами, потрудившемуся для блага и процветания академии. Студенты, с своей стороны, пожелали укрепить связь с оставлявшим их о. ректором лучшим вещественным напоминанием о них во время его молитв: они устроили большой серебряный крест на пьедестале для постановки в моленной комнате будущего преосвященного, и поднесли Димитрию, в день его отъезда, при благодарственной речи, которую от лица всех товарищей произнес студент старшего курса Федор Попов190.
Итак, двадцать лет лучшей поры жизни Димитрий провел в Киеве, в одних стенах дорогой для него академии. Благодарную память о воспитавшей его матери и крепкую нравственную связь с нею на всю жизнь пр. Димитрий сам, как мы видели, с глубокою искренностью выразил в речи на академическом юбилее. К ней можно прибавить только, в виде примечания, что преосвященный Димитрий никогда потом не пропускал удобного случая, дававшего ему возможность посетить дорогой Киев, – при переездах ли с одного места служения на другое, при Киевских торжествах, или при других каких обстоятельствах. Во все время своего архиерейского служения, Димитрий побывал в Киеве двенадцать раз. Последнее посещение им Киева было только за два месяца до смерти.
Глава 3. Тула
I
В четверг на второй неделе великого поста, 1-го марта 1851 года, в св. Синоде происходило наречение архимандрита Димитрия во епископа Тульского и Белевского; а в следующее воскресенье, 4 марта, совершена его хиротония в Казанском соборе. В хиротонии, вместе с первенствующим членом Синода, митрополитом Новгородским и С.-Петербургским Никонором, участвовали: член синода, архиепископ Казанский Григорий, который в бытность рязанским архиереем (1828–31 гг.) много раз экзаменовал ученика семинарии Климента Муретова и утвердил постановление правления о назначении его в академию; архиепископ Астраханский Евгений (Баженов, тульский уроженец); епископ Тамбовский Николай (магистр III курса Киев. академии); викарий С.-Петербургской епархии, епископ Христофор, и, наконец, знаменитый ученик Димитрия, только что посвященный (28 января) в епископа Винницкого, ректор С.-Петербургской академии Макарий.
В своей речи св. Синоду нареченный епископ выразил глубокое смирение и благоговейное послушание пред неисповедимыми судьбами промысла Божия о нем, высказав при этом, что и новое, святительское служение будет продолжением его прежнего послушания. «Призванный Господом Иисусом Христом от утробы матерней на служение святой Церкви Его, ущедренный многими дарами Его, видевши над собой многочисленные опыты всеблагого промышления Его, как могу я уклониться от служения Церкви Христовой, небречь о призвании Божием и явиться неблагодарным?.. Во всецелой преданности святой Церкви Христовой чаю наследовании нескончаемое блаженство и по смерти моей в славном царствии Христовом: от ее матерних сосцов воспитан я с колыбели в благочестии христианском и в ее матерних объятиях желаю предать дух мой в руце Господу Иисусу. В послушании начал и продолжал я, в послушании желаю и окончить все служебное и жизненное поприще, которое дает мне пройти Господь и Владыка живота моего»191 – Впоследствии преосв. Димитрий имел случай высказать свой взгляд и на обязанности епископа, – взгляд, который несомненно он имел и в первый день епископства. Вручая святительский жезл рукоположенному их в Одессе преосвященному Далмату, он давал такие наставления новому епископу: «Отныне ты должен внимать не только себе, но и учению людей Божиих, проповедуя слово Божие, по выражению св. Павла, и благовременне и безвременне: сие бо творя и сам спасешися и послушающие тебя. Для проповедания Евангелия своего всему миру избрал и послал Господь свв. Апостолов; для научения и утверждения верующих в вере и жизни христианской свв. Апостолы избрали и поставили пастырей Церкви, как преемников и продолжателей их служения; для того же поставлены и мы, и – горе нам аще не благовествуем, если, то есть, христианские души, жаждующие слова истины и спасения, мы будем оставлять без небесной пищи слова Божия. Возгревай живущий в тебе дар Божий: во-первых, усердным и благоговейным совершением богослужений церковных; во-вторых, усердным служением ближним, – всем, чем можешь, – и добрым советом, и назидательным наставлением, и духовным утешением и вещественною помощью».192 Итак, усердная и благоговейная молитва, неустанное проповедание Слова Божия и широкая христианская благотворительность – вот программа, которой владыка Димитрий следовал во все долголетнее епископское служение, и с которою теперь он стремился к первой богодарованной ему Тульской пастве, в полной уверенности, что «вся прочая устроит Сам Господь».
Предместником Димитрия по Тульской кафедре был преосвященный Дамаскин (Россов), прослуживший здесь на одном месте тридцать лет (с 1821 по 1851 г.) Определением св. Синода, Высочайше утвержденным 19 декабря 1850 года, преосв. Дамаскин переведен был в Олонецкую епархию, с возведением в сан архиепископа; но по старости и болезненному состоянию отказался от новой кафедры и, по прошению, уволен был (7 февр. 1851 г.) от службы, с управлением Жабынским-Белевским монастырем. Проживши столько лет под одним, спокойным и ровным управлением, Тульская епархия поручила себя к постоянству и жизнь ее во всех отношениях шла ровно и спокойно, без всяких треволнений. Для преосв. Димитрия, кроме обретенного мира, дорого было и то, что порученная его управлению епархия граничила с родною Рязанскою, населена теми же коренными великороссами, живет совершенно при одинаковых условиях – одними нравами и обычаями, в которых он сам некогда воспитан и вырос, и от которых, однако, значительно отвык, живя двадцать лет на юге.
Приезд его в Тулу и вступление на кафедру совпадали с великим праздником Входа Господня во Иерусалим, приходившимся в том году 1 апреля; «Много знаменательным почиталось в Туле торжество этого дня – торжество вселенское и местное: с любовью встретила паства нового Архипастыря, ибо слух о его высоко-христианском смирении и доброте предшествовали его прибытию».193 Прибыв утром прямо в кафедральный собор, преосвященный служил литургию, в конце коей имел радость приветствовать свою паству в лице многочисленных представителей ее из всех классов и званий. Мир благовествовал он на первый раз своей благодарованной пастве, избрав темою для проповеди заповедь И. Христа Апостолам: в он же аще дом входите и приемлют вас, глаголете: мир дому сему. «Мир и благословение Божие призывал он на всех благочестивых чад Церкви Тульской, кои подвигами веры и любви стяжевают надежду наследия в царствии Божием». Объясняя силу и значение призываемого на пасомых мира, он говорил им: «не подумайте, возлюбленные, чтобы наши желания были подобны тем благожеланиям человеческим, которые остаются только в словах и бессильны на деле. Нет, Господь Иисус Христос, заповедавший нам благовестие мира, даровал нам власть и средства низводить сей мир во глубину душ и сердец человеческих».194 И действительно, эта благодарованная власть, можно сказать, коснулась сердец чад церкви Тульской в первый же день их общей молитвы со своим архипастырем. Сердечная и красноречивая проповедь, умилительное, сильно действующее на душу богослужение, и самый внешний вид преосв. Димитрия до того глубоко подействовали на всех, что никто из бывших в сборе и кремле не хотел уйти не приняв благословение у нового Владыки; а когда, после продолжительного благословения народа, преосвященный уже садился в экипаж, один простой мещанин вручил ему пальмовую ветвь, которую сам когда-то принес от святых мест Палестины и много лет носил с собою на богослужение в неделю Ваий.
В первый же день представлялось новому архиерею городское духовенство. Димитрий был приятно поражен образованным представительством той среды, из которой будут ближайшие помощники ему по управлению епархией. Из числа городских протоиереев и священников более десяти были с высшим, академическим образованием; половина их состояли в то же время профессорами семинарий, во главе которой стоял ректор – ученик Димитрия, архимандрит Никандр195. Со своей стороны, к удовольствию собравшегося духовенства, Владыка высказал, что, хотя доселе он и не знал еще Тульской епархии, но давно знаком с нею по тем хорошим воспитанникам, которых Тульская семинария присылала в Киевскую академию: последний при Димитрии выпуск (XIV) в академии оглавлялся даже двумя даровитыми студентами – питомцами Тульской семинарий196.
Тихо и «благостно» вошел в управление Тульской епархией шестой ее архипастырь Димитрий. Не в его духе и характере было разбирать дела и деятелей, предшествовавших ему, с целью критической оценки их, – «для надлежащего исправления и очищения», – как это делают многие, вступающие во власть. Напротив, он всегда и везде сам старался вводить себя в тот порядок и строй, который он находил в том или другом месте. Виден и поучителен он являлся только там, где призывал его прямой долг к прямому, обязательному делу, и прежде всего в храмах, – в богослужении и не ленностном проповедании слова Божия.
Первыми днями его пребывания в Туле были дни страстной седмицы и св. Пасхи, которые обязывали его к ежедневной, общей с пасомыми, молитв в торжественных богослужениях этих дней. Затем, во все время управления Тульскою епархией он служил так часто, что число дней в году, в которые он совершал литургию могло равняться со служебными днями не только сельского, но и городского священника. И это – при других, сложных занятиях по делам епархиального управления! И в большинстве случаев общественного богослужения он считал себя обязанным приготовить и произнести проповедь. Как часто преосвященный Димитрий проповедовал, на это указывает свидетель его святительства в Туле, который прямо говорит, что «Владыка редко уступал проповедническую кафедру, и то только известным и почтенным лицам из городского духовенства»197. Служил он почти каждый воскресный день, во все великие церковные праздники, в высокоторжественные царские дни и в храмовые праздники духовно учебных заведений. В некоторые из высокоторжественных дней службы приурочены были к известным церквам: так, в дни рождения, тезоименитства и восшествия на престол Государя Императора Николая Павловича преосвященный служил всегда в Николо-Часовенской церкви198; а в день тезоименитства Государыни Императрицы (23 апр.) в церкви «Александринского дома призрения вдов и сирот»199. Нередко преосвященного Димитрия приглашали служить в городские приходские церкви по случаю храмовых праздников, и он никогда не отказывался. Многие из этих праздников дороги были горожанам по установившимся исстари крестным ходам, и Владыка всегда сам сопровождал эти ходы из кафедрального собора. Такие крестные ходы были: в неделю всех святых на городское кладбище (около двух верст от собора); 9-го мая – в церковь Св. Николая, что на Ржавце; 7-го июня – в приходскую Казанскую церковь; 29-го июля – в Петропавловскую; 26 августа – во Владимирскую на Ржавце, и другие. – Кроме того, преосвященный служил часто и в будни, в своей крестовой церкви, не желая задерживать ставленников.
В этой именно деятельности преосвященного Димитрия, «в его неустанной общественной молитве и живой поучительной проповеди и лежит наибольшая доля той силы, которая крепила любовь к нему пасомых и привлекала многочисленных богомольцев на архиерейские богослужения. Она, между прочим, послужила побуждением и поводом увековечить его память в Туле одним важным для города делом – постройкой нового кафедрального теплого собора. Старый теплый собор, во имя преподобного Тихона Амафунтского, существовавший с 1778 года, был крайне тесен, так как помещался под колокольнею, в нижнем ее ярусе. С открытием в Туле архиерейской кафедры (1803 г.) было постоянное желание граждан построить новый собор; особенно это выразилось после 1812 г., когда был составлен и уже Высочайше утвержден план собора, но за неимением средств остался без исполнения. При преосв. Дамаскине, в 1848 году опять возбуждено было дело о постройке; но высшее начальство указало, вместо постройки нового собора, обратить холодный в теплый, по примеру Московских – Успенского и Архангельского. Граждане не решились нарушить старину своего Успенского собора. Так, в течение 50-ти лет торжественные архиерейские служения зимою совершались не при кафедре, а в разных городских церквах, – преимущественно в приходской – Преображенской и Вознесенской монастырской, как более поместительных и ближайших к кремлю. «Между тем, по поступлении на кафедру Тульской паствы пр. Димитрия, граждане, привлекаемые во множестве на архиерейское служение глубоким благоговением архипастыря, его даром проповеднического слова и воодушевленным произношением церковных молитв, еще сильнее чувствовали нужду в новом, более обширном, общественном храме». Начатое вновь в 1852 году дело быстро было подвинуто вперед, благодаря участию губернатора, который взялся ходатайствовать пред высшим начальством: 14 октября 1854 года были Высочайше утверждены проект и планы собора; 24 апреля 1855 г. освящено было избранное в кремле место и начаты земляные работы; а 17-го июля сего года преосвященным Димитрием совершена была закладка нового храма во имя Богоявления Господня. Совпадение начинаний тульских граждан о постройке теплого собора со временами браней побудило их увековечить память о том – устройством двух приделов: во имя св. Александра Невского (в память войны 1812 г.) и св. Николая (в память Крымской войны 1855–56 гг.). При пр. Димитрий, до отбытия его из Тулы, сделан был бут и возведены были стены в два яруса, с железными решетками в окнах.200 «Замечательно, что эта постройка, стоившая около 200.000 рублей, начата была только с 8-ю тысячами. В основание пожертвований пр. Димитрий положил своих 400 рублей.201 Впоследствии ему привелось один раз совершить литургию в этом храме, когда останавливался в Туле проездом из Одессы в Ярославль.
При епископе Димитрии в Туле начата была постройкой большая приходская церковь во имя Божией Матери, Донской ее иконы, – в оружейной Чулковой слободе. При нем же устроена была прекрасная домовая церковь в Тульском кадетском корпусе. С этим редким в провинции учебным заведением преосвященному пришлось познакомиться при особенном торжественном случае. Основанный Александром Благословенным в 1802 году (как малолетнее отделение Орловского корпуса) Александровский кадетский корпус в Туле, по Высочайшему повелению, 17-го февраля 1852 года праздновал 50-ти-летний юбилей. По распоряжению Государя Цесаревича – главного начальника военно-учебных заведении, на праздник прибыл начальник штаба, генерал-адъютант Я. Ив. Ростовцев. После литургии, совершенной преосвященным в Вознесенской церкви, в которую, как ближайшую, обыкновенно ходили к богослужению учащиеся кадеты, он шел с крестным ходом в корпус, где, по совершении молебствия с водоосвящением, благословил детей иконою св. Александра Невского и при этом произнес речь202, прекрасно изъяснившую воспитанникам – и значение торжества и всегдашний молитвенный покров над Россией св. благоверного князя, тезоименитого их Августейшему начальнику. В 1854 году начата была постройка нового здания для корпуса. 17-го апреля, в день рождения Цесаревича, преосвященный служил литургию в той же приходской церкви и так же, как при первом посещении корпуса, пришел туда крестным ходом, в сопровождении всех учащих и учащихся. Здесь, под приготовленным шатром совершено было положенное молебствие, по окончании которого Владыка обратился к детям с поучительным словом, и затем положил первый камень в основание их будущего храма и дома. Через два года здание с церковью было готово. К торжеству освящения, которое состоялось 30 августа 1856 года, прибыл Ростовцев, уже в звании начальника всех военно-учебных заведений. Накануне освящения храма сам преосвященный служил всенощное бдение; а в самый день тезоименитства Государя Императора, в сослужении о. ректора семинарии архимандрита Никандра и знатного городского духовенства, Владыка освятил храм и совершил в нем первую литургию, после которой отслужил молебен о здравии Августейшего Именинника и затем окропил святою водою все помещения, приготовленные для учащихся и начальствующих.
Не менее торжественно совершена была Димитрием закладка храма при новом тюремном замке, 17-го апреля 1855 года. Преосвященный нарочито в этот день служил литургию в церкви старого тюремного замка (на Барановой улице); после же литургии сопровождал крестный ход за город, где строилась новая тюрьма, и там, в присутствии начальника губернии и властей, совершил положенное водоосвящение и положил основание храму, сказав при этом речь о важности дома Божия в доме заключения вольных и невольных преступников.
Преосвященный Димитрий особенно охотно принимал приглашение служить при основании или освящении новых храмов, не только в городах, но и в селах. Нередко он для этой цели выезжал из Тулы за 30 и 50 верст, во всякое время года. Один из таких случаев послужил поводом к широкому прославлению его щедрой благотворительности, о чем речь будет впереди.
II
Имея в виду дать, в заключении настоящего очерка, общее, по нашему разумению, замечание о Димитрии, как администраторе, не касаемся здесь административной его деятельности (частью по недостатку точных сведений) за время святительства на тульской кафедре; но, с другой стороны, не считаем себя в праве опустить те известные данные, которые свидетельствуют о живом и горячем участии преосвященного в церковно-общественной жизни города Тулы и всей тульской паствы.
Между учебными заведениями наибольшее внимание пр. Димитрия, как по обязанности епископа, так и по близости к его сердцу – как свои, родные, – обращали на себя духовные заведения. Семинарии Владыка посещал часто. Служа ежегодно в семинарской церкви в храмовой праздник, а иногда еще в день св. Иоанна Богослова, он посвящал эти дни общему обзору всех помещений в доме. Во время же экзаменов он часто проводил здесь целые дни, присутствуя при испытании учеников, особенно по предметам богословских и философских наук, и всегда оживлял эти дни семинарской туги своими беседами и объяснениями, поощрением хороших воспитанников и внушениями, соединенными со снисходительностью, слабым. Кроме того, при нем в семинарии заведены были (впрочем, не долго удержавшиеся) общие двухмесячный собрания в актовом зале, на которых, в присутствии архипастыря и всей корпорации профессоров, объявлялись списки учеников, отличившихся по успехам и поведению, и читались самими учениками лучшие их сочинения203. Посещая семинарию, пр. Димитрий радовался ее успехам в учебном отношении, но не мог не скорбеть о ее нуждах. Большая по числу воспитанников, имевшая два отделения высшего класса и по три в среднем и низшем, – тульская семинария помещалась, в одном, сравнительно небольшом, трехэтажном корпусе, построенном еще преосвященным Мефодием в начале нынешнего столетия, и притом на окраине города. Какая была теснота семинарии, видно из того, что собственно классных комнат в здании было четыре; остальные классы собирались на уроки в столовых и жилых комнатах для казеннокоштных учеников. Преосвященный Димитрий входил в Св. Синод с ходатайством о расширении зданий: составлены были планы и сметы на новые постройки и получено было разрешение, но приводить в исполнение эти планы пришлось уже преемнику Димитрия.
Тульское духовное училище помещалось просторнее семинарии; но там была другая непоправимая нужда – скудость в содержании казеннокоштных учеников, скудость тем более ощутительная, что при этом только училище была бурса для сирот всей епархии. Об изыскании местных епархиальных средств к улучшению быта учебных заведений в то время никто не думал, как о деле невозможном; между тем, те скудные стипендии, которые отпускало высшее начальство, приходилось, по множеству сирот и бедняков, делить одну на двоих. Чтобы оказать какую-нибудь помощь училищу, Владыка, время от времени, предлагал побольше присылать сирот-мальчиков в архиерейский хор, где содержание было приличное, а для успехов в науках имелся образованный учитель – репетитор. Кроме училища Тульского на всю епархию было еще только три училища – в Белеве, Веневе и Новосили; все они были многолюдны и бедны, но особенную нужду терпело Новосильское, помещавшееся в монастыре, за городом.204 Все училища преосвященный посещал неоднократно – тульское во время экзаменов, а другие во время обозрения епархии.
Самою же большою долею забот и попечений пр. Димитрия пользовалось скромное учреждение – «приют для сирот девиц духовного звания». Этот приют, из которого впоследствии образовалось образцовое «женское епархиальное училище», получив свое начало еще в 30-х годах, когда в редких епархиях существовали подобные сировоспитательные заведения. Предместник Димитрия, пр. Дамаскин, крайне расчетливый в своих и казенных средствах, не пожалел, однако, денег на доброе дело: он выстроил в женском Вознесенском монастыре особый дом, правда, не большой, но вполне благоустроенный и приспособленный к цели, положил в обеспечение содержания особый капитал и обязал небедный монастырь оказывать помощь в жизни своего детища. Пр. Димитрий застал тульский приют уже в период полного развития, – как полезное, приносящее добрые плоды, сировоспитательное заведение. В нем постоянно воспитывалось более пятидесяти девочек, начиная от семилетнего возраста до совершеннолетних. Обучали их наукам, по программе, приблизительной к курсу духовных училищ, исключая разумеется, древние языки, и в широких размерах преподавали им домоводство и разнообразные женские рукоделия. Насколько удовлетворительным считал преосвященный постановку учебного и воспитательного дела в этом учреждении, доказательством тому служит то, что в приюте своими пансионерками он воспитывал трех родных племянниц. Служа часто, особенно зимою, в церкви женского монастыря, преосвященный посещал и приют, и своим появлением всегда составлял праздник для детей, всегда внимательно он заботился о содержании девочек – об одежде, пищи и помещении; располагал известных ему благотворителей-граждан к пожертвованиям съестными припасами, материалами на одежду и подобн. Не забывал он сирот и в своей обыденной, домашней жизни, или, лучше сказать, она невольно напоминала ему о детях: по обычаям тульских граждан, за участие Владыки в праздничных богослужениях его благодарили вещественными приношениями – присылали чай, сахар, фрукты и варенье; все это, по распоряжению Владыки, обыкновенно отправлялось в приют, и редко малороссу-келейнику удавалось выпросить частичку лакомств для малолетних певчих. Находя средства к воспитанию сирот-девиц духовного звания, пр. Димитрий особенно озабочен был устройством их положения по окончании курса учения и по достижении совершеннолетнего возраста. Некоторые из них находили себе приют у близких родственников; но многие, круглые сироты, оставались на руках архиерея. Преосвященный усердно рекомендовал своих невест воспитанникам семинарий при поступлении их на священнослужительские места; а в некоторых случаях, как например при определении единственного сына на отцовское место, он прямо ставил условие взятие невесты из приюта.205
Заботясь о своих епархиальных заведениях, преосвященный не оставался безучастным и к другим, городским и общественным учебным и благотворительным учреждениям. Так, он посещал губернскую гимназию, присутствуя на ее торжественных актах; всегда приглашался в кадетский корпус на экзамены по закону Божию; неоднократно посещал и скромный «приют для детей оружейников». Последнее заведение, давно основанное в память Августейшего фельдцейхмейстера, В. Кн. Михаила Павловича, в 1852 году подверглось несчастию: 15 апреля здание приюта сгорело; но к осени того же года для приюта построен был новый, более поместительный дом. Начальство оружейного завода пригласило преосвященного на освящение здания. Отслужив сначала панихиду о упокоении души Великого Виновника устроения приюта, Владыка совершил освящение дома и закончил свое, посещение – как это делал везде, в школах и училищах – испытанием детей в знании молитв и священной истории. В том же 1852 году, 27 июля, в Туле было открытие новых благотворительных учреждений ведомства «Приказа общественного призрения». По совершении в этот день литургии в церкви св. Флора и Лавра, Владыка совершил крестный ход по городу до устроенного «дома инвалидов и увечных»; здесь, в присутствии начальника губернии и почетных представителей города, он отслужил положенное молебствие, освятил дом и преподал благословение первым призреваемым.
Не отказывался пр. Димитрий от участия даже в частных, домашних торжествах, когда приглашали его благословить какое-либо доброе начинание. Так, было при открытии частного пансиона г-жи Бер. Нужно заметить, что в Туле не было ни одного женского учебного заведения, кроме духовного приюта. А. Р. Бер, при содействии жены губернатора г-жи Дараган, устроила в 1856 г. в своем доме частный пансион с интернатом, по образцу лучших столичных пансионов. В день открытия пансиона, 11-го ноября, в сослужении ректоров семинарий и училища, преосвященный служил в доме молебен и преподал архипастырское благословение учащим и учащимся, при чем говорил речь о непоколебимым началах, какие должны быть полагаемы в основу женского образования.
Когда представлялись случаи к более широкому ознакомлению с разными классами паствы, пр. Димитрий умел пользоваться ими, чтобы показать важное значение архипастыря в общественной жизни пасомых, и всегда при этих случаях его воодушевленное слово производило благотворное действие. Так, при нем два раза (в 1853 и 1856 гг.) были очередные губернские съезды дворянства, и оба раза, в нарочито назначенные дни, преосвященный совершал в соборе литургию, за которою присутствовало дворянство всей губернии. Сам он приводил дворян к верноподданнической присяге перед выборами, и сопровождал этот торжественный акт глубоко-назидательным словом. При втором случае, т. е. в 1856 г. он, кроме того, по приглашению дворян, освящал новый дом дворянского собрания – лучшее украшение города. Как действенна была при этих случаях общая молитва архипастыря с избранными людьми его паствы, и как влиятельна была его проповедь, доказательством тому, между прочим, служит постановление общего собрания дворян (от 10 января 1856 г.) об избрании из своей среды особой депутации, которая, с губернским предводителем во главе, являлась к Владыке для выражения благодарности дворян за сердечное участие в их общественных делах.
В течение шестилетнего пребывания на тульской кафедре, пр. Димитрий почти каждое лето предпринимал поездки для обозрения епархии. В первый (1851) год он назначил к такому обозрению Белевский уезд, имея в виду при этом отдать поклон маститому своему предместнику архиепископу Дамаскину, проживавшему на покое в Белевской Жабынской пустыни. В 1853 г. он посетил Новосиль и Ефремов; в 1854 году обозревал Веневский уезд; в 1855 г. – Чернский и Одоевский, и в 1857 г. опять Новосильский уезд. Обыкновенно, при обозрении епархии Владыка служил в городских соборах, в монастырях и во многих сельских церквах – по просьбе прихожан и помещиков – и везде проповедовал. Одно из таких богослужений отмечено современным бытописателем, как особенно знаменательное. Летом 1855 г. во многих местах средней России неожиданно появилась и быстро распространилась холера; была она и в Тульской губернии, особенно же заметно было ее усиление в Ефремовском и Чернском уездах. «В самое тяжелое и удручающее время прибыл в г. Чернь преосвященный Димитрий. 28 июня он служил в соборе литургию, за которою произнес слово, ободряющее и утешающее пораженных бедствием граждан; после же литургии с городским духовенством совершил крестный ход кругом всего города. Молитва архипастыря достигла до престола Божия и преклонила гнев Господень на милость: сила заразительной болезни с того дня мало-помалу стала ослабевать и эпидемия скоро прекратилась»206.
Следуя инструкции при обозрении епархии, преосвященный везде производил испытания священно-церковно-служителей в знании истин веры и благочестия, для чего духовенство округа собиралось в указанный пункт, преимущественно в уездный город. Но это были не экзамены, а скорее уроки или лекции самого экзаменующего. Как исполнял он эту обязанность и какое при этом впечатление производил на подчиненных, это весьма характерно описал в своих «воспоминаниях» один сельский священник тульской епархии, благоговеющий к памяти незабвенного архипастыря. «О его (пр. Димитрия) глубокой, многосторонней учености, – пишет этот священник, – конечно, – лучше нашего поведают имевшие счастье слушать его как профессора-богослова; но довелось и нам, хоть не много, послушать его во время учиненных им двух испытаний Новосильского духовенства по предметам пастырских знаний. Бывало, если кто дает ответы неудовлетворительные, или совсем никаких не дает, возьмется же он сам говорить, да как! – сущая ученая книга, написанная свободным, литературным языком, и сейчас видишь: вот вошел в свою любимую профессорскую колею; а если кто удачно излагает свои ответы на вопросы, то он начнет выбивать тихий такт рукою, и это его действие производило на отвечающего поощрительное утешительное влияние»207.
Кроме путешествий для обозрения епархии, пр. Димитрий дважды предпринимал поездки из Тулы по особым случаям. В первый раз, в сентябре 1851 г., он по указу Св. Синода ездил в Калугу на погребение епископа Николая (Соколова), скончавшегося 17 сентября. Тем же указом Синода ему поручено было временное управление Калужскою епархией, продолжавшееся до 9-го декабря, когда определен был новый Калужский епископ, бывший ректор Казанской академии архимандрит Григорий (Миткевич)208. Вторая поездка была в августе 1856 г. в Белев для погребения архиепископа Дамаскина, скончавшегося 31-го июля от холеры. 4-го августа пр. Димитрий, в сослужении ректора семинарии архимандрита Никандра и множества духовенства тульского и белевского, торжественно совершил отпевание своего предшественника по кафедре, и произнес надгробное слово209.
Редко Димитрий выступал инициатором какого-либо общественного дела; но для жителей Тулы он навсегда останется памятным по его почину в одном добром деле. На лучшей местности, примыкающей к городу, на горе, которая господствует над всем окружающим ее, широко раскинуто городское кладбище, посреди которого красуется величественный двухэтажный храм во имя Всех Святых. Но самое кладбище до того времени было «в таком пренебрежении и уничижении, на которое было грустно и тяжело смотреть»: кругом открытое, оно с одной стороны примыкало к самому городу, а с другой – к военному полю и лагерю, а потому естественно «попиралось и равнодушно осквернялось и словесными и бессловесными». Такого поругания месту вечного упокоения христиан не мог перенести смиренный архипастырь. Видел он состояние кладбища в первый год своего служения, когда в неделю Всех Святых сопровождал сюда всеградский крестный ход для совершения праздничной литургии и общего поминовения зде лежащих православных. На второе лето, в тот же праздник (25-го мая 1852 г.), он пришел сюда с решимостью высказать свою скорбь. По окончании литургии и пред началом вселенской панихиды он сказал знаменитое свое слово, начинавшееся словами: «о чем вы думали, братия, путешествуя к сему месту смертного покоя своих предков». Слово это210, необыкновенно красноречивое и вдохновенное, проникнутое глубоким чувством живого сознания христианского общения между живыми и умершими, есть в то же время единственное из всех многочисленных «слов» святителя Димитрия, которое дышит духом обличения и грозного прещения. «Вместо чувств отрады и утешения, говорил он своим слушателям, приличных месту будущего воскресения нашего в жизнь вечную, я должен ныне разделить с вами чувства сожаления и скорби о пренебрежении живыми святого места покоя умерших». Раскрыв затем всю преступность небрежения к могилам, он призывает свидетелями самих умерших. «Наши умершие здесь, между нами... Я содрогаюсь, братие, при мысли, что их духовное око обращено на нас – на меня говорящего и на вас слушающих, что их внимание устремлено теперь на то, какое действие произведут слова мои в вашем сердце. Что если умершие возопиют, наконец, к Богу: доколе Владыко Господи, не мстиши поругания нашего от живущих на земли?» ... Последствием этой проповеди было общее усилие всех граждан к приведению в порядок городского кладбища: оно было очищено, обнесено высоким валом и глубоким рвом и обсажено деревьями.
III
Время, прожитое пр. Димитрием в Туле, было особенно – тяжелое для всей России, когда события волновали всех сынов отечества и заставляли их искать опоры в молитве и надежде на помощь Божию. Вместе с Тульскою паствою он пережил тревожную эпоху крымской войны, закончившуюся зарею новой жизни для России. Неустанно ободряя и утешая пасомых своим действенным словом, он был для них лучшим истолкователем судеб Божиих и в слышаниях браней и в благовестии мира. Эти именно моменты живого общения архипастыря с пасомыми прекрасно изобразил современный бытописатель, который по случаю проводов пр. Димитрия из Тулы в Одессу указывал на преимущественные заслуги его для тульской паствы. «Со дня прибытия пр. Димитрия на тульскую кафедру, с ее высоты потекли поучения, обильные силою красноречия, поразительный силою христианских истин, назидательные и трогательные. События шести лет представляли так много необыкновенных случаев к духовным беседам его с народом, и его ораторский дар так глубоко и благотворно действовал на сердца всегда многочисленных слушателей! Раздавались ли громы победы над врагами христианства, слово пр. Димитрия возвышало дух паствы и обращало сердца к источнику всех благ – Богу, побуждая приносить Ему благодарение и чистою жизнью соделываться достойными Его благодеяний; сокрушались ли сердца о братьях, павших в грозной брани, из уст святителя изливались утешения о живом Боге, и скорбь прилагалась и упование на небесное милосердие. Встречал ли, напутствовал ли он рати, стремившиеся на защиту единоверных братий и милой отчизны, его одушевленные, трогательные речи исторгали слезы, крепили дух. Теряло отечество незабвенного Отца, слеза архипастыря повергала паству в рыдание, и скорбное слово его, призывавшее скорбящий народ к покаянию и молитве, воскрешало падший дух упованием, что сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Восход на русском Престоле нового светозарного светила внушил нашему пастырю те торжественный речи, которые так легко возводят дух до созерцания мудрости и благости, изливаемой от престола Вседержителя. – Сколько возвышенных и отрадных, трогательных и утешительных ощущений даровал этот Вития своим слушателям211.
В подтверждение такого восторженного отзыва о Димитрии – епископе тульском приводим современные же описания некоторых случаев, вызывавших подобные отзывы.
Летом 1853 г. в Туле назначен был сборный пункт для резервной дивизии 4-го пехотного корпуса, и 1-го июля собранные войска должны были выступить в поход – в Крым. Преосвященный в этот день служил литургию и говорил напутственное слово в кафедральном соборе, который был наполнен одними офицерами отправляющейся дивизии. Между тем, вне собора открывалось зрелище, невиданное в Туле: 14 тысяч воинов, готовых в поход, наполнили кремль, расположившись широким карре вокруг собора. По окончании литургии Владыка, в преднесении св. икон и хоругвей и при колокольном звоне, вышел с городским духовенством из собора и среди войск служил напутственный молебен. Торжественна была минута, когда вся масса войска, как один человек, преклонила колена при чтении архипастырем молитвы Господу сил о ниспослании небесного благословения на оружие воинов, готовых идти вперед за веру православную. В заключение преосвященный благословил войска иконою Святителя Николая – тезоименитого Владыке русских сил, обошел все полки, окропляя св. водою знамена и ряды войск, и предшествовал с крестом в руках первым рядам, выходившим за стены кремля212.
Такою же торжественностью отличался и другой подобный случай. 5-го февраля 1854 г. в Тулу прибыла 16-я пехотная дивизия, на пути в Крым. Войска на этот раз расположены были на Никитской площади, у Чугунного моста. По просьбе городского общества преосвященный явился на место сбора для благословения рати. Вместе с собравшимся духовенством он вышел из Сретенской церкви на площадь и совершил молебствие, по окончании которого взял с аналоя образ Спасителя, приготовленный гражданами Тулы, и, приблизившись к войскам, сказал трогательною речь, обращенную к воинам. «Нельзя вполне передать, – пишет один из слушателей, – того глубокого впечатления, какое произвела эта речь на предстоящих!». Сам преосвященный плакал, и народ, понимая всю великость подвига, так красноречиво описанного архипастырем, кажется, готов был разделить и труды и славу своих собратий, грядущих сразиться с врагами нашего любезного отечества... Передав образ дивизионному начальнику, преосвященный окропил знамена и ряды воинов и еще раз преподал благословение дивизии, вышедшей в тот же день в Киев213.
Еще ближе сердцу архипастыря стали современные отечественные события, еще настойчивее побуждали они обращаться к пастве со словом упования и ободрения, когда и Тульская губерния, на ряду с другими, Высочайшею волею призвана была принести на алтарь брани особую жертву – образовать свои дружины ополченцев. В феврале 1855 г. обнародован был Высочайший манифест о государственном ополчении, а в марте по этому поводу состоялось экстренное собрание тульского дворянства. 18-го числа было первое собрание дворян в общественном доме, откуда все вместе пошли в Николо-Часовенскую церковь для принесения верноподданнической присяги на предстоящее государственное дело. В церкви, пред царскими вратами, находились хранившиеся в кафедральном соборе три хоругви, которые служили знаменами тульскому ополчению в 1812 году. Священные памятники Отечественной войны дали преосвященному повод обратиться к дворянам с горячим, воодушевленным словом: напомнив слушателям подвиги их отцов, состоявших некогда под этими знаменами, он осветил евангельским светом тот путь, на который и теперь призывал их долг; в заключении же слова взял одно знамя и им осенил собравшихся, благословляя их на новый предлежащий подвиг. Под влиянием сильного слова дворянство в храме же, по окончании богослужения, принесло преосвященному благодарность за столь знаменательное благословение и испросило его позволение торжественно перенести старые знамена в дом дворянского собрания, где под их сению начались и окончились предварительные занятия по образованию уездных ополчений.
Дружины вскоре были организованы; в течение весны обучены ратному делу, и в июле готовы были выступить в поход. И опять настали дни, хорошо памятные для многих, еще живых, граждан Тулы. 17-го июля в кремле было освящение нового знамени для тульского ополчения. Преосвященный выходил из собора крестным ходом, служил перед рядами нового воинства, и в присутствии представителей всех сословий положенное молебствие, по окончании которого сказал речь, вручая освященное знамя начальнику ополчения генерал-лейтенанту князю Голицыну. Три дня еще прошли в приготовлениях и угощениях ратников, от дворянства, города и частных лиц, а 21-го числа назначены были проводы тульской дружины. «С раннего утра кремль был полон: половина городского населения и множество деревенского люда собрались проводить своих родных в далекий и опасный путь. Преосвященный вышел из собора, в преднесении святых икон, со множеством городского духовенства. Совершив водоосвящение и молебствие о грядущих на брань и закончив богослужение коленопреклоненною молитвою о победе над врагами, он обратился к ополченцам с трогательною речью… «Ратники крестоносные и христолюбивые! Наконец голос Монарха Благочестивого призывает и вас на защиту святой веры и отечества». Этими словами начиналась речь, призывавшая новых защитников отечества к исполнению долга, как воинов «крестоносных», «Христовых и Христолюбивых», «православных и благочестивых»; заканчивалась же она пожеланием – «да возвратится с вами мир и спасение земли нашей». Окропив, затем, знамя и ратников, Владыка благословил дружину особо для того изготовленною им иконою Богоматери с предстоящими святителем Николаем и благоверным, князем Александром. Получив, в залог благополучного похода, образ небесной путеводительницы, тульская рать немедленно выступила из кремля по направлению к Киевской заставе, осеняемая последним благословением Архипастыря. – На другой день, 22-го июля, выступали из Тулы две уездные дружины ополченцев – Алексинская и Каширская. И эти дружины, так же, как и тульская, были напутствуемы и благословляемы преосвященным Димитрием214.
Были дни добрых вестей с театра военных действий. И эти дни для жителей Тулы были настоящими светлыми праздниками, благодаря тому, что при этих случаях они могли молиться вместе со своим горячелюбимым архипастырем и слушать его назидательные поучения, объяснявшие им и волю Божию и чувства Монарха, изображенные в Его манифестах. Такие торжественные богослужения были, например, 2-го декабря 1853 г. – по получении известия о сожжении турецкого флота при Синопе, 28 марта 1854 г. –по случаю благополучного перехода русских войск через Дунай и 18 декабря того же года – по получении известия о взятии города Карса215. – Но были и дни скорби и печали, когда доходили до Тулы вести неблагоприятные, и особенно когда прибыла неожиданная весть о смерти Державного защитника отечества, Императора Николая I-го. В эти дни пр. Димитрий призывал свою паству к усиленной молитве и все богослужения при этих случаях сопровождал обычно поучениями, из которых особенно замечательна была проповедь, сказанная по прочтении манифеста о восшествии на престол Александра II-го: в ней пророчески предсказывалось обилие щедрот, имеющих излиться от престола нового Монарха.
С началом нового царствования война еще не окончилась, и напротив принимала более ожесточенный и тяжелый для России характер. Но все были уверены в скором ее окончании: все ждали мира. Первыми для тульских граждан живыми вестниками о приближении желанного мира были моряки балтийского флота, возвращавшиеся из Крыма в начале 1856 года. Первый отряд моряков прибыл в Тулу 7-го февраля, и граждане приготовили для них торжественную встречу. «Когда отряд стал приближаться к дому городской думы, где готовилось приветствие морякам от города, всех поразила неожиданная картина другой встречи. Пр. Димитрий с духовенством, в преднесении икон и хоругвей, вышел из кремля навстречу защитников отечества; около думы он отслужил благодарственное Богу молебствие с провозглашением многолетия Августейшему Дому и христолюбивому воинству, и затем, вручая икону Спасителя перенесшим так много испытаний, он, со слезами на глазах, произнес тронувшую всех до глубины души речь, в которой высказал горячую благодарность героям за их изумительные, выше-человеческие подвиги»216.
Не замедлило и радостное известие о заключении мира. 1 апреля, в тот самый день, в который пять лет назад Владыка Димитрий в первый раз приветствовал миром свою тульскую паству, ему привелось возвестить чадам тульской церкви и всероссиискую радость мира после тяжкой войны. Торжество по этому случаю было великое. Преосвященный служил литургию в Николо-Часовенской церкви, в присутствии властей и представителей сословий, и по литургии и после прочтения манифеста сказал прекрасное слово, глубоко раскрывавшее значение мира в христианстве – «с того дня, как небожителями возвещен был на земли мир и в человецах благоволение»217.
Спустя четыре месяца Россия праздновала венчание на царство и священное помазание Императора Александра Николаевича. Тула, как и все города земли русской, принимала живое участие в этих праздниках и, по мысли архипастыря, выразила это особым церковным торжеством. Назначенный день коронации (26 авг.) совпадал с церковным праздником в честь Владимирской иконы Божией Матери, который быль главным престольным праздником в одной из городских церквей (Владимирской, что на Ржавце). Накануне праздника преосвященный служил в кафедральном соборе всенощное бдение, с пением акафиста Божией Матери, и усердно вместе с народом молился о Ее заступлении и небесном покрове над главою Благочестивейшего Государя. В самый же день праздника был торжественный, всеградский крестный ход, с епископом во главе, из кремля в приходскую Владимирскую церковь. Там, по окончании литургии и пред началом особого положенного на сей день благодарственного молебна, Димитрий говорил слово, содержанием которого было поразительное сближение исторических обстоятельств, воспоминаемых церковью, с событиями современными.
Наконец, тульский архипастырь удостоился встречать у своей кафедры самого нововенчанного Царя. В первый раз пр. Димитрий приветствовал Наследника Александра Николаевича еще в 1853 году, когда он посетил Тулу проездом в Крым. Но в 1856 году Государь Император изволил назначить особый приезд в Тулу по окончании коронационных торжеств в Москве. В местных ведомостях помещено было следующее описание этого приезда. – «Утром, 21-го сентября218, Государь Император и Великий князь Михаил Николаевич изволили прибыть в Тулу. Едва на Миллионной улице показалась коляска Государя, раздался колокольный звон всех церквей города и крики собравшегося народа. Государь проехал в дом почетного гражданина Добрынина (в котором всегда приготовлялась квартира для Высочайших гостей), где прежде всего осчастливил семейство Добрынина принятием хлеба-соли; затем изволил принимать представителей губернской администрации и городских сословий. В 12 часов Его Величество вместе с Великим князем отправился в кафедральный собор. При входе в собор преосвященный Димитрий встретил Его Величество и Его Высочество с крестом и св. водою и приветствовал Их краткою речью. По окончании молебствия, когда Государь и В. Князь приложились к местным иконам, преосвященный благословил Их св. иконами. Из собора Государь отправился в кадетский корпус, где, посетив церковь, оставил в ней икону – благословение епископа. Осмотрев затем оружейный завод, Его Величество изволил принять обед и в 6 часов вечера отбыл обратно в Москву, напутствуемый радостными кликами многочисленного народа. Великий князь – Фельдцейхмейстер оставался, по поручению Государя, еще несколько дней в Туле, – подробно осматривал ход работ на заводе, входил в дома бедных оружейников, чтобы ознакомиться с их бытом, и вместе с рабочими молился за воскресною литургией (23-го сент.) в их «заводской» церкви, в которой и оставил икону, поднесенную пр. Димитрием».
ΙV
Для многих современников поучительна была и частная, домашняя жизнь пр. Димитрия в Туле. Она, конечно, была продолжением его Киевской жизни: и здесь она отличалось крайнею скромностью, простотой и отсутствием частых приемов и праздников, хотя по самому положению архиерея она не могла уже быть тою замкнутою, уединенною жизнью ученого монаха, какою отличался киевский о. ректор. Сама обстановка тульского архиерея того времени, при своей простоте и скромности, и в то же время при всех удобствах, приходилась по вкусу Димитрия и отвечала его привычкам. Архиерейский дом – постройка первого епископа Мефодия (1799–1803) – помещается в укромном, тихом уголке города, в ограде старинного Предтечева монастыря, близ кремля и на берегу реки Уны. Перед домом широкая, открытая площадь – двор, обрамляемый с одной стороны корпусом певчих и с другой – зданием консистории, со старинною монастырскою церковью посредине двора. За домом разбит большой фруктовый сад с широкою аллеей – уединенным местом ежедневных – и зимой и летом – прогулок Владыки. Прогулки эти, продолжавшиеся иногда по два часа, хорошо были изучены обитателями архиерейского дома, как определяющие, занятие и настроение преосвященного. О. Иоанн, крестовый иеродиакон, наблюдавший из своей квартиры за Владыкою, нередко прибегал на верх раньше возвращения его с прогулки и обыкновенно предупреждал служащих: «ну, проповедь к завтрашнему дню готова! Владыка целый час измеряет пространство тихим шагом и с большими остановками, посетителей-то лишних не принимайте, ему нужно писать проповедь». Если же прогулка была скорая и непродолжительная, то о. Иоанн обращался к секретарю: «все ли у вас готово к докладу? Владыко сейчас потребует текущие дела». И редко ошибался о. иеродиакон в своих предположениях. Был один недостаток тульского архиерейского дома, на который жаловался пр. Димитрий, – это близость городского сада – места общественных гулянии. В крестовой церкви в летнее время ежедневно служилось всенощное, которое преосвященный обыкновенно слушал в своей моленной комнате; а за оградою в это время гремела музыка и отчетливо доносилась в открытые окна. Понятно как тяжело это действовало на молитвенный дух Владыки, не переносившего этих мусикий и при обычных вечерних занятиях... За то полною тишиной и некоторого рода пустынностью отличалась архиерейская дача – Щеглово. Клочок земли, лежащий в 5 верстах от города и принадлежавший исстари Предтечеву монастырю, хорошо был приспособлен к летнему пребыванию еще преосвящен. Мефодием, который построил здесь небольшой дом с домовою церковью (во имя св. Мефодия Патарского), развел тенистый парк, фруктовый сад, огороды и даже пасеку. Простота в обстановке дачного дома доходила до того, что например в гостиной комнате стол был покрыт скатертью, сплетенною из соломы. Пр. Димитрий любил Щеглово особенно потому, что своею пустынностью219 она напоминала первую его архимандрию – Выдубицкий монастырь. Обычные посетители и визитаторы сюда не проникали; знали хорошо дорогу только одни нищие, которые шли в Щеглово даже охотнее, чем в городской архиерейский дом, так как здесь Владыка обыкновенно сам подавал милостыню всякому бедняку и убогому. Само собою разумеется, что дачную жизнь архиерея нельзя понимать, как дачу всякого другого деятеля, удаляющегося «на лоно природы» с полным расчетом на продолжительный отдых. Для заботливого Владыки Димитрия дача немного давала покоя. Кроме продолжительных отлучек для обзора епархии, он неопустительно ездил в город – два дня в неделю для приема просителей, все праздничные и воскресные дни для богослужения, а затем на экзамены в семинарии, училище и другие заведения. Только немногие дни приводилось ему провести вполне по-дачному, по-деревенски, – ранним утром на продолжительных прогулках, а с полудня на открытом крыльце, с книгою в руках и в ожидании нищих.
Приучивший себя к уединению, пр. Димитрий не любил широкой общественности, да этого и не представляла ему скромная Тула. Общество людей, с которыми архиерею можно и нужно поддерживать близкое знакомство, здесь было очень ограничено: это – представители городского духовенства, жившие в городе дворяне-помещики220, да некоторые из именитого купечества. Но Димитрий не только не чуждался доброго общества, а поистине был душою его, и тульский архиерейский дом, после тридцатилетней пустоты при Дамаскине, оживился при Димитрии. Правда, большие собрания и у него были редки: только два раза в год он устраивал у себя обеды – в храмовой праздник кафедрального собора (15 августа) и в свои именины (21-го сентября). Но в зимнее время редкий день не было гостей в архиерейском доме. В приеме посетителей преосвященный никогда не отказывал, да и не мог отказывать по своему характеру; он и слугам запрещал отказывать, оправдывал обыкновенно свои распоряжения такими объяснениями: «как не принять? Бог знает. Иной идет сюда, может быть, и без цели, а случайно услышит здесь доброе слово или полезный совет, – и будет после благодарить». Действительно, в этом была притягательная сила, влекущая к Димитрию всех, знавших его высокообразованный ум, его доброе сердце и всегдашнюю готовность поделиться сокровищами своего духа. Сами собрания в его гостиной носили на себе особенный характер: беседовал большею частью хозяин, а гости внимательно слушали и своими вопросами или одобрениями вызывали только новые беседы, на новые темы. И сам Владыка нередко увлекался: тихая и задушевная его речь лилась свободно и безостановочно целые часы и не давала заметить, что настало уже время покоя и для хозяина и для гостей. Не всякий, конечно, посетитель и не во всякое время был желателен; но преосвященный все же принимал гостя и обычно услаждал его своею беседою. Однажды, у него засиделись двое посетителей, явившиеся при том накануне назначенного архиерейского служения. Келейник, не долго думая, пошел в архиерейский кабинет, собрал со стола все бумаги, принес их в гостиную и всю кипу положил пред увлекшимся беседою архиереем. – «Вот, Владыка, принесли срочные бумаги, завтра нужно отсылать в Петербург». Владыка умолк и гости догадались испросить прощальное благословение. Проводив гостей, пресвященный с улыбкой поблагодарил келейника за изобретательность, но запретил ему злоупотреблять изобретенным средством.
То были вечерние посетители, жаждавшие беседы богомудрого архипастыря; но несравненно больше у него было посетителей другого рода, для которых двери архиерейского дома не закрывались с утра до вечера, с которыми беседа была коротка: с одной стороны умильная просьба о помощи – о подаянии ради Христа; а с другой – удовлетворение просьбы, или же – в нередких случаях – извинение, что нечего подать, но с непременным приглашением зайти в другое время... «В Туле я прослыл бессребреником, говаривал с некоторою иронией пр. Димитрий, – а как было и не быть таким, когда всего серебра-то хватало на два десятка нищих». Говорилось это с легким сердцем; а между тем в этих словах была сущая правда, которую не мог ценить сам Димитрий, как не знавший цены деньгам, но которую нельзя было не видеть со стороны, и особенно в Туле. Люди, знавшие близко Димитрия не могли надивиться тому благодушию, с которым безденежный Владыка мог спокойно жить в положении неоплатного должника. Имевшие срочные получения от преосвященного хорошо знали, что за деньгами к нему являться нужно в первые дни по получению жалованья или, лучше сказать, остатков жалования, которое понемногу, но усердно забиралось вперед; но и эти дни не всегда были удачны для кредиторов. Например, в первый год тульской жизни преосвященный пожелал оказать услугу своему другу детства, двоюродному брату Федору Тарасиевичу Белкову (которого ему удалось устроить на службу в Тульской губернии) – дать хорошее воспитание его единственной дочери. Девочка была определена в частный пансион на половинных издержках – от Владыки и от родителей. И что же? Содержательница пансиона долго жаловалась на неисправность первого плательщика, и, наконец, родители девочки должны были взять на себя и половину, обещанную благодетелем. То же самое бывало и с теми воспитанниками семинарии, родственниками преосвященного, которых отцы привозили в Тулу по предложению самого Владыки, обещавшего давать им квартирное содержание и обыкновенно плохо исполнявшего свое обещание.
Имя благотворителя упрочено было за пр. Димитрием именно в Туле, где его нестяжательность приобрела широкую популярность и стала известною далеко за пределами епархии. Следует, однако, оговориться, что название «благотворитель», имеющее определенное значение, как жертвователя сумм на благотворительные учреждения, к Димитрию мало идет; по крайней мере в Туле он не был и не мог быть таким благотворителем по ограниченности личных средств221. Его вернее можно назвать нищелюбцем. Любил он нищую братию и любил подавать милостыню по обычаю русской старины, именно по тем правилам, которых держаться поныне только в немногих, преимущественно купеческих домах в провинции. Так, в великие праздники Рождества Христова и св. Пасхи он посылал милостыню в тюремный замок, в больницы и богадельни. Каждую субботу (зимою и осенью неопустительно) крестовый иеродиакон обязан был получить от о. эконома несколько рублей за счет Владыки, разменять их на мелкую монету и раздавать нищим. Обыкновенно в эти дни с раннего утра бедняки наполняли архиерейский двор; в 9 часов выходил о. Иоанн с узельцами и выпускал собравшуюся братию из ворот, оделяя кого двумя, кого тремя и пятью копейками. Иногда эту раздачу наблюдал и сам Владыка из окна своего кабинета. Кроме того, «просители на бедность» допускались в приемную архиерея всякий день и всякое время, и всякому он подавал сколько мог, не особенно разбирая нужду того или другого просителя. А как часты были эти, не всегда – нужно полагать – желательные, визиты самого Владыки в комнату письмоводителя или даже келейника с просьбою одолжить двугривенный или пятиалтынный, когда таковых у него в кармане не находилось, а отпустить просителя тоща не хотелось!
Случаи более крупной благотворительности пр. Димитрия за время его пребывания в Туле давно – еще при жизни Владыки – получили широкую известность и передавались в легендарных сказаниях, а после его смерти некоторые такие сказания появились в печати. Вот более известные и достоверные случаи. Приходит однажды к преосвященному бедная вдова – дворянка и слезно умоляет его оказать помощь в исключительном обстоятельстве: выдает она дочь за небогатого человека, и не имеет средств сделать какое-нибудь приданое любимому детищу. Владыку она застает в период полного безденежья. Не имея возможности оказать помощь и в то же время не желая огорчить отказом в действительной нужде бедной вдовицы, он приглашает ее прийти в другой раз. – «Зайдите ко мне через несколько дней; может быть я вскоре и получу что-нибудь на вашу долю». Владыка имел в виду назначенное освящение церкви в одном подгородном селе, на которое он приглашен был заранее и надеялся получить вознаграждение за свой труд. Действительно, на другой день по освящении храма он получил от храмоздателя – помещика благодарственное письмо и, отдельно, денежный пакет. В это время к нему явилась и вдова просительница. Не вскрывая денежного пакета, Владыка передал его просительнице со словами: «вот вам обещанная помощь; не взыщите, если она окажется недостаточною». Имея в руках деньги, бедная женщина не утерпела – вскрыла пакет тотчас же по выходе из архиерейского дома и, к изумлению своему, нашла в нем довольно крупную сумму, какой она не ожидала и не просила. После минутного смущения она решилась возвратиться к Владыке и просить разъяснения. Когда преосвященный вторично вышел к просительнице, она откровенно заявила ему: «Владыка святый! Здесь много денег; я не просила у вас столько. Вы обижаете себя, подавая такую щедрую милостыню». Но Владыка отвечал совершенно спокойно: «я не считал и не знаю, сколько там денег; помню только, что обещал помочь вам тем, что дадут добрые люди: это ваше счастье, возьмите все и не стесняйтесь»222.
В другой раз, явилась к пр. Димитрию бедная старушка-мещанка, чтобы излить пред Владыкою свое горе и объяснить беспомощность. Берут в солдаты ее сына, работника и кормильца, и нет законного основания освободить его от рекрутской повинности. Один есть выход из тесных обстоятельств – можно нанять «охотника», и уже подыскан такой, но просит за наем такую сумму, какой она никак не может собрать: вся надежда у нее на помощь благосердого Владыки. Преосвященный выслушал внимательно просительницу, обещал ей помочь и просил прийти через несколько дней. А между тем он поручил одному священнику проверить просьбу женщины – собрать стороною сведения о положении ее дела. По справкам оказалось, что бедная просительница не даром плакала у ног Владыки, как наинская вдовица: помощь была необходима. Но вопрос, где взять столько денег, чтобы оказать эту помощь своевременно? У самого преосвященного не оказалось и пятой доли требуемого, а собранная по его поручениям тем же священником сумма едва равнялась капиталам Владыки. К счастью, скоро узнал о затруднении Владыки один из его почитателей, человек состоятельный и часто выручавший Димитрия при подобных обстоятельствах. Он прислал требуемую сумму Владыке, который поспешил передать ее по назначению и тем обеспечил дальнейшее существование бедняков.
Как везде и всегда, между облагодетельствованными пр. Димитрием были, конечно, и такие, которые не ценили его щедрой, до последней копейки, благотворительности; были и назойливые, не особенно нуждавшиеся попрошайки; были и неблагодарные. Но Димитрий, не особенно разбиравший нужды просителей, не имел обыкновения и не любил разузнавать и о последствиях своих подаяний. Во время крымской войны к нему нередко обращались особенные просители – проезжавшие через Тулу с театра войны раненые и больные офицеры и простые воины: Раз явился к преосвященному такой офицер, на вид больной, разбитый и, по его словам, не имеющий никаких средств, чтобы добраться до родного угла где-то на крайнем севере. У преосвященного на этот раз были деньги. Он поверил слезной просьбе «проливавшего кровь за отечество храброго воина» и подал ему 50 рублей. В архиерейском доме случайно узнали об этой щедрой милостыне и все были крайне возмущены легкомысленным отношением к ней получившего. Подавая вечерний чай Владыке, келейник взял смелость сказать ему: «Владыка, у вас деньги прахом идут! Офицер, который получил от вас 50 рублей, почти все деньги прокутил и проиграл в соседнем трактире; да еще смеется над тем, что у нас в Туле легко доставать деньги». Но Владыка отвечал только вздохом и коротким замечанием: – «какое тебе до того дело? Я подавал честному человеку, а там – судья ему Бог и его совесть». Действительно, совесть заговорила скоро: офицер хваставший выпросить у архиерея еще денег, скоро скрылся из города.
Не имея возможности удовлетворять всех нуждающихся денежною и вообще материальною помощью, Димитрий прибегал и к другим способам благотворительности. Не редко удавалось ему, при помощи добрых людей, пристраивать бедноту к какому-нибудь месту, на службу или на работу. Но в числе обращавшихся к нему за помощью бывали такие, которые по несчастным случаям или по своей вине, теряли – так сказать – жизненную стезю и находились на распутии. К ним-то особенно милостив был Владыка Димитрий. Глубоко убежденный в том, что в божественном плане несть погибающего человека, он не только соболезновал этим несчастным, но и принимал меры, чтобы снова поставить их на твердый путь и даже брал их под свое личное водительство, принимая в архиерейский дом на временное жительство. Такие случаи были и в Туле.
Был, например, в родном преосвященному сапожковском духовном училище молодой учитель, который, поступив на должность, вскоре женился, в надежде за несколько лет трудовой учительской службы получить более обеспеченное место священника, как это обыкновенно практиковалось в старое время. Но Бог судил ему иначе! Молодая жена учителя умерла при первых родах. Потеряв подругу жизни, молодой человек потерял и надежду на священничество, – не выдержал сугубого горя, загрустил, охладел к своему делу и, в конце концов, лишился и учительского места. Очутившись таким образом в безвыходном положении, он не знал, что с собою делать, и надумал только одно – ехать в Тулу с единственною целью просить благостного и мудрого земляка-архипастыря, чтобы он указал ему добрый исход из затруднения. Когда он явился к преосвященному и высказал ему свое положение и ту надежду, с которой он решился прибыть в чуждый для него город, то Димитрий поспешил ему выразить полное сочувствие и утешение, ободрил упавшего духом и с отеческою любовью высказал такое предложение: «Поживите пока у меня. Я уверен, что сам Господь скоро укажет вам, что нужно предпринять. А, чтобы не сокрушал вас дух уныния, я дам вам знакомое вам дело. У меня ныне много мальчиков-певчих; им нужно и петь и учиться. Помогите им в их учебных занятиях и постарайтесь иметь добрый нравственный надзор над ними». Бывший учитель с радостью принял это предложение, как послушание, возложенное на него для испытания. Окруженный детьми, с которыми должен был делить все время, он ожил и предался делу со всем усердием и любовью. Не прошло и полугода, как он решил остаться навсегда при порученном ему деле, которое очевидно пополняло его разбитую жизнь; а чтобы отрезать себе отступление, он подал преосвященному прошение о пострижении в монашество. Посвященный, после пострижения, в иеродиакона к крестовой церкви, он оставался в скромной должности репетитора малолетних певчих и служил много лет уже при преемниках Димитрия, в сане иеромонаха и игумена.
Другой пример. У пр. Димитрия был товарищ по академическому курсу, некто Л. Н. Колтуновский, который состоя уже несколько лет на учебной службе, принял монашество, достиг должности инспектора семинарии и сана игумена, но дальше не пошел. Даровитый от природы, но крайне неровного характера, он не устоял на скользком пути и был уволен от службы. Огорченный и озлобленный о. Софроний решил обратиться к правдивой и любящей душе своего сотоварища и прибыл в Тулу с надеждою получить настоятельство в одном из монастырей тульской епархии. Но преосвященный предложил своему старому приятелю остаться у него только «погостить». Спустя некоторое время Димитрий ходатайствовал за Софрония в письме к Иннокентию223, прося об определении его вновь на духовно училищную службу; но ходатайство осталось без последствий. Живет таким образом о. игумен в тульском архиерейском доме год и два, нередко служит с Владыкою и часто беседует с ним; и наконец, соглашается с убеждениями гостеприимного друга, что начальствование и власть ему несродны и что лучше всего последовать давнему указанию начальства – поселиться в скромном монастыре на родине и заняться келейною ученою работою. Там (в Новгород-Северском монастыре) о. Софроний действительно обрел себе покой временный и вечный.
Близость родной Рязанской епархии так часто доставляла пр. Димитрию временных гостей его сродников, и ближних и дальних, что в архиерейском доме сложилось верное мнение: «только у архиерея Димитрия может быть такое множество родных». Каждое лето обыкновенно тянулись деревенские подводы из рязанских пределов по направлению к Туле: это ехали духовные разных чинов к своему высокому родственнику в полной надежде найти радушный прием. Немногие из них ехали с одним поклоном: большинство же с покорнейшею просьбою о пособии и помощи. Всех своих родственников пр. Димитрий принимал с искренним радушием: любезно угощал он деревенских гостей, по их привычкам и вкусу; не забывал даже мелочей гостеприимства, – сам, например, отдавал приказание отправить гостиных лошадей на корм на дачу. С великим удовольствием любил он беседовать с такими гостями – о родине, о старом времени, о людях давно сошедших с поприща жизни, а со своими сверстниками вспоминать детство и школьную жизнь. Провожая родных, он непременно каждого награждал деньгами «в возмещение, как он выражался, проторей и убытков от дальней дороги». При этом бывали случаи комично-печальные. Гостю пора домой – там ждет его работа; а хозяин и знает эту неотложную нужду гостя, но просит его погостить еще денек-другой, не объясняя, конечно, что причиною такого усердия были поиски за деньгами, нужными для его проводов.
Самому преосвященному из Тулы не удалось побывать на родине, несмотря на близость и на давнишнее желание: в то время архиерей не мог переступить границу своей епархии без особого на то разрешения высшего начальства, а для Димитрия просить что-нибудь для себя – было подвигом выше сил. Вот почему он не только не тяготился приемом родных, но каждый раз, провожая гостей, просил «не забывать его – жаловать напредки», или присылать других сродников, не успевших еще побывать в Туле. Самым большим праздником для него был приезд в Тулу его матери. Еще при первом посещении его (в 1851 г.) лучинским зятем и сестрою, преосвященный наказывал непременно привезти «Матушку», а на следующую весну нарочито писал о том в Лучинск и выслал деньги на дорогу и на «приличное для архиерейской матери платье». Наталье Семеновне, уже на исходе шестого десятка лет, Бог привел иметь первое свидание с сыном архиереем, ко взаимному их удовольствию. Рад был и незнал как выразить свою радость глубокопочтительный сын; но неменьше довольна и счастлива была старушка-мать. И почетное место в гостиной или столовой архиерея, и поездка в архиерейской карете по городу и на дачу, вместе с сыном, и что особенно важно воочию виденное архиерейское служение ее первенца, облеченного в «святительский сан» как исполнение пророчественного сновидения, бывшего ей пред рождением Климента, все это такие впечатления, которые не могли изгладиться из памяти Натальи Семеновны до последних дней жизни.
В дополнение к сведениям об отношениях пр. Димитрия к родственникам нужно сказать здесь следующее замечание. Пр. Димитрий хорошо сознавал, что денежными пособиями, какие позволяли его средства, он мало может помогать своим ближним; между тем его любовь и расположение к ним постоянно возбуждали в нем желание возможно больше быть полезным им. Наилучшею помощью родным он справедливо считал деятельное участие в воспитании и образовании молодого поколения, находя это верным залогом всего земного счастья. Начав оказывать такую помощь, как мы видели, еще в Киеве, он продолжал ее в Туле и затем, во всех местах своего дальнейшего служения, до самой смерти, не оставлял, подчас тяжелых, забот о юных сродниках. При первом свидании в Туле с родными сестрами и зятьями он высказал им такое предложение: «чего бы вы больше желали от меня, чтобы я дал вам хорошие места в городе, или позаботился бы о воспитании и устройстве ваших детей?» Ответ, конечно, без колебания последовал именно такой, какого ожидал сам преосвященный. «Куда нам быть городскими! Мы так привыкли к черной деревенской жизни, что городская будет нам в тягость; а счастье наших детей будет истинным нашим счастьем и неоцененною милостью Вашего Преосвященства». Старшими детьми у сестер Владыки были дочери, которых он тогда же велел привести к нему для определения в тульский приют для девиц духовного звания. Затем, один за другим, стали прибывать племянники Димитрия – родные, двоюродные и дальше, – которых он определял в семинарию, не имевшую в то время штатов, а потому – и причин стесняться приемом иноепархиальных учеников. Некоторые из них окончили курс при Димитрии, а другие оставались некоторое время после отбытия его из Тулы. Но справедливость требует сказать, что никто из родственников пр. Димитрия не был тягостью для тульской епархии. При многолюдстве местных кандидатов, преосвященный не имел в виду, да и не мог в короткое время пребывания в Туле, замещать какие-либо места своими родичами-рязанцами, и тульское духовенство не имело поводов высказывать и никогда не высказывало какого-либо ропота на своего Владыку или обвинения его в непотизме.224
В Туле у пр. Димитрия бывали гости почетные и высокие, которых он принимал с особенною предупредительностью. Тогда еще не было быстрых железнодорожных сообщений, и Тула, лежащая на большом южном тракте служила первым пунктом отдыха путникам, направлявшимся от Москвы на Киев и далее. Проездом через Тулу Димитрия навещали преосвященные Илиодор и Арсений (оба бывшие ректоры Димитрия по Рязанской семинарии), Поликарп и другие архиереи. Но самым дорогим и желанным гостем в Туле был Архиепископ Херсонский Иннокентий, который дважды посетил Димитрия: в первый раз в 1852 году, проездом в Петербург при последнем, четвертом вызове его для присутствия в Св. Синоде, и во второй – в конце августа 1856 года, когда он возвращался из Москвы после коронации Александра II-го. Последнее посещение хорошо сохранились в памяти современных обитателей тульского архиерейского дома, по некоторым особенностям гостеприимства. Оригинальный Иннокентий всегда был оригинален и во внешности. Приехав в Тулу утром, он прежде всего попросил хозяина приготовить русскую баню, а спать пожелал непременно на свежем сене. Вечером в парадный зал принесли большую вязанку сена, и высокий гость, простясь после вечерней трапезы с хозяином дома, возлег на импровизованное ложе. Но не утерпел и хозяин – пришел взглянуть на идиллию, да присел у ног своего Гамалиила, и потекла у них длинная, сердечная беседа. О чем шла речь – никто, конечно, не знал; но беседа протянулась далеко за полночь. Как будто предчувствовали оба – и учитель и ученик, что та беседа была для них последнею на земле. И как скоро не стало Иннокентия!..
В мае следующего 1857 года пр. Димитрий обозревал епархию. 22-го числа он прибыл в г. Новосиль; 26-го, в день пятидесятницы, служил литургию в городском соборе, а 27-го, в храмовой праздник Свято-Духовского монастыря, служил в этом монастыре. Но после же литургии он, неожиданно для всех, отдал приказ приготовить все к немедленному возвращению в Тулу, несмотря на то, что по предварительному расписанию оставалась не обревизованною половина уезда. Причиною такой неожиданности был сон, виденный Владыкою в ночь с 26-го на 27-е число. Этот знаменательный, пророчественный сон Димитрий рассказывал в первый раз в тот же день, еще до отъезда из Новосиля, своему родственнику Ф. Т. Белкову, и его жене, жившим в Новосильском уезде и посетившим Владыку именно в Духов день225. В другой раз он повторил этот же рассказ своим родным и некоторым тульским жителям, собравшимся у него перед проводами в Одессу.226 Вот как рассказывал свое сновидение сам пр. Димитрий: «Уже под утро вижу я во сне, что пр. Иннокентий служит литургию большим собором, в котором участвую и я – совершенно так, как это часто бывало в академии, хотя храм как будто другой, не братского монастыря. В свое время Иннокентий выходит говорить проповедь. По обыкновению выходим из алтаря и мы сослужащие и становимся сзади проповедника. Некоторое время речь преосвященного льется свободно; но вдруг я замечаю, что он говорить тихо и слабо, совершенно изнемогает – готов упасть и, наконец, обращается ко мне с словами: «отец Димитрий, докончи ты». Я так напугался, что тотчас же проснулся. Не знаю, что этот сон значит. Хотя я сегодня и помолился о здравии преосвященного, но на душе что-то неспокойно».
С беспокойством Димитрий выехал из Новосиля. Каково же было его изумление, когда, не доезжая еще до Тулы, он получил первое известие о смерти Иннокентия, последовавшей именно 26-го мая, в день пятидесятницы? Не прошло затем трех недель, как пр. Димитрий получил из Петербурга, от своего брата, краткую телеграмму: «назначаетесь на кафедру Херсонскую». Частные известия, получаемые в Туле, подтверждали содержание телеграммы и быстро разносились па городу, с разными комментариями и добавлениями. Конец всем недоумениям и толкам положило полученное вскоре официальное известие о том, что Государь Император, Высочайшим указом, данным на имя Св. Синода 11-го июня и собственноручно подписанным Его Величеством, соизволил на определение епископа Тульского Димитрия епископом Херсонским и Таврическим. Замечательны обстоятельства, по которым состоялось такое необычное определение – «по именному Высочайшему указу». В представлении Св. Синода на вакантную Херсонскую кафедру предназначался Рижский архиепископ Платон227. Но Государь Император, заметив, что «пр. Платон ныне необходим на том месте, какое занимает», сам указал на Тульского епископа, как на достойного преемника Иннокентия. – И так, вторично Димитрий становится продолжателем дел Иннокентия? И теперь, как в первый раз, великий учитель – как бы сам, в час своей смерти – дает возлюбленному ученику поручение восполнить недоконченное – напоить насаждения его на дорогой ему ниве Херсониса и Тавриды.
V
Указ Св. Синода получен был в Туле в конце июня. Преемник Димитрия еще не назначался; епархиальные дела и имущество архиерейского помещения указано было сдать консистории. Таким образом, пр. Димитрий имел побуждения поспешить к своей новой пастве и уже назначил было ближайшие дни к отбытию из Тулы, но случились обстоятельства, не раз повторявшиеся в жизни бедного и не знавшего цены деньгам Владыки Димитрия, и отъезд его замедлился. Почти одновременно с указом он получил значительную сумму подъемных и прогонов от Тулы до Одессы, но после расплаты с кредиторами сумма эта уполовинилась. Между тем, тульские бедняки, как только узнали, что благодетель их уезжает в далекий край, поспешили почтить его своими прощальными визитами. С своей стороны Владыка, под влиянием такого усердия своих клиентов, принимал всех без исключения и, вместе с прощальным благословением, особенно щедро оделял их милостынею. Через несколько дней в кармане у него оказалось 25 рублей, с которыми пускаться в дальнюю дорогу было невозможно. Поведал он о своем затруднении людям близким, часто выручавшим его из беды, и благодетели позаботились оказать последнюю помощь любимому Владыке: собрали они нужную сумму, но, зная, что преосвященный заедет еще в Киев, окружит там себя беднотою и опять, пожалуй, окажется в печальном положении, – справедливо решили не давать ему эти деньги в руки, а с его благословения вручили их келейнику, который должен был сопровождать его в Одессу.
С шестидесятых годов в новых духовных журналах и ведомостях нередко можно было читать красноречивые описания более или менее трогательных картин при прощании различных паств русской церкви со своими архипастырями. Но едва ли не первое и самое замечательное – появившееся при том раньше указанного периода – описание проводов из Тулы епископа Димитрия228. Описание это так правдиво и искренно изображает личность преосвященного и отношения к нему горячо любивших его туляков, что по справедливости должно войти полностью в биографию.
«Воскресение, 14 июля (1857 г.), останется навсегда памятным для жителей города Тулы днем, потому что это был последний прощальный день народа с любимым, уважаемым преосвященным Димитрием, который по Высочайшей воле Государя Императора отправлялся к новому месту служения.
«Живо вспоминается знаменательный для Тулы день – 1 апреля 1851 года, когда преосвященный впервые вступил в Успенском соборе на свою кафедру: с того дня светильник Божий, возженный на свещнице Тульской церкви, светил нам ярким светом своего богопросвещенного ума и высоких христианских добродетелей – кротости, смирения и милосердия. Шесть лет пребывания его между нами, как один день, отмечены постоянными и неизменными качествами его ума и сердца; но только теперь отчетливо предносится пред нашими взорами и глубоко чувствуется все пережитое за это время... Сколько возвышенных и отрадных, трогательных и умилительных ощущений даровал этот Вития своим слушателям! Сколько милосердия и утешения источил он прибегавшим к его помощи в нуждах житейских!
«В единении любви и мира пребывал наш пастырь с паствою, взиравшею на него, как на высокий образец христианского благочестия. Никто не чаял с ним расстаться скоро.
«Пронеслась весть о кончине друга и учителя нашего пастыря, обессмертившего свое имя подвигами жизни и слова в пределах новой России, а вслед затем, сделалось известным, что на прославленную кафедру Херсониса и Тавриды назначается епископ тульский Димитрий. Опечалила эта весть жителей Тулы; грустно отозвалась в сердце каждого мысль, что Тула лишается Ангела своей церкви, в котором, по общему сознанию, она теряла неутомимого молитвенника и предстателя пред престолом Всевышнего, красноречивого и действенного проповедника, кроткого, смиренного архипастыря и, наконец, всегда готового помощника бедным и несчастным. Но, как нет на земле радости, не омраченной хотя малою заботою, так нет и печали, не осияваемой хотя слабою отрадою. Какую же Тула находила отраду в настоящем лишении? Отрада эта заключалась в сознании, что высокая мудрость Царская признала за благо водворить на кафедре знаменитого архиепископа Иннокентия достойного ему последователя, незабвенного нашего архипастыря, пр. Димитрия, – что ему указано это новое, высшее служение по Всемилостивейшему вниманию к его высоким святительским достоинствам.
«Преосвященный назначил свой отъезд из Тулы на 14-е июля, по совершении литургии в соборе: «прямо в собор я прибыл, из собора и отправлюсь», – сказал он. Еще с того времени, как преосвященный стал собираться в далекий путь, архиерейский дом ежедневно, с утра до вечера, наполнялся всякого звания народом, желавшим в последний раз проститься со своим добродетельным архипастырем и принять от него благословение. Число посетителей увеличивалось с каждым днем и в субботу, накануне отъезда, у него перебывало не менее 2000 человек. Всех Владыка приветливо принимал, благословлял и наделял нарочито приготовленными крестиками.
«Утром 14-го числа собор наполнился народом еще до благовеста. Было известно, что преосвященный поспешит начать литургию, чтобы ранее выехать в путь. Но только через час после начала благовеста он мог вступить в собор, ибо многочисленный народ ожидал его в архиерейском доме и на дворе, чтобы принять благословение, в чем не желал отказать благодушный архипастырь. Просторный наш собор не мог вмещать стекшегося народа. Духовенство едва могло пройти к выходу, для встречи преосвященного. По окончании часов протодиакон прочитал указ о назначении епископа Тульского и Белевского Димитрия епископом Херсонским и Таврическим. Началась литургия. Благоговейно молился народ: печать грусти лежала на всех. Прекрасное всегда служение преосвященного на этот раз казалось еще возвышеннее, еще трогательнее. Благообразный лик его отсвечивал особое, глубоко-молитвенное чувство. По окончании литургии преосвященный произнес последнее слово к своей возлюбленной тульской пастве.229 Он возвестил ей сам, что приспело время расстаться с нею; он слезно просил всех и каждого простить его, в чем перед кем согрешил; он пламенно благодарил за всю любовь, которою его здесь окружали; он просил всех и каждого молиться за него и заключил трогательным благословением града и всей тульской паствы. Слезы и рыдания народа были ответом на трогательные слова архипастыря и в свою очередь вызывали слезы и на его глазах. Это были минуты высокого напряжения чувств: все были глубоко растроганы... На молебствие, вместе с преосвященным, вышло из алтаря духовенство всего города (от 30-ти церквей). В последний раз с возлюбленным нашим Владыкою мы преклонили колена и молились все за него, он за всех. Окончилось пение гимна «Тебе Бога Хвалим» и преосвященный сошел с той кафедры, которую украшал шесть лет: невольно у каждого вырвался вздох. После обычного, при крестном осенении преосвященным с амвона, многолетия Государю Императору и всему Царствующему Дому, возглашено было многолетие пр. Димитрию, епископу Херсонскому и Таврическому, и затем жителям г. Тулы и всей пастве. В алтаре преосвященный прощался с духовенством. С чувством глубокой благодарности поклонились ему до земли все предстоявшие, просили его благословения в последний раз и святительских молитв о них в далеком краю. Растроганный до глубины души Владыка прощался с каждым, благословляя и прося прощения. Понятны чувства, исторгавшие у многих слезы: он любил всех, потому что обилен был христианскою любовью; его любили все, как Ангела своего и по сану и по душе.
Выступил преосвященный из алтаря и осенил народ прощальным благословением. В дружеских объятиях с начальником губернии смешались их слезы. Преосвященный мог только произнести: «в лице вашем благодарю всю губернию»; начальник губернии просил его молитв. Началось прощание с паствою. Благословляя каждого, преосвященный раздавал крестики. Более двух часов благословлял он народ в соборе и раздал до 6 000 крестиков. По выходе из собора, преосвященный намеревался сесть в приготовленный экипаж; но новые волны народа, не попавшего в собор, снова окружили его и громко просили благословения. Преосвященный должен был уступить этому желанию, и еще не меньше часа благословлял, медленно подвигаясь к кремлевской стене. Чрезвычайный жар, страшная теснота в народе и полусуточное бодрствование крайне утомили преосвященного и заставили его отказаться от утешительного намерения благословить весь народ. Дойдя до кремлевских ворот, Владыка окинул прощальным взором соборный храм, еще раз помолился и сел в экипаж. Но за кремлевскими воротами открылось новое зрелище, еще более поразительное. Вся широкая Киевская улица, на двухверстном ее протяжении, сплошь была покрыта народом и экипажами. Медленно и торжественно, при колокольном звоне всех городских церквей, подвигалась карета преосвященного, окруженная народом и сопровождаемая длинным поездом городских экипажей всех видов. Народ цеплялся за карету, как бы усиливаясь остановить, замедлить отбытие любимого архипастыря. Преосвященный продолжал благословлять. Далеко впереди, по сторонам и даже позади все шли, ехали или стояли с открытыми головами; равнявшиеся с каретою глубокими поклонами выражали свои чувства к отходившему в иной край святителю.
Выехав за заставу, преосвященный вышел было из кареты, чтобы благословить провожавших его, но нахлынувшая толпа мгновенно столпилась между лошадей и экипажей. Преосвященный, конечно, заметил опасность, которой многие подвергались от происшедшей давки, поспешил сесть в карету и поехал дальше. На выезде из городского предместья преосвященный снова остановился, чтобы благословить несколько семейств, провожавших его; но и здесь толпа не дала ему возможности выйти из экипажа: шоссе снова запрудилось народом; многие поднимали руки и громко просили о благословении, говоря, что они не могли приблизиться к Владыке ни в соборе, ни в кремле, и уже несколько часов ждут его здесь. Уже на пятой версте преосвященный в последний раз благословлял многих, хотя и здесь народ не давал ему долго выйти из кареты и спешил облобызать его десницу. Отсюда карета преосвященного поехала уже скоро. Народ стал на одном месте и долго не расходился, пока весь длинный поезд, провожавший Владыку, совсем скрылся из глаз. На седьмой версте от города стоял дорожный экипаж преосвященного. Здесь находились городской голова и много других граждан; здесь и закончилось это трогательное и поразительное прощание.
Преосвященный обещал не забывать нас в своих молитвах; не забудем и мы его ангельского святительства. Исчезнет с лица земли теперешний люд г. Тулы; но дети, внуки, отдаленные потомки – по преданию из рода в род – будут произносить имя епископа Димитрия с благоговением.
* * *
Не без намерения мы останавливались на некоторых подробностях в описании тульского периода жизни преосвященного Димитрия – периода сравнительно непродолжительного и неотличавшегося какими-либо блестящими деяниями его. Блестящих (в обычному, условном смысле) дел у Димитрия, как известно, и не было никогда. Но справедливость требует сказать, что именно в Туле сложился и вполне определился тот «образ святительства Димитриева», который далеко и ярко светил при жизни приснопамятного Владыки, не перестал светить и греть и после его смерти. Тульская паства первая испытала плодотворность его кроткого, любвеобильного и снисходительного управления. Здесь, в Туле, зачалась и возросла добрая слава этого архипастыря – высокого молитвенника, глубоко услаждающего чувства верующих проповедника, милостивца – бессребреника и нищелюбца, бедного для себя и богатого для жаждавших его милостыни. Здесь, как нигде потом, особенно проявилась народная любовь к нему. – В одной речи пр. Димитрий говорил, что самая дорогая для него паства – Херсонская, «с которою он сжился до тесных духовных уз». Со своей стороны любила его и Одесса, и усердно (как увидим) окружала его своею любовно. Но нигде преосвященный не был так популярен, в буквальном значении этого слова, – нигде так просто и непосредственно не высказывались чувства народной любви к нему, как в Туле.
Во всех классах тульского общества были почитатели Димитрия, высоко ценившие его достоинства, как Архипастыря и человека-христианина. Такой представитель тульской интеллигенции, как известный всем славянофил-богослов Алексей Степанович Хомяков, не мог говорить и писать об архиерее Димитрии без особенного восторга, наполнявшего его душу230. В средних слоях общества, между купечеством и мелким чиновничеством. Почему-то находилось много почитателей проповеднического таланта Димитрия: не мало было таких любителей, которые умели доставать копии с рукописей преосвященного, распространяли его проповеди в многочисленных списках и даже посылали их, в виде дорогих гостинцев, своим родным и знакомым – и в Москву, и в Ярославль и в Петербург. Вышедший в 1855 г. «сборник (далеко не полный) проповедей пр. Димитрий к тульской пастве» сделался настольною книгою не только духовенства, по долгу изучавшего слова своего архипастыря, но многих и очень многих из его паствы. Долго и после отбытия пр. Димитрия из Тулы, в хороших купеческих домах наблюдался такой порядок провождения праздничного времени: домохозяин собирал обыкновенно всю свою семью и домочадцев и сам поучал их чтением проповедей Димитрия; даже нарочно приглашались духовные лица или семинаристы, чтобы прочитать проповедь «по-настоящему – по-церковному».
Простой народ выражал свою любовь к преосвященному Димитрию по-своему. Тульские оружейники, составлявшие добрую треть (20,000) всего городского населения – эти представители оригинального на Руси типа заводского человека, необыкновенные любители церковного благолепия – не иначе называли преосвященного, как «наш батюшка Димитрий». Из них то преимущественно составлялись те многолюдные толпы, которые не только наполняли до тесноты храмы, в которых служил Владыка, но и встречали и провожали его экипаж по улицам города. Один случай, имевший место спустя много времени после отъезда Димитрия из Тулы, как нельзя лучше характеризует отношение к нему простого народа. Вызванный в Петербург в 1859 году, епископ Херсонский Димитрий остановился проездом в Туле и пожелал на другой день отслужить литургию в Николо-часовенской церкви. Несмотря на будний день и малую известность о прибытии и намерении преосвященного, народ не только наполнил храм, но и запрудил всю Посольскую улицу. А когда, по выходе из церкви, преосвященный стал благословлять стоявший на улице народ и раздавать листки своих поучений, то в толпе сделалась такая теснота и давка, что в руках преосвященного нечаянно оборвались четки и рассыпались по улице. Тут же многие бросились за четками и разобрали их по зернышку – себе на память, как священную драгоценность. И что же? Димитрий уехал из Тулы: а счастливым обладателям его четок благоразумные люди стали говорить, что усердие их к уважаемому архипастырю похвально, но самый поступок не благовиден, так как они сами, без воли Владыки, завладели так ценимыми ими зернами. Тогда в том же народе нашлись усердствующие, которые разыскали по городу всех обладателей зерен, собрали четки полностью, связали их и в надлежащем виде послали к святителю в Петербург, прося у него прощение за ненамеренный проступок. – В посмертных бумагах пр. Димитрия нашлись два письма от простых тульских оружейников, писанные ему – одно в Одессу в 1861 г., другое на Волынь в 1880 г. Письма эти безграмотны; содержание их: благодарность за полученные пособия и усердная просьба о новых. Но какая большая разница между этими бесхитростными писаниями и сотнями писем того же содержания, писанными людьми образованными, или претендующими на образованность! Писавшие простецы, как видно, хорошо знали детски-открытую душу святителя и высказывали ему свои чувства просто и в то же время умилительно. Один из них – глубокий старец, слепец, скорбит, между прочим, и о том, что, нося в своей памяти звуки голоса любимого архипастыря, он не имеет, по своей слепоте, представления о его внешнем виде. – «Святче Божий, заключает свое письмо другой простец, по отъезде твоем поминаю на молитве моей навсегда о здравии твоем. Мы любили тебя за сладко-глаголевые твои проповеди. Будь, Владыка, спасен навсегда по Божию хранению!» ...
Молитва, возносимая в простоте сердца за Архипастыря, была, конечно, лучшею для него наградою на земле. Но труды, понесенные пр. Димитрием по управлению Тульскою епархией, оценены были по достоинству и высшею властью. Дважды он удостоен был Высочайших наград: 13-го апреля 1853 г. «за ревностное служение и заботливость о словесном стаде» всемилостивейше сопричислен к ордену св. Анны I ст.; 7-го апреля 1857 г. «за отлично-усердное пастырское служение» Всемилостивейше пожалован знаками ордена св. Анны I ст. украшенными Императорскою короною.
Глава 3. Одесса
I
На пути в Одессу пр. Димитрий останавливался на короткое время в Орле – у пр. Смарагда. Затем посетил Киев, где за шесть лет мало что изменилось – и в городе и в академии, – и где бывший о. ректор нашел еще многих сослуживцев и старых знакомых. Но особенное удовольствие преосвященному доставило свидание с митрополитом Филаретом, который отечески радушно принимал гостя и, как бы предчувствуя скорую кончину231, дал откровенный и назидательный урок преемнику Иннокентия, предсказывая ему и будущие успехи по службе и те терния на пути, среди которых по условиям времени, и ему, на ряду с другими, придется проходить на ниве Божией. Двое суток провел пр. Димитрий в Киеве и поспешил в Одессу, куда хотелось прибыть к высокоторжественному дню рождения Государыни Императрицы. Накануне этого праздника, в пятницу 26-го июля, около пяти часов пополудни, он действительно прибыл в Одессу и, без всякой официальной встречи, в дорожном экипаже проследовал прямо в архиерейский дом, где, в крестовой церкви встречен был одним о. экономом с братией.
На другой день, 27-го числа, преосвященный прибыл в Преображенский кафедральный собор. И здесь встреча была обыкновенная – без речей и приветствий, без многолюдного собрания, – как будто вход нового Владыки был уже не первый, а привычный для него и для встречающих. Все делалось, как видно, по предварительному соглашению одесского духовенства с новым архипастырем, не желавшим, по своей скромности и смирению, никакой торжественности и почестей при вступлении на ту кафедру, на которой еще виден был след великого Иннокентия.
При служении первой литургии новым архиереем, по случаю высокоторжественного дня, в соборе присутствовали власти военные и гражданские и сословные представители богатого и многолюдного города. Не мало было любопытных, поспешивших видеть нового Владыку в первом его служении. Нельзя однако сказать, чтобы храм был полон богомольцев. Тем не менее, день своего обручения с Херсоно-Таврической церковью пр. Димитрий ознаменовал проповедью, которую нужно считать одною из лучших и замечательнейших его проповедей, и по содержанию и по красоте изложения. Проповедь делится на две половины, совершенно различные по содержанию и составляющие как бы две проповеди, сказанные одновременно. Первая часть проповеди посвящена высокоторжественному дню всероссийского праздника – объяснению глубокого значения этого светлого, радостного семейного торжества русского народа в честь Августейшей матери отечества; во второй – изложены мысли и чувства архипастыря, вступающего на новую кафедру. В этой последней части проповедь напоминает те ораторские речи святителей древней вселенской церкви, которые произносились в похвалу их великих предшественников, скончавшихся в подвигах веры и благочестия. Пред свежею могилою Иннокентия Димитрий напоминает своей новой пастве о невознаградимой утрате, которую понесла она в лице умершего архипастыря; выясняет значение этой утраты не только для Херсоно-Таврической, но и для всей православной церкви; отдает должную дань своему учителю в правдивых похвалах его делам и заслугам; смиренно указывает на свое недостоинство и невозможность заменить великого пастыря; но, в то же время, выражает и надежду и обещание потрудиться на пользу новой пастве, по мере сил своих.
«Что радостного для вас мог бы я принести вам с моим приходом! – говорил он в своей первой проповеди. – Мог бы разве, вместе с вами, оплакивать только преждевременную кончину незабвенного пастыря твоего, осиротевшая паства херсонская. Мог бы только скорбеть и болезновать с вами о том, – как внезапно и неожиданно угас светильник, иже бе горяй и светяй, который озарял своим светом не только всю страну сию, но и всю церковь православную; как преждевременно умолк вдохновенный глас, который оглашал неумолкаемо свою паству словом высокого проповедания, и которому внимали с любовью, во всех странах отечества нашего, души, ищущие своего спасения; как задолго еще до вечера жизни почил от дел своих неутомимый делатель вертограда Христова, который, казалось, призван был небесным Вертоградарем, чтобы восстановить падшее, обновить давно забытое, насадить и напоить новые леторосли сада Христова, благоустроить и украсить новую церковь херсонскую до степени славы и благолепия древнейших церквей отечественных. По истине мне остается только плакать о сем, и болезновать вместе с вами. Ибо аз пришед к вам, братие, приидох не по превосходству словеси. Не достоинство и дарования, которых не имею, поставили меня на место того, которому небесный Домовладыка взаимодал не один, и не два, а все десять талантов. Пришед в храм сей, я с глубокою скорбью вообразил себе и свое недостоинство и свою скудость духовную; взглянув на могилу, сокрывшую под спудом своим великого светильника, я живо восчувствовал всю тяготу вашей правдивой скорби. Став на месте сем, с которого вы привыкли слышать любимый глас любимого пастыря, со смирением исповедую пред вами: невознаградима утрата твоя, паства херсонская; не заменит для тебя новый пастырь твой великого пастыря почившего. Не услышится более с сего священного места то живое, проходящее до души и духа, слово, которое проникало в сердца слушающих и воспламеняло их к подвигам веры и благочестия. Не узрите более посреди вас того крепкого верою молитвенника, который, молясь и священнодействуя под громом выстрелов неприятельских, силою молитвы угашал разженные стрелы вражья. Не будете более свидетелями той многосторонней, блестящей деятельности, которая, казалось, одним взором, одним мановением руки все оживляла и восстановляла»232.
Не возможность заменить великого предшественника не слагала, однако, с нового пастыря его прямых обязанностей и не препятствовала ему явиться пред паствою «тем, чем он есть». В той же вступительной проповеди пр. Димитрий счел долгом заявить своим слушателям, что он будет, при Божией помощи, неустанным молитвенником и усердным проповедником; он даже указал на характер своей проповеди, как бы в отличие от красноречия своего учителя-предшественника. «Веруем и уповаем, говорил он своим слушателям, что Сам Иисус Христос – глава и пастыреначальник Церкви своей не оставит нас грешных без Своей всемогущей помощи; что Дух истины, при всем недостоинстве нашем, не престанет вразумлять, просвещать и наставлять нас на всякую истину, доколе Его всесвятой воле угодно будет сохранить нам жребий сего высокого служения, к которому призвала нас Его всепромыслительная премудрость. Чем более чувствуем мы скудость собственного слова, тем усерднее будем отверзать пред вами сокровище слова Божия и из него износить вам нетленную пищу и питие, для утоления духовной алчбы и жажды. Надеемся, что ваша любовь взыщет от уст наших и во учении нашем не препретельных человеческой мудрости словес, но духа Христова и силы духовной, просвещения верою, вдохновения любовью, утверждения в живом уповании на Бога... Уповая на сию преизобилующую благодать Божию, способствующую нам в немощах наших, со дерзновением возвещаем вам, по заповеди Господней» мир и благословение от Бога Отца и Господа Иисуса Христа и Духа Святого». – Так началось служение пр. Димитрия возлюбленной его пастве херсонской!
Одесса для Димитрия была отчасти знакомым городом. Еще в 1846 году, бывши ректором Киевской академии, он прожил здесь несколько дней в июле месяце, когда ревизовал херсонскую семинарию и подведомые ей духовные училища. Самый город через одиннадцатилетний период трудно было узнать, так как до крымской войны Одесса росла, что называется, не по дням, а по часам, благодаря «порто-франко», а во время самой войны не мало пострадала. Но для нового херсонского архипастыря приятно было встретить в своей пастве, особенно в среде духовенства и духовно-учебного персонала, многих старых и близких знакомых. Херсонская епархия, в духовно-учебном отношении, принадлежала к Киевскому округу, и почти все, служившие в епархии, духовные и светские лица с высшим богословским образованием были воспитанниками Киевской академии: одни – старшие по времени учения – были учителями и руководителями самого пр. Димитрия, – как преосвященный викарий Поликарп – сверстник и сотрудник Иннокентия, – и протоиерей М. К. Павловский233 – комнатный старший, потом бакалавр студента Кл. Муретова; другие были сослуживцами по Киеву; большинство же, начиная с ректора семинарий, архимандрита Серафима (Аретинского), и инспектора, архим. Геннадия (Левицкого) – были его учениками. Перечисляя знакомых в первом письме к брату своему, пр. Димитрий обращает внимание и даже высказывает удивление по поводу множества знаков отличия, коими украшено было представлявшееся ему городское духовенство: объяснял он это редкое в провинции явление авторитетностью Иннокентия (которому не отказывали в представлениях) и его заботливостью о возвышении херсонской епархии и, в частности, о поддержании того значения кафедрального его города, какое придавали Одессе все, называя ее русскою столицею на Юге.
Ко времени прибытия третьего архипастыря Херсоно-Таврическая паства представляла из себя еще «юную церковь – и по времени своего существования и по числу пасомых: со времени основания епархии (1837 г.) прошло только двадцать лет; число церквей в обеих губерниях едва доходило до 600; всего православного населения насчитывалось 1 122 000234. Но поставленная, по Высочайшей воле, при самом учреждении «в ряду других на высокую степень, в рассуждении высокого значения Херсонеса, как колыбели христианства для России», Херсоно-Таврическая епархия и по своему благоустройству стояла уже высоко. Благодаря энергии и кипучей деятельности предшественников пр. Димитрия, первых двух херсонских архипастырей – Гавриила и Иннокентия, церковно-общественная жизнь новороссийского края шла уже по широкому и глубокому руслу. Все необходимое для кафедры и епархиальных учреждений было сделано; хотя еще не мало, особенно из предначертаний гениального Иннокентия, оставалось в зачатках, или только в планах. А планы эти были широки и величественны по замыслу! – При первом же знакомстве с состоянием дел в новой епархии пр. Димитрий не мог не видеть, что действительно промыслу Божию угодно было поставить его на место учителя именно для выполнения и совершения его предначертаний. Во всех частях епархиального управления видна была мощная рука Иннокентия: с его именем связано было всякое дело. Для того, кто становился на место Иннокентия, лучшею гарантией успеха была решимость следовать его начинаниям и продолжать его дело. Для преосвященного Димитрия это дело было благим и желанным игом!
Первые дни пребывания в Одессе, как и в Туле, пр. Димитрию привелось проводить в постоянном общении с паствою – при частых торжественных богослужениях и при посещении различных учебных и благотворительных учреждений: крестный ход и водоосвящение 1-го августа, храмовой праздник в кафедральном соборе 6-го числа, праздники 15 и 16-го августа, высокоторжественные дни – коронования Их Величеств (26-го) и тезоименитство Государя Императора – все эти праздники, равно как и воскресные дни, для преосвященного были обязательными днями богослужений. Кроме того, в Александров день новый архипастырь освящал церковь в новом здании Ришельевского лицея. Вскоре пр. Димитрию пришлось близко познакомиться с этим одесским высшим учебным заведением, при посредстве знакомых ему главных деятелей в лицее.235 1-го сентября он опять служил литургию в лицейской церкви, а затем приглашен был присутствовать на акте, который на этот раз отличался особенною торжественностью. Между прочим, бывший тогда попечитель учебного округа, известный педагог Пирогов произнес блестящую речь «на новоселье лицею», и в этой речи, упомянув об отличных отношениях к лицею покойного Иннокентия, указал, как на особенное знамение, на знакомство с новым архипастырем при освящении их храма.236
Самым же торжественным за это время, важным для жителей Одессы и новым для пр. Димитрия, был праздник 22-го августа – день основания города, или – как привыкли называть одесситы – «именины Одессы». Едва ли это не единственный город в России, который, благодаря почину архиеп. Иннокентия, ежегодно празднует день своего рождения и наречения. Вскоре же по прибытии на Херсонскую кафедру Иннокентий предложил одесскому городскому управлению и градоначальству увековечить в народной памяти день, имевший особую важность в истории не только города и края, но и всей России. Его предложение, представленное при исторической записке, чрез Министра Внутренних дел, на Высочайшее воззрение в 1848 году, удостоилось утверждения Государя Императора, вместе с проектом торжественного церемониала на этот день. Историческая справка указывала на следующие обстоятельства возникновения Одессы. После блестящего окончания турецких войн и после упрочения в новом крае русского владычества, Императрица Екатерина II указала заложить торговую гавань и город при самом удобном заливе, близ татарской деревни «Хаджи-бей», и назвать будущий город Одессой. В исполнение Высочайшей воли на указанный пункт, вместе с военными и гражданскими властями края, прибыл Екатеринославский архиепископ Гавриил (Бодени), который, совершив 22 августа 1794 года, под открытым небом молебствие Господу Богу, положил первый камень «новому граду» на берегу, близ нынешнего приморского бульвара. В тот же день пр. Гавриилом была совершена закладка двух храмов – одного, во имя св. Екатерины, при основании города, и другого, во имя св. Николая, близ нынешнего кафедрального собора. Эти обстоятельства одного исторического дня Иннокентий положил в основание праздника. По составленному им церемониалу, 22 августа ежегодно должен совершаться «всеградский» крестный ход, который своим направлением как бы восстановлял первый крестный ход, бывший в день основания Одессы. К 9-ти часам утра духовенство всех одесских церквей прибывает с иконами и крестами в церковь Архангело-Михайловского монастыря (ближайшую к месту бывшей Екатерининской церкви); отсюда общий крестный ход, имея во главе архиерея, направляется в кафедральный собор (на месте которого был первый соборный храм св. Николая). После литургии, совершаемой архиерейским служением, крестный ход возобновляется по направленно от собора на морской берег, – к тому месту, где положено было основание города. Здесь совершается благодарственное молебствие, на котором читается особая коленопреклоненная молитва, составленная на этот случай пр. Иннокентием. В состав праздничного церемониала вошли некоторые особенности, свойственные нашим юго-западным городам, как предания старины: церковному крестному ходу предшествует процессия, в которой участвуют сословные представители города – ремесленные цеха, мещане и купеческие гильдии – все с своими значками и знаменами; замыкает же процессию военный парад с приличною музыкою.
Как много значения придавал этому празднику Иннокентий, доказывают его заботы об упрочении торжества на будущее время. После первого празднования «именин» Одессы (1848 г.) он послал многим преосвященным архиереям письма, в которых извещал о новом торжестве в своей епархии и просил их, от имени древних градов русских, благословить юный, но уже сильный и знатный город, который, как аванпост русской православной жизни и мысли, далеко выдвинутый на заветный восток, ожидает – по мысли Иннокентия – своей знаменательной будущности. Все отозвались на этот призыв не только добрым словом и благожеланиями, но и вещественными свидетельствами молитвенных благословений. Двадцать три русских города, через своих архипастырей, прислали в благословение Одессе иконы святых угодников Божиих, которые – каждый в своем граде и стране – особенно чествуются, как заступники и молитвенники об отечестве. С особенною честью принял всероссийские дары пр. Иннокентий. Случилось, что в это время один из одесских граждан заявил архиепископу желание построить на свои средства храм близ того места, на котором в прошлом столетии положено основание городу. Пр. Иннокентий, с радостью встретивший такое предложение, со своей стороны выразил мысль, что в этом храме должны быть поставлены все иконы, присланные русскими архипастырями в благословение городу, и самый храм следует освятить «во имя всех Российских святых». (Единственная в России церковь такого храмонаименования). Построение этого храма закончилось уже по смерти Иннокентия, при преосвященном Димитрии, и освящение его совершено 9-го мая 1862 года. С этого времени, в этом храме обыкновенно заканчивается торжество 22-го августа.237
Пр. Димитрий, как непосредственный приемник Иннокентия, заботливо поддерживал установленный им праздник, со всею торжественностью; он даже увеличил это торжество. Не опустительно каждый год он принимал участие в целодневных крестных ходах. Кроме того, в первый же год (1857), накануне праздника, 21-го августа, он сам, вместе с соборным духовенством, служил заупокойную литургию и панихиду, поминая всех почивших основателей и создателей града, благотворителей и попечителей; при чем, пред панихидою говорил слово о значении праздника и обязанностях каждого гражданина поминать молитвою общественных деятелей, принесших при жизни посильную пользу городу.238 Такое поминовение совершалось потом ежегодно. Если случалось пр. Димитрий быть в летние месяцы далеко от кафедры, по обязанностям обозрения епархии, то к именинам Одессы он непременно возвращался домой и всегда служил два дня – 21 и 22 августа. Впоследствии он имел утешение видеть и умножение дорогого для города собрания благословенных икон. Две иконы он привез сам: одну – св. Тихона Задонского от гробницы новопрославленного святителя, когда возвратился из Петербурга, а другую – Божией Матери Почаевской, при вторичном вступлении на херсонскую кафедру.
Закончив праздничные торжества в Одессе и посетив духовно-учебные заведения, пр. Димитрий счел долгом посетить важнейшие города своей епархии и выбыл из Одессы в первых числах сентября. Прежде всего он посетил губернский город Херсон, где находятся все губернские учреждения и имеют пребывание губернские власти; здесь живет и преосвященный Викарий. Отслужив в первый день литургию в Успенском соборе, пр. Димитрий остался на несколько дней у пр. Поликарпа, для посещения учебных заведений и некоторых общественных учреждений. Затем, проехал в Бизюков монастырь, расположенный на замечательно красивом берегу Днепра, выше Херсона. Оттуда он направил свой путь в Тавриду. В день Воздвижения Креста Господня служил в соборе города Керчи; а на другой день освящал церковь в керчинском институте благородных девиц. Посетив затем южный берег Крыма, преосвященный прибыл наконец в многострадальный Севастополь, еще лежавший в то время в развалинах, – разоренный и наполовину опустевший после страшного погрома. Не одно любопытство привело сюда нового архипастыря, но главным образом заботы и попечения о той части своей паствы, которая так много пострадала и столько времени жила под страхом смерти, – желание на месте видеть духовные нужды пастырей и пасомых, чтобы с пользою для них принять участие в заботах гражданского начальства о восстановлении разоренного города. Прежде всего он принес утешение жителям Севастополя в общей с ними молитве и в поучении. В «неделю по Воздвижении» преосвященный служил в адмиралтейском севастопольском соборе литургию и говорил о необходимости каждому христианину нести свой крест, при чем указывал своим слушателям на особый крест, понесенный ими. «Вам, братие мои, говорил им Владыка, Господь послал такой особенный, страшный крест, какой подает Он токмо немногим, избранным крестоносцам. Ужас объемлет при одном взгляде на эти развалины, в которые превратился цветущий некогда ваш град, – тем паче, когда помыслишь, что вам надлежало быть свидетелями в течение целого почти года, как образовались одна за другою эти развалины, как разрушались постепенно ваши жилища; когда воображаешь, что каждый камень облить здесь кровью, что долго еще надобно будет поливать эти развалины и потом и слезами, чтобы воссоздать из них что-либо. Нужно ли, после сего, приглашать вас еще взять крест свой, когда он так ужасно отяготел на вас всею, неизмеримою тяжестью? Вам то преимущественно и должно отнести к себе слово Господне: иже хощет по мне ити, до возмет крест свой и по мне грядет239.
Между тем в Севастополе в эти дни готовилось особенное, всероссийское торжество – закладка храма-памятника над могилами павших на поле брани русских воинов. Город был, можно сказать, окружен множеством холмов, насыпанных над могилами – русскими и вражьими; но особенно высоко поднимался такой холм близ старинного севастопольского некрополя, на северном берегу бухты, где были погребены все, павшие в стенах крепости во время ее осады. Здесь были могилы славных вождей: Горчакова, Хрулева и многих других, имена которых украшают истории обороны Севастополя; здесь лежат кости тех офицеров, списки которых украшают ныне стены воздвигнутого храма, и того множества простых воинов, имена коих Бог весть. На этом именно холме Высочайшею волею было указано воздвигнуть достойный и прочный памятник, для увековечения памяти о године грозного посещения Божия и о славных подвигах «севастопольских героев»240. В назначенный день пр. Димитрий служил заупокойную литургию в ближайшей Петропавловской церкви, из которой вышел потом крестным ходом к месту закладки храма. Здесь в присутствии местных и нарочито прибывших представителей военной и гражданской власти, а также расположенных в Севастополе частей сухопутных и морских военных сил и множества народа, после совершения молебствия, положен был им первый камень, в основание священной твердыни. При этом случае преосвященный произнес слово, раскрывшее великое значение этого всероссийского памятника-храма славы Божией. «Надлежало отечеству, говорится между прочим в этом слове, увековечить славную память доблестных сынов своих достойным их самоотвержения памятником; надлежало и церкви святой почтить, по достоянию, мученический подвиг верных ей до крови и до смерти чад ее. И вот мы создаем над могилою их храм Божий... Этот храм есть дар от всей России241 доблестным сынам ее, положившим души свои за братию свою. И мы уверены, что этот святой дар будет принят ими паче всех драгоценнейших в мире даров. Этот храм есть матернее благословение св. Церкви возлюбленным ее чадам, пролившим за нее кровь свою. Что же может быть драгоценнее и отраднее для них молитвы св. Церкви? Этот храм есть памятник отечественный, воздвигаемый в память минувшей брани, в честь и славу падшим героям Севастополя, в поучение и наставление потомству. О, как много и неумолкаемо будет вещать сей памятник во все последующие роды! Он будет возвещать всему миру о высокой самоотверженной преданности св. вере России и благочестивейших царей ее, о бескорыстной готовности, в уповании на Бога – стать за св. веру и братию своих по вере, не только против соединенных сил многих народов, но и против всех сил адовых. Он будет вещать отныне и на веки несмываемый позор западных христиан, ставших с таким усердием и с такою ревностью под позорное знамя Магометово»242.
Крым и Севастополь больше всего напоминали пр. Димитрию его знаменитого предшественника Иннокентия, оказавшего здесь, во время войны, подвиги личного мужества и сострадательного милосердия к больным и раненым. Но, кроме этих подвигов подражания, он оставил своему преемнику смелый и оригинальный, далеко еще невыполненный, проект, относившийся именно к устройству Крыма.
В свое время, на крайнем севере – в Вологодской епархии, Иннокентий открыл «Русскую Фиваиду». Своим оживляющим словом он облек собранный исторический материал и тем восстановил в народной памяти, к большему прославлению во святых, целый сонм северно-русских подвижников и пустынножителей. Здесь на Таврическом полуострове, он думал устроить «Русский Афон» – вящший древле-эллинского, Македонского Афона. Мысль о русском Афоне зародилась в голове славного витии очень давно. Еще в 1836 году, когда под гнетом тяжелых впечатлений стремился – то в Иерусалим, то на Афон, – в первый раз и случайно ему привелось побывать в Крыму; тогда-то, оживший душою под влиянием климата и красивой природы, он усердно начал изучать историю древней Тавриды и побывал во многих местах, прославленных еще в первые века христианства подвигами многих святых. Тогда же он мысленно намечал разные пункты для устройства новых русских монастырей, с целью восстановить древнейшую святыню в пределах Новой России. Сделавшись архиепископом Херсонским и Таврическим, Иннокентий решил привести в исполнение давно задуманное. И в этом его не малая заслуга! До Иннокентия смотрели на Крым, как на завоеванное татарское царство; он первый указал на неприличное для господствующей религии запустение древлепрославленных мест Тавриды. Как деятельный член «Одесского общества древностей»243, он скоро ознакомился с местной археологией и составил «Предположение о восстановлении значительнейших священных мест Крыма, с учреждением в них иноческого пустынножительства, по чину и подобию св. горы Афонской». – Для начала Иннокентий предполагал устроить один скит и восемь киновий244. Лично представленное им Св. Синоду, это «предположение» удостоено Высочайшего утверждения (15 апр. 1850 г.), а вскоре за тем (14-го мая) последовал и указ Св. Синода, которым предписывалось: 1) первоначально основать скит на Успенской горе (близ Бахчисарая); остальные же киновии основывать постепенно, по мере имеющих открыться способов; 2) образ жизни в сих скитах ввести общежительный, по примеру Афонских монастырей; 3) в Успенском ските иметь настоятелем игумена или архимандрита; 4) число братии иметь по мере средств к содержанию; 5) скиту и киновиям содержаться своими трудами. – К исполнению указа Иннокентий приступил немедленно. В то же лето (15-го авг. 1850 г.) он открыл Успенский Бахчисарайский скит, и первым начальником иноков испросил у Св. Синода испытанного мужа-подвижника, своего друга и товарища по академии, архимандрита Поликарпа245. В 1853 году освящена была Инкерманская киновия, и уже все подготовлено было к открытию Киновии-Херсонесской. Нагрянувшая война все остановила. После войны, осенью 1856 и ранней весною 1857 г., Иннокентий, уже больной, опять был в Крыму и успел освятить временную церковь для Херсонесской обители; но на этом остановились его заботы. С мыслью о русском Афоне он отошел в вечность.
Димитрий сочувственно относился к мысли Иннокентия, так как сам был того же взгляда на важное значение исторических святынь и на развитие на Руси строгого иночества. Во всяком случае он считал своею обязанностью продолжать труды Иннокентия, начатые вследствие указа Св. Синода. Ближайшею его заботою было устройство Херсонесской обители, которая, вместе с Севастополем, очень пострадала во время Крымской войны. Кроме того, была еще побудительная причина остановить здесь все внимание – это установившаяся к тому времени мысль о построении храма на месте крещения св. князя Владимира, Просветителя России. Еще император Александр I, посетивший Крым в 1817 году, указал на развалины Херсонеса, которые, как всероссийская купель крещения, должны быть украшены достойным памятником. При императоре Николае Павловиче признано было нужным построить храм во имя равноапостольного князя Владимира; но место для храма указано было в самом Севастополе, на южном берегу бухты, где тогда же был заложен фундамент для храма246. Только после Крымской войны, по представлению пр. Димитрия, решено окончательно принять мысль Иннокентия о построении храма св. Владимира в самом Херсонесе, над развалинами древнего греческого храма, который по соображениям историков-археологов был вероятным местом крещения святого Просветителя России. Вскоре после первого путешествия по Крыму пр. Димитрий написал донесение Св. Синоду о состоянии Херсонесской киновии, вместе с этим донесением, представил ходатайство жителей Севастополя об установлении особого церковного торжества «на память о грозных событиях минувшей войны». Связывая оба побуждения – желание севастопольцев и начало прославления древнейшего священного места новым памятником, преосвященный просил разрешить учреждение ежегодного торжественного крестного хода из Севастополя в Херсонесскую обитель 15-го июля. В начале следующего (1858) года состоявшееся по сему представлению определение Св. Синода удостоилось Высочайшего утверждения, вместе с особым церемониалом этого праздника. Летом этого года Димитрий ожидал в Одессе только 26-го мая – дня первой годовщины по смерти пр. Иннокентия. Отслужив заупокойную литургию в кафедральном соборе и помолясь, вместе с городским духовенством и прочими почитателями приснопамятного Владыки, на его могиле, преосвященный на другой же день отправился в продолжительное путешествие для обозрения епархии. Весь июнь он посвятил на обзор Ананьевского, Елисаветгратского и Александрийского уездов; в начале июля прибыл в Крым и 15-го числа в первый раз торжественно совершил Высочайше утвержденный крестный ход из Севастополя в Херсонес. Вот как описывал это торжество один «очевидец»247.
Почти одновременно с столичным торжеством – освящением Исакиевского собора, на берегу Черного моря совершилось великое и знаменательное торжество – возобновление Херсонесской обители св. равноапостольного князя Владимира. К 15-му июля, по распоряжению пр. Димитрия, в Севастополе собралось духовенство из многих мест епархии. Накануне праздника всенощное бдение совершал в обители сам архипастырь: оно началось в 6 часов и только к 11-ти мы услышали пение – «Взбранной Воеводе». Утром 15-го все пространство по дороге от Севастополя к обители было усеяно богомольцами. В севастопольских градских церквах отслужены ранние литургии, по окончании которых все духовенство с иконами и крестами собралось в морской Николаевский собор. Сюда же прибыли приехавшие из других мест и монашествующие из Балаклавского и Успенского монастырей. По прибытии в собор преосвященного и по облачении его началось молебствие св. кн. Владимиру и, с пением тропаря, начался крестный ход, при пушечной пальбе с батарей и судов. В процессии участвовали военные, морские и городские чины, городские цехи при своих значках, воспитанники учебных заведений и войска сухопутные и морские. За иконами и крестами два архимандрита несли особую святыню монастыря – ковчег с частицею мощей св. кн. Владимира. Были и корсунские кресты, сделанные на подобие тех, которые привез во время оно св. Владимир. У Петропавловской церкви архипастырь взошел на устроенное возвышение, прочитал Евангелие молебна и потом ковчегом св. мощей осенил град на четыре стороны. После сего процессия продолжала идти к пролому на 5-м бастионе, где, по возглашении многолетия, преосвященный осенил народ животворящим крестом. Отсюда процессия направилась к обители мимо городского кладбища; там совершена была лития с возглашением вечной памяти православным воинам, на брани живот свой положившим. Настоятель обители встретил с братией крестный ход в проломе старой стены, заменявшем св. врата, – с пением торжественной песни «Светися, светися новый Иерусалиме». По прибытии крестного хода совершена была преосвященным соборно божественная литургия. – Зная, что при каждом богослужении архипастырь наш говорит трогательные поучения, мы в этот день тем паче надеялись слышать слово, соответствующее важности торжества. И действительно, под конец литургии преосвященный изсшел на амвон, и первые слова, им произнесенные, показали, что надежда нас не обманула. Мы ожидали слова торжественного, и оно – от начала и до конца – было торжественно и глубоко действовало на душу. Предметом слова было исчисление богатства даров веры православной, которые отсюда, т. е. из Херсонеса прияла вся Богом хранимая Россия248. Благодарственным Господу Богу молебствием закончилось торжество этого знаменательного дня».
Осенью того же 1858 года открыта была повсеместная подписка на построение храма св. Владимира в Херсонесской киновии: вслед за воззванием от имени Св. Синода по этому предмету последовало особое воззвание от епархиального Херсоно-Таврического начальника, с указанием на все нужды разоренной обители. В то же время пр. Димитрий исходатайствовал награды благотворителям и благоукрасителям Херсонесской киновии249. Нашел уже преосвященный и новых жертвователей, готовых помочь Инкерманской обители, которая теперь стояла на очереди и ожидала обновления после долгого запустения. Но... все заботы Димитрия о Тавриде и ее обителях скоро должны были прекратиться по простой причине, именно по случаю отделения Таврической епархии от Херсонской.
Собственно в Херсонской губернии, образовавшейся из Украинских степей – исторического поприща кочевых народов, не было не древних памятников, ни заветных святынь. Между тем, каждая область всероссийского царства в том и сознавала свою силу и полноту жизни, что почитала себя под особым покровом благодатной силы ради местных святых, просветивших страну своими подвигами, или ради являвшихся чудотворных икон. Пр. Иннокентий видимо желал такого небесного покрова для своего края, когда со всей России собирал благословения для Одессы; но только Димитрий успел утвердить в сознании своих пасомых мысль, что и их страна процветает, живя под особым водительством Самой Божией Матери. Он указал на чудотворную Ее икону Касперовскую, как на святыню, давно чтимую местно и достойную прославления во всей епархии. Своим ходатайством пред высшею церковною властью он установил особое торжество в честь иконы и порядок молебствий пред нею в разных местах епархии; а своими постоянными усердными молитвами пред образом небесной заступницы показал пример и оставил завет для всех грядущих поколений.
Касперовская икона Божией Матери, по преданию, в конце XVI века была принесена из Трансильвании одним сербом, поселившимся в пределах нынешней Херсонской губернии – близ Ольвиополя. Преемственно переходя, как родовая святыня, икона сия в 1809 году была передана помещице Иулиании Ион. Касперовой, владелице села Касперовки (на р. Днепре, в 25 верстах от г. Херсона). В феврале 1840 г. г-жа Касперова, имея много душевных горестей, долго и усердно молилась ночью пред иконою, и в это время заметила, что лики Богоматери и Спасителя (весьма ветхого письма) просветлели и так остались. Целый ряд последовавших затем чудес от иконы прославил ее. По расследовании, Св. Синод признал Касперовскую икону чудотворною и разрешил продолжать молебствия. Осенью 1853 г., именно 1-го октября неприятельский флот остановился в виду Одессы и угрожал бомбардированием города. Пр. Иннокентий указал совершать по городу крестный ход с иконами, в числе коих была и икона Касперовская. В следующую ночь неприятель скрылся. Почитая это событие за знамение покровительства Божьей Матери городу, одесситы тогда же положили воспоминать событие 1-го октября ежегодно250.
Пр. Димитрий, на второй год своего пребыванья в Одессе, вошел в Св. Синод с особым представлением, в котором просил разрешить ежегодное перенесение чудотворной иконы Божьей Матери из села Касперовки в Одессу, в память избавленья города от врагов в 1853 году. По всеподданнейшему докладу Св. Синода, согласному с представлением херсонского епископа, 21 сентября 1858 г. последовало Высочайшее Государя Императора соизволение на «ежегодное, в 1-й день октября, перенесение из села Касперовки в г. Одессу чудотворной иконы Божьей Матери с крестных ходом от гавани до кафедрального собора, – с тем, чтобы икона оставалась в одесском соборе до светлой седмицы, в среду на которой, с таким же крестным ходом была возвращаема в село Касперовку; кроме того, в летнее время с касперовскою иконою разрешалось посещать и другие местности, в пределах херсонской епархии». – Однако, в настоящем 1858 году выполнение в точности разрешенного торжества для г. Одессы оказалось невозможным, так как, с одной стороны, самый указ о том Св. Синода был получен уже после 1-го октября, а с другой – в эту именно осень в Одесской гавани держали строгий карантин по случаю холеры. Только в начале ноября жители Одессы были оповещены от епархиального начальства, чрез местный газеты, о предстоящем торжестве, назначенном на ближайший Богородичный праздник – на 21-е число; при этом опубликован был и утвержден церемониал крестного хода. Пароход из Херсона с чудотворною иконою и сопровождавшими ее духовенством и множеством богомольцев, прибыл в одесскую гавань утром 13-го ноября. Здесь прибывшую святыню встретил пр. Димитрий с крестным ходом от всех городских церквей. С пением молебна Богородице поднята была чудотворная икона и перенесена в крестовую церковь архиерейского дома, где и оставалась до праздника «Введения во храм прест. Богородицы“. В этот день опять прибыл к архиерейскому дому всеградский крестный ход, который вышел потом из крестовой церкви в 9 часов утра, имея во главе архипастыря. На площади у собора совершена лития, после которой Владыка взял икону Божией Матери, осенил город на четыре страны света и затем на своей главе внес ее в соборный храм. По совершении поклонения, при пении кондака «О, всепетая Мати», начата была литургия, пред окончанием которой преосвященный произнес слова «о достойном сретении Царицы небесной в Ее чудотворном образе»251. После благодарственного молебствия за избавление града от бед и напастей в брани провозглашено многолетие Царствующему Дому и вечная память императору Николаю Ι-му. Закончилось торжество целодневным звоном во всех городских церквах252. Так Димитрием положено было начало церковному торжеству в Одессе, повторяющемуся ежегодно и до ныне.
Трудно судить о том, насколько чувство религиозного благоговения пред новою святынею скоро и глубоко проникало в сердца жителей разноплеменной Одессы; но для православной паствы, в этом отношении, открыто было сердце самого их архипастыря, которому Бог привел водворить при своей кафедре эту святыню. В чувствах благодарения Богу и Его Пречистой Матери, пр. Димитрий установил, чтобы в соборе пред иконою Касперовской, еженедельно – по пятницам, совершалось всенародное молебствие с чтением акафиста Богородице. И редки, очень редки были пятницы, когда акафистное пение пред чудотворною иконою совершалось соборным духовенством без участия их архипастыря. В эти дни пр. Димитрий поучений не говорил; но для молящихся с ним была глубокопоучительна его молитва к Богоматери, под покровом которой, как он веровал, текла вся его жизнь, со дня рождения. Еще в Киеве он, как настоятель Киево-братского монастыря, каждую субботу служил молебны пред «Братскою иконою Божией Матери» и своим необыкновенным чтением акафиста собирал такое множество богомольцев, какого не бывало ни прежде, ни после него. С годами, конечно, росло и чувство и внешние его выражения». Акафистные изречения, выходя из уст пр. Димитрия, имели способность возбуждать в душе слушающего такое чувство, которое, по отзывам его постоянных сослуживцев из духовенства Одесского собора, можно переживать, но трудно выразить словами»253. Далее мы увидим, как велика была скорбь и глубока рана, нанесенная сердцу Димитрия, одним печальным случаем с тою же Касперовскою иконою, имевшим место в 1872 году. Но здесь необходимо отметить, что как в ходатайстве о разрешении на пребывание чудотворной иконы в Одессе руководило Димитрием искреннее и живое желание иметь «залог благодатного покрова и милосердного заступления Матери Божией новому граду»254, так и в постоянных молитвах пред этою иконою его поддерживало и укрепляло твердое упование на милости Царицы Небесной. Замечательно, что последнею на земле, общественною молитвою его был акафист пред Касперовскою иконою Божией Матери, читанный покойным Владыкою за два дня до смерти. А при жизни, лучшим даром, на память о себе, он считал благословение образом – копией с той же чудотворной Касперовской иконы255.
К первому времени управления Херсонской епархией относится еще одно важное представление Димитрия Св. Синоду. В Херсонской губернии, по низовьям р. Днепра, еще в прошедшем столетии устроены были военные поселения. Находясь в ведомстве Военного Министерства, поселения эти, отличавшиеся своими бытовыми условиями жизни, имели и в церковном отношены особенности, применительные к их военному быту. Как самые церкви в поселениях строились от казны, так и церковное хозяйство, в обширном смысле, было в руках ктиторов – непосредственных военных начальников над поселенцами; даже священнослужители избирались тем же военным начальством и находились потом в полной от него зависимости. Такие порядки причиняли не мало затруднений для епархиального начальства. Пр. Иннокентий во все девять лет управления Херсонской епархией ни разу не посетил ни одного поселения и открыто высказывал свое недовольство ими. Со временем прибытия в Одессу пр. Димитрия совпадало преобразование Херсонских поселений. Наделенные обширными участками земли поселенцы перестали быть военными и в 1857 году перечислены были в Министерство Государственных имуществ. Вместе с общественным инвентарем Военное Министерство передало вновь назначенным окружным начальникам и церкви, со всем церковным хозяйством, как оно велось прежде. Новое начальство, имея в виду прежнее особенное положение поселенческих церквей, выработало проект учреждены «церковно-попечительных советов», который был утвержден Министерством и сообщен местному епархиальному начальству. Пр. Димитрий естественно недоумевал, как принять это сообщение: не мог он принять его к исполнению, как исходившее от неподлежащей власти; не мог и оставить только «к сведению», как касающееся его прямых обязанностей. Поэтому, он счел необходимым представить все дело в Синод. Там начались продолжительные сношения и переписки по этому делу с подлежащими ведомствами. Между тем «церковные советы» были уже введены в своих местах и открыли свои действия. Тогда Димитрий, в новом представлении Св. Синоду, от 6 марта 1862 г., подробно раскрыл свой взгляд на новое дело и выяснил все затруднения, которые вытекали из положения новых учреждений в его епархии. Он доказывал, что правила «церковных советов» не только не согласуются с действующими церковно-гражданскими узаконениями, но и нарушают основные церковные каноны. (Указано на Ап. прав. 4, Антиох. собора 24 и Карфаг. 42). По важности дела Св. Синод потребовал мнения на этот предмет от своего старейшего члена, Моск. Митрополита Филарета, который и произнес строгий суд над «правилами ц. советов», став на точку зрения Димитрия. Самое начало ответного донесения Филарета показывало характер его суждений. «Из донесения преосвященного Херсонского Св. Синоду, писал он, открывается необычайный случай в церковном управлении. Составлены правила о церковных советах, и, без ведома Св. Синода, утверждены г. Министром Государственных Имуществ, и, без отношения к епархиальному архиерею, окружным начальством вводятся в епархиальное управление. Нельзя не признать здесь уклонения от установившегося порядка». Указав затем на противоречие «правил» с общими постановлениями, митрополит дает такое заключение: «Церкви и приходы поселений, как скоро перестали подлежать военному исключительному управлению, естественно должны входить в общее положение церквей и приходов». Однако м. Филарет, как и пр. Димитрий, не отрицали вообще возможности существования приходских попечительных советов, в которые входили бы лучшие представители прихода; напротив, они признавали полезными и нужными подобные учреждения в каждом приходе, особенно сельском, только с другими целями и другою организацией. Пользуясь настоящим случаем, м. Филарет представил в Синод свой проект, который послужил потом основанием для «устава о церковных приходских попечительствах», введенного, с Высочайшего соизволения, в действие с 1864 г.256.
Что же касается Херсонских военных поселений, то вопрос о церквах и духовенства тогда же был решен, согласно разъяснению Св. Синода, на лучших условиях, – с сохранением преимуществу какими пользовалось духовенство прежде, и даже с улучшением его быта. По новому докладу Министра Гос. Им., Государь Императору 24 янв. 1863 г., Высочайше повелеть соизволил: церкви и духовенство поселении передать в непосредственное заведывание епархиального начальства, на следующих основаниях: 1) Всем ныне состоящим при церквах южных поселений священно и церковно-служителям оставить те оклады жалованья, какими они ныне пользуются. 2) Всем священникам, которые ныне состоят на службе в поселениях, а также их семействам, сохранить присвоенное им ныне право на получение пенсии из государственного казначейства, хотя бы они дослужили установленные сроки после поступления их в ведение епархиального начальства. 3) Отпускаемые на содержание духовенства 42.316 р. 25 к. перечислить в смету расходов по подлежащему ведомству, имеющийся особый церковный капитал передать в ведении Св. Синода, а принадлежащая церквам суммы в ведение сельских церковных советов (которые сохранились на новых началах и были первыми ц. попечительствами)257.
К тому же времени относится полезное и важное распоряжение пр. Димитрия, в предупреждение смутных толков по поводу предстоявшего освобождения крепостных крестьян. В 1858, году открыты были Губернские Комитеты «об устройстве быта крепостных крестьян». При этом случае пр. Димитрий обратился к сельским священникам Херсонской епархии с архипастырским посланием, которым «внушалось, в предупреждение разных неправильных толков, основанных по слухам о предстоящей воле, употреблять все зависящее благотворное влияние на помещичьих крестьян, убеждая их словом Божиим и собственным примером кротости, скромности и благоразумия к терпеливому ожидании решения сего вопроса высшим правительством. Духовенству при этом предписывалось самому держаться в стороне от всяких замешательств, убеждать своих прихожан к покорности властям и всеми мерами споспешествовать правительству в христианском и человеколюбивом деле и тем исполнить свой пастырский долг»258.
Не успел еще преосвященный Димитрий надлежащим образом освоиться на новом месте служения, – не установились еще прочные отношения между паствою и новым архипастырем, как вскоре последовал ряд перемен, замедлявших упрочение союза. Только один год прослужил при Димитрий Одесский викарий, пр. Поликарп, давнишний знаток края и епархии, от юности ближний сотрудник Иннокентия и живой свидетель его дел: в июне 1858 г. пр. Поликарп перемещен был на кафедру Орловскую. Затем, важнейшее в епархии учреждение – семинария перешла в новое заведывание и управление: в том же 1858 г. взят был на другую службу инспектор, архимандрит Геннадий, служивший здесь больше 10-ти лет; а в начале 1859 г. Одесса проводила ректора семинарии, архим. Серафима, сердечность которого привязывала к нему не только семинарию, но и весь город. Повыбыли за это время из Одессы и другие, недуховные лица, с которыми был близок пр. Димитрий259. Но самою большою переменою, – важным обстоятельством в церковно-общественной жизни одесситов, – был неожиданный вызов в Петербург самого преосвященного Димитрия. В то время никто, конечно, не мог знать – ни преосвященной ни паства, – что разлука, их будет продолжительна, что на целых три года прерываются их непосредственные взаимоотношения; а с другой стороны, никто также не мог предсказать, что возвращение архипастыря, после продолжительного его пребывания у центра церковной и государственной жизни, и притом в такое время – чреватое стремлениями к реформам, принесет Херсонской пастве широкую струю новой жизни.
II
В апреле 1859 года в «Духовной Беседе» – официальном органе Св. Синода помещен был следующий указ. «Государь император, по поводу приближения сроков вы- званным в С.-Петербург для присутствования в Св. Синоде преосвященным: Афанасию, архиепископу Казанскому, Филарету, архиепископу Черниговскому и Филофею, епископу Тверскому, коим срок присутствования оканчивается: первому – 1-го мая, второму – 5 мая и третьему – 27 апреля сего года, Высочайше соизволил повелеть – вызвать в С.-Петербург, для присутствония в Св. Синоде, сроком на один год: члена оного, преосвященного митрополита Киевского Исидора и епископов: Херсонского Димитрия и Вятского Елпидифора, – с тем, чтобы митрополит Киевский прибыл сюда после храмового праздника в Киево-Печерской Лавре, 15 августа, а до того времени оставался здесь епископ Тверской Филофей, и чтобы в отсутствие епископа Вятского управлял Вятскою епархией викарий Казанской епархии, епископ Никодим». По содержанию указа, из трех архипастырей, призывавшихся к участию в высшем церковном управлении, очевидно одному епископу Херсонскому надлежало явиться в Петербург без промедления, так как ему, при наличности викария, не представлялось никакого затруднения в устройстве епархиальных дел. Между тем первое известие о вызове в Св. Синод крайне смутило пр. Димитрия, всегда робкого и боязливого, а на сей раз еще недоумевавшего, – кому и чему обязан он, сравнительно младшие между епископами, таким высоким вниманием. Насколько сильно встревожен был он этим известием, видно между прочим из одного его письма того времени. «Вот сущая-то беда и напасть», – писал он (29 апр. 1859 года) своему другу, архимандриту Петру, настоятелю посольской церкви в Константинополе. – Чуть ли мне не доведется прокатиться в Питер. Указа еще не получал, но частное сведение имею, что положено – вытянуть нашу мерность от Понта Эвксинского до моря Варяжского. Батюшка-отче, благослови и помолись. Этакая страшная новость до того ошеломила меня, что я на первых порах подумал об отставке. По какому-то чутью думаю, что в Одессу мне не возвратиться. Впрочем, и не жалею: где-нибудь в уголку спокойнее, чем на бойкой дороге... Думаю, что указ получу еще разве через неделю»260. На деле, однако, прошел целый месяц, и времени было достаточно, чтобы надлежаще приготовиться к путешествию, а главное – чтобы восстановить душевное равновесие самому путнику.
28-го мая пр. Димитрий служил в кафедральном соборе, а на другой день утром отбыл из Одессы в Петербург. На пути он останавливался в Киеве, где представлялся новому митрополиту: это было первое личное знакомство его с высокопреосвященным Исидором, хотя заочная переписка их началась еще в то время, когда Димитрий был на Тульской кафедре, а пр. Исидор, тульский уроженец, был экзархом Грузии. В дальнейшем следовании пр. Димитрий прибыл 7-го июня в Тулу и поневоле пробыл здесь три дня: энтузиасты-туляки никак не хотели отпустить раньше своего «батюшку-Димитрия». Всего два года прошло с того дня, как он оставил Тулу, расставшись с первою паствою при таком высоком настроении чувств, с той и другой стороны! На другой день по прибытии в Тулу, преосвященный пожелал посетить своих знакомых, но с полудня должен был прекратить визиты: простой народ – заводские и оружейники, скоро узнали о приезде их благодетеля, массами окружали его карету и буквально не давали ему проезда по улицам. Чтобы по возможности удовлетворить всех, желавших принять от него благословение, он объявил, что на другой день будет служить литургию в Николо-часовенской церкви. Назначенный день он действительно посвятил любившему его народу: после литургии, и в церкви, и потом на улице, он благословлял народ и раздавал крестики и листки своих поучении до трех часов пополудни. На следующей день преосвященный отправился в дальнейший путь, но тульские почитатели его взяли с него слово посетить их на возвратном пути.
В Москве Димитрий также пробыл несколько дней. Случайно встретившись здесь с своим учеником, преосвященным Феофаном261, только-что рукоположенным и ехавшим к своей первой, тамбовской пастве, Димитрий согласился, вместе с ним, посвятить несколько времени на поклонение московским святыням, и даже вместе предприняли путешествие в Сергиеву лавру, где в то время имел пребывание митрополит Филарет. Прием двух епископов в Вифанском скиту был непродолжителен и беседа их с московским Владыкою была коротка, по причине болезненного состояния последнего. Возвратясь в Москву, пр. Димитрий выразил преосвященному викарию свое желание, пред вступлением в состав Св. Синода, особенно помолиться при мощах великих святителей всероссийских и отслужить литургию в Успенском соборе. Пр. Леонид не мог дать ответа без ведома митрополита, и послал за спросом в Лавру. Ответ (к сожалению поздний), последовал следующий: «О служении преосвященного Херсонского пишете вы не ясно. Уверили-ль вы его в моем согласии, и служит ли он ныне? Если это так, то благодарю. Обоим, если будете писать, напишите от меня, что мне больному не пришло на мысль предложить им совершить служение в Успенском соборе» (июля 14-го 1859 г.)262. Пр. Димитрий служил в это воскресенье (14 июня) в Боголюбской церкви Высокопетровского монастыря, где имел временное пребывание. – 17-го июня Димитрий был уже в Петербурге.
Время, в которое привелось Херсонскому епископу Димитрию принимать участие в делах высшего церковного управления, было особенно замечательным, выдающимся периодом общественной жизни нашего столетия. Обыкновенно, даже принято считать эпоху, непосредственно следующую за Крымскою войною, переломом в исторической русской жизни и началом решительного движения от застоя к всестороннему прогрессу. По крайней мере, фактическая сторона современной жизни обнаруживала больше всего именно такое направление: стремление к реформе, к улучшению и преобразованию, проникало всюду и заполняла все сферы общественной и государственной деятельности; большинство преобразовательных проектов относилось именно к концу 50-х и к 60-м годам. Результатом такого направления, как известно, были важнейшие реформы, совершившиеся в царствование Александра Ⅱ. Разумеется, новые течения не могли не коснуться и церковной жизни: они естественно вызывали у церковного правительства заботы и попечения о своих нуждах, вели его, с одной стороны, на тот же путь преобразований и улучшений, а с другой – требовали осторожности и бдительности на страже к ограждению общества от духа лестча, широкими вратами входившего тогда в наше отечество, вместе с прогрессивными идеями. Естественно также, что знамения времени наводили на размышления, в частности, и нового деятеля у кормила церковного, епископа Херсонского. Пред отъездом из Одессы, в письме к архим. Петру, он своеобразно, но верно характеризовал и время и требования, какие предъявляло оно к современным церковным деятелям. «В теперешний век прогресса и Св. Синод наш в больших хлопотах, – об улучшении семинарий и училищ, об облагорожении сколько-нибудь духовенства, о противодействии папизму, который усиливается вторгнуться к нам всеми кривыми путями, о противодействии расколу, который теперь, при криках цивилизаторов о безусловной свободе совести, тоже поднимает голову. Словом, времена тяжки, дела чрезвычайно важны; теперь нужно единодушное усилие опытнейших и мудрейших, а не таких, как наш брат». Понятно, так говорило больше чувство скромности; но ясно было и сознание недостатка в характере качеств, какие требовались от деятелей, по духу времени.
Первое время пребывания в Петербурге пр. Димитрию показалось легким. «В Синоде теперь вакации, – писал он в июле из Петербурга, – собираемся только раз в неделю. Только и есть сколько-нибудь серьезного дела, что собираемся еще раз в неделю для чтения нового перевода Евангелия на русский язык, который предположено издать вновь»263. Но с осени того же 1859 года начались усиленные занятия членов Синода по важным вопросам, стоявшим на очереди. По некоторым таким вопросам учреждались при Св. Синоде особые комитеты; бывало даже по несколько комитетов одновременно. Трудно, конечно, судить о деятельности того или другого члена в коллегиальном учреждении, когда эта деятельность ограничивается его участием в обсуждены дел, вносимых в присутствие; но нельзя не видеть характерных черт и личных особенностей членов в их докладах и донесениях, представляемых или по собственному почину, или в исполнение данных поручений. Пр. Димитрий, в течение трехлетнего присутствования в Синоде, имел несколько случаев входить с своими докладами, по исполнению возлагаемых на него поручений. По определениям Св. Синода он назначался председателем в трех комитетах, учреждаемых по Высочайшему повелению: а) в комитете «о сокращении переписки по духовному ведомству» (с авг. 1859 по декабрь 1861 г.), б) «об улучшены содержания сельского духовенства» (с апр. 1860 по июнь 1861 г.) и в) «о преобразовании духовных семинарий и училищ» (с марта 1860 по дек. 1861 г.). Труды Димитрия в названных комитетах, – если судить по результатам, были далеко не одинаковы, как по важности предметов, так и по усердию председателя. Вопрос о сокращении переписки вызван был настоятельною потребностью. Но комитет, которому поручено было решение этого вопроса, не мог прийти к важным результатам, потому что увеличивавшаяся со дня на день деятельность по всем частям церковного управления, усложняла и расширяла и делопроизводство. Комитет мог только указать на меры, которые могли бы привести к более правильному и легкому сношению административных лиц и присутственных мест духовного ведомства264. Важнее был предмет суждении второго комитета – «об улучшении содержания сельского духовенства». Но и этот комитет, по невыясненности средств к достижению прямых целей, ограничился подготовлением материалов для другого – многолетнего комитета «об улучшены быта духовенства», который был открыт по Высочайшему повелению в 1862 году, под председательством митрополита Исидора. Зато председательство Димитрия в комитете «по преобразованию духовных семинарий и училищ», стоившее ему усиленных двухлетних трудов, навсегда и тесно связало его имя с этим важным и полезным делом.
Заботы «об усовершенствовании образования духовного юношества» и об улучшении быта духовно-учебных заведений не оставляли наше высшее церковное правительство во все время существования их. Особенно эти заботы стали умножаться после того, как учреждены были высшие духовные школы – академии; тогда и семинарии и училища, объединенные общим уставом, поставлены были на путь постепенного усовершенствования. Новые меры к улучшению этих заведений прилагались почти постоянно, в течение первой половины века. В сороковых годах, как мы видели, и Димитрий – тогда еще архимандрит, ректор Киевской академии – принимал непосредственное участие в трудах «особого комитета» по учебным вопросам. На все эти вопросы касались частностей и не изменяли общего строя духовной школы, жившей еще под влиянием старинных преданий. Между тем, новая жизнь указывала в этом строе не мало действительных недостатков; а новые веяния пятидесятых годов требовали совсем иной постановки всего школьного дела. Впоследствии, с развитием у нас духовной литературы, и духовная школа имела добрых и сильных защитников против излишних нападков на нее в обществе и печати; но в 50-х годах наши семинарии и училища «критиковались» не с добрым намерением, и трактовались в светской литературе в самом мрачном виде. Исшедшие от нас, но сделавшиеся не нашими, тогдашние корифеи русской литературы не только старались очернить воспитавшую их мать – духовную школу, но с каким-то злорадством спешили пригвоздить к позорному столбу жалкую «бурсу» ... Конечно, не ради этой молвы народной, а в виду настоятельной нужды, церковная власть решила тогда приступить к возможно-полному преобразованию своих учебных заведений.
Кроме личного, многолетнего опыта наших иерархов, стоявших в то время во главе церковного правления, в их руках не мало было накопившегося материала, – как в общих делах бывшей комиссии духовных училищ в затем духовно-учебного управления, так особенно в отчетах о ревизиях семинарий и училищ, – по которому можно было составить довольно ясное представление о состоянии наших средних и низших учебных заведений. Но это считалось недостаточным: желательно было знать основательный и более новые суждения людей компетентных, и слышать живое слово от лиц, стоявших у самого дела воспитания духовного юношества. Для этой цели, в начале 1859 года, обер-прокурор Св. Синода (гр. Ал. П. Толстой), с «согласия членов Синода», отнесся ко всем епархиальным преосвященным с предложением: «истребовать от подведомых им ректоров семинарий мнения о необходимых улучшениях в нравственной, учебной и хозяйственной частях духовно-учебных заведений и, дополнив рассуждения ректоров собственными замечаниями, сообщить оные ему». В то же время и по распоряжению того же обер-прокурора, директор духовно-учебного управления, кн. С. Н. Урусов, в сопровождении чиновника особых поручены Н. А. С-кого, предпринимал обширное путешествие, давшее им массу наблюдений при посещениях семинарий и училищ. В провинциях к возбужденному вопросу отнеслись с живым интересом, и взялись за исполнение порученного дела с полною охотою и энергией. Некоторые преосвященные учредили даже временные епархиальные комитеты, с привлечением духовенства к обсуждению мер, необходимых для улучшения местных учебных заведений. В других епархиях ректоры семинарий, не ограничиваясь подачею личных мнений, собирали конференции, на которых участвовали все наставники семинарий и ближайших училищ: школьные недостатки на этих конференциях обсуждались широко, и меры к устранению их высказывались свободно. К назначенному сроку от епархиальных преосвященных и подведомых им семинарий в канцелярию обер-прокурора поступила такая масса живого материала – плодов усердного труда наших педагогов и руководителей духовного юношества, что одно множество бумаги удивило и поставило в затруднение центральное учреждение. В этой массе были, правда, мало пригодные мелочи, но были и дельные суждения и даже целые проекты к полному преобразованию духовно-учебных заведений. Вообще же указано было так много недостатков, как общих, так и частных – местных, высказано такое разнообразие взглядов на образование и воспитание детей духовенства, собрано такое множество мнений, самых разнообразных и нередко несогласных даже до противоречия, – что справедливо признано было необходимым предварительно разобраться в этом материале – привести все разнообразие в возможную систему и составить «свод – как указанным недостаткам по разным частям быта семинарий и училищ, так и мнениям к устранению этих недостатков»265.
В феврале 1860 года г. обер-прокурор представил Св. Синоду означенный «Свод мнений», с предложением: «не будет ли признано нужным поручить рассмотрение сих предположений особому комитету». Вследствие этого предложения, определением Св. Синода от 25 февраля – 8 марта 1860 года, учрежден был комитет под председательством присутствовавшего в Синоде преосвященного Херсонского, епископа Димитрия. Новому комитету266 вменено было в обязанность, по рассмотрении полученных от епархиальных преосвященных предположений, «представить свои окончательные заключения о тех изменениях по всем отраслям духовно-учебной части, которые он признает необходимым для улучшения настоящего состояния духовных училищ»267. По-видимому, учреждая настоящий комитет, Св. Синод на первый раз не имел в виду тех широких преобразовательных работ, к каким пришел он впоследствии: к ним, с необходимостью, привели труды первого комитета, – энергия и компетентность членов комитета и неутомимая, просвещенная деятельность его председателя. Важность и сложность дела требовала всестороннего изучения его; почему комитету, чтобы выработать что-либо цельное, нужно было потрудиться полных два года. Занятие пр. Димитрия в этом комитете сделались с того времени главными и преимущественными для него; они были причиною двукратного продления срока пребывания его в Петербурге и в составе Св. Синода, так как для самого дела почиталось важным, чтобы работы были закончены под руководством одного лица. Участие же председателя в делах комитета и его влияние на решение всех рассматривавших вопросов так было широко и всесторонне, что описывать труды пр. Димитрия, понесенные им по званию председателя комитета о преобразовании семинарий и училищ, значит подробно излагать всю историй современного преобразования. А так как это далеко выходит из рамок биографии, то здесь следует ограничиться коротким изложением трудов комитета 1860–62 гг., существенных результатов, достигнутых им, и тех характерных особенностей в этих трудах, который ясно указывают на личное влияние председателя.
В первых своих заседаниях комитет, следуя указу Св. Синода, слушал вышеупомянутый «свод мнений» и, по обсуждении каждого пункта, заносил его в свой журнал, вместе с своим заключением, по его содержанию. Но эта работа и не была доведена до конца, потому что признана была бесцельною. Члены комитета скоро убедились, что изыскание частных мер к улучшению современного состояния духовно-учебных заведений принесет мало пользы. По инициативе председателя комитет признал необходимым, для поднятия общего уровня образования и воспитания, установить новую, возможно полную систему и, на основании имеющихся в распоряжении указаний и предположений, составить новый устав для семинарий. В этом смысле, в начале 1861 г., председателем комитета сделан был доклад Св. Синоду, с изложением хода занятий комитета, достигнутых им результатов, и дальнейших предположений. Св. Синод с своей стороны указал комитету привести в исполнение свои предположения – написать новый устав и вместе с ним представить особые соображения о мерах, потребных к усилению средств для содержания духовно-учебных заведений.
Для новой системы требовалось прежде всего установить основные начала, на которых можно бы было прочно построить предполагаемое здание. Вот эти-то основания для духовно-учебной реформы и были установлены председателем комитета 1860–62 гг., который не только руководил всеми занятиями комитета, но – можно сказать – сам, своими почти руками, построил все здание нового устава. Принадлежность основных мыслей устава пр. Димитрию согласно удостоверяют все его сотрудники и современники; не отрицают этого и дальнейшие ценители и критики «димитриевского проекта».
«В основу своего плана пр. Димитрий полагал следующие цели: 1) доставить духовенству возможность воспитывать своих детей не стесняясь выбором их звания впереди, но предоставив самим детям сделать этот выбор по окончании общего образования; 2) избавить церковь от недобровольно, а только по обстоятельствам избирающих духовное звание и оттого ведущих себя недостойно своего звания; 3) расположенным к духовному званию дать доброе практическое приготовление к сему служению»268. В объяснение же указанных целей пр. Димитрий полагал такое суждение, которое сам он признавал за непреложное, но которое оспаривали очень многие, возражавшие ему: он говорил и писал, что «учение в наших семинариях еще может быть признано удовлетворительным, но что воспитание почти отсутствует»269. Такое убеждение у пр. Димитрия сложилось еще в юности, под влиянием школьной бытовой обстановки, и мало изменилось в лета мужества. Вопрос об улучшении быта духовенства он ставил прежде всего как вопрос об «облагорожении духовенства»270; а потому и усовершенствование духовного образования он понимал как усиление, более всего, нравственного воспитания кандидатов священства. Исходя из такого положения, Димитрий ввел в проект устава новые и – правду сказать – строгие правила нравственного воспитания: правила подробно регламентировали весь строй быта воспитанников; они постоянно напоминали ученику о его особенном назначении и, с первого же шага в духовной школе, требовали от него неустанного приготовления себя к будущему высокому служению. Эти-то правила, так мало согласовавшиеся с современностью и так противоречившие правилам «новой» педагогики, совсем не приходилось по вкусу тогдашним руководителям общественного мнения. Благодаря этим правилам нравственного воспитания проект устава семинарий скоро и строго был осужден журнальными критиками, сравнивавшими воспитательную часть проекта с регламентами иезуитских коллегий271; а благодаря критике и авторитетные судьи скоро предрешали участь проекта272.
Учебная часть проекта обращала на себя особенное внимание комитета. Одною из главных задач своих он считал возвышение общего уровня духовного образования, очищение его от излишних наростов и несообразных требований привнесенных в разное время сторонними целями, – усиление преподавания предметов общеобразовательных и, особенно – правильную постановку специальных, богословских наук. В виду поставленных задач, составитель проекта дает совершенно новый план, которым вводится новый порядок и новый строй заведений. По этому плану предполагалось вместо многих училищ и семинарий в каждой епархии, учредить одно епархиальное учебное заведение, подобное семинариям прошлого столетия, которое делилось бы на две части: общеобразовательную гимназию с восьмилетним курсом, и особое отделение богословское, или духовную семинарию в собственном смысле, с четырехлетним курсом, куда могли бы поступать воспитанники, по окончании гимназического курса, собственно для приготовления к поступлению во священники273. Общее число лет для обучения духовных воспитанников проектом не увеличивалось и не сокращалось; но время располагалось иначе: четыре года назначались для наук грамматических, элементарных, четыре – для словесных и философских, и четыре – собственно для богословских; при чем курсы предполагалось установить годичные, вместо прежних двухлетних, уроки часовые – вместо двухчасовых. В учебном материале также последовала большая перемена. Некоторые науки, как несоответствовавшие духовному образованию и на деле не имевшее практического приложения, напр., медицина, сельское хозяйство и геодезия, совсем были исключены из программы; даже алгебра и геометрия оставлены только для желающих. За то круг других общеобразовательных наук значительно расширен: науки умножились в числе, приведены в систему и получили новый метод. Так, составитель проекта указал на необходимость усилить изучение древних языков и начинать изучение новых – французского и немецкого – с младших классов; рекомендовал особенно усилить изучение отечественного языка и литературы, начиная последнюю памятниками древней письменности; историю и географию поставить в возможно полное применение к целям семинарского образования; к физике присоединить физическую географию и космографию; в курсе философских наук, кроме логики и психологии, поставить метафизику и обзор философских систем, притом в связи с психологией преподавать и физиологию; наконец – ввести педагогику и дидактику. Еще больше внимания обращено было на состав богословских наук, сосредоточенных в высшем четырехгодичном отделении семинарии. Для этого отделения самим пр. Димитрием был составлен, и вместе с проектом устава представлен Св. Синоду, особый «краткий обзор курса богословских наук в духовных семинариях». В обзоре установлена особенная классификация наук, изложено полное содержание каждой науки и указан метод преподавания: это – целая богословская энциклопедия, в сокращенном виде274. Наконец, председатель комитета, в своем донесении, обращает внимание Св. Синода на признанную всеми членами комитета неудовлетворительность и недостаточность учебников, на разнообразие и, в большинстве, непригодность наставнических записок, а главное – на необходимость избавить учеников семинарий от тяжелого и непроизводительного труда – переписывания этих записок.
Вопросы экономические в устройстве семинарий, казалось бы, по своей несложности и второстепенности, не могли доставлять комитету много труда и отнимать много времени. Однако, на самом деле они оказались самыми важными и самыми трудными к разрешению. В семинариях и училищах с нетерпением ожидали в то время реформы, и прежде всего надеялись на улучшение своего быта, на увеличение содержания и штатов. Все мнения и предположения, присланные ранее из провинции, всего больше указывали на недостатки денежных средств. С своей стороны члены комитета, с самого начала занятий, не могли не видеть себя окруженными этими настойчивыми вопросами о средствах и об источниках к их увеличению. Без предварительного, возможно-верного решения главнейших из этого разряда вопросов, вся духовно-учебная реформа сводилась бы к мелочным поправкам: к ней не стоило-бы и приступать. Комитет ясно сознавал, что к выполнению широких планов, предначертанных для нового учебного и воспитательного строя духовных училищ, нельзя сделать ни одного шагу, если это выполнение не будет обеспечено расширением границ духовно-учебного бюджета. В частности, комитет убедился в следующем: а) жалованье начальствующих и учащих скудно: его следует увеличить – в училищах втрое, а в семинариях вдвое; б) на содержание учеников, вместо ассигнуемых – 23-х рублей в год в училищах и 35-ти в семинариях, нужно увеличить ассигновку не меньше, как втрое; в) на содержите зданий, библиотек, больниц и проч. потребуется сумма, втрое более отпускаемой. «Таким образом, если теперь, как писал председатель комитета, расходуется на содержание духовно-учебных заведений около 1,200,000 рублей, то на содержание их, соответственное действительным нуждам, потребуется более 3-х миллионов рублей ежегодного расхода. Между тем духовно-учебное управление получает только 950,000 свечного дохода и около 600 т. дохода с учебного капитала»275.
Где взять средств? Вот вопрос, на который отвечать было так трудно, а отвечать требовалось неотложно! Новых источников на 1/2 миллионный ежегодный доход церковь решительно не могла найти в своем распоряжении. Председатель комитета сначала, в первом своем донесении Св. Синоду, в феврале 1861 г., указывал на необходимость ходатайствовать пред Государем Императором об отпуске, недостающей против ежегодной сметы на этот предмет, суммы из государственного казначейства. Но обер-прокурор Св. Синода вскоре уведомил комитет, что на прибавку окладов для духовных семинарий из государственного казначейства надеяться не следует, так как, помимо духовного ведомства, предпринятые правительством реформы требуют усиленного напряжения государственного бюджета. Между тем, принимавший участие в делах комитета, кн. Урусов в это же время предлагал другое, почти верное, но очень нежелательное для духовенства, средство: он настаивал на сокращении числа воспитанников семинарий до возможного минимума, чтобы приблизить это число для действительной потребности для духовного звания276. Но комитет не хотел отклоняться от тех целей, которые издавна установлены для духовно-учебных заведении: кроме приготовления священно и церковнослужителей церкви, наши семинарий и училища должны служить целям воспитания и образования детей духовенства. Возражавшие указывали на существование других общеобразовательных и всесословных учебных заведений; но пр. Димитрий на такие возражения отвечал: «ныне времена тяжкие для православия и для церкви, и духовенство, по совести, не может отдавать своих детей в чужие руки для образования»277. Желательно было не сокращение; а напротив расширение духовного образования.
«Чтобы выйти из крайности, писал пр. Димитрий в своем донесении, комитету представляется одно средство, которое может еще обещать успехи: не требуя от епархий представления свечных доходов в Синод, представить им самим содержать необходимый для них духовно-учебные заведения на свои доходы. К убеждению в действительности сей меры Комитет пришел: а) соображением таблиц, представляемых из епархии свечных доходов, с таблицами церквей и православного народонаселения в тех же епархиях, из которых (таблиц) совершенно очевидно, что в большей части епархий свечные доходы собираются весьма неисправно и представляются Синоду только четвертая или пятая часть, и только из некоторых епархий представляется приблизительно верная сумма действительных доходов278, б) тем рассуждением, что на успех предписаний, подтверждений, вообще принудительных мер надежды мало, – что напротив духовенство каждой епархии, сознавая нужду воспитания своих детей и убедившись, что средства к тому зависят от его собственного усердия, скорее изыщет меры к увеличении свечного дохода, в) Комитет указал и меры к выполнению такого проекта местными епархиальными начальствами и отчетности пред центральным хозяйственным управлением. г) Затем остающейся в непосредственном ведении Св. Синода проценты с учебного капитала могут быть назначены на содержание академии, как учрежденные епархиальных, и на вспомоществование семинариям западных епархий. д) Главнейшая же надежда комитета на увеличение средств к содержанию духовно-учебных заведений состоит в том, что следует восстановить силу закона об исключительной церковной продаже свечей». – Таков был в главных чертах экономический проект, намеченный комитетом 1860–62 гг.! Насколько были целесообразны указанные меры, это показала дальнейшая история преобразования наших семинарий и училищ, когда необходимость заставила обратиться к ним и применить многое из намеченного, – хотя в другом виде и под другими наименованиями.
Заботясь о материальном обеспечении семинарий, комитет в то же время не упускал из виду и нравственного возвышения их, как заведении среднего, и даже вышесреднего, образования. Чтобы оживить внутренний быт учительских корпораций и поднять значение каждого члена их, проект пр. Димитрия ввел следующие меры: а) учредить педагогические советы, которые ведали бы всеми главными вопросами обучения и воспитания; б) предоставить самим семинариям выбор наставников, для соответствия же с таким порядком требовать от студентов академий, чтобы они особенно изучали те предметы, которые пожелают потом преподавать в семинариях; в) уничтожить звание профессора семинарии, а наставников разделить на старших и младших по заслугам и усердию; г) прибавлять наставникам содержание по пятилетиям и за 25 лет выдавать двойной оклад, но свыше этого срока оставлять только на пять лет.
Некоторые вопросы, обсуждавшиеся в комитете, не могли войти в проект устава, как не относящееся прямо к внутреннему благоустройству семинарий, но решение их близко стояло к делу преобразования духовно-учебных заведений и завершало труды комитета. При последнем донесении председателя Комитета в Св. Синод внесены были следующая «особые соображения комитета»: а) преобразованные семинарии должны находиться в непосредственном и полном заведывании епархиального архиерея: он дает предложения, нужные указания и советы, наблюдает за выполнением правил, программ и инструкций, утверждает постановления совета и правления семинарий; б) окружные правления академические следует упразднить, как не достигающая цели; в) взамен того – учредить должности «окружных инспекторов», равных по правам и обязанностям с таковыми же по министерству народного просвещения; г) духовно-учебному управление дать вид ученого Комитета, который должен иметь высший надзор за всеми духовно-учебными заведениями, но преимущественно должен заботиться о высоком уровне духовного образования вообще; д) для живой связи с высшею церковною властью председательство в ученом комитете поручил одному из членов Синода».
Кроме того, пр. Димитрий, как председатель комитета, счел нужным представить Синоду свои «Особые соображения», который касались не столько самого духовного образования, сколько его последствии. «Относительно окончивших курс в семинариях я считаю нужным: 1) Держаться строго закона (собор. неокес. пр. II, и VI вселенского – пр. 14–15) – посвящать в диакона не раньше 25-ти, и во священника – 30-ти лет; а до того времени определять их на причетнические места, с обязанностью быть учителями в церковно-приходских школах: этим достигается – а) лучший выбор кандидатов на священство, б) возможность лучшего и прямого приготовления к прохождению сего служения и в) лучший контингент «смысленных» псаломщиков; 2) Для этого – изменить закон о правах псаломщиков: а) на случай выхода их на гражданскую службу сохранить за ними права по рождению и воспитанию, а не обязывать (как ныне) записываться в податное сословие; б) лета службы их зачислять на получение пенсии наравне с лотами службы священнослужителей; в) посвящать, по достижении возраста, если пожелают в диакона без вакансии, на тех же причетнических местах».
Таковы главнейшие результаты, достигнутые трудами первого «Комитета по преобразованию духовных семинарий и училищ». Комитет закончил свои заседания в конце 1861 года; а 3-го февраля 1862 года, при особом донесении, подписанном всеми членами комитета, представлен был в Св. Синод «проект устава духовных семинарий», со всеми приложениями и особыми соображениями. При этом, двое из членов комитета, – оба светские, подписывая донесение, остались каждый при особом мнении, в которых обширно изложили мотивы своего несогласия с большинством по многим основным пунктам проектированного устава; хотя ни тот ни другой не дали своего плана преобразования семинарий, и, как будто, не находили это нужным. – Покойный протоиерей Горский, занося в свой «дневник» современные суждения по данному вопросу, замечает, между прочим (и по-видимому – со слов Димитрия), что «между духовными и светскими членами несогласие возникло из-за духовно-учебных капиталов». Здесь – часть правды. На самом деле побуждения к несогласию лежали глубже – в общем направлении «ведомства» ... Впрочем, дальнейшая судьба двухгодичных трудов комитета была, можно сказать, предрешена еще за долго до его закрытая: гласность, обсуждавшая эти труды, успела уже сделать свое дело, в известном направлении.
На обсуждение Св. Синода труды комитета внесены были уже после увольнения пр. Димитрия от присутствования Св. Синоде и даже после отъезда его из Петербурга. Обсуждения эти были непродолжительны и закончились определением: «разослать в печатных экземплярах все труды комитета по преобразованию семинарий епархиальным архиереям, – предложить им рассмотреть лично и чрез доверенных лиц и донести по сему»279. Сроки для представления мнений назначены не были, и дело затянулось на долго: из некоторых епархий отзывы поступали уже после открыт второго комитета по преобразование семинарий (1865 г.).
Одни из преосвященных, вместе с подведомыми им «доверенными лицами», в своих отзывах отнеслись к трудам бывшего комитета и председателя его архиепископа Херсонского с большим сочувствием и с выражением желания скорее видеть в исполнении предположенную реформу280. Другие – и в большинстве – ограничились множеством замечаний и указаны на несовременность или невозможность применить на практике тот или другой параграф устава. Некоторые же, более других компетентные, высказали прямо неодобрение к трудам комитета 1860–62 гг. Особенно важно и веско было слово московского митрополита Филарета. В Москве, для рассмотрения присланного проекта, по распоряжению митрополита учрежден был временный епархиальный комитета (из шести протоиереев, под председательством старейшего викария), который, как нужно догадываться, приступил к делу после предварительного совещания с самим Владыкою. Проект устава, как в своих основаниях, так и в частностях – в постановке учебно-воспитательного дела, не получил одобрения от Московского комитета. Отзывы этого комитета Филарет представил в Св. Синод, в сопровождении своих некратких замечаний. Прежде всего митрополит не соглашался с необходимостью самой реформы духовно-учебных заведений и не находил ни повода ни побуждения писать новый устав для них. – «При рассуждениях о преобразовании училищ, – писал он в своем донесении, – требует внимания то, что большая часть порицаний, которыми щедро наполнены соображения (комитета), по прямому заключению ведут не столько к нужде преобразования уставов, сколько к нужде возбудить в начальниках и наставниках ревность, деятельность и живое участие»281. Поясняя в другом месте свою мысль, он говорит: «причиною потребности преобразования были – 1) повреждение действий устава 1814 года (введением не нужного), 2) чрезмерная снисходительность при переводных испытаниях, отчего упал уровень образования и 3) университетские лекции преподавателей, проходившие над головами и мимо ушей учеников. Это и требует исправления»282. Затем, новый план устройства семинарий м. Филарет признавал даже вредным. «Рассечение (писал он проф. Горскому) на общую гимназию и закрытую семинарию, убив прежнюю жизнь, легко-ли даст новую? Мне видится только неудобоисполнимость и вред сего плана, пользы же не видится»283. – В частности: с одной стороны, он не одобрял насильственное отсечение верхней половины семинарии, т. е. специально-богословских классов от общеобразовательных, а с другой – находил вредным для воспитания соединение училищ с семинариями. Не соглашался он с введением годовых курсов, вместо двухгодовых, и часовых уроков, вместо двухчасовых; находил неправильною постановку наук и указывал – для примера – на слишком широкий план литургики и наоборот – сокращенный – по Введению в богословие; стоял за отмененные уже полугодовые испытания, особенно для училищ; оспаривал пользу общежития и комнатных надзирателей; не находил целесообразным изменение общего управления, и, если соглашался с введением педагогических советов, то указывал на сокращение числа членов и круга их деятельности, и требовал, чтобы совет «не возвышался над правлением»284. Нашлись несогласия у митрополита и с его епархиальным комитетом – во взглядах на два важных предмета проекта. Московский комитет не одобрял и, по крайней мере, находил неудобным возлагать на епархиального архиерея новые тяготы, на которые указывал проект устава. М. Филарет, напротив, защищал все параграфы уставу, которые дают большую власть архиереям, чем прежде было. Комитет соглашался с добавочным проектом «свечной операции» и даже занялся приблизительными расчислениями по Московской епархии. Филарет (как и некоторые другие иерархи – его современники) никогда не мог помириться с мыслью о новых источниках средств, – о самой системе расширения производства и продажи церковных свечей, о допущении епархиальных свечных заводов. Он называл это дело монополией, в худшем смысле слова, и сравнивал его значение в глазах народа с бывшими винными откупами285. По одному частному случаю он высказал свой взгляд на это в следующих строгих выражениях: «и в том, что по свечному делу сделано до сих нор, т. е. что законом введено в церковь некоторого рода торговый сбор, да поможет Бог церковной власти извинением крайней скудости и нужды дать непостыдный ответ пред Судиею, изгнавшим из церкви продающих и покупающих»286. Заключительное же мнение м. Филарета о реформе было такое: «лучше стараться усовершать существующее, нежели отваживаться на новое, которое не обещает, а угрожает»287.
Устная молва в свое время приписывала отзывам московского митрополита решающее значение в окончательной оценке «проекта преобразования духовно-учебных заведений, выработанного комитетом 1860–62 гг. «– Проект не принят!.. В 1866 году при Св. Синоде, по Высочайшему повелению, учрежден был вновь комитет для окончательного и «непременного» разрешения вопросов о преобразовании духовно-учебных заведений. Новым комитетом288 скоро составлены были отдельные проекты уставов «для православных духовных семинарий» и для духовных училищ», проекты новых штатов для тех и других, нормальное расписание числа учащихся в семинариях и положение об «учебном комитете». Все эти проекты и штаты 14 мая 1867 года были Высочайше утверждены, и с того же года стали постепенно вводиться в действие.
Какой же, однако, следует поставить эпилог к истории первого комитета по преобразованию семинарий? Нужно ли признать напрасно потраченными двухгодичные труды членов и, особенно, усиленные труды председателя комитета – Херсонского преосвященного Димитрия? Выражаясь вульгарно-школьным языком, тогда говорили, что проект Димитрия «провалился». Это – суждение современников. Но не таков должен быть суд последующих времен. После смерти пр. Димитрия сведущие люди так оценивали его труд: «Проект Димитрия не был принят; но это еще не значит, что он не отвечал цели. Напротив, достоинство его в том и состоит, что он ясно, отчетливо намечал эту цель – именно дать народу пастырей по призванию, понимающих ясно свою миссию и приученных к ней практически. Быть может, Димитрий ошибался в средствах; но его заслуга состоит в ясной постановке вопроса – чем должны быть наши духовные семинарии»289. Но и в указанных средствах к улучшению семинарий проект Димитрия впоследствии получил широкое применение у дальнейших деятелей по преобразованию духовно-учебных заведений. Можно сказать, что многое-доброе в новом семинарском уставе (1867 г.) – оказавшееся более устойчивым и заслужившее лучшую благодарность учащих и учащихся – заимствовано из проекта Димитрия. Так, в административном отношении, в новый устав вошли и применены соображения его о ближайшем, начальственном участии в жизни семинарий епархиального архиерея, о правах и обязанностях ректора и инспектора, об учреждении особых надзирателей (названных в устава помощниками инспектора), – наконец о введении совершенно нового института – педагогического совета. В учебной части, общий план наук, их количественный состав и распределение по классам – все это взято из первого проекта почти полностью (восстановлено только обязательное изучение математики, с прибавлением даже новой науки «тригонометрии»); кроме того, приняты часовые уроки, годовые курсы и годовые только испытания. Уничтожено звание профессора и принято деление учителей на старших и младших. Содержание, как начальствующих и учащих, так и учащихся увеличено более, чем втрое; семинарии не только выведены из нищеты, но и получили возможность обставиться весьма прилично, по крайней мере для того времени (60-х годов). Самый план образования духовного юношества остался почти тот же, который намечен был в проекте Димитрия: четыре грамматических курса оставлены для училища; четыре года словесных и философских составили первые четыре класса семинарий; только богословский курс сокращен на два года и все богословские науки сосредоточены только в двух классах.
Наоборот, многое из того, что вторым комитетом введено было в устав, как новое против проекта Димитрия, оказались не прочным: оно отвечало современным взглядам, но на деле обнаруживало несостоятельность. Так приемные экзамены в семинарий, как чуждые и крайне стеснительные для учеников духовных училищ, скоро были отменены и определение права на поступление в семинарию оставлено за училищным свидетельством. Новым уставом определено штатное число учеников для каждой семинарии. Такое стеснение на первых же порах, при введении устава, заставило духовенство спешно отыскивать средства, чтобы открыть епархиальные-параллельные классы для своих сыновей, оставшихся за штатом. Тяжелою также оказалось впоследствии, узаконенная уставом (§ 6), «всесословность молодых людей», принимаемых и бесплатно обучаемых в семинариях. Способные разночинцы, доходящие даже до академии, поныне теснят детей духовенства, – хотя со стороны высшей духовной власти не раз даже принимались меры к сокращению такой свободы: была установлена, и потом еще возвышена, плата за обучение иносословных290. В 1884 году Св. Синод пришел к мысли о необходимости вновь пересмотреть и дополнить уставы семинарий и училищ. Исполнявший на сей раз поручение, член Синода, ученик преосвященного Димитрия и ближайший его сотрудник в комитете 1860 г., многое исправил по мыслям своего учителя. Практика, например, показала, что два только года, оставленные в уставе семинарии для специальных богословских наук, очень недостаточны для выполнения программ. Пришлось увеличить для них число уроков на счет общеобразовательных наук и отнести начало преподавания богословских наук в IV класс (введение в богословие, гомилетику и литургику) и даже в III (церковная история). Во II-м классе уничтожена опять тригонометрия, но введена новая богословская наука – библейская история. Учебные программы в то же время подверглись тщательному пересмотру: одни из них (преимущественно по богословским наукам) были распространены; другие – очищены от излишнего и оказавшегося не пригодным.
Но, что еще важнее, – это не исправленье только недостатков, а перемена самых взглядов: невозможное и нежелательное в 60-х годах настойчиво проникало в жизнь и признано нужным через 15–20 лет. Так, с легкой руки того же преосвященного члена Синода, устроившего первое общежитие для учеников семинары в Η. Н., эти (столь ненавистные для некоторых ценителей дмитриевского проекта) учреждения – мало сказать – стали прививаться в разных епархиях: за них ухватились, как за необходимое и важное дело в духовном образованы. Правда, что существующая общежития вызваны более экономическими целями, помимо тех – воспитательных, из-за которых Димитрий не боялся, если его проект назовут иезуитским; но факт тот, что общежития живут и растут. Преосвященные архиереи усердно приглашают духовенство и содействуют ему в открыты таких учреждений; духовенство находить средства и строить новые здания для общежитий, не только в губернских городах для воспитанников семинарий, но и в уездных – для учеников училищ. – Далее. «Свечная операция», в общих только чертах намеченная Димитрием, но настойчиво предложенная им, как нескудный источник к увеличению духовно-учебных средств, в настоящее время нашла полное оправдание и широкое применение. Нет уже почти ни одной епархии, в которой бы не был собственный свечной завод, снабжающий все церкви свечами и дающий не малую помощь обще-епархиальной казне. Высшая церковная власть, согласно с Высочайшею волею, направляет ныне это важное дело, которое 30 лет назад сравнивалось с монополией, не только к расширению и упрочению, но и к окончательному усвоению церкви исключительного права производства и продажи свечей, находя вредным и незаконным оставлять долее церковное дело за людьми наживы.
Преосвященный Димитрий, по возвращении из Петербурга, с большим интересом следил за дальнейшим движением духовно-учебной реформы; тщательно входил во все подробности дела при введении новых уставов; наблюдал даже (посредством переписки) за ходом преобразования в других епархиях; вообще же прилагал, как увидим, особенное старание к улучшении и у совершенствовании семинарий и училищ в тех епархиях, которыми управлял потом, – за что и взыскан был особою Монаршею милостью. Но, разумеется, не в них – не в улучшениях внешних и не в реформах, идущих своею чередою – одни за другими, он полагал суть духовного образования. Духовную школу он почитал необходимою и существенною частию самой церкви христианской: где насаждалось учение евангельское, там одновременно образовались и духовные училища, тесная связь указывает на общность оснований, на которых зиждется и живет духовная школа под кровом церкви. Прекрасно и сильно выразил эту мысль пр. Димитрий в своей короткой речи, обращенной к воспитанникам полтавской семинарии, при случайном ее посещении. «Желательно, – говорил он после осмотра нового здания, – чтобы и в этих новоустроенных каменных палатах и обновляемых во внутренней жизни учебных заведениях хранился и развивался тот крепкий – крепче всякого камня – и вечно новый дух образования по духу Христову, каким нескудны были наши старые учебные заведения, которые для кое-кого памятны по своей скудости внешней, но не забвены по своей крепости внутренней»291.
III
Обыкновенно архиереям, вызываемым в Петербург для присутствования в Св. Синоде, обязательно принимать более или менее широкое участие в церковно-общественной жизни русской столицы. Как это бывало в старину, при Московских царях и патриархах, когда епархиальные архиереи подолгу проживали в Москве, являясь на совет по зову царя или патриарха, и участвуя во всех торжественных богослужениях; так и в синодально-петербургский период члены постоянного церковного совета обязаны служить, или в полном составе Синода в высокоторжественные дни, или отдельно в различных храмах столицы – в соборах, в дни великих праздников, и особенно часто в Петропавловском соборе – в дни поминовений по особам Высочайшей Фамилии. Преосвященный Димитрий, привыкший часто служить, охотно исполнял эту обязанность и в Петербурге. Величественное богослужение «величественного архиерея» в петербургских обширных храмах, при стечении многочисленных богомольцев, производило такое глубокое впечатление на слушателей и зрителей, что и доселе оно живо и отчетливо сохранилось в памяти у многих жителей столицы. Восторженные отзывы о Херсонском архиерее часто можно было слышать в то время и от духовных и от светских лиц. Особенно памятным для одесситов был отзыв Государя Императора Александра II. Однажды, под конец пребывания Димитрия в Петербурге, докладывали Государю о приготовлениях к церковному торжеству, на котором имело быть Высочайшее присутствие. Государь спросил: «кто будет служить?» Ему отвечали: Херсонский архиерей. – «Хорошо! Я люблю молиться, когда служит Димитрий»292.
Первое появление пр. Димитрия при Высочайшем дворе было 8-го сент. 1859 г., когда членами Св. Синода с придворным духовенством совершено было благодарственное молебствие по принятии присяги Наследником Цесаревичем Николаем Александровичем, в день его совершеннолетия. В том же году Димитрий участвовал – а) в торжественном молебствии в Георгиевском зале Зимнего дворца 26 ноября, в праздник георгиевских кавалеров, б) в совершении молебствия в придворном соборе в день Рождества Христова, в) в принесении поздравления Их Величествам с наступлением Нового года, 1-го января 1860 г., и в крестном ходу из придворного собора на освящение воды 6-го января. Затем, в 1860 году Димитрию привелось довольно долго – и в заседаниях синодальных и в торжественных богослужениях – быть за первоприсутствующего члена Синода, по следующим обстоятельствам. Вскоре после Пасхи, именно 30 апреля, последовало Высочайшее повеление, коим увольнялись от присутствования в Синоде митрополиты Киевский Исидор и Литовский Иосиф, архиепископу Херсонскому отсрочивалось пребывание в Петербурге еще на год, а на место уволенных вызывались вновь епископы – Кишиневский Антоний и Калужский Григорий. В новом составе Синода, после первенствующего митрополита Новгородского Григория, Димитрий, получивший в этом году (3 апр.) сан архиепископа, стал старшим, хотя оба соприсутствовавшие епископы (Анатолий Шокотов и Григорий Миткевич) были в свое время учителями Димитрия в академии. 30-го мая скончался в Петербурге первый Таврический архиерей Елпидифор. И официальное положение и давняя известность покойного вызвали большой почет со стороны желавших отдать ему последний долг. В торжественном выносе его тела и панихиде 1-го июня принимали участие все наличные архиереи с Новгородским митрополитом во главе. Но это была последняя служба м. Григория: в тот же день к вечеру он слег в постель и больше не вставал. На другой день, 2-го июня, Димитрий, в сослужении других архиереев, отпевал и хоронил архиепископа Елпидифора; а через две недели не стало и митрополита Григория. 17-го июня он скончался, 18-го был вынос тела в лаврской Троицкий собор, а 22-го совершено его погребение. Пр. Димитрий ежедневно участвовал в служены панихид, и, как старший член Синода, распоряжался в составлении церемониала на погребение; в самый же день похорон он служил заупокойную литургию и отпевание, в присутствии Государя Императора, нарочито прибывшего из Царского села, и Великих Князей Константина и Михаила Николаечей.
Новый митрополит Новгородский назначен был 1-го июля, но прибыл в Петербург только в начале сентября. Между тем, в это время было нисколько случаев при Высоч. Дворе, при которых обязательно бывает присутствие Св. Синода. Так, 26-го июня в Петергофе, в церкви большего дворца был Высочайший выход по случаю крещения великого князя Димитрия Константиновича. Обыкновенно в церемониалах, составляемых на такие случаи, указывается, что таинство крещения совершает протопресвитер с придворным духовенством; члены же Синода встречают Государя и Высочайшую фамилию при входе в церковь, совершают благодарственное Господу Богу молебствие по совершении таинства крещения и приносят поздравление Их Величествам по окончании литургии; литургию совершает первенствующей или наличный старейший член Синода с придворным духовенством. Преосвященный Димитрий, бывший при этом случай во главе Св. Синода, совершал литургию и приобщал Св. Христовых Таин новопосвященного Великого Князя. Все, что в данном случае требовалось церемониалом, он исполнил, и даже позволил себе лишнее. Когда после литургии приносили Их Величествам поздравление, Димитрий приветствовал Государя речью – очень дельною, но довольно продолжительною. Речь, конечно, была выслушана; но неуместность ее была подчеркнута скоро. За царским столом о. духовник Его Величества дал понять оратору, что решимость говорить при такой обстановке речь можно объяснить только незнанием придворного этикета... Через несколько дней, именно 7-го августа, тот же церемониал повторился при Дворе по случаю крещения Великой Княжны Анастасии Михайловны. Димитрий опять участвовал в торжестве, и в том же звании старейшего члена Синода; но поздравление на этот раз приносил без речи. Осенью того же 1860 г. при Дворе в течение двух недель продолжались печальные церемонии по случаю смерти вдовствующей Императрицы – матери Александры Феодоровны. 20-го октября она скончалась в Царском селе, а 22-го – в походной церкви Александровского дворца совершена была первая торжественная панихида Св. Синодом, в полном его составе, с новым митрополитом С.-Петербургским во главе. Затем ежедневный панихиды служили по очереди члены Синода. В день перенесения тела из Царского села в Петропавловскую крепость Димитрий сменил пр. Григория у Чесменской богадельни и сопровождал гроб до самого Петропавловского собора, а 5-го ноября служил, в Высочайшему присутствии, заупокойную литургию и участвовал в отпевании покойной Императрицы. После того еще полтора года Димитрий оставался в Петербурге и нередко участвовал в богослужении при Высочайшем Дворе, в присутствии Государя Императора. Ближайшими такими случаями были 25-е декабря 1860 и 6-е января 1861 года. В первый из этих праздников в служении первенствовал митрополит Исидор; но в день Богоявления, за болезнью митрополита, служил литургию и выносил крест из собора Зимнего дворца на Иордань пр. Димитрий293.
В столичных епархиальных храмах Димитрий, за три года его пребывания в Петербурге, приходилось служить довольно часто, и в обычные праздники, и по особым случаям. Так, он каждый год бывал в большом крестном ходу в Александров день – 30 августа; участвовал в хиротонии девяти архиереев294; во все высокоторжественные дни являлся для служения в соборы Исаакиевский, Казанский, или Смольный. В Петербурге он был свидетелем и участником в великом народном торжестве, в день объявления Монаршей милости – освобождения крестьян от крепостной зависимости. Нередко пр. Димитрий, по приглашениям или по своему желанию, являлся или для совершения богослужения, или только для присутствия в собраниях. Он отпевал (1 ноября 1860 г.) протоиерея А. И. Райковского295, настоятеля Казанского собора, и участвовал в служении при похоронах кафедрального протоиерея А. Окунева (27 дек. 1860 г.). Бывал он на публичных экзаменах в С.-Петербургской духовной академии, в собраниях Академии наук, в славянском комитете и подобн. Затем, каждый воскресный или праздничный день, когда освобождался от службы по назначению, он служил в своей домовой церкви на подворье; эти последние службы преимущественно посещались лицами немалочисленного кружка петербургских почитателей Димитрия.
Огромное расстояние между Одессой и Петербургом, при тогдашних путях сообщения, не только не давало пр. Димитрию возможности временно побывать при кафедре и посетить свою паству, но и значительно затрудняло сношение его с лицами и учреждениями епархии. Правда, в Одессе оставался пр. викарий, который заменял отсутствовавшего архиепископа почти во всех случаях: отправлял богослужения в торжественные дни, рукополагал ставленников, вел надзор за учебными и другими епархиальными учреждениями, и даже, по поручению пр. Димитрия, предпринимал (в 1861 г.) путешествие для обзора епархии. Тем не менее главное управление епархией должно было находиться в руках епархиального архиерея, где бы он ни был, и занятия епархиальными делами, с одной стороны, брало не мало времени, а с другой – нередко приводило в смущение нерешительного Димитрия: нужно было разбирать прошения и делать заочный выбор кандидатов для замещения священнических и других вакансий; приходилось утверждать или отрицать, даже и в сомнительных случаях, присылаемые решения и постановления епархиальных учреждений, чтобы избежать продолжительной переписки. Была, однако, и хорошая сторона для Херсонской епархии в продолжительном пребывании ее архиерея в Петербурге. Присутствие в Св. Синоде и участие в высшем церковном управлении для каждого епархиального архиерея представляет очень удобный случай обратить внимание на нужды своей епархии, выяснить местный потребности и ходатайствовать об исполнении различных мероприятий и проектов. У пр. Димитрия, за время его трехлетнего пребывания в Синоде, находилось также не мало случаев и побуждений ходатайствовать по делам своей епархии: все местный меры к улучшению быта духовенства, устройство новых благотворительных и учебных заведений и преобразование старых – все это получило начало в период пребывания Димитрия в Петербурге и впоследствии только развивалось и выполнялось. Из оконченных же в это время и важных для ·епархиального духовенства дел, нужно указать на открытие первых епархиальных ведомостей и на устройство Херсонской епархии после отделения от нее Таврической.
В первый же год своего пребывания в Петербурге, пр. Димитрий вошел в Св. Синод с особым представлением, которое прямо касалось только Херсонской епархии, но, как инициатива, оказало потом большую услугу всей русской церкви. Услуга эта тогда же была оценена по достоинству в духовной литературе. «Потребность в издании епархиальных ведомостей – писали тогда в журнале «Странник» – давно ощущалось. Первый заявил о ней, бывший в Петербурге в 1857 году, ректор Ярославской ·семинарии (впоследствии епископ Оренбургский) Антоний. Но только в 1860 году суждено осуществиться этому делу, согласно предложению преосвященного Димитрия, архиепископа Херсонского. 30 октября 1859 года он представил Св. Синоду, что издание епархиальных ведомостей по части духовной могло бы принести не малую пользу для лиц подведомых епархиальному управлению, и просил разрешить издание сих ведомостей в Одессе с половины 1860 года, по представленной им программе. Св. Синод, разделяя мнение пр. Димитрия о пользе издания епархиальных ведомостей, разрешил такое издание для Херсонской епархии, в виде опыта»296. В этом деле Димитрий опять был продолжателем Иннокентия, которой думал о своем местном органе печати и даже начертал для него примерную программу. «Херсонские епархиальные Ведомости», особенно в первые годы существования, богаты были и содержанием и внешнею полнотой (двухнедельные №№ выходили книжками в 50 и 70 страниц); их «прибавления украшались проповедями архипастыря и других известных проповедников; в них помещались серьезные и обширные статьи по патрологии и церковной историй; в них же впервые стали обсуждаться, имевшие местный характер, но приложимые везде, бытовые вопросы, так живо интересовавшие тогда духовенство. Новое дело скоро нашла себе подражателей: по примеру и образцу «Херсон. Епарх. Ведомостей» скоро появились такие же издания и в других епархиях. Первые за херсонскими стали выходить ярославские (с марта 1861 г.), которые разрешено было Св. Синодом издавать по программе, утвержденной для херсонских ведомостей. Ныне такие ведомости издаются почти во всех епархиях, и если не везде успешно выполняют первоначальную программу, то в общем дают массу ценного материала, изображающего в себе все движения церковно-общественной жизни: они в этом отношении, можно сказать, питают духовные журналы и другие издания. Многого нужно пожелать епархиальным ведомостям; но нельзя не помянуть добром того, кто вызвал их к жизни.
Важнейшим событием того времени было отделение Таврической епархии от Херсонской и учреждение особой архиерейской кафедры в Симферополе. Дело это, несомненно послужившее улучшению края в церковной жизни, возникло по инициативе жителей Тавриды, помимо епархиального начальства, и началось еще до прибытия пр. Димитрия в Петербург. Но при нем оно докладывалось Синоду; при нем состоялось и определение, утвержденное Высочайшею властью. «Православные жители Таврического полуострова ходатайствовали об учреждении у них епископской кафедры, выставляя причиною и побуждением 1) неудобство сношений местного православного духовенства с отдаленным епархиальным начальством, 2) положение христиан между магометанами, имевшего в Крыму своего духовного главу – муфтия и 3) наконец, особое историческое значение Таврии – колыбели русского христианства. Св. Синод, кроме указанных причин, находил с своей стороны еще другие нужды края, требовавшие постоянного пребывания там архипастыря, а именно: 1) различные секты раскольнические, преимущественно в северных уездах губернии, каковы – молокане, духоборцы и немоляки, 2) значительное число иноверческих (немецких) поселений, неблагоприятных для православия и русской народности, требовали ближайшего влияния ближайшей церковной власти; 3) начавшее устраиваться скитское пустынножительство среди гор таврических должно пойти вперед гораздо благоуспешнее под ближайшим надзором таврического епископа; 4) увеличение населения требует увеличения числа церквей и причтов и опять ближайшего иерархического содействия; 5) наконец, честь православной церкви требует иметь своего архиерея в Крыму, где недавно открыта кафедра армянского архиепископа. По сим основаниям Св. Синод вменил себе в долг испросить Высочайшее Его Императорского Величества соизволение на следующая свои предположения: 1) из состава нынешней Херсонской епархии отчислить Таврическую губернии и образовать из оной особою епархию; 2) архиерейскую кафедру новой епархии основать в городе Симферополе, с наименованием епископа Таврическим и Симферопольским; 3) Херсонской епархии архиерею именоваться Херсонским и Одесским, а викарию-епископу Одесскому именоваться Новгородмиргородским; 4) по древности церкви Таврической и важности исторического ее значения присвоить новой епархии 2-й класс и степень после Херсонской. Предположения сии Высочайше утверждены 16 ноября 1859 года». Тогда же утверждены были штаты Таврической епархии и первым ее архиереем назначен (1860 г. янв. 7), присутствовавший вместе с пр. Димитрием в Синоде, Вятский епископ Елпидифор, с возведением его в сан архиепископа. Но пр. Елпидифор не был на новой кафедре и вскоре скончался в Петербурге: на его место назначен был (29 авг. 1860 г.) Алексий, епископ Тульский. – Полное разделение не могло совершиться скоро. Живою связью разделенных епархий еще на долгое время оставалась Одесская семинария, в которой воспитывались дети и Херсонского и Таврического духовенства до времени открытия семинарии в Симферополе. Кроме того, разделение епархии вызывало некоторые экономические вопросы, решение которых требовало времени для изыскания новых мер. Между прочим, архиерейский дом в Одессе и содержание свиты Херсонского архиерея, как и везде, не могли содержаться на те скудные средства, которые отпускались от казны: для поддержания кафедры обыкновенно изыскиваются средства в местных монастырях, а в епархии Херсоно-Таврической большинство монастырей находилось в ее Таврической половине. Это обстоятельство вызвало у пр. Димитрия особенные заботы, сопряженные притом с неожиданными неприятными последствиями.
Вскоре по утверждении постановлений об открытии новой Таврической епархии, пр. Димитрий заявил Св. Синоду о нуждах своей кафедры и просил оставить за Одесским архиерейским домом, давно приписанный к нему, заштатный Богородичный Корсунский монастырь, который расположен почти на границе Херсонской и Таврической губерний, – хотя в данное время состояние этого монастыря было плачевное, так как во все время Крымской войны он обращен был в военный госпиталь. Св. Синод уважил просьбу Димитрия и указам 5 февр. 1860 г. дал знать таврическому архиепископу об оставлении означенного монастыря за Одесским архиерейским домом. Но в таком положении дело оставалось недолго. Преосвященный Алексий, вскоре же по прибытии в Симферополь, возбудил дело о возвращении Корсунского монастыря по принадлежности, как находящегося в пределах Таврической епархии. Вместе с представлением в этом смысле от Таврического епархиального начальства, в Св. Синод последовало ходатайство о том же Московского митрополита Филарета (вероятно по просьбе пр. Алексия). «В Петербурге признали справедливым, как писал м. Филарет пр. Алексию, отдать монастырь Таврическому архиерею», но почему-то медлили приведением в исполнение настоящего признания до самого конца пребывания Димитрия в Синоде. Уже в 1863 году возобновилось ходатайство м. Филарета297, и на этот раз определением Св. Синода дело решено было к полному удовлетворению заинтересованных сторон. «Св. Синод, имев рассуждение, что при учреждении Таврической епархии Корсунской Богородичный монастырь, по местности принадлежащей Таврической епархии, по особым нуждам оставлен был приписанным к Одесскому архиерейскому дому, – ныне, по обстоятельствам Таврической епархии, оказывается настоятельно-нужным перечислить в Таврическую епархию, – определил: Корсунский монастырь отчислить в Таврическую епархии; а взамен сего, в видах доставления Одесскому архиерейскому дому средств к безбедному существованию, приписать к оному второклассный Бизюков монастырь, который и предоставить в управление Херсонского епархиального архиерея».298 Впоследствии, по особым обстоятельствам, Бизюков монастырь возвысился и стал приносить Одесскому архиерейскому дому несравненно большую пользу, чем бывший Корсунский.
Заботливость пр. Димитрия, присутствовавшего в Синоде, не ограничивалась пределами своей епархии: его влияние было благотворным и для других мест и лиц. Как на такой пример стоит указать на участие его в выборе лица для замещения Тульской архиерейской кафедры, после перемещения (1860 г. авг. 29) пр. Алексия в Тавриду. Для дорогой, первой своей паствы, пр. Димитрий никого не мог пожелать лучшим и полезнейшим архипастырем, как своего ученика архимандрита Никандра – в то время ректора Новгородской, а прежде (во все время при Димитрии) Тульской семинарии. Указание на него тем удобнее принято было Св. Синодом, что первенствующий член, м. Исидор, давно знавший архим. Никандра, очень был доволен иметь его архиереем в родной епархии. Пр. Димитрий первый известил Никандра о его предназначены. 21-го сент. 1860 г., в день именин пр. Димитрия, архим. Никандр из Новгорода послал на его имя поздравительную телеграмму, и в ответ на нее получил от пр. Димитрия следующее телеграфическое извещение: «Поздравляю вас епископом Тульским и Белевским»299. Выбор нового Тульского святителя, как известно, оправдан был, редким в истории иерархии, 33-х летним союзом его с возлюбленною и возлюбившею его Тульскою паствою.
IV
Частная жизнь в Петербурге для пр. Димитрия слагалась как-то неудобно, – не согласно с обычными его правилами. Причиною тому были частью усиленные и непрерывные занятия, расположенные притом не по требованиям определенных сроков, а случайно, – частью же другие внешние условия непривычного быта. Как много было у него домашних занятий, можно судить по тому, что в некоторые вечера, особенно накануне заседаний комитета по преобразованию семинарий, он просиживал за письмом до трех и четырех часов утра; не спал в это время, и его домашний письмоводитель, который должен был переписывать его доклады и объяснения. Если прибавить к этому частые утренние выезды – то на службу, то на заседания в Синод или в лавру, – то, и помимо особенностей характера Димитрия, понятно будет, почему он так мало обращался в столичном обществе. Несмотря на долговременное безвыездное пребывание в Петербурге, он имел круг знакомства очень ограниченный. Разумеется, он усердно делал поздравительные визиты – обязательные в известные дни – всем вообще лицам, к которым имел отношение по официальному положению, равным образом принимал поздравителей и у себя; но частные его выезды бывали очень редки. Изредка бывал он у брата, своего, исакиевского протоиерея М. Ив. Муретова; посещал своего соседа по подворью пр. Григория Калужского, а с 1861 г. еще митрополита Киевского Арсения, да – и только. У себя принимал гостей тоже немногочисленных. По праздникам, исключая летнее дачное время, вечерними посетителями у него были: брат, его семейство и некоторые из родных брата и даже духовных детей его, с которыми он познакомил преосвященного. В праздничные же дни бывали у Димитрия и утренние посетители: это почитатели, жаждавшие утешения в беседе благостного Владыки или, чаще, его пособия и помощи в тесных обстоятельствах столичной жизни. В числе таких посетителей гостиной пр. Димитрия чаще других встречались: бывший его ученик и потом сослуживец по академии, прославившийся издатель «Домашней беседы» – Виктор Ипатьевич Аскоченский, и еще флота – капитан Бурачек, издававший журнал «Маяк». Оба они почему-то считали Димитрия покровителем их исключительного в то время направления в литературной деятельности300, основанной больше на том, что их покровитель не умел никогда отказать в просимой субсидии их не далеко и не широко расходившимся изданиям.
Другие – внешние условия, которым нужно было подчиняться, не только не давали удобств, а напротив во многом были стеснительны и даже прямо неблагоприятно действовали на физическое и моральное состояние преосвященного. Сначала, по приезде Димитрия в Петербург, ему отвели квартиру в синодальном подворье на Звенигородской улице, где (и при тогдашнем устройстве подворья) можно было устроиться, если не с полным удобством, то по крайней мере без стеснений. Но здесь одесским гостям пришлось прожить только несколько месяцев; по случаю назначенного капитального ремонта в Звенигородском подворье их перевели на Ярославское, находящееся на краю города – в двадцатой линии Васильевского острова. Старый и не поместительный дом, сырой и холодный, обращенный фасадом на Неву, представлял совсем не гостеприимный приют для прибывших с крайнего юга301. У преосвященного, на верху, так было холодно, что на другую зиму решили совсем закрыть большую приемную комнату, имеющую окна с двух сторон. Оставались три небольших комнаты, которые и представляли из себя все архиерейские апартаменты, не гарантированные от холода и сквозняков. Сам Димитрий хорошо знал (и впоследствии часто об этом говорить), что начало своей жестокой болезни – ревматизма ног, который так угнетал его под старость, он получил в Петербурге, на Ярославском подворье. Действительно, зимою 1861 года пр. Димитрий лечился от простуды ног: болезнь была залечена, но не вылечена. – Архиерейская свита теснилась вся в нижнем этаже.
При такой неудобной обстановке, экономические обстоятельства были так плохи, что они беспрестанно беспокоили преосвященного, во все время его пребывания в Петербурге. Ошибка, допущенная в самом начале, повела потом к дальнейшим затруднениям и осложнениям. Дела в том, что одесситы, привыкшие к торжественным поездкам в Петербург Иннокентия, хотели непременно по прежним примерам отправить в путь и Димитрия. Еще за неделю до отъезда архиерея из Одессы отправлена была его многочисленная свита: два иеромонаха (казначей и ризничий – он же духовник), протодиакон, два диакона, двенадцать человек больших певчих, письмоводитель, его помощник и, наконец, келейная и домовая прислуга. Затем, отравлен целый транспорт хозяйства: ризница, домовые вещи и разная утварь, и даже городская карета и· лошади. Когда прибыли все в Петербург, да подсчитали дорожные расходы, то в итоге оказалась почти половина предположенной годовой сметы. Предстояло потом содержать такой большой двор в Петербурге, где все, до последней мелочи, нужно приобретать за деньги и по высоким ценам. Скоро для экономии дома ясно стало, что действительность превышает смелые ожидания, а расчет на доходы и заработки певчих и других лиц свиты не оправдывается, благодаря опять положению занимаемого подворья. Год кое-как протянули, хотя с значительными передержками и одолжениями. Но присутствие Херсонского архиепископа в Синоде отсрочивалось еще на год: нужно было подумать о предстоящем будущем. Между тем эконом Одесского архиерейского дома уведомлял своего Владыку, что теперь он не в состоянии высылать в Петербург и той суммы, какая рассчитана была на прошлый год, так как с отделением Таврической епархии приписной Карсунский монастырь, хотя и оставлен в прежнем положении, но не дает тех поступлений, какие были прежде. Печальные обстоятельства заставили принять радикальные меры к их устранению. После праздника пятидесятницы 1860 года пр. Димитрий распорядился отправить в Одессу семь человек певчих, обоих о о. диаконов, ризничего и часть прислуги. Проданы были лошади и экипаж, и вместо «собственного экипажа» нанята извозчичья карета с платою помесячно. А каковы бывают в Петербурге эти возницы, нанимаемые «за сходную цену», иллюстрацией к тому служить следующий случай. В одну из пятниц пр. Димитрий поехал утром в Синод, но доехал только до Николаевского моста. Здесь кучер как-то круто повернул от встречного, и вдруг заднее колесо кареты треснуло и рассыпалось на свои составные части; карета медленно повалилась набок. Преосвященный счастливо отделался легким ушибом и благополучно возвратился домой на легковом извозчике, а своего провожатого послал к синодальному швейцару с извещением о невозможности быть в заседании Синода... Между тем, дела, задерживавшие Херсонского архиепископа в Петербурге, не окончились и во второй год. В апреле 1861 года последовало новое Высочайшее повеление об отсрочке его присутствования в Синоде еще на третий год. Пр. Димитрий не тяготился возложенными на него трудами; напротив, работал с усердием и расположением к делу; но и он не мог не желать отдыха и освобождения, особенно под влиянием таких мелочей Петербургской жизни, который трудно было переносить равнодушно, когда они вредили спокойствию и здоровью. Он с нетерпением ждал окончания третьего срока, и об одном говорил с близкими – «как бы поскорее выбраться из Питера». Высказывая то же желание в письмах, он даже рассчитывал, что «авось трехлетний подвиг зачтут ему на будущее время и больше не вызовут в Петербург на вторительную службу». Наконец, 11-го мая 1862 года было Высочайше повелено: по поводу окончания сроков пребывания в С.-Петербурге преосвященных – архиепископа Херсонского Димитрия и епископа Калужского Григория, уволить их в вверенный их управлению епархии. Как только стало достоверно известно об этом на «Ярославском подворье», все временные жители его – одесситы обратились к своему Владыке с просьбою отпустить их немедленно домой: разрешение было дано и вольные птицы быстро собрались и полетели на юг благодатный. Сам Димитрий еще оставался (с одним келейником) в Петербурге, чтобы отдать прощальные визиты. В день Вознесенья (17-го мая) он отслужил литургию в Исаакиевском соборе, и в этот же день вечером выехал по Николаевской железной дороге, навсегда простившись с Петербургом.
Служба преосвященного Димитрия в Петербурге и его труды по участию в делах высшего церковного управления привлекли к нему и особое высокое внимание, так что за время присутствования в Св. Синода он дважды удостоен был наград от монарших щедрот: в первый год пребывания в Петербурге он был возведен (3 апр. 1860 г.) в сан архиепископа302, а через два года сопричислен (8 апр. 1862 г.) к ордену св. Владимира 2 ст. большего креста. – Неизгладимую память о себе оставил он в Петербурге, во всех сферах, в которых приходилось ему обращаться. Справедливо ценя его доброту и открытый характер, люди высокопоставленные, так же открыто, выражали свое расположение к нему, оказывали ему любезную предупредительность и внимательную заботливость о его личных делах303, любили его и неподдельно-искренно выражали свою любовь все его почитатели, непосредственно испытавшие на себе плодотворное действие добрых качеств его сердца; глубоко уважали и те, которые, не соглашаясь с его взглядами и мнениями по разным вопросам, не могли не видеть его убежденности и в то же время уважительности к чужим мнениям. Сам пр. Димитрий увозил теперь из центра русской жизни живые впечатления, остававшиеся до глубокой старости: памятны ему были и люди столицы, и дела и обстоятельства времени; не забывались и уроки петербургской жизни. Одного, быть может, он не сознавал эти минуты – именно того, что на него самого Петербург наложил видимую и неизгладимую печать. В Петербург Димитрий прибыль полный, можно сказать, цветущих сил и энергии, а из Петербурга вывез явные признаки наступавшей старости: за три года волосы на его голове густо, густо посеребрились, и черная борода его на половину побелела. А всего только исполнилось 51 год от рождения.
V
Возвращение пр. Димитрия на епархию было медленное, так что все путешествие от Петербурга до Одессы продолжалось больше месяца. Ему хотелось воспользоваться этим удобным случаем, чтобы посетить все дорогие ему места, и навестить всех глубокочтимых им и близких сердцу лиц. Первая остановка была в Москве. На другой день по приезде туда пр. Димитрий представился высокопреосвященному митрополиту Филарету, и был принят необыкновенно приветливо и радушно. Это свидание двух великих иерархов, было знаменательно во многих отношениях: откровенная беседа о предметах современной важности выяснила их личные взгляды и мнения, и укрепило их взаимное уважение друг к другу. От юности Димитрий привык высоко ценить авторитет и достойную славу московского первосвятителя; с сыновнею покорностью принимал он, в разные времена своей жизни, указания и мнения митрополита Филарета, послужившие к лучшей оценке его собственных мыслей; не изменял он такого отношения к высокому авторитету и в сане епископа и архиепископа. Еще недавно, когда в комитете по духовно-учебной реформе всесторонне обсуждали вопросы об усилении средств на содержание учебных заведений, и не находили источников к такому усилению, пр. Димитрий прямо высказывал единственную надежду на митрополита Филарета, который «один только силен ходатайствовать пред Высочайшею властью о пособии из государственного казначейства». Тогда же, в частной беседе с некоторыми членами комитета, он глубоко искренно выразил свое молитвенное благожелание – «чтобы Бог продлил жизнь московского Владыки и дал ему устроить все дела церковные, особенно духовное образование»304. С своей стороны м. Филарет, узнавший Димитрия еще иеродиаконом (по его курсовому сочинению) и внимательно следивший потом за его дальнейшими жизненными путями, с братскою любовью обращался письменно к Димитрию – епископу Тульскому305, и затем, с уважением к его высоким личным качествам, выражался об архиепископе херсонском, как об «архиерее, одном из преимущественно достойных»306. Теперь, когда Бог привел их стать лицом к лицу, каждый из них, кажется, с двух слов узнал в своем собеседнике именно того, кого привык представлять себе заочно. Филарет с любовью слушал Димитрия, и с довольством читал открытую его душу; Димитрий отверстым слухом внимал мудрости опытного старца... Московский Владыка, как бы в знак расположения к своему гостю, позаботился об оказании ему некоторой почести: он с извинением напомнил Димитрию о не исполнившемся, три года тому назад, его желание служить в московском кремле литургию, и предложил теперь сослужить с ним на другой день, по случаю храмового праздника в кафедральном Чудовом монастыре. Пр. Димитрий с удовольствием принял такое предложение, и день памяти святителя Алексия (20 мая) был сугубым праздником для обоих иерархов. На другой день этого праздника м. Филарет писал деловое письмо обер-прокурору Св. Синода, А. П. Ахматову, и под живым впечатлением приписал следующие знаменательные строки: «Из того, что я несогласен с некоторыми мыслями преосвященного Димитрия об училищах и о свечной операции, не извольте выводить дальнейших заключений. Знаю его, как мужа благонамеренного и добродетельного. Он посетил меня в субботу; вчера мы вместе с ним совершили божественную службу у праздника, у гроба святителя Алексия, и после службы разделили братскую трапезу»307.
Пользуясь свободным временем, пр. Димитрий в настоящее посещение первопрестольной столицы употребил около недели на обозрение Москвы, – на поклонение святыням, на посещение лиц высокопоставленных и прежних своих знакомых, и наконец на выполнение поручений первоприсутствующего члена Синода308. Только 25-го мая, простившись с высокопреосвященным митрополитом, он оставил Москву и направил свой путь в родную – рязанскую страну. Заранее предуведомленные рязанцы встретили своего высокого земляка с большим почетом и предупредительностью. Отменный прием оказал ему хозяин епархии, высокопреосвященный Смарагд, издавна расположенный к Димитрию. Посещая дорогие по воспоминаниям места, пр. Димитрий везде и прежде всего желал ознаменовать свои посещения молитвою. Так и в Рязани, на другой же день по приезде, он служил литургию в Успенском соборе. Пр. Смарагд устроил в тот же день, ради гостя, званый обед. Большинство представленных при этом случае Димитрию были для него люди новые, ему лично неизвестные; но были между ними и хорошо знакомые: были здесь ученики его по академии309, были сверстники и сотоварищи по семинарии310, еще живы были и не оставляли служебной деятельности двое из учителей самого Димитрия – это почтеннейший и приснопамятный в Рязанской епархии кафедральный протоиерей и инспектор семинарий Н. А. Ильдомский, и профессор, протоиерей П. В. Поспелов. Свидание и беседа с ними доставляли истинное удовольствие прибывшему гостю; но не менее приятно было видеть те места, которые напоминали годы юности. Следующее утро все было посвящено семинарии, – где много уже было нового, но каждый уголок напоминал давно прошедшее. Преподав благословение учащим и учащимся в актовом зале, пр. Димитрий посетил квартиры о. ректора и о. инспектора, и затем, под их руководством, осматривал во всех подробностях воспитавшее его учебное заведение, достигая в одно время двух целей – удовлетворяя понятному чувству старого питомца к родному питомнику, и проверяя на первом опыте свои недавние труды по «комитету». С тою же последнею целью он посетил потом – духовное училище, а в заключении побывал в женском епархиальном приюте.
Одним из побуждений посетить Рязань было чувство благодарности преосвященному Смарагду и новые просьбы к нему по непрестанным заботам Димитрия об устройстве родственников. Во время пребывания Димитрия в Петербурге овдовела его старшая сестра, оставшаяся после смерти мужа с малолетними сыновьями. По милости пр. Смарагда уже два года священническое место покойного зятя не было замещено штатным священником и вдова пользовалась доходами и землею. При настоящем свидании и совещании преосвященные решили, за малолетством сыновей сестры Димитрия, предоставить место кому-либо из родственников, с условием – дозволить вдове жить в своем доме на церковной земле, и оказывать ей возможную помощь. Решение было приведено в исполнение; но впоследствии оказалось не прочным, и пр. Димитрию пришлось снова заботиться о непосредственном обеспечении сестры и устройстве ее сыновей.
Были в тоже время у пр. Димитрия к рязанскому архиерею и другие просьбы за родственников, но одна из них была особенною, по обстоятельствам. Димитрий просил у Смарагда священническое место одному родственнику – молодому человеку, которого он привез с собою из Петербурга. Этот молодой человек, не окончив полного богословского курса, выбыл из Рязанской семинарии, чтобы поступить в С.-Петербургскую духовную академии, но, прибыв в Петербург, скоро решил изменить свою карьеру и, не окончив приемных экзаменов в академии, поступил в университет, благо на Васильевском острове: находилось Ярославское подворье, где добрый хозяин дал новому студенту приют с полным пансионом. На беду, время было смутное: в январе 1862 года закрыт был на неопределенное время С.-Петербургский университет, а в мае должен был выбыть из Петербурга пр. Димитрий, и родственник его оказался, в полном смысле слова, на мели – и оставаться в Петербурге не было возможности, и вернуться в епархию было безнадежно, так как не окончившему курс в семинарии и уже давно выбывшему из ведомства могут отказать в добром приеме. Но пр. Смарагд взглянуть на обстоятельства глазами Димитрия и, не поставив во грех жажды университетского образования, предоставил молодому человеку право, наравне с его семинарскими товарищами, искать священнического места, которое на счастье и было очень скоро найдено. Сельский священник-университант служит и теперь и пользуется почетом у братии и у начальства.
Великое одолжение рязанский архиепископ оказал преп. Димитрий тем, что дал ему возможность – даже торжественно – совершить божественную службу в сельской церкви, на родине. По распоряжению пр. Смарагда, вместе с архиерейскою ризницею, из Рязани отправлена была за 60 вер. и архиерейская свита: соборный диакон, иподиаконы и хор певчих. В родном Лучинске пр. Димитрий готовилась встреча самая сердечная. Он сам, еще за долго до отъезда из Петербурга, писал о своем намерении посетить родину и просил оповестить о том всех родственников, которые пожелали бы видеться с ним. Оповещение сделано было заблаговременно и съезд духовенства в доме о. Симеона (зятя преосвященного) оказался небывалым: все ближние и дальние родственники Владыки поспешили воспользоваться случаем, чтобы видеться с ним. Все теперь заняты были приготовлением возможно лучшего приема высокому родственнику. В день приезда преосвященного его торжественно встречали в храме, – в том храме, который был первым училищем Димитрия и теперь возбуждал в нем самые дорогие воспоминания детства. Но прежде, чем вступить в храм, он должен был принять простосердечное приветствие от своих ближайших земляков – Лучинских прихожан: они рано собрались на церковной площади и ожидали минуты, когда могли бы поклониться «мирскою хлебом-солью» и принять благословение от архиерея, которого помнили мальчиком Климентом – чтецом церковным. На другой день преосвященный служил литургию с целым сонмом родственников – сельских священников и диаконов; после же литургии служил панихиду в церкви и литию на могиле своего родителя. Затем, остаток этого дня и следующее утро он провел в родном кругу своих ближних, среди которых имел утешение видеть (и это в последний раз)311 свою мать: к ней, разумеется, относились лучшие выражения родственного чувства Владыки. После матери, наибольшим вниманием его воспользовались родственники беднейшие, особенно вдовы и сироты: все они, вместе с ласкою и утешением Владыки, получили от него и щедрую помощь312. Других он ободрил обещанием помощи в воспитании и устройстве детей; всех утешил добрыми советами и разъяснениями предлагаемых вопросов. Собравшихся духовных очень интересовали разные ходячие в то время слухи и толки, разъяснение которых они надеялись узнать из самого верного и живого источника: они спрашивали у преосвященного, скоро ли им положат жалованье и сколько, – правда ли, что их детей всех будут воспитывать на казенный счет, и подобн. С сожалением, пр. Димитрий должен был разочаровать их отрицательными ответами на подобные вопросы; но в то же время давал им здравые советы, полезные для их быта. «На жалованье, говорил он им, не рассчитывайте. Правда, в Петербурге есть мнение назначить вам содержание от казны; но за то, хотят отобрать церковную землю. Будет ли это хорошо, и принесет ли пользу? Я сомневаюсь. Деньги со временем теряют свою ценность, а земля всегда будет стоить того хлеба, который она приносит. Дадут вам теперь ограниченное жалованье, которое через 15, много через 20 лет окажется ничтожным; мой совет: держитесь пока крепче за землю. О воспитании детей ваших Св. Синод очень заботится; но прибавить что-нибудь в облегчении вас он не может, если вы сами не позаботитесь об изыскании и доставлении средств на улучшение семинарий и училищ». При этом он указал и на самые источники, из которых, по его мнению, духовенство могло бы извлекать помощь себе и детям-ученикам.
Памятным еще остается от настоящего посещения родины пр. Димитрием его нищелюбие. Так как слух о предстоящем приезде милостивого архиерея рано и далеко распространился по окрестным селам, то в Лучинске собралось в свое время такое множество нищих, какого в другой раз село не видело: из соседнего, напр., села Каленец безземельные фабричные прибыли едва не поголовно. В день архиерейской службы, от кладбища до церкви и от церкви до дома о. Симеона, нищие стояли рядами и поочередно получали щедрую милостыню из рук самого Владыки. По прибытии в дом он выслал своего келейника, чтобы оделить тех, которые не получили милостыни; затем в течение дня подходили новые нищие – и те получили свою долю. Кроме того, по желанию преосвященного, сестра его, как хозяйка дома, кормила нищих за отдельным столом и оделяла пирогами. К вечеру все нищие понемногу разошлись. На утро Владыка встал рано и после молитвы долго не выходил из своей комнатки. Видели, что стоит он у окна и смотрит на улицу чем-то озабоченный. Вошла сестра, чтобы предложить чаю; но он сам встретил ее такими словами: «Послушай-ка сестра, куда давались нищие! Вчера их было так много, а вот теперь я сколько времени жду, и не вижу ни одного». – «Да они, Владыка, вчера и получили свое и разошлись». – «Как же так разошлись! Так было их много!..» Все понимали такое сожаление нищелюбца и, не желая видеть его огорченным в такое время, постарались набрать еще десятка полтора нищих и привести их к дому о. Симеона перед самым отъездом преосвященного. Оделив последних нищих, он еще вручил сестре несколько денег, наказав не тратить на свои нужды, а раздавать нищим, которые будут приходить после его отъезда. – Прощаясь с родными и близкими, после слов утешения всем и каждому, он высказал свое давнишнее желание видеть в Лучинске на месте старой, деревянной церкви новую-каменную. «Я может быть постараюсь накопить денег и буду пересылать вам, говорил он Лучинскому причту, а вы помогите в добром деле и потрудитесь выполнить мое желание». Благому желанию, однако, не суждено было исполниться по той простой причине, что Димитрий не умел копить деньги.
Из Лучинска пр. Димитрий лежал прямой путь на юг, для дальнейшего следования. Но его связывало слово, данное три года назад тулякам – непременно побывать у них на возвратном пути из Петербурга в Одессу. Обещание это напоминал ему новый тульский епископ Никандр – и лично, при своей хиротонии, и особым приглашением в поздравительном письме на Пасху 1862 года. Чтобы сократить время в дороге, пр. Димитрий должен был возвратиться в Рязань и оттуда следовать более удобным путем, через Зарайск. В Тулу он прибыл 1-го июня, поздним вечером. Свидание с возлюбленными чадами тульской паствы стоило ему и времени и не малых трудов: вместо предположенных двух дней он пробыл четверо суток и не имел возможности достаточно отдохнуть от дороги. Преосвященному Никандру хотелось оказать как можно больше чести своему благодетелю: он готов был выполнить целую программу приема «бывшего ангела Тульской церкви». На другой день утром в архиерейском доме собрались все представители городского духовенства, служащие в консистории, начальники и наставники семинарии и училища, и были представлены Димитрию. С словом привета встретил его высокопреосвященство всех и усладил своею, полною любви и благосклонности, беседою. Преподавая благословение, он почти каждому напоминал что-либо из прежней жизни, в его времена. После приема пр. Димитрий посетил главные городские храмы, которые больше напоминали ему прежнее служение. Вместе с пр. Никандром они прибыли в Кремль, в кафедральный Успенский собор, где по-прежнему все было выражением строгой русской старины, так располагающей к молитве. Но рядом с этою святынею возвышался теперь величественный храм – теплый Богоявленский собор, подробное обозрение которого так интересовало Димитрия и желательно было для Никандра. Когда, восемь лет назад, пр. Димитрий, при участии архимандрита Никандра, полагал первый камень в основание Тульского теплого собора, – они не могли и думать, что на этом камне возрастет такой великолепный храм, украшенный золочеными главами, блестящими над зубцами кремлевской стены, а внутри – также массою золота и искусною живописью по стенам. – Из кремля преосвященные направились в церковь женского монастыря и потом в приют сирот – девиц духовного звания: радость детей, доставило полное удовольствие Димитрию, так заботливо относившемуся в свое время к этому скромному питомнику. Отбыв из монастыря, преосвященные посетили еще Николо-часовенскую церковь, которая как и прежде, оставалась почти постоянным зимним местом для архиерейских служений, но после Димитрия была заново переделана, значительно распространена и украшена. «Едва преосвященные успели возвратиться домой, как большой соборный колокол возвестил время наступления великого в Туле праздника «Всех святых». Между тем еще утром решено было, что в этот, знаменательный по прежнему союзу Димитрия с Тульскою паствою день, он должен участвовать в богослужении. Накануне оба преосвященные служили вместе всенощное в крестовой церкви. В самый праздник (3-го июня), в девять часов утра начался всеградский крестный ход из кафедрального собора на всехсвятское кладбище, отличавшийся на сей раз невиданным здесь зрелищем, ибо церковную процессию замыкали два архиерея, а за ними шла вся Тула». В храме всех святых оба архиерея, Димитрий и Никандр, совершили божественную литургию и затем на мертвенной ниве вселенскую панихиду. Множество людей всякого звания успели в этот день получить благословение от своего «батюшки Димитрия»; но несравненно больше оставалось неудовлетворенных. Все желали задержать любимого архипастыря и отсрочить его отъезд; находили и повод к тому. У купца Лиштванова умерла жена; муж покойной явился в архиерейский дом и стал усерднейше просить Димитрия, в память прежнего благоволения к его дому, отпеть его супругу. Не умевший отказывать, пр. Димитрий соглашается и служит на другой день в приходской Старо-Никитской церкви, при таком же многочисленном стечении народа, как и на всехсвятском кладбище. Не успел преосвященный возвратиться со службы, оторвавшись от уличной народной толпы, как его уже встречала мать игуменья с сестрами, заявляя свою покорнейшую (хотя и странно мотивированную) просьбу: – «как же, Владыка святый, вы не будете служить у нас, если уже служили у Старого-Никитья?» И еще Димитрий остается на сутки в Туле; и опять служит литургию в женском монастыре; и опять полны народа и храм и площадь монастырская... Едва вечером 5-го числа Тула выпустила из объятий своего «батюшку-Димитрия». Далеко за городом состоялось его прощание с пр. Никандром, духовенством и народом, провожавшими его в «последний – как все думали – раз»313.
По воронежскому тракту, к городу Задонску направлялся теперь поезд Херсонского архиепископа. Давно стремилась туда его мысль; давно возникло, росло и крепло, желание его сердца излить молитву к милосердому Богу у нового источника благодати Божией – у гроба новоявленного святителя Христова Тихона, деяния и учения коего так услаждали его душу от самой юности. Не без основания некоторые из читателей пр. Димитрия, в речах, произнесенных после его смерти, сближали его имя с именем святого народолюбца: в частом поучении народа, – в простых, но дышащих благодатным помазанием, поучениях приснопамятного Херсонского архиепископа видели подражание русскому Ефрему-Сирину; в беззаветной любви к нищей братии сказывалось его стремление поучаться неподражаемыми делами милосердия великого святителя Воронежского. Свое глубокое умиление и чувство благоговейной радости о Господе, сподобившем его поклониться гробу и облобызать нетленный мощи Задонского чудотворца, пр. Димитрий сам прекрасна изъяснил в своей проповеди при первом свидании с возлюбленною паствою Херсонской. В Задонске он особенно доволен был тем, что, без всякой помехи, пришлось привести в исполнение свое желание – помолиться мирно и тихо, наряду с другими простыми богомольцами.
Молитвенное настроение, с каким выехал пр. Димитрий из Задонска, влекло его опять в сторону от прямого пути – в Киев, которого он не мог миновать при настоящем случае. Там опять потребовалось время и для поклонения святыням и для посещения лиц и мест; преосвященный митрополит Арсений, всегда расположенный к Димитрию и особенно сблизившийся с ним в последнюю зиму в Петербурге, уговорил своего ученика отдохнуть у него от далекого утомительного путешествия и пробыть в Киеве еще два дня. 17-го июля, в воскресенье, пр. Димитрий служил в великой лаврской церкви литургию и в то же утро простился с митрополитом, чтобы следовать далее – в Одессу. Через четыре дня закончилось это продолжительное обратное путешествие «от моря Варяжского до понта Эвксинского».
Утром 21-го июня пр. Димитрий прибыл в Одессу; встреченный братией в крестовой церкви, он в краткой молитве принес благодарение Богу и отошел в свои (обновленные) покои. На другой день он принимал поздравления от епархиальных учреждений и городского духовенства, и сам вручал знаки Монаршей милости тем которые удостоены были наград в том году; в субботу 23-го числа служил в крестовой церкви молебен св. Тихону Задонскому, пред образом, который он взял от раки святителя и привез в благословение городу; а в воскресенье 24-го было торжественное богослужение в кафедральном соборе. Высокопреосвященный Димитрий вместе с викарием – епископом Антонием совершили божественную литургию. «Народу было, отмечает современная летопись, как на Пасху. Кроме трехлетнего отсутствия Владыки, нужно принять во внимание искреннее уважение к нему всякого звания и сословия людей и вспомнить не раз разносившиеся слухи, угрожавшие отнять его, – чтобы понять то усердие, с каким стекалось это множество народа со всех концов города»314.
Но окончании литургии Владыка вышел говорить проповедь, которая на сей раз была выражением одной радости при свидании архипастыря с паствою. «Разлучаясь с вами, братия мои, говорил он своим слушателям, мы не могли обещать себе утешения опять видеться с вами когда-либо; еще меньше могли обещать вам какую-либо радость или какое-либо утешение в нашем свидании. Но то и другое сбылось в некоторой мере над нами, свыше нашего чаяния и ожидания». Выразив сожаление о том, что многих, оставленных им в свое время, он уже не видит в живых, преосвященный продолжал: «Итак, ничто не препятствует мне предаться вполне святой радости при настоящем свидании с тобою, возлюбленная паства херсонская. Слава и благодарение Господу, исполнившему во благих желание сердца нашего, – то неугасимое желание, которое тем сильнее разгоралось в сердце нашем, чем далее длилась наша разлука. Благослови душе моя Господа, осуществившего самую дорогую мою надежду, которою жило мое сердце, которая укрепляла мои силы и поддерживала в немощах, во время разлучения с вами, – надежду жить и трудиться еще для Боговрученной нам паствы херсонской. Надеемся, бр. мои, что и для вас наше прибытие к вам принесет хотя некое утешение. Ибо, странствуя от одного града отечества нашего до другого, мы сподобились, братие, видеть и лобызать многие – и древние и новые святыни благословенной Богом России, – покланяться многим, и древним и новым угодникам Божиим, просиявшим на земле нашей, чтобы привлечь молитвенное их благословение на всю паству херсонскую. Но мысль наша стремилась преимущественно к тому сокровищу благодати Божией, которое отверзлось пред всеми в последнее время, которое источает реки чудодейственных исцелений; сердце наше горело крайним желанием поклониться новоявленному угоднику Божию Тихону, который жил и святительствовал так близко еще к нашему времени, на памяти наших отцов, которого чудные добродетели и подвиги так живы еще в народной памяти, которого живое, благодатью растворенное, слово звучным эхом обносится доныне в устном предании людей благочестивых. И премилосердый Господь сподобил меня, братие, узреть собственными очами чудодейственную благодать Божию, которая оживотворив душу святителя, проникла силою нетления и освященное его тело, отразилось и на самых святительских одеждах, в которое облечено было сие тело к погребению, и их сделала непричастными к тлению, – оживотворяет наконец и все, прикасающееся чудодейственной раке святителя, врачует всякую болезнь, исцеляет всякую язву, прогоняет духов злобы. Не лишил меня Господь утешения облобызать нечистыми устами, моими те преподобные руки, который воздевал он выну в горячайших молитвах за весь мир, которые простирались токмо на благословение и милостыню, – эту освященную главу, которая, как некий неоскудевающий источник источала целые реки поучения, утешения и наказания еже в правде. Верую, что Господь явил мне сию милость не ради меня самого, ибо, по грехам моим, я не был бы достоин сего небесного утешения; но ради многих, – ради всех вас возлюбленные. Ибо не о себе одном умоляли мы святителя Христова Тихона, но и о всей пастве, вверенной попечению нашего недостоинства, да воспомянет он ее в пренебесной молитве своей пред престолом Господа Вседержителя, да преподаст он и ей свое отеческое благословение с небес, от самого неприступного престола Господа славы, да оградит он молитвами своими и церковь херсонскую со всею православною церковью, ненаветною от врагов видимых и невидимых, да соблюдет юную церковь сию твердою и непоколебимою». Выразив потом надежду, что отселе ничто неразлучит его с паствою, Владыка заключил проповедь молитвою и надеждою на Единого Бога, ибо «никто не может поручиться, что долго еще будет наслаждаться самою жизнью.» – Шествие Владыки из собора после богослужения было медленное и продолжительное: все хотели получить благословение своего архипастыря, и он не желал оставить кого-либо неудовлетворенным. Только в 2 часа он прибыл в дом кафедрального протоиерея, где предложен был от городского духовенства, по случаю радостного свидания, обед.
На другой день после настоящего праздника начались трудовые будни: Владыка был на экзамене в семинарии315...
VI
Со времени возвращения преосвященного Димитрия из Петербурга в Одессу начинается период в его жизни самый благословенный и самый спокойный. В течении следующих двенадцати лет, не было ни одного события, которое нарушало бы тихое и ровное течение его жизни, ни одного случая, который бы неблагоприятно действовал на его характер и на личные отношения его к другим. В то же время все больше и больше росла и крепла окружавшая его любовь пастырей и пасомых: это – именно тот период, в течение которого Димитрий «сроднился с Херсонскою паствою – как он выражался – до самых тесных сердечных уз».
Между тем, этот спокойный период жизни не был для пр. Димитрия временем покоя или отдыха; напротив, несмотря на сокращение епархии наполовину, никогда он не прилагал столько трудов и архипастырских забот к делам собственно епархиального управления, и никогда эти труды не были столько плодотворны, как именно в данное время. Объясняется это отчасти требованиями времени: шестидесятые годы ставили на очередь такие вопросы, касающиеся церковной жизни, решение которых настойчиво требовалось от самих служителей церкви. И Херсонское духовенство, вместе с его архипастырем, нельзя было упрекнуть в лености или апатии: оно во многом показало себя передовым и заслуживающим подражания. – С другой стороны, усиление и расширение круга деятельности пр. Димитрия объясняется некоторым изменением его взгляда на самого себя. Теперь он не высказывал уже тех страхов и ужасов, какими наполнял, три года назад, свое письмо к архимандриту Петру, когда получил известие о вызове в Петербург. Путешествие в столицу и продолжительное присутствование в Св. Синоде впервые поколебали и даже наполовину изгладили в нем прирожденную боязливость и нерешительность. Живя в Петербурге и проезжая чрез Москву, он не мог не убедиться, что «в высших сферах» не только не было никакого нерасположения к его личности, никакого предубеждения к его деятельности, а напротив, все высокопоставленные лица (не исключая Особ Высочайших) ценили его образованный ум и редкие качества сердца, уважали его личные мнения и вполне доверчиво относились к его начинаниям и намерениям. Все видели в нем не только доброго делателя на отведенной ему ниве, могущего право руководить свою паству, но и «мужа света» в делах управления кораблем церкви всероссийской. Если прибавить к тому естественное расширение кругозора у принимавшего продолжительное участие в делах высшего церковного управления и, вытекающее отсюда, стремление принести наибольшую пользу церкви, то понятно будет – почему пр. Димитрий обнаруживал особенную деятельность по возвращении своем из Петербурга.
Отпраздновав все нарочитые праздники – высокоторжественные дни тезоименитств Их Величеств (22 июля и 30 авг.), храмовой праздник кафедрального собора (6 авг.) и дни именин Одессы (21, 22 авг.), пр. Димитрий предпринял в сентябре обширное путешествие для обзора епархии. Как бы вознаграждая свою паству за невольное трехлетнее разлучение с нею, он целый месяц переезжал из города в город, из села в село, и объехав таким образом четыре уезда316, посетил едва ли не половину церквей своей епархии; везде, где было возможно и нужно, он служил, – иногда по три дня сряду (в Елисаветграде – 19, 20 и 21 сент.), и освятил четыре храма317. Кроме желания преподать, при настоящем свидании, возможно большему числу пасомых святительское благословение и слово мира и утешения, у преосвященного была и другая цель: ему хотелось, под живыми петербургскими впечатлениями, приложить все виденное и слышанное к своей пастве, чтобы проверить те суждения и мнения, которые высказывались при нем в столичном обществе и печати. Ближайшим образом его интересовал в это время вопрос «об улучшении быта духовенства», – вопрос, которым, при отпуске из Синода, рекомендовали ему заняться.
Новороссийский край резко отличается от всей России своими климатическими, географическими и экономическими условиями, в силу которых и духовенство южных епархий всегда имело свой особенный бытовой уклад, дававший ему не малые преимущества в сравнении с духовенством великороссийским. Но и эти преимущества не покрывали тех недостатков, которые требовали улучшения и усовершения духовного быта и на юге. Великую услугу собственно городскому духовенству своей епархии пр. Димитрий оказал еще во время присутствовала в Синоде. В Херсонской епархии, по отделении от нее Таврической, считалось всех церквей и при них причтов около пятисот, из которых 86 было городских и монастырских318. К 1860-му году всех причтов, исключительно сельских, получавших жалование от казны, было 258; кроме того, на особом казенном содержании были 146 причтов при церквах «южного Херсонского поселения». Казенное жалование, какое получало сельское духовенство, правда, было не велико319; но и оно было не маловажным подспорьем. Главное же обеспечение сельских причтов состояло в церковной земле, которая в Херсонской губернии везде хороша по своим качествам и отмежевана была для церквей в достаточном количестве: средним числом приходилось 120 десятин на причт320. Между тем городское духовенство не имело ни земли, ни жалованья. В половине 1860 года последовало Высочайшее повеление – внести в роспись государственного казначейства еще 100 т. рублей, в добавление к 3.225,000 р., на содержание причтов в разных епархиях. Когда, по выслушании доклада о новой Монаршей милости, Св. Синод приступил к распределению новых сумм, то присутствовавший в заседании Херсонский архиепископ, заявил нужды своей епархии и просил Синод «хотя в жалованье сравнять городское духовенство с сельским». Затем он представил примерный штат причтов городских церквей Херсонской епархии, который и удостоен был Высочайшего утверждения. Указом Св. Синода, от 11 апр. 1861 г., дано было знать Херсонскому епархиальному начальству о таковой Монаршей милости, с пояснением, что утвержденное жалованье назначено производить с 1 июня 1860 года321.
Выше было сказано, что пр. Димитрий был председателем временного при Св. Синоде комитета «об улучшении содержания сельского духовенства». В то время он хорошо ознакомился с положением дела; почему с убеждением высказывал, что он мало полагает надежды на те меры, которые намечались во властных кругах общества и предлагались, как вернейшие. Ожидания и предчувствия почти все его оправдались! – Вскоре после отъезда его из Петербурга, в июле 1862 года последовало Высочайшее повеление об учреждении «особого присутствия по делам православного духовенства», которому дана была строгая инструкция и, чтобы дело не замедлялось, назначены сроки для представлений по главным вопросам, касающимся улучшения быта духовенства. В январе 1863 г., «особое присутствие» постановило: «потребовать от всех епархиальных архиереев мнения духовенства (отдельно по каждому благочинию) об улучшении его быта «по местным условиям», и личные мнения преосвященных по вопросам: I) о расширении средств материального обеспечения, II) об увеличении гражданских прав и преимуществ духовенства, III) об открытии детям духовенства путей для полезного труда на всех поприщах гражданской деятельности и IV) об открытии духовенству способов ближайшего участия в приходских и сельских училищах». Неизвестно, какие мнения были собраны и представлены от духовенства Херсонской епархии; но личное мнение Херсонского архиепископа – собственно о последних трех вопросах, – было ясно высказано еще раньше – в его «особых соображениях», представленных Св. Синоду вместе с проектом о преобразованы семинарий322.
Важнейшим, однако, из указанных вопросов, решение которого так нетерпеливо ждало духовенство, был вопрос первый – о материальном обеспечении. К нему-то и приступило прежде всего учрежденное «присутствие», побуждаемое к тому Высочайшею волею, ясно изложенною в резолюции Государя Императора на первом журнале присутствия. Справедливо считая обеспечение духовенства делом общегосударственной важности, особое присутствие решило прежде всего обратиться с просьбою: а) к Министру Императорского Двора о содействии в обеспечение духовенства чрез удельные конторы, б) к Министру Финансов – о выяснении источников и размеров пособия от государственной казны и в) к Министру Государственных Имуществ – об отводе духовному ведомству новых земель и лесов. В тоже время, по предварительному соглашению с Министром внутренних дел, учреждены были в каждой епархии местный присутствия по улучшению быта духовенства, с обязательным участием в них местных – архиерея, губернатора и председателя палаты государственных имуществ.
Добрые начинания не привели к желанным результатам. В том же 1863 г. «Главное присутствие по улучшению быта духовенства» извещало епархиальные комитеты о том, что, во 1-х, Министр Финансов заявил о невозможности делать теперь какие-либо пособия духовенству от казны, и что, во 2-х, Министр Внутр. Дел (с своей записке) выяснил причины, по которым экономические условия переходного времени не могут обещать духовенству новые источники, к увеличению его средств, – а потому оно должно изыскивать эти средства дома – в своих приходах, «так как обеспечение церквей и духовенства есть дело общественное»323. Что же духовенство могло найти у себя – дома? Как оно ни подвергало свое старое имущество тщательному рассмотрению, ничего такого не находило, что могло бы дать новые средства... Пр. Димитрий считал вернейшим из всех средств церковную землю, и духовенство Херсонской епархии более всего полагалось на этот источник. Но далеко не все причты в епархии наделены были достаточным количеством земли; а при некоторых церквах, преимущественно в бывших помещичьих экономиях, совсем не было пахотной земли. Пр. Димитрий дважды ходатайствовал об отводе казенных земель в обеспечение неимущих или недостаточных причтов, представляя в Св. Синод подробные ведомости о таковых причтах, с указанием на земельные участки, из которых они могли быть удовлетворены. Кроме того, он заботился о том, чтобы владение землею основывалось на твердых законных правах, а для того побуждал иметь при церквах (где не было) законные межевые планы324. При образовании же новых сельских приходов, он разрешал построение церквей не иначе, как при условии предварительного обеспечения причта достаточным количеством земли325.
К заботам пр. Димитрия о городском духовенстве нужно отнести еще один случай, который не привел к желанному успеху, но оставил интересную страницу в местной хронике, как живое изображение характера Владыки и современного ему общества. Случай этот касался собственно Одесского духовенства, материальное обеспечение которого далеко не отвечало его положению в «южной столице России». Причиною тому было само население Одессы: богатый класс его – купечество и вообще торгово-промышленное сословие составляли или евреи (в большинстве), или иностранцы; собственно русский контингент представлял с одной стороны чиновничество и учебное сословие и с другой – рабочий пришлый народ. Город был богат, но на пособие православным церквам и духовенству, как показывает его столетняя история326, никогда не был щедр. До 1859 года духовенство Одессы (хотя и не все причты) получало, по старинным постановлениям, пособие из городских сумм. Но с закрытием «порто-франко» – важного источника доходов, город усмотрел в этом повод сократить расходы, и прежде всего прекратить жалованье духовенству. Долго тянулась переписка по этому делу. Наконец, в сентябре 1863 года пр. Димитрий решил сделать попытку к достижению прочного для духовенства обеспечения. Для этой цели созвано было в архиерейском доме особое собрание, на которое, кроме членов губернского присутствия по делам духовенства, приглашены были: г. градоначальник города Одессы барон Велио, городской голова А. Н. Пашков и двое из почетнейших граждан, вместе с представителями от духовенства. Выслушав доклад о нуждах городского духовенства, вместе с историческою справкой о непрерывном с 1808 по 1859 г. со стороны городского управления пособии, собрание признало необходимым существенно обеспечить Одесское городское духовенство ежегодным отчислением на сей предмет до 30.000 рублей из городских общественных сумм. Постановление это было сообщено городской думе, которая с своей стороны признала назначение духовенству от города пособия справедливым, и отпуск этой суммы возможным по средствам г. Одессы; кроме того, по просьбе преосвященного, изъявила согласие из того же источника отпускать 2.000 р. на содержание певческого хора при соборе327. Мнение думы сообщено было архиепископу Димитрий (17-го сент. 1863 г.) и в то же время послано на утверждение Министра Внутренних Дел. Между тем, в это самое время город Одесса переживал большую перемену: вводилось новое выборное городское управление, и старая дума уступала место новой-всесословной, которая должна была вступить в свои права и обязанности с нового 1864 года. Объявление Монаршей милости городу Одессе и торжественное открытие нового городского управления назначено было на 19-е декабря. На многочисленное собрание в биржевом зале явилось высшее городское духовенство, с архиепископом во главе, приглашенное для молебствия пред началом нового дела. Во время молебна пр. Димитрий обратился к сословным представителям с словом назидания, в котором, после объяснения важности и ответственности пред Богом и людьми предстоящего им служения, он вдруг, неожиданно даже для присутствовавшего духовенства, повел речь о прямой обязанности новой думы заняться материальным обеспечением городского духовенства.
«Святая правота пред Богом, говорил он гласным, не потерпит, чтобы служащие духовному благу общества, молящиеся о нем пред престолом Божиим, освящающие вас святыми таинствами, примиряющие вас с Богом в покаянии, молящиеся о душах ваших родителей и сродников, оставлены были обществом, которому служат, без призрения и помощи, без воздаяния и награды, – тем более, что по своему положению общественному и по свойству служения своего, не имеют возможности приобретать необходимое для жизни каким-либо промыслом. – Простите почтеннейшие сограждане, что я помянул об этом, – быть может, не кстати? Но я помянул потому, что это священный долг общества; и кому же позаботиться об исполнении его, как не вам, избранникам общества? Помянул потому, что это священный долг мой: нужда бо ми належит и думать и говорить о том. Помянул для того, что всем сердцем желаю, да пребудет на нашем граде и живущих в нем всесвятое и всеосвящающее благословение Господа Вседержителя. И оно почиет на нем, – я уверен в том, – когда утешенные и успокоенные вами служители алтаря Господня будут с радостью творить дело своего служения, а не воздыхающе и не со скорбью; когда они не только сами будут, но и детям своим заповедуют горячо молиться о вас день и ночь»328.
Нужда, действительно, належала говорить о том настойчиво, потому что в это время было уже известно, что Министр Вн. дел не утвердил сентябрьского постановления прежней думы и возвратил дело на пересмотр новой думы, с предложением «обсудить вопрос всем городским обществом!». – «Чем неожиданнее в речи Владыки было слово о духовенстве, тем сильнее оно тронуло нас, – писал один из слушателей. – Изыщет ли Одесса средства к улучшение быта своего православного духовенства, или нет, самая неусыпная заботливость архипастыря останется на всегда в сердцах Одесского духовенства. Видимый не успех дела, начатого в сентябре, не смутил Владыку; кротким пастырским словом он стучится о той же нужде у сердца новых представителей города, о которой безуспешно было принято слово его к прежней думе»329. К сожалению, кроткое слово не тронуло черствых сердец. На кануне обсуждения в думе настоящего вопроса, в «Одесском Вестнике» появилась оппозиционная статья против постановления прежней думы, с указанием на разнообразие исповеданий Одесского населения, и даже с цитатою французского публициста, восклицавшего в Париже – «какое мы имеем право принуждать граждан нести издержки на содержание священников!» Очень вероятно, что многие из новых отцов города держались подобных либеральных взглядов, ибо вопрос о пособии городскому духовенству из городских сумм решен был скоро (в заседании думы 8 янв. 1864 г.) и решен отрицательно. В своем сообщении архиепископу дума приводила короткий мотив к отказу: «священнослужители имеют весьма достаточные от своих прихожан средства к приличному содержанию и могут обходиться без постороннего пособия». Город, впрочем, обещал содействие в постройке церковных домов для причтов, или, по крайней мере, в отводе земли под дома; но и это обещание заставило долго еще ждать своего выполнения. Таким образом и Одесскому духовенству приходилось изыскивать меры и способы к улучшению своего быта – опять дома. При преосвященном Димитрии особенные заботы прилагались к устройству церковных домов. Хотя это важное дело завершилось уже при его преемниках, но начало было положено именно при нем, благодаря его попечительности о городском духовенстве.
Как относился пр. Димитрий к тем мерам к улучшению быта духовенства, которые вырабатывались в «главном присутствии» в Петербурге и вводились повсеместно по указам Св. Синода? Некоторый из этих мер не находили сочувствия у благостного архипастыря, – и особенно две – самые важнейшие. В 1869 году, 16 апреля, получила Высочайшее утверждение решительная мера – сокращение штатов духовенства и церквей. Мера эта, как известно, впоследствии признана была неудобною, не только не достигающею цели, но и угрожающею нежелательными, вредными последствиями. Пр. Димитрий с самого начала отнесся к ней недоверчиво: он с ужасом представлял себе голодную армию заштатного духовенства. Долго не мог он решиться сделать какое-либо распоряжение в своей епархии в исполнение указанной меры. Указом Св. Синода требовалось составление, по данным определенным правилам, нормального расписания церквей и причтов, подлежащих сокращению. В Херсонской епархии это расписание составлялось так осмотрительно и медленно, что, несмотря на побуждение в 1872 г. со стороны высшей власти, дело осталось не оконченным до самого перевода Димитрия на другую кафедру.
Еще больше огорчала его другая подобная мера, предпринятая еще в самом начале забот об улучшении быта духовенства. С 1823 года существовало положение, которым 1) дозволялось: на места престарелых или умерших священно-церковнослужителей определять, преимущественно пред другими, детей их, или родственников, а также и посторонних, с обязательством содержать уволенных за штат или вдов и сирот; 2) зачислять за сиротами духовных лиц места, оставляемые, за несовершеннолетием их, на некоторое время незамещенными, и 3) предписывалось причтом обязательно выделять часть из доходов и церковной земли на содержание вдов и сирот330. В 60-х годах такой порядок признан был вредным для высших целей церковного благоустройства. Старое положение было отменено новым законопроектом Св. Синода331, который, вместе с мнением Государственного Совета по сему предмету, получил Высочайшее утверждение 22 мая 1867 года. Новым законоположением, прежде всего, уничтожались всякие обязательства со стороны кандидатов на священнослужительские вакансии по отношению к осиротевшим семействам, и предоставлялось свобода в выборе мест и невест. Одним из побуждений к проведению таковой меры было настойчивое требование современной литературы, и светской и духовной, – снять с духовенства отжившее наследственное бремя и дать кандидатам священства свободу в выборе подруг жизни по влечению сердца. С этою-то точкою зрения не соглашался архиепископ Димитрий. Он высоко ценил блага семейной жизни и семейные радости считал даже «единственным счастием, доступным человеку на земле»332; но в то же время на брак и вообще на семейные отношения он имел свой, старинно-русский взгляд. – Однажды, по поводу речи, читаной на акте в одном из учебных заведений, на тему «порабощение женщины на Руси», заведен был при нем разговор о нынешних браках, заключаемых по любви и свободному выбору, без участия воли родителей. Святитель, вздохнувши, сказал: «тем не менее теперь, кажется, больше несчастных браков и супружеств, чем было прежде. Ныне все дело предоставляют собственному благоразумии, или собственному сердцу; люди на себя много полагаются, и выходит худо: скоро надоедают друг другу. Прежде смотрели на дело иначе. Вступали в брак так же, как давали обеты монашества; смотрели на супружеский союз, как на подвиг самоотречения во имя Божие; – и выходило лучше: бывали неудовольствия, но почитая брачный союз святынею, скоро мирились, и были счастливее»333. Вот почему кроткий и любвеобильный архипастырь горько плакал над известным указом «о не сдаче мест». Близкий к Владыке человек вошел к нему в кабинет и застал его с указом в руках и с крупными слезами на глазах. На вопрос, что могло так встревожить его, он отвечал: «Был один плат в руках архиерея, которым он отирал и осушал слезы сирот, – и тот теперь отняли!.. Они далеко очень смотрели вперед, – предвидели неустройства в сводных семьях, но пропустили самый важный момент, когда необходима скорая помощь. Умирает отец и оставляет семью; нужно непременно ввести в эту семью нового работника для поддержания семьи, – хотя на время, хотя бы только на тот срок, когда притупится острота вдовьего и сиротского горя. Нет, предлагают совсем противоположное, чтобы очистить место для свободного человека». – Впрочем, пр. Димитрий и после указа нередко прибегал к старинному способу обеспечения сирот, особенно когда не представлялось к тому других средств334. Не делая формального закрепления мест, он находил достойных кандидатов на открывавшиеся вакансии, которые охотно соглашались жениться на сиротах и принимали в свой дом близких родственников жены, не давая, разумеется, никаких подписок и обязательств, но связывая себя честным словом пред лицом архипастыря. Бывали случаи, когда применение такой меры, при всем старании архиерея, оказывалось невозможным, и, к сожалению, такая невозможность являлась именно там, где многочисленнее оставалось осиротевшее семейство и где очевиднее была беспомощность: тогда слезы сиротские обыкновенно смешивались со слезами самого архипастыря, для которого единственным, до времени, утешением оставалось – помогать вдове и сиротам из своих же средств.
Иное отношение было у Димитрия к тем мерам, которые приносили очевидную и скорую помощь духовенству: он радовался при получении официальных извещений о таковых мерах, и радость свою спешил сообщить всем, кого должен был обрадовать. – В 1866 году правительство признало возможным удовлетворить давнишней потребности – приравнять духовенство к другим служилым сословиям и за долголетнюю полезную службу положить ему пенсионные оклады из государственного казначейства. Правда, сроки выслуги новым положением определены очень большие – 30 и 35 лет, а оклады пенсии сравнительно малые; но и это было истинною отрадою для беззаветных тружеников. Как только в Одессе получен был указ о таковой Монаршей милости к духовенству, немедленно – вместе с опубликованием в епархиальных ведомостях указа и правил для определения прав на получение пенсии – со стороны преосвященного последовало распоряжение собрать чрез консистории и благочинных точные сведения о всех, имеющихся в епархии, заштатных и вдовах, с обозначением их материального положения. Через месяц список кандидатов на пенсии был готов и немедленно представлен в Св. Синод, с ходатайством архиепископа за особенно-нуждающихся. В Херсонской епархии нашлось 15 священников и 24 вдовы, которые по правилам заслуживали пенсионные оклады. Именной список их тогда же, по желанию Владыки, помещен был в епархиальных ведомостях – «для успокоения награждаемых и для поощрения и ободрения немощных старцев, близких к пенсионному сроку выслуги»335.
Из других мер к материальному обеспечению духовенства более других отвечало условиям его быта устройство эмеритальных касс. К этой мере в начале 70-х годов обратилось и духовенство Херсонской епархии. На осеннем съезде 1871 года вопрос об эмеритуре поставлен был так твердо, что ожидал уже скорого решения: с благословения Высокопреосвященного архиепископа, к концу того же года выработан был проект эмеритальной кассы. Пр. Димитрий, рассмотрев представленный проект, положил на нем такую резолюцию: «напечатать в епархиальных ведомостях, чтобы оо. депутаты предстоящего съезда могли заблаговременно обсудить все выгоды предлагаемая учреждения; а на будущем съезде должны не только заявить свое мнение, но также имена лиц, желающих участвовать в эмеритальной кассе». Очевидно, он не только сочувственно отнесся к такому учреждению, но и побуждал духовенство своей епархии не откладывать исполнение начатого дела336.
Печалуясь о бедности и необеспеченности духовенства, преосвященный Димитрий не меньше скорбел о его нравственном унижении и о тех явлениях сословной жизни, который подавали повод укорять духовенство в несоответствии быта его высокому призванию337. Все, что служило к нравственному возвышению и облагоражению духовного сословия, находило скорый отклик в душе милостивого архипастыря. Он постоянно заботился о том, чтобы духовенство в глазах других сословий стояло на высоте; поощрял для этой цели общественную деятельность лиц из среды духовенства и не упускал случая заявить полное доверие своим подчиненным в такой деятельности. – Явилось, напр., полезное всесословное учреждение – земство, в делах которого к участию приглашено и духовенство. В Херсонской губернии депутаты от духовенства высоко поставили интересы своего сословия: так, в постановлениях уездного земского собрания (янв. 1874 г.) вопрос обеспечения сельского духовенства получил такую широкую постановку, какой он не имел нигде, и даже оказался, по сознанию самого духовенства, более идеальным, чем практическим338. – Разрешены были духовенству съезды. В Херсонской епархии они с самого начала получили хорошую организацию и были направлены на широкую деятельность. Пр. Димитрий видел в съездах духовенства вернейшее средство к упрочению взаимного доверия между епархиальным начальником и его подчиненными; поэтому, не стесняя указанными для съездов рамками, он выводил круг их деятельности далеко за пределы семинарии и училищ. На обсуждение съездов, в разное время, он предлагал вопросы: о преобразовании женского епархиального училища, о постройке для него дома, об устройстве общежитий, об устройстве епархиального свечного завода и упорядочены свечной продажи при церквах, о содержании приютов и богадельни, о преобразовании попечительства, об эмеритальной кассе и т. под. При этом преосвященный всегда обращал внимание на полноту и целесообразность занятий на съездах, – сам входил в тесные сношения с председателями и оо. депутатами, заботился о награждении трудившихся почетными отличиями и даже разрешал возмещение их личных расходов из общеепархиальных средств. – В некоторых епархиях, по доброму почину Смоленского епископа Антония, стали вводит, с благословения Св. Синода, выборное начало в применении к службе непосредственных помощников архиерея – благочинных. И это начало пр. Димитрий справедливо оценил, как меру к возвышению духовенства, и ввел его в своей епархии в 1868 году. По его предложению, консистория составила правила для выборов и список всех церквей в епархии, разделив их на 23 благочиннических округа. Утверждая (28 ноября 1868 г.) правила и расписание округов, преосвященный указал исключить из общего списка церквей два кафедральных собора – Преображенский Одесский и Успенский Херсонский, которые должны оставаться в непосредственном ведении епархиального начальства, и затем предложил приступить к первым выборам, по округам, оо. благочинных и их помощников. Выборы были произведены и утверждены без изменений339.
Но горшая печаль Владыки Димитрия, снедавшая его всегда и везде, была печаль о сирых и вдовицах. К счастью его, в лучший период жизни – в семнадцатилетнее управление Херсонской епархией, печаль эта умерялась сознанием благодеяния, какое при помощи Божией и содействии добрых людей ему привелось здесь оказать духовенству, оставив ему лучший памятник о себе: разумеем устройство «Перепелицынского приюта». Вместе с именами благодеявших архипастырей духовенство Херсонской епархии должно молитвенно хранить в вечной памяти и имя достойного сослуживца – пастыря, протоиерея города Херсона о. Максима Перепелицына, имя которого, по желанию смиренного Димитрия, присвоено первому приюту заштатного духовенства и его сирот.
Мысль об устройстве приюта, именно близ г. Херсона, первоначально принадлежала пр. Иннокентию, который, в письме к прот. Перепелицыну от 18 мая 1851 г., выражал желание дать такое применение пожертвованной г. Глухиным земле, в количестве 400 десятин, на Потемкинском острове на р. Днепре. Однако, устройство на самом острове какого-либо благотворительного учреждения оказалось неудобным. Впоследствии о. Перепелицын, не забывавший завета Иннокентия, приобрел в собственность дачу, в 4 десятины земли с домом, близ самого города, и вскоре «с любовью пожертвовал эту собственность для устройства епархиального приюта – богадельни». Донесение о том жертвователя епархиальному начальству последовало перед самым отъездом пр. Димитрия в Петербург; но он успел выразить свою радость и чувство благодарности в следующем письме к протоиерею Перепелицыну от 26 апр. 1859 года: «Да благословит милосердый Господь Иисус Христос вашу святую мысль и ваше благое усердие на пользу бесприютного сиротства наших престарелых священно-и церковнослужителей, и да приимет вашу жертву в воню благоухания пред Собою, и да воздает вам воздаянием праведным в жизни вечной. Не опасайтесь препятствий в этом деле. Оно всегда будет близко моему сердцу, и я всегда готов буду помогать вам, сколько могу. Я решусь выдать вам книгу и даже огласить по епархии для приглашения к пожертвованию на сие истинно-благое дело». Заготовленное представление о том Св. Синоду преосвященный взял с собою в Петербург, и оттуда в непродолжительном времени извещал жертвователя: «благое дело ваше принято с одобрением членами Св. Синода». Но для окончательного утверждения потребовались документальные справки и планы на предполагаемые постройки. В конце 1861 года получен был указ о том, что Государь Император, по всеподданнейшему докладу г. и. д. обер-прокурора, Высочайше соизволил утвердить 2 сентября 1861 г. определение Св. Синод об укреплении за Херсонским попечительством о бедных духовного звания, пожертвованного протоиереем г. Херсона Максимом Перепелицыным недвижимого имущества, на устроение богадельни для престарелых священно-церковнослужителей, с больницею и церковью, и с определением его, протоиерея, попечителем сей богадельни». Немедленно пр. Димитрий известил об этом о. протоиерея и разрешил ему приступить к выполнению указа. Но в Херсоне дело было уже начато. Когда получен был указ Консистории (от 18 марта 1862 г.) о том, чтобы приступлено было к постройке нового дома для приюта, он уже был выведен до второго этажа; а 22 апреля пр. Антонием, викарием Херсонской епархии, заложен был при строящемся приюте, на берегу Днепра, храм во имя Пресв. Богородицы, Корсунские Ее иконы340. Возвращаясь из Петербурга в Одессу пр. Димитрий не переставал думать о Херсонском приюте: высший из знаков Монаршей милости для своей епархии он привез орден Владимира 3-ей ст., пожалованный протоиерею Перепелицыну. Ободренный старец усилил свои заботы о возрастающем детище; но это было последнее напряжение старческих сил: в конце того же 1862 года о. Максим скончался. В благодарность за жертву и в поучение потомству, пр. архиепископ разрешил похоронить основателя приюта в стенах строившегося храма. Окончательное устройство «Дом призрения вдов и сирот духовного звания Херсонской епархии» получил в 1864 году. 12-го сентября последовало торжественное открытие дома, после освящения храма, совершенного самим архиеп. Димитрием. Замечательно сказанное им при настоящем случае слово, полное глубокого отеческого сострадания к призреваемым и живого упования на помощь Господа Бога: это слово, можно сказать, есть вопль души бедного архипастыря за бедных сирот своей паствы. «Тебе оставлен есть нищий, сиру ты буди помощник. Исповедуем, Господи, что это наша святая обязанность, не можем отрицать сего священнейшего долга нашего – призреть сих беспризренных, помочь сим беспомощным, приютить и воспитать сих оставленных. Слышим, как называют нас отцами и покровителями эти безъотчие и безматерние; видим, как простирают к нам руки свои эти нуждающееся в пище и одеянии; слышим, как, уповая на слово Твое, Господи, они возлагают на нас всю свою надежду, и Твоим святейшим именем просят нас о помощи. Но, Боже Вседержителю, Ты ведаешь нашу всю немощь, Ты зришь и наше недостаточество и скудость. Если бы наши пастырские труды могли оцениваться ценою серебра, – мы приложили бы труды к трудам, не пощадили бы сил своих, чтобы заработать большую мзду и разделить ее с этими неимущими... Одна всемогущая десница Божия могла воздвигнуть дом сей и храм сей, можно сказать, из ничего. Не имея ничего, кроме усердного желания помочь беспомощным вдовицам и призреть осиротевших чад служителей алтаря Господня, в одном уповании на милосердие Божие, на любовь и сострадательность благочестивых и христолюбивых душ богохранимой паствы нашей, мы решились не только устроить сию обитель сиротства и убожества, но и водворить в ней сих убогих и сирых. Ибо веруем несомненно, что насадивши виноград сей Господь и возрастит и сохранить его своею божественною благодатью. Уповаем, что и ваша христианская любовь возлюбленная чада боговрученной нам паствы, споспешествовавшая нам доселе, тем паче не оставить нас без своей помощи теперь, когда эта христианская помощь особенно нужна и драгоценна для нас»341.
Голос взывающего о помощи не остался без отклика, и надежды сердобольного Владыки оправдались свыше ожидания. Год от году, в доме призрения возрастало число призреваемых, но вместе с тем возрастали и средства к содержанию. К небольшим постоянным средствам от аренды принадлежавшей к дому земли ежегодно прибавлялись пожертвования от доброхотных дателей, больше всего от духовенства и архиерея. Через десять лет весь годовой бюджет дома достигал уже 5000 рублей. Сам пр. Димитрий не напрасно обещал (в первом письме к прот. Перепелицыну) свою посильную помощь: его жертвы часто украшали отчеты приюта. Так, в отчет за 1872 г. значатся пожертвованными, при посещении приюта, 150 р. на детей и 50 руб. двум наставницам; а в следующем годовом отчете записаны – «от Его Высокопреосвященства 355 рублей». Кроме того, от Бизюкова монастыря, приписанного к архиерейскому дому, ежегодно поступало 1000 рублей. Кротко побуждал преосвященный епархиальное духовенство к заботам о своих сиротах. В 1868 г. духовенство Новомиргородского округа положило отчислять по 1% из своих доходов в пользу епархиального попечительства. Пр. Димитрий на докладе о сем написал: «благодарить и поставить в пример другим». Указание на пример послужило к тому, что духовенство всей епархии заявило готовность вносить в попечительство определенную сумму из собственных средств с тем, чтобы из этого источника на Херсонский Перепелицынский приют отчислялось по 380 рублей в год. Но в 1873 году, по предложению архиепископа, епархиальный съезд нашел возможным – в Перепелицынский приют отпускать из обще-епархиальных сумм по 2000 р. (вместо 380), с тем, чтобы туда принимались дети со всей епархии342. – В приюте, кроме призреваемых престарелых и взрослых, постоянно находилось от 20 до 30 малолетних детей – сирот, из которых самые юные подготовлялись здесь к поступлению, и поступали потом, в училища мужские и женское, а подраставшие девицы, при попечительности начальства, выходили замуж, или поступали, если могли, на трудовые должности; беспомощные и слабые оставались навсегда на попечении приюта.
Упомянутые «общеепархиальные суммы», как особый источник взаимопомощи, в Херсонской епархии образовались также благодаря архиепископу Димитрию, который имел свой особый взгляд на организацию церковной казны. Взгляд этот был высказан им в одном из донесений Св. Синоду, в бытность его председателем комитета по преобразованию семинарий, – когда он с целью лучшего устройства епархиальных учреждений, предлагал все церковные сборы, отсылаемые в центральное учреждение, оставлять в епархии – в распоряжении духовенства и епархиального начальства, под условием высшего контроля. Несколько иначе та же мысль была высказана им еще раньше – в письме (1859 г.) к архимандриту Петру, настоятелю русской посольской церкви в Константинополе. Отвечая на просьбу друга сказать свое мнение о новом органическом законе патриархии, Димитрий, между прочим, писал тогда: «При каждой церкви должен быть малый совет из причта и почтенных лиц прихода, который заведует всеми церковными доходами. За удовлетворением местных (приходских) потребностей, часть доходов (пожалуй, определенная) будет поступать в кассу епархиальную, где опять, за расходами по содержанию епархиальных учреждений, известная часть будет поступать в патриаршую или народную казну. Разумеется, такой порядок поступлений и назначений церковной казны будет правилен и принесет пользу только при условии честного и строгого отношения к церковной копейке: главное, чтобы никто ничего не брал частно, поручно». Можно предполагать, что устройство, рекомендованное грекам, пр. Димитрий желал видеть и дома; в известных пределах он вводил единство кассы и в своей епархии. Ведение общеепархиальною казною им было поручено «попечительству о бедных духовного звания». В то время, как в других епархиях попечительства вели только учет «бедным» и распределяли им бедные пособия из специального кружечного сбора, Херсонское попечительство пользовалось особыми правами и имело широкий круг деятельности. Получив (в 1861 г.) право приобретать и отчуждать недвижимую собственность, оно управляло домами и землями епархиальной благотворительности. Затем, приняв в свое ведение свечной завод, принадлежавший прежде архиерейскому дому, оно расширило его операции до возможности снабжать свечами церкви всей епархии, а из получаемых прибылей стало оказывать значительные пособия епархиальным учреждениям, особенно духовноучебным заведениям. Оно же заведовало, в разное время, и распоряжалось суммами, поступавшими из других церковных источников. Чтобы успешнее велись дела в попечительстве, пр. Димитрий назначал в его присутствие по шести и более членов из городского духовенства; а чтобы члены пользовались большим доверием у своей братии и несли возложенный на них обязанности с большим вниманием и усердием, он предложил (в 1872 г.) епархиальному съезду выбирать членов-попечителей наравне с благочинными и назначить им вознаграждение из тех же общеепархиальных сумм.
Последним актом заботливости пр. Димитрия об улучшении быта духовенства Херсонской епархии было его ходатайство пред Св. Синодом (от 23 сент. 1874 г.) о сложении различных повинностей с недвижимой собственности, принадлежащей духовенству. Поводом к таковому ходатайству послужило заявление Новомиргородского духовенства о новом оценочном сборе с домов духовенства, наложенном в этом году уездным земством. Решение возбужденного дела последовало уже после отбытия Димитрия из Одессы в Ярославль.
VII
В 1866 году пр. Димитрий удостоился получить особую, редкую для духовных лиц, награду. «Государь Император, по всеподданнейшему докладу синодального обер-прокурора, в 9-й день ноября, о предположениях преосвященного Херсонского касательно увеличения окладов содержания духовно-учебных заведений Херсонской епархии на счет местных средств, Высочайше повелеть соизволил: объявить преосвященному Херсонскому Всемилостивейшую благодарность Его Величества за архипастырское попечение его о духовно учебных заведениях вверенной ему епархии»343.
Высокую Монаршую милость нужно считать вполне заслуженною. Проведя половину жизни – от детства до зрелого мужества – в школе, Димитрий умел ценить высокое значение духовного образования; после же трехлетних специальных трудов по вопросам образования духовного юношества, он, можно сказать, полагал главную обязанность архиерея в заботах о благосостоянии учебных заведений в епархии. В своих речах и поучениях, обращенных к воспитанникам семинарий, он больше всего увещевал их «не тратить по пустому времени – собирать со тщанием и всеусердным прилежанием благие семена, которые со временем должны возрасти и принести обильные плоды внутреннего мира – единственного истинного счастия на земли»344. В обращениях к духовенству за помощью и изысканием средств на улучшение быта семинарий и училищ, он объяснял необходимость предлагаемых мер тем, что хорошее состояние учебных заведений в епархии служит лучшим показателем благосостояния всей епархии и вернейшим залогом будущего процветания религиозно нравственной жизни в пастве.
Все, существующие по ныне, учебные заведения Херсонской епархии были основаны деятельнейшим, первым ее архипастырем, преосвященным архиепископом Гавриилом. Вскоре же по отделении новой Херсоно-Таврической епархии от Екатеринославской, в Одессе была открыта (1 окт. 1838 г.) новая семинария, причисленная по штатам к 3-му классу. «В дар начинающему жить учреждению пр. Гавриил прислал несколько богословских сочинений, послуживших основанием библиотеки. Через год, по его же ходатайству, Св. Синод, в виду дороговизны содержания в Одессе, возвысил оклады семинарии, поставив ее по штатам в 1-й разряд. По числу учеников семинария была небольшая; она удобно помещалась в приобретенном доме, даже вместе с духовным училищем и с квартирою для казеннокоштных учеников. В отчете за 1841 г. экономическая часть семинарии признана весьма хорошею и приведенною в отлично-благоустроенное положение»345. При том же архиепископе Гаврииле, кроме Одесского духовного училища, открыты были еще два училища – в Херсоне и в Елисаветграде, хотя оба эти училища окончательно не были устроены и помещались в наемных домах. По самым дорогим памятником по себе в Херсорской епархии пр. Гавриил оставил сировоспитательное заведение для девиц духовного звания. Оно учреждено было при женском Архангело-Михайловском монастыре, построенном (в 1842–44г.) им же – пр. Гавриилом, именно за тем, чтобы служить просветительным целям – воспитывать образцовых матерей-христианок, будущих жен приходских священников346. На устройство монастыря и при нем сировоспитательного училища поступило столько пожертвований – и от Высочайших Особ, и от доброхотных дателей со всей России, что преосвященный с успехом закончил начатое предприятие и еще оставил в обеспечение приюта больше 10.000 рублей неприкосновенного капитала. Перемещенный (в 1848 г.) на Тверскую кафедру, пр. Гавриил отбыл из Одессы благословляемый духовенством, преимущественно, за его попечения о детях и сиротах духовных.
Иначе взглянул на полученное наследство второй Херсонский архиепископ – Иннокентий. Его не удовлетворяло найденное состояние духовно учебных заведений. «Семинария, писал он в Петербург, требует многих попечений. Самое внешнее ее состояние таково, что нельзя видеть ее без сожаления. Живут и теснятся в половине дома, а другая занята пшеницею, или праздна. Где учатся, там и спят. Можете судить о порядке». Еще сильнее выражал он свое неудовольствие, говоря об училищах: «Если есть где и расстроенное и неустроенное управление, то здесь. Училища – все три – в таком положении, что жалко смотреть. Надобно учреждать почти все снова». Михайловский монастырь и при нем женское сиротское училище он также находил только на половину устроенными, а между тем «наполненными живущими непомерно». – Находя нужным учреждать все вновь, Иннокентий действительно начал было приводить в исполнение свои планы. Прежде всего он стал хлопотать о том, чтобы Елисаветградское уездное духовное училище перевести в Бизюков монастырь, но постройка нового дома не состоялась и училище осталось на старом месте и на прежнем положении. Успешнее поведено было дело о переселении семинарии и Одесского духовного училища за город – в Успенский монастырь, что на Большом фонтане. Городской дом семинарии Иннокентий предназначал для будущего викария, а для помещения семинарии в монастыре не только исходатайствовал надлежащее разрешение, но и получил достаточные средства: заготовлен был материал и начата постройка дома. Случайное обстоятельство заставило изменить этот план. Назначение места жительства для нового католического епископа (Голованского) в городе Херсоне побудило Иннокентия ходатайствовать пред Св. Синодом о том, чтобы, в противовес католическому влиянию, в Херсоне же устроено было помещение и назначаемому православному викарному епископу. Ходатайство было уважено, и прежнее предположение о постройке дома для Херсонского училища приняло такой оборот, что из этого дома поспешили устроить помещение для преосвященного викария и его штата. Одновременно остановлена была постройка в Успенском монастыре и семинария оставлена на неопределенное время в прежнем помещении. Побуждением к последней перемене послужила доказанная техниками непрочность грунта и даже опасение за морской берег; но более вероятною причиною было неудовольствие Одесского духовенства, которое без нужды должно было бы содержать своих сыновей за 12 верст от города. Более прочную память о себе пр. Иннокентий оставил в женском сировоспитательном училище: по духовному завещанию он отказал училищу почти все свои деньги – 15.000 рублей347.
Таким образом, пр. Димитрий застал духовно-учебные заведения Херсоно-Таврической епархии почти в том же состоянии, в каком они оставались после архиеп. Гавриила. Как же находил их Димитрий? – Внутреннее состоите их было нисколько не ниже, чем в других епархиях; а что касается внешней стороны, то она оставляла желать многого. На первых порах, однако, пр. Димитрий, не чувствуя за собою силы своего предшественника в ходатайствах пред высшею властью, ничего почти и не предпринимал к улучшению быта учебных заведении. Но как только он сам вошел в состав синода, в звании присутствующего, особенно когда сделался председателем Комитета по духовно учебной реформе, прежде всего озаботился о своих учебных заведениях. Начало этих забот восходит к 1859 году. Семинарское правление, в своем отчете за 1863 год, дает следующую историческую справку: «До 1859 года при Херсонской (т. е. Одесской) семинарии существовало центральное общежительное заведение, как для учеников семинарии, так и для училищных воспитанников всей епархии; в училищах Херсонском и Елисаветградском учились только дети родителей, которые сами имели средства содержать своих сыновей, или же с небольшим пособием от казны. В первые годы существования в Одессе семинарии, когда вообще число воспитанников было ограниченно, и когда Одесса могла хвалиться дешевизною жизни, центральное заведение это могло еще оставаться при семинарии без большого отягощения для ней. Но впоследствии число учеников стало возрастать, а вместе с тем возрастали, – особенно после Крымской войны, и цены на все жизненные припасы. Одних училищных казеннокоштных воспитанников было больше ста человек; для семинарии они стали тяжестью невыносимою. В бюджете стал хронический дефицит, который за несколько лет возрос до десяти тысяч рублей. Уже не раз епархиальное начальство, для удовлетворения нужд, обращалось в св. Синод за пособиями. По указанию Его Высокопреосвященства В. пр. Димитрия, признано было полезным и даже необходимым, для устранения тесноты в помещениях семинарии, закрыть существующее в Одессе центральное общежительное заведение, и бедных училищных учеников перевести в другие, подведомые Херсонской семинарии, училища, тем более, что и содержание их там будет дешевле, чем в Одессе. Мера эта, по утверждении ее Св. Синодом, была приведена в исполнение в конце 1859 года»348. Последствие такой меры обнаружились скоро: содержание семинарии значительно улучшилось, а быт бедных учеников в Херсонском и Елисаветградском училищах349 хотя и не обходился без нужд, но все же передержки по их содержанию не достигали таких размеров, как в Одессе. Очевидно, что положение дела требовало дальнейших мер к улучшению. – В том же 1859 году, с благословения архипастыря, семинарское начальство обратилось к благотворительности епархиального духовенства, которое не замедлило явиться с помощью – хотя и незначительною, но давшею возможность вести содержание бедных учеников без дефицита: в течение 1860, 1861 и 1862 годов, чрез оо. благочинных поступило на сей предмет 1.561 р. 46 к. Возвратившийся к тому времени из Петербурга Владыка первым долгом счел благодарить духовенство за жертву: на докладе семинарского правления им написано: «оо. благочинным объявить нашу пастырскую признательность, а участвовавшим в сем добром деле – нашу пастырскую благодарность».
Скоро наступила, давно ожидаемая, эпоха преобразования духовно-учебных заведений. В 1867 г. был Высочайше утвержден новый устав семинарий и училищ. Но еще раньше введения нового устава православное духовенство обрадовано было великою Монаршею милостью. 14 марта, 1866 года последовало Высочайшее Государя Императора соизволение на ежегодное воспособление из государственного казначейства 1,500,000 рублей на улучшение быта духовно-учебных заведений. – По роковой случайности, радостная весть о таковой милости духовенству в Одессе было получено одновременно с страшным известием о злодейском покушении на жизнь Государя Императора, 4-го апреля. Духовенство города, вместе с архипастырем, приносило по сему случаю свои молитвы милосердому Богу два дня подряд: 6-го апреля в кафедральном Одесском соборе, в присутствии военных и городских властей и при стечении многочисленного народа, пр. Димитрием совершено было благодарственное Господу Богу молебствие о сохранении драгоценной жизни Помазанника Божия, при чем Владыка произнес слово о видимом и неусыпном промышлении над Россией и ее Царем; а на другой день, в том же соборе, при участии всего городского духовенства и воспитанников духовной семинарии и училищ, преосвященный вторично служил молебен о здравии и благоденствии благочестивейшего Государя Императора, по случаю дарования Его Величеством щедрого пособия духовенству, и опять говорил пространную проповедь, полную глубокого содержания350.
Из указа Св. Синода видно было, что Высочайше дарованные 11/2 миллиона будут отпускаться не вдруг, а по частям, с ежегодным увеличением отпуска, по мере введения полного преобразования духовно-учебных заведений в разных епархиях, при чем в ближайшую очередь учебной реформы будут входить те епархии, которые раньше озаботятся обеспечением своих училищ из местных средств. Это побудило пр. Димитрия поспешить сделать в этом отношении все, что было возможно для епархии по ее местным средствам. В том же апреле месяце он написал и разослал по епархии следующее воззвание к духовенству. – «Материальное содержание духовно-учебных заведений – семинарий и трех училищ – Херсонской епархии, приходя год от года в более и более стеснительное положение, дошло наконец до того, что дальнейшее существование их становится почти невозможным. Жалованье наставникам так скудно – чтобы не сказать ничтожно, – что содержаться на него, особенно в Одессе, нет никакой возможности351. Так же невозможно и содержание сирот – учеников ныне на их оклады. В виду этой крайности я несколько раз просил высшее духовно-учебное начальство об увеличении окладов на содержание семинарии и училищ; но Св. Синод, по крайней ограниченности ежегодного прихода духовно-училищных сумм, решительно отказал мне, предоставив обратиться к изысканно для сего местных средств, помимо той суммы свечной прибыли, какая доставляется ныне Св. Синоду Херсонской епархией». Указав затем на источники, из которых могли быть извлечены местный средства, преосвященный заканчивает свое воззвание таким предостережением: «Св. Синод приказал мне, в случай невозможности найти средства к улучшению содержания, ограничить число учащихся в семинарии, и особенно число казеннокоштных воспитанников. Крайне было бы прискорбно прибегать к этой тяжелой для духовенства мере; поэтому-то я прошу вас всех, как родителей и братьев учащегося юношества, принять в этом деле сердечное участие и приложить к нему родительское и родственное участие».
Духовенство отозвалось на призыв архипастыря полною готовностью делать ежегодные пожертвования на поддержание семинарии и училищ: первая подписка, чрез оо. благочинных, дала в итоге значительную сумму – 9,747 р. 38 коп. Для распределения жертвуемых сумм между семинарией и духовными училищами, по распоряжению преосвященного, составлен был особый – под председательством ректора семинарии, архимандрита Феофилакта – комитет, которому поручено было также составить смету на удовлетворение насущных потребностей в семинарии и училищах. Исполняя данное поручение, комитет находил нужным: оклады наставников семинарии возвысить до 700 рублей, жалованье учителям училищ удвоить, на содержание ученика в семинарии положить 90 рублей, а в училище 60 р. Когда по этому расчету подведен был итог, то оказалось, что подписанной духовенством суммы будет недостаточно, так как, сообразно с наличностью всех учащих и казеннокоштных учащихся, к тем средствам, который отпускала казна на содержание духовно-учебных заведений Херсонской епархии, требовалось добавлять по 13,963 р. 70 к. в год. Тогда пр. Димитрий созывает всех благочинных в Одессу, предлагает им рассмотреть добавочную смету, составленную комитетом, и просит, в лице оо. благочинных, духовенство всей епархии о возвышении взносов до размеров, указанных в смете; при чем предлагает к назначенной сумме прибавить еще 1000 рублей на нужды женского училища. Во главе подписки он собственноручно написал: «от архиерейского дома и Бизюкова монастыря 1,200 рублей; от кафедрального собора 500 рублей». С своей стороны, оо. благочинные, рассмотрев смету и согласившись с ее расчетами, вновь распределили по церквам епархии количество взносов и немедленно представили преосвященному «список возможных, без отягощения церквей, пожертвований». Общая сумма по сему списку даже превышала сметную: вместе с пожертвованиями от кафедры, от епархиальных церквей предположено возможным собирать 15,511 рублей ежегодно.
Заручившись такими данными, архиеп. Димитрий, в августе 1867 г., сообщил обер-прокурору о своих распоряжениях по сему вопросу и о достигнутых результатах, и просил его ходатайствовать пред Св. Синодом об утверждении сделанных предположений по делу улучшения духовно-учебных заведении Херсонской епархии. Самое представление в Св. Синод было написано весьма обстоятельно и подробно. Упомянув в начала представления о безуспешном ходатайстве пред Св. Синодом в минувшем марте; когда он просил Синод представить весь ежегодный доход от продажи свечей в Херсонской епархии исключительно на содержание своих учебных заведений, преосвященный оправдывает свое прежнее ходатайство тем, что учебные заведения Херсонской епархии требуют немедленного улучшения, а между тем в течение только последних трех лет (1863, 1864 и 1865) епархия отослала в Синод денег больше, чем получила на свои училища, на 27,338 рублей. Затем, он подробно излагает состояние и нужды подведомых ему семинарии и училищ, а также желательную и уже выработанную смету на содержание их; представляет далее весь ход предпринятых им мер к изысканию новых средств на этот предмет, выставляет на вид особенное сочувствие к этому делу епархиального духовенства и его полную готовность жертвовать от себя и изыскивать другие средства к доброму воспитанию детей. «Но (говорится в заключении представления) духовенство при этом просит меня: 1) чтобы добавочною сумму отнюдь не вносить в общую смету, представляемую в хозяйственное управление при Св. Синоде, а вести ее отдельно и отчет представлять ежегодно временному ревизионному комитету, избираемому от духовенства епархии; 2) чтобы в составе семинарского правления были два члена от духовенства352; 3) чтобы при семинарии открыт был класс иконописания; 4) чтобы приезжающим в Одессу священникам представлено было право посещать семинарию во время уроков; 5) при определении на казенное содержание правлением принималось бы во внимание засвидетельствование местным благочинным о состоянии родителей и родственников; 6) чтобы отдельный семинарский корпус, находящейся ныне под складами, был отделан для потребностей семинарии; 7) чтобы по истечении пяти лет, настоящее положение было вновь подвергнуто рассмотрению общего собрания благочинных».
Посылая настоящее представление обер-прокурору, преосвященный просил Его Сиятельство о возможно скорейшем докладе его Св. Синоду, «чтобы можно было новое положение привести в действие с 1-го января наступающего 1867 года». Гр. Толстой действительно не замедлил исполнить просьбу Херсонского архиепископа и быстро провел его представление. 21-го октября он уже писал Димитрию следующее извещение «Преосвященнейший Владыка: М. Г. Архипастырь! Все Синодом утверждено, кроме ходатайства о невнесении добавочного содержания в общую смету духовно-учебных заведений вверенной Вам епархии. Непременно следует представлять в хозяйственное управление полную смету». Ближайшим следствием проведенной меры к улучшению быта Одесской семинарии и подведомых училищ было – для главного радетеля, пр. Димитрия, скорое (через две недели) награждение изъявлением ему Высочайшей благодарности Государя Императора, а для самых учебных заведений внесение их в очередной список полной реформы. Если Одесская семинария и училища не попали в первую (1867) очередь реформы, то только потому, что в этом году для них не приходилось средины учебного курса, которая признана была за наиболее удобное время для введения нового устава, так как по сему уставу прежние двухгодичные классы нужно было разделить каждый на два годовых. Во всех других частях, кроме учебного плана, Одесскую семинарию можно было считать преобразованною раньше других; но не замедлила и полная реформа. В начале 1868 г., последовал указ Св. Синода о введении нового устава духовно-учебных заведений в пяти, назначенных на вторую очередь, епархиях и в том числе – в Херсонской. Для приведения в исполнение указа, в июле того года, прибыл в Одессу член-ревизор учебного комитета С. В. К-ский, который, по исполнении поручения, представил куда следует официальный отчет о хорошем состоянии учебных заведений в Херсонской епархии, а вместе с тем и неофициальный прекрасный отзыв о попечительном хозяине епархии – «добрейшем архиепископе Димитрии». Хозяин, действительно, в этом отношении был крайне заботлив и рачителен: он не хотел останавливаться на половине дороги, и желал непременно довести до конца благоустройство семинарии и училищ вверенной ему епархии.
Прежде всего было обращено внимание на семинарию. Благодаря содействию того же ревизора, Св. Синодом были одобрены, как соответствующие требованиям нового устава, новые представления и планы пр. Димитрия по переустройству семинарских зданий; вскоре были отпущены из хозяйственного управления и суммы на этот предмет – 38000 рублей. Через два года семинария стала неузнаваема. С обращением в жилые помещения запасного, доходного дома, все было приведено в наилучший порядок: зала, библиотека, классные комнаты, помещения для казеннокоштных учеников и для начальствующих – все блестело и изобиловало простором, светом и красотою. 2-го января 1870 года было торжественное освящение обновленных зданий Одесской семинарии. Пред молитвою, пр. Димитрий обратился с речью к учащим и учащимся: искренно приветствовал он всех с такими удобствами и облегчениями к воспитанию и обучению, о каких в его время и не помышляли и не воображали; откровенно выражал свою радость, видя полное обновление, – и внутреннее и внешнее, – в дорогом для него питомнике и рассаднике духовных наук; но в заключении речи высказал сожаление о недоконченном по его мысли и желанию: – «все здесь добро зело, но в храме духовной науки недостает еще одного, очень важного: нет храма Божия». – Но благодарному духовенству и семинарской корпорации достаточно было слышать только намек, чтобы поспешить обрадовать любимого архипастыря. На другой день семинарское начальство явилось к Владыке, чтобы поблагодарить его за труды и попечение, и при этом решилось просить его архипастырского благословения на открытие по епархии подписки для пожертвований на устройство семинарской церкви. Благословение было дано, но с условием необязательности и непринужденности, а для начала дела положена была некоторая жертва и от самого Владыки353.
Заботы пр. Димитрия о семинарии не ограничивались ходатайствами пред высшею властью и влиянием на духовенство в изыскании новых средств; его отеческая почтительность выражалась и в других, постоянных и непрерывных, отношениях к семинарии, которые приносили видимую пользу для внутреннего усовершенствования учреждения. Еще до окончания преобразования из Одесской семинарии взяты были почти одновременно и ректор и инспектор. По указанию преосвященного обе должности замещены были лицами из городского духовенства354, принадлежавшими уже к корпорации семинарских наставников и хорошо знавшими как нужды заведения, так и местные условия для успешного ведения дела воспитания и образования. В мае 1866 г., по инициативе нового инспектора, правление семинарий озабочено было устройством особой ученической библиотеки. Свое постановление по сему предмету, вместе с «правилами устройства и пользования ученическою библиотекою», правление представило Его Высокопреосвященству на утверждение. Владыка написал на докладе следующую резолюции: «Господь да благословит положить благое начало доброму делу»; и затем, сам же и положил это начало щедрым пожертвованием. На первый раз он передал из своей библиотеки в новоучреждавшуюся при семинарии 45 сочинений в 75-ти томах355, впоследствии в ту же библиотеку им переданы были все духовные журналы, какие выписывал во время пребывания своего в Одессе, – представлявшие очень ценные коллекции, как напр. 47 томов «творений Св. Отцов» и 42 тома Трудов Киевской Духовной Академии»356. – В 1867 г, 19-го февраля при семинарии открыта воскресная школа, для практических занятий по урокам педагогики. Пр. Димитрий нашел средство поощрить и эту школу: он передал несколько иллюстрированных изданий и, при первом посещении школы раздал 17-ти мальчикам, за хорошие ответы, изображения свв. Кирилла и Мефодия357. Вообще пр. Димитрий посещал семинарию очень часто, особенно во время экзаменов, к которым относился всегда серьезно, – просиживая по целым дням, и в то же время благотворно-поощряя и оживляя дело испытания своими вопросами и разъяснениями. Внимательно, с своей стороны, относились к его советам и наставлениям и учащиеся и учащие: в отчетах о состоянии семинарии часто можно встречать даже перечисления замечаний и разъяснений Владыки, данных им по разным частным вопросам всех семинарских наук358. Сочувственно относился он ко всякому благому начинанию в стенах семинарии. Так, в 1870 году, по инициативе о. ректора, организованы были вечерние литературные собрания, с приглашением известных лиц из городского духовенства, с их семействами, и других. Для правильного ведения собраний написаны были правила, которые и представили на благоусмотрение архипастыря. Находя собрания полезными в целях воспитания и сближения учеников с обществом, преосвященный с живейшим сочувствием отнесся к самой мысли о. ректора, благодарил его за попечительность об учениках и благословил привести в исполнение «проект правил о собраниях»359.
Таким образом, на Одесской семинарии пр. Димитрий имел утешение видеть плоды своих многолетних трудов. Начав скромным улучшением быта семинарии, он закончил полным ее образованием и обновлением. Оставался, правда, еще вопрос, намеченный и уже поставленный Димитрием на очередь, но оставшийся нерешенным до его отбытия из Одессы, – это вопрос о постройке дома – общежития для учеников и квартирного дома для учителей семинарии; но главное было все устроено. Лучшая оценка результатов, какие достигнуты в преобразованной одесской семинарии, находится в официальном отзыве обер-прокурора Св. Синода. В его отчете за 1869 год, между прочим, сказано: «Херсонская семинария по всем предметам обучения стоит в числе лучших, на ряду с двумя или тремя другими, а по воспитательной части она выше всех»360.
Мудренее было вести дело улучшения духовных училищ. Одесская семинария оставалась под опекою духовенства – в зависимости от его пожертвований – только один год: по введении нового устава, она во всех отношениях обеспечена была казенным содержанием и, так как в первые годы число учеников не превышало штата и епархиальные классы еще не открывались, то и средств епархиальных на семинарию не требовалось. Между тем содержание духовных училищ, после их преобразования, полностью возложено было на местные епархиальные средства; изыскание же этих средств, равно как и мер к обеспечению и улучшению училищ, зависело от решений и постановлений съездов духовенства. – С одной стороны, новость дела и неподготовленность духовенства к общественной деятельности, а с другой – исконные черты сословного характера в первое время давали плохие результаты на этих съездах: почти повсеместно на съездах духовенства говорилось много уместных и неуместных речей, но мало делалось дела. Не избежало указанных недостатков и духовенство Херсонской епархии. Рассуждая о своих училищах, оо. депутаты долго не могли прийти к полезным практическим результатам; постановления одних съездов отменялись другими и заменялись новыми постановлениями, иногда совсем противоположными; иногда высказывались даже странные, единичные мнения, касавшиеся мероприятий к улучшению воспитания духовного юношества361.
Первые съезды Херсонского духовенства, во всех трех округах училищных, состоялись 27-го ноября 1867 г. В предложении архиепископа Димитрия, предварительно разосланном по епархии чрез консисторию, требовалось от съездов решение следующих вопросов: 1) оставляют-ли избранных прежде благочинными членов семинарского правления 2) принимают ли съезды разделение училищных округов, сделанное консисторией; 3) достаточно ли для епархии иметь три училища; 4) где должны находиться эти училища (т. е. в каких городах); 5) какое число бедных учеников может содержать каждый округ в своем училище; 6) сколько нужно положить на содержание каждого казеннокоштного ученика, и какое должно быть содержание пищей, одеждою и проч.» В то же время преосвященный предложил епархиальному духовенству озаботиться приобретением домов для училищ, или устройством, хотя и наемных, но постоянных и удобных помещений362. На первые три вопроса депутаты всех трех округов отвечали согласно и утвердительно. Что же касалось устройства бедных учеников, то каждый округ сделал свое постановление. В Одесском училище положено принимать до 40 учеников-сирот, и на содержание каждого назначено по 90 рублей в год; составлена была примерная смета издержек в частности на каждого ученика (на завтрак, обед, ужин, белье, платье и проч.) и общая – на все училище, при чем оказалось, что для выполнения таковой сметы к тем сборам, какие уже были по прежним распоряжениям, нужно было еще добавить, около 1.500 р. ежегодных и 1.100 временных – на первоначальное обзаведение; постановлено: восполнить недостающее новою раскладкой по церквам и причтам. В других округах назначения были, хотя и меньше одесского, но совершенно достаточные: в херсонском училище на казеннокоштного ученика назначено 80 руб., а в Елисаветградском – 70. Самым трудным к разрешению был вопрос об училищных домах. Духовенство всех трех округов отозвалось о помещениях своих училищ крайне невыгодно, находя их прямо, негодными и невозможными к приспособлениям по новым требованиям. Между тем ни один съезд не указал прямого выхода из затруднительного положения; причина понятна: нужно было строить новые дома для всех училищ, а средств для этого не было.
Вскоре открылись новые потребности, для удовлетворения которых нужно было решение епархиального духовенства.
Епархиальному съезду, собравшемуся 14 мая 1868 г., в числе других вопросов, преосвященным предложены были на обсуждение два очень важных вопроса – об открытии в семинарии параллельного отделения для I класса, и обеспечении наставников семинарии квартирным пособием от духовенства. Оба эти вопроса получили неудовлетворительное решение. – В том же 1868 г., депутатам окружных училищных съездов от преосвященного разослано было следующее предложение. «От некоторых оо. благочинных и от причтов я слышал жалобы на неравномерное распределение по церквам взносов на содержание училищ; а от училищных начальств – жалобы на несвоевременное доставление денег от причтов, что поставляет их в немалое затруднение. Время и опыт открыли по училищам некоторые частные недостатки и нужды, которые не могли быть предвидены прежними съездами. Почему необходимым нахожу пригласить оо. депутатов собраться в училищные города своих округов, к 10-му числу декабря текущего года, для обсуждения и разрешения возникших недоумении по делам училищным. Вместе с сим мною предложено училищным правлениям подготовить свои соображения о предметах, требующих разрешения съездов, для предъявления съездам»363. Каковы были решения этих съездов, можно судить по резолюции преосвященного, положенной на журнале Одесского съезда. Пр. Димитрий как видно, ожидал многого от съездов, и получил разочарование. «Достойно сожаления, говорится в его резолюции, что съездом ничего определенного не поставлено, несмотря на то, что некоторый нужды училища требуют неотложной помощи духовенства». Затем Владыка указывает, что – 1) вопрос об открытии параллельного класса решен совершенно неправильно: возложение этого дела на средства Св. Синода противоречит уставу и штатам; 2) отказ в квартирах учителям и даже смотрителю училища нужно считать печальным недоразумением; 3) учреждение должности надзирателя без жалованья совсем непонятно; наконец 4) вопрос о помещении училища вовсе оставлен без обсуждения, хотя училище по-прежнему остается в неудобном наемном доме, за который нужно платить ежегодно по 2070 рублей. – В виду такого отношения к делу преосвященный дает немедленно новое предложение оо. депутатам одесского округа – собраться в Одессу, к 27-му февраля 1869 г., для окончательного решения вопроса: где быть училищу, а также для нового обсуждения вопросов, предложенных училищным правлением364. Однако и новое собрание о. о. депутатов не привело дела к желанному результату – главным образом от того, что никто не мог указать на средства, необходимые для постройки или покупки дома. В других училищных округах, по той же причине, решения съездов были еще менее удовлетворительны; заботы об улучшении училищ выражались в суждениях неустойчивых и даже прямо противоречивших цели. Так, в одно время (1871 г.) духовенство, чтобы сократить расходы, предлагало закрыть училище в Херсоне; в другой раз такое же предложение предъявлено было относительно Елисаветградского училища, а то, наконец, на епархиальном съезде духовенство решило было из трех училищ оставить одно – в Елисаветграде, где представлялась возможность, при меньших издержках построить и содержать общеепархиально училище. Все такие решения и постановления не находили сочувствия архиепископа, и училища Херсонской епархии до времени оставались в старом положении. Пр. Димитрий желал устроить духовный училища так же прочно, как уже была устроена семинария, и ждал только благоприятных обстоятельств.
Между тем в это время в ряду других духовно-учебных вопросов явился новый, вызывавший живой интерес у духовенства. В конце 60-х годов при Св. Синода выработан был нормальный устав «женских епархиальных училищ», составленный применительно к уставу женских гимназии Министерства Народного Просвещения и Высочайше утвержденный 20 января 1868 г. Это был новый, весьма важный шаг к улучшению быта духовенства! Правда, срочного приведения в исполнение этого устава не требовалось; тем не менее со стороны высшей власти рекомендовалось епархиальным начальникам озаботиться постепенным приведением к указанной норме существующих уже сиротских женских училищ. Пр. Димитрий с особенною любовью принял к сведению и возможному выполнению указанные предначертания высшей власти. Одесское Архангело-Михайловское сировоспитательное училище было близко его сердцу и пользовалось такою же, если не большею, отеческою заботливостью, какую оказывал он в свое время к Тульскому сиротскому приюту. Мы уже видели, что женское училище при Михайловском монастыре, благодаря энергической и щедрой деятельности учредителя – пр. Гавриила, а также заботам другого попечителя – пр. Иннокентия, при вступлении на херсонскую кафедру Димитрия находилось уже в удовлетворительному по своему времени, состоянии. Как заботливо относился к этому училищу преосвященный, об этом мы имеем достаточно указаний в годовых отчетах училищного совета. Уже в 1859 году в числе пансионерок училища числились две воспитанницы на полном содержании преосвященного Димитрия365. – «После пр. Иннокентия, говорится в одном отчете, вступив в 1857 г. на кафедру херсонскую, высокопреосвященный Димитрий, не изменяя заведенных порядков в администрации монастыря и училища, постоянно оказывает свою отеческую любовь к сиротам. Нередко, сверх ожидания, он является в училище и внимательно следит за ходом преподавания уроков; и ни в один приезд его воспитанницы не оставались без ласкового слова, оживляющего и ободряющего их. Не забыта архипастырем и материальная сторона в жизни училища, скудные средства которого восполняются его постоянными жертвами». В отчете за 1868 год значатся полученными от щедрот Владыки 588 рублей деньгами, 40 томов книг, 7 географических карт и 2 атласа, в отчете за 1869 г. – 588 р. денег, 155 томов книг и брошюр и другие учебные пособия366. Средства училища, правда, были незначительны; но Димитрия огорчала не столько скудость (относительная) средств, сколько теснота помещения, мешавшая главным образом удовлетворить насущной потребности епархиального духовенства. По первоначальному, Высочайше утвержденному в 1844 году, штату в училище положено содержать на полном монастырском иждивении только 50 сирот; впоследствии совет училища стал принимать дочерей духовенства на пансион, но таких пансионерок можно было поместить не более 15-ти. Общее желание было – расширить здание училища и увеличить его штаты. На такую потребность даже обращено было внимание Государя Императора, когда училище осчастливлено было Монаршим посещением 29 сентября 1859 года. Желание, однако, казалось не осуществимым, как по недостаточности средств, так и по тесноте самого монастыря. И вот, пр. Димитрий воспользовался случаем – изданием нормального устава женских епархиальных училищ, чтобы поставить на очередь вопрос о преобразовании одесского училища и о помещении его применительно к требованиям нового устава. Кстати, в скором времени в Св. Синоде состоялось новое чрезвычайной важности постановление, которым требовалось вносить в учебный капитал не всю прибыль от свечной продажи, как было до того, а известный определенный процент с общих церковных доходов. Новый закон вводил теперь почти тот самый порядок, о котором так настойчиво и безуспешно ходатайствовал пр. Димитрий еще во время присутствования в Св. Синоде и потом вскоре по возвращении в Одессу, когда представлял первый план преобразования духовно-учебных заведений своей епархии; теперь для херсонской епархии открывалась надежда иметь новый значительный источник средств для удовлетворения обще-епархиальных нужд.
В 1869 году, 9-го мая, в Одессе совершалось особенное светлое торжество: праздновался двадцатипятилетний юбилей Архангело-Михайловского женского монастыря и находящегося при нем училища девиц-сирот духовного звания. На этом-то празднике, в своей, речи, обращенной к детям и гостям, пр. Димитрий решился высказать свою заветную мысль. Он говорил, что в истекшую четверть века монастырское училище сослужило добрую службу херсонской церкви и принесло посильную пользу епархиальному духовенству, но что вступая в новую эпоху жизни, оно встречаешь новые требования и новые задачи, удовлетворение которых возможно только при полном преобразовании; что он уже решил приступить к такому преобразованию и только ожидает содействия со стороны духовенства и всех могущих оказать помощь в таком важном деле367.
В непродолжительном времени в уме преосвященного созревает план, выполнением которого он надеется привести к окончанию все доселе возникавшие и еще нерешенные вопросы, касавшиеся духовно-учебных заведений епархии. В апреле 1871 года он созывает общеепархиальный съезд и дает на обсуждение оо. депутатов три весьма важных предложения: 1) построить особое здание, вне монастыря, для епархиального училища девиц духовного звания; 2) приобрести или построить собственные дома для трех училищ для мальчиков; 3) приобрести или построить здание, в котором можно устроить общие квартиры для учеников семинарий. Поставив так прямо означенные вопросы, преосвященный дает затем объяснение причин, по которым требуется немедленное решение их. Поясняя первый пункт, он указывает в своем предложении на то, что духовенство херсонской епархии доселе не имеет, подобно многим другим епархиям, своего учебного заведения для воспитания своих дочерей, а между тем прошло уже то время, когда можно было ограничиться кое-каким домашним образованием дочерей, или даже оставлять их совсем без образования. Нужно сохранить свое старое женское училище, но необходимо преобразовать его в шестиклассное и для него построить новое здание. – По второму пункту он объясняет, что закрытие того или другого училища, как высказывались прежде съезды духовенства, нежелательно уже потому, что такая мера не поведет к увеличению средств, так как отпуск сумм из Синода на эти училища, с закрытием их, будет прекращен; закрытие же всех училищ равнялось бы совершенному лишению воспитания и образования всех сирот священно-церковнослужителей и многих детей недостаточных и многосемейных родителей: чем больше будет училищ, тем будет лучше, но им необходимо помещаться в своих, хороших зданиях. – Что же касается устройства своекоштного общежития, то преосвященный предоставляет семинарскому правлению выработать план и внести его на обсуждение съезда.
Далее, желая помочь благоприятному решению вопросов, пр. Димитрий сам объясняет оо. депутатам, какими мерами и средствами можно достигнуть таких важных результатов для епархии. «Выполнение всех этих нужд, говорит он, потребует весьма значительных издержек, далеко превышающих наличные средства епархии; а потому об единовременном выполнении всех трех задач не может быть и речи. Средства потребуются не только значительные по объему, но и верный, а не гадательные. Нужно изыскать такой источник, который доставлял бы ежегодно, хотя не особенно большой, но верный доход, достаточный для того, чтобы выполнить все означенный предположения в течение нескольких лет. Такой источник в настоящее время открывается сам собою и зависит совершенно от воли преимущественно настоятелей церквей и церковных старост. От продажи церковных свеч в епархии собиралось около 42-х тысяч рублей, которые прежде отсылались все в Синод; ныне же, по разрешению самой высшей власти, требуемые 21% церковных доходов по нашей епархии будет равняться только 25.700 рублям. Если бы духовенство херсонской епархии решилось по-прежнему доставлять в консисторию весь свечной доход, то ежегодно оставалась бы сумма около 17 тысяч рублей. Вот источник для построек! Разумеется, что при этом могут быть употреблены и другие средства, находящиеся уже в распоряжении духовенства. По окончании построек эти 17.000 руб., обращаясь в неприкосновенный капитал, могут со временем составить весьма значительный фонд, процентами с которого облегчилось бы содержание епархиальных училищ. Предлагаемый источник имеет то преимущество пред другими, что он не вводит никакого нового налога. С другой стороны, и свечная сумма будет иметь именно то назначение, какое указано ей властью церкви и государства. – Если бы съезд постановил определение, соответствующее изложенному предложению, то я с удовольствием принимаю на себя обязанность ходатайствовать пред Св. Синодом об утверждении оного; а между тем предлагаю теперь же составить строительный комитет, который в будущем январе имеет принять из консистории 17.000 рублей для заготовления материалов и начала постройки дома для женского епархиального училища».
На этот раз и решения съезда были более благоприятны и во многом отвечали намерениям и желаниям Владыки. Прежде всего съезд постановил вносить по-прежнему все прибыли от свечной продажи, которая давала бы во всей епархии не менее 42.000 рублей. Относительно возможности устроить дома для всех училищ оо. депутаты выразили сомнение; они даже постановили закрыть одно училище. Но все присутствовавшие на этом съезде, с полным сочувствием и благодарностью архипастырю, отнеслись к его предложению о постройке нового дома для женского училища и об учреждении общежития с церковью при семинарии. Принимая указанный преосвященным источник для построек, съезд желал даже усилить строительные средства и для этой цели предполагал отдать в долгосрочную аренду свечной завод, имеющийся при архиерейском доме, чтобы скорее высвободить капитал (около 40.000), находившийся в оборотах завода368.
Постановления съезда, вместе с объяснением собственных предположений, пр. Димитрий представил в Св. Синод, Представление это обратило на себя особенное внимание: оно по своей важности вошло даже во всеподданнейший отчет обер-прокурора за 1871 год. «Открытие епархиального женского училища, сказано в этом отчете, было главным предметом занятий съезда в июне 1871 г. духовенства Херсонской епархии, который на преобразование сировоспитательного Архангело-Михайловского приюта в женское епархиальное училище назначал следующие средства: 17,000 ежегодного остатка от процентного сбора, 10,000 от свечного завода и единовременный остаток прибыли от прежних лет в 2,200 руб. Предполагают построить новый дома».
К сожалению, предложение это, своею неопределенностью и неточностью вычислений, вызвало решение Синода, неотвечавшее ожиданиям. Дело в том, что в ходатайстве пр. Димитрия все почти домашние средства епархии предназначались в ближайшем будущем исключительно на нужды женского училища, а на устройство мужских училищ испрашивалось пособие из синодальных сумм. Поэтому Св. Синод не утвердил предположения остаточные свечные суммы (17.000) употреблять только на постройку дома для женского училища, и при этом указал обратить внимание прежде на училища для мальчиков. – Сообщая о таком решении Синода следующему епархиальному съезду (1872 г.), пр. Димитрий предложил духовенству, согласно указанию свыше, немедленно приступить к устройству мужских училищ и определить потребные для того суммы из указанного источника. Но в то же время он не оставлял своей мысли и настоятельно требовал заняться вопросом об устройстве женского училища. «В каком бы смысле, писал он в предложении, ни разрешился вопрос о количестве сборов на будущее время, съезду необходимо теперь же сделать постановление о постройке здания для женского училища, избрать строительный комитет и в будущем же году приступить к заготовлению строительных материалов»369. Духовенство с своей стороны искренно сочувствовало своему архипастырю, но, не имея теперь в руках надежного источника, оно не рассчитывало на успех. Однако, избрали строительный комитет и во главе его поставили почтенного своего представителя, о. протоиерея М. К. Павловского. Уже приобретено было и место для постройки дома. Но представленная архитектором первая, скромная смета – в 50 тысяч стоимости одного дома, без служб, заставила опять задуматься и остановиться до времени… И вот, при таком-то положении дела и при таком общем настроении, сам Бог послал доброму архипастырю Димитрию неожиданную помощь, которая дала возможность положить твердое основание делу и действительно начать постройку дома. Помощь эту оказал один почтеннейший житель Одессы – греческий подданный, но одесский уроженец, Маврокордато. С семейством этого коммерсанта пр. Димитрий был знаком давно. В 1868 году он отпевал отца жертвователя, одесского купца Матфие Маврокордато, и говорил при этом случае надгробное слово, глубокое содержание которого вытекало из рассмотрения доброй кончины усопшего старца370. Сын этого старца, Александр Матвеевич, узнав о затруднениях Владыки Димитрия, прислал ему, в ноябре 1873 г., 12,000 рублей при письме, в котором просил Его Высокопреосвященство употребить его жертву на нужды духовно-учебных заведений Одессы, как родного ему города. – 1-го декабря в Михайловском сиротском училище было собрание совета и строительного комитета. На это собрание неожиданно явился сам Владыка и, положив на стол 12 тысяч, предложил совету употребить эти деньги немедленно и исключительно на преобразование приюта в полное епархиальное училище. С этого дня, при помощи Божией, дело пошло вперед и уже бесповоротно. Ободренный строительный комитет принял все предложения архитектора, согласился даже платить ему высокий трехпроцентный гонорар, и заключил подряд на поставку материалов. Епархиальный съезд (1872 г.), одобрив распоряжения строительного комитета, с своей стороны не остановился над полною ассигновкою сумм и, сообразно с первоначальною сметою, постановил заключить заем в 50 т. рублей специально на постройку дома женского епархиального училища. Дальнейшие действия комитета обнаруживали еще большую энергию его членов, несмотря на то, что дополнительные архитекторские сметы увеличили стоимость постройки почти втрое: когда комитет подсчитал, во сколько приблизительно обойдется устройство целесообразного дома, надворных разных зданий, сада и постовой, то оказалось, что на все это потребуется не менее 122 тысяч рублей. Однако, цифра эта не устрашала членов комитета, который (как он объяснял в своих журналах) вполне надеялся на покрытие всех издержек из общеепархиальных средств не больше, как в десять лет; а при возрастающей доходности свечного завода надеялся на сокращение этого срока. По благословению архипастыря, комитет, при помощи нового аванса из попечительства, в марте 1874 года приступил к заготовке камня – главного в Одессе строительного материала371.
Одновременно с таким благоприятным началом по устройству женского училища, с неменьшим успехом шло дело устройства и мужских училищ. Все три училища Херсонской епархии, благодаря указанному Синодом употреблению свободных епархиальных сумм, обзавелись в скором времени собственными домами. В Херсоне сначала думали строить новое здание для училища на лучшем месте, отведенном от города по ходатайству викарного преосвященного Нафанаила; но потом нашли выгоднее купить готовый дом и приспособить его к заведению. Наоборот, духовенство Елисаветградского округа долго приискивало дом для своего училища и уже решило было (в 1871 г.) приобрести в собственность временную квартиру училища; но через год получило от города удобное место, с условием застроить его в течении трех лет. Общеепархильный съезд 1873 года постановил отпускать из епархиальных сумм в течение трех лет – Херсонскому училищу по 1,500 руб. и Елисаветградскому по 2,000 р., в помощь на приспособление зданий. Важнее были заботы об Одесском училище, которое за одну квартиру, притом не удобную, платило до 4,000 р. в год. Окружное духовенство подыскивало подходящей дом для училища, но действовало нерешительно, пока не выяснилось, что удобнее и выгоднее будет построить свое специальное здание. Главный вопрос был в приобретении места. Так как частные владельцы за свободные места просили крайне высокие цены, а город, несмотря на неоднократные просьбы пр. Димитрия, не хотел принести жертвы, то духовенство решило уже строить дом на имеющейся церковной земле – или при Успенской церкви, или в ограде Петропавловской, – что на Молдаванка. Наконец, 22 марта 1874 г., Одесская городская управа, выслушав, в докладе городского головы, новое ходатайство пр. Димитрия об уступке места для духовного училища, постановила отвести для указанной надобности место в 1298 кв. саженей на Михайловской площади, против Петропавловской церкви. Строительный комитет, избранный одесским окружным съездом еще в 1873 г., поспешил принять от города дар и, с разрешения преосвященного, стал заготовлять строительный материал. В училищном правлении, между тем, имелся уже выработанный план нового, в три (считая с подвальным) этажа, здания для училища и при нем флигеля на семь учительских квартир. Одобренный съездом план преосвященный Димитрий представил на утверждение, а строительному комитету предписал заключить подряд на возку камня и песка...
Итак, 1874-й год был знаменательным в истории духовно-учебных заведений Херсонской епархии. Для всех училищ, мужских и женского, совершенно определилось тогда начало новой жизни; близко было окончательное устройство их в своих новых домах... Но, по необъяснимой случайности, этот же 1874-й год был роковым и в жизни преосвященного Димитрия. Десятилетние заботы и труды его, положенные на излюбленное дело, на улучшение духовно-учебных заведений, обещали принести скорые и обильные плоды; уже предвиделось исполнение заветной мечты – видеть воочию возможность для духовенства возлюбленной Херсонской паствы прилично воспитывать и давать сообразное образование не только сыновьям, но и всем дочерям духовенства. И вдруг, т. е. совершенно неожиданно, сам архипастырь делатель отъемлется от возделанной уже нивы и поставляется на новое поле деятельности. В октябре 1874 г., пр. Димитрий перемещен на Ярославскую кафедру. Труд его в указанной области был почти совершен; но в труд его вошли другие. Непосредственный преемник преосвященного Димитрия, высокопреосвященный Леонтий, был в Одессе только полтора года; но уже он почти закончил начатое его предместником. Он совершал закладку дома для одесского духовного училища, освящал вновь устроенный дом для Херсонского училища, и положил первый камень в здание для женского епархиального училища. Все эти случаи были торжественными праздниками для духовенства Херсонской епархии, и духовенство не забывало главного виновника этих праздников: каждый раз, после благодарственных молитв Господу Богу, оно, по указаниям нового архипастыря, усердно и от всей души воспевало «многолетие» Ярославскому архиепископу Димитрию.
VIII
Если Петербург справедливо называют окном в Европу (западную), то Одессу можно назвать «дверью на Восток». Из Одессы, как из передового поста, отправляются русские люди с русскими интересами на дальний восток, даже до Владивостока; в Одессу постоянно прибывают представители народов Азии и восточной Европы, ищущее различных, духовных и материальных, благ. Здесь узел тех нитей, который связали нас с «востоком» в прошлом столетий, – и чем дальше идет время, тем больше Одесса приобретает международное значение.
Северный берег Евксинского понта, как известно, от глубокой древности был местом поселений и колоний различных народов исторического востока, искавших здесь своих интересов в торговле и завоеваниях. Такое значение за черноморским побережьем оставалось во все времена, даже до образования здесь «Новороссии». Новый город Одесса, как лучший порт, быстро переросший своих соседей, естественно стал служить средоточием торговых интересов в крае и привлекать иностранцев. Те же греки, итальянцы и армяне, которые много веков держали в своих руках торговлю Босфора киммерийского, были первыми поселенцами-торговцами и в Новой России; к ним присоединились еще новые народности, неизвестные здесь в древности, – немцы и, в подавляющем большинстве, евреи372. В общем Херсонская губерния ко времени открытия в ней особой епархии, уже представляла из себя русский край, населенный преимущественно малороссами и отчасти молдованами. Инородческие колонии земледельцев, поселенные на особо-отведенных землях, жили особняком, на особых правах и условиях, а потому сравнительно мало влияли на экономически и духовный быт русских поселенцев. Но в городах, особенно в больших приморских (Николаеве, Херсоне и преимущественно Одессе), смесь народностей ярко отражалась на взаимных бытовых отношениях. Экономические условия ставили одних в необходимую зависимость от других; а так как большинство русских составляют здесь класс низший, рабочий, и наоборот, вся торговля и вообще имущественные интересы в руках инородцев, то естественно, что сила была на стороне последних, хотя в количественном отношении преимуществовали первые. Условия, при которых образовались особенности экономического быта, не могли не влиять и на духовную сторону народной жизни; в них – в этих условиях заключалась причина тех особенностей церковно-общественной жизни в Херсонской епархии, которые необходимо предъявляли особые требования к деятельности местного православного духовенства и преимущественно к деятельности Херсонских архипастырей.
Как же относился пр. Димитрий к инородным и иноверным элементам в среде его паствы? Отчасти он усвоил взгляд Иннокентия, который имел широкие планы на обрусение края, посредством упрочения и возвышения здесь интересов православного населения. Иннокентий возмущался духом, «когда видел, что Юг России населен разными пришельцами и инородцами, которые во всем господствуют над русскими; что Одесса – царство евреев, иностранцев и всякого иноплеменного люда; что на это иноплеменное царство работает, не разгибая спины, русский человек, одичавший в степях юга»373. Димитрий также видел и хорошо разумел эти взаимные отношения народностей и их результаты; не менее своего предместника он желал торжества православия и всяких благ русскому населению края. Но по-своему смиренномудрий он никогда, ни словом, ни делом, не обнаруживал содействия и сочувствия интересам православных-русских в ущерб или унижение инородцев и иноверцев; напротив, при всех подходящих случаях, он учил своих пасомых жить в мире и согласии со всеми согражданами, какого бы племени и веры они ни были. Верным и действительным средством к возвышению одних над другими он признавал не материальное господство, а нравственное превосходство. Это убеждение проникало его поучения обращенные к Херсонской пастве; оно же с особенною яркостью выражалось в его широкой благотворительности, не знавшей различия между национальностями и последователями той или другой религии. Правда, в своих частых беседах пр. Димитрий нередко жаловался на разноплеменность жителей края (например, когда новая, всесословная дума отвергла его ходатайство об улучшении быта духовенства), а в письмах к своим ближним «возлюбленную» Одессу величал иногда «ожидовелою» и «торгашескою»; тем не менее он любил Одессу и одесситов. За то и его в Одессе любили и уважали все одинаково – и русские и иностранцы, и православные и иноверцы, не исключая даже евреев, которые в лице Димитрия впервые решились признать русского православного святителя «служителем Божиим, творящим волю Его». Само собою разумеется, что из всех инородных жителей Одессы ближе других к сердцу любвеобильного архипастыря стояли единоверные – греки и славяне. Были ли эти иностранцы постоянными, или только временными жителями края, но они составляли часть Херсонской паствы, а потому и архипастырь считал своею прямою обязанностью переносить на них долю своих забот и попечений; через них эти попечения переносились и на отдаленные их отечества и на церкви православного востока, где имя Димитрия произносилось с благоговейною благодарностью с самого почти начала управления им Херсонскою епархией.
Греки были первыми гражданами города Одессы. Несколько семейств их жили еще в турецком Хаджибее; а после присоединения городка к России все греки и албанцы, сражавшееся в рядах русских моряков, как особенные знатоки морского дела, были поселены в Новой Одессе, на особых правах, и составляли греческие дивизион. Со временем, дивизион этот был уничтожен и грекам предоставлялось приписываться в купечество, мещане и крестьяне, при чем последние наделялись землею наравне с другими поселенцами. Прирожденные национальные наклонности влекли их всего больше к торговле и преимущественно к торговле морской. Уже в начале XIX столетия вся торговля была в руках предприимчивых греков, которые год от году увеличивались численно, расширяли свою деятельность и, по признанно историков края, были главными виновниками быстрого процветания края вообще и города Одессы особенно. Современные политические движения в Морее и на Балканах принуждали греков массами оставлять свое отечество и искать покровительства у единоверной России; все эти эмигранты не миновали Одессы, оседали здесь и увеличивали контингент соотечественников. До 50-х годов, или до Крымской войны, греки занимали первое место в Одессе по отпускной торговле и весь экспорт русского хлеба был в их руках; только в 60-х годах они отошли в этом деле на второй план, уступив свое место евреям374. Вспоминая с сожалением эти времена, одесские старожилы отдают справедливую дань честности греков, которые поставили торговлю города на высоту и энергически расширяли ее не для своего только обогащения, но и для пользы города и для выгод простого земледельца труженика в Новой России. Единственное объяснение такого сближения греков с русскими историки находят в единоверии, в силу которого греки не считали себя чуждыми России и потому были лучшими из всех иностранных поселенцев в Одессе. «Очень знаменательно, говорит один историк Одессы, то обстоятельство, что греки, оставаясь верными своей национальности, большею частью принимали русское подданство, становились гражданами Одессы и не смотрели на этот город, как на временное место пребывания, подобно другим европейским жителям. С самого начала поселения в нашем городе они позаботились о сооружении себе св. храма375, чтобы иметь возможность слушать богослужение на родном языке, и несколько позже, в самом начале XIX стол., открыли греческое училище. Они горячо отзывались на потребности своего нового отечества и своими крупными пожертвованиями вполне заслужили благодарность сограждан»376. Собственно в церковной жизни одесские греки оставались верными тем же началам. Греческая троицкая церковь и ее прихожане, как русские в большинстве подданные, находятся в ведении епархиального архиерея и местной консистории, хотя настоятелями церкви всегда назначались природные греки из греческого духовенства. И нужно отдать справедливость: в лице этих образованных своих представителей прихожане греческой церкви имели прекрасных посредников между Херсонскими архипастырями и их паствою из греков; они умели поддерживать живую связь не только между своими прихожанами и местною церковною властью, но и вообще между русскою православною церковью, чрез херсонскую епархию, и родственными церквами на востоке377.
Преосвященный Димитрий всегда был расположен к греческому населению, именно в интересах сближения и живой связи между русскою и греческою церквами. По примеру Иннокентия и ради молитвенного воспоминания о своем славном учителе378, пр. Димитрий ежегодно в день св. Пятидесятницы служил литургию и вечерню в греческой Троицкой церкви. В воспоминание великого в истории церкви дня, когда в первый раз евангелие Христово чудесно проповедано было Его учениками всем языкам, смешанной пастве одесской всегда в этот день предлагалось богослужение смешанное – на языках эллинском и славянском. – Другим торжественным днем в году для прихожан греческой церкви было 19-е июня, день погребения в их храме константинопольского патриарха Григория V. В этот день херсонский архипастырь ежегодно совершал торжественное поминовение иерарха-мученика – служением литургии и панихиды соборно со всем городским духовенством. Кроме указанных урочных дней, пр. Димитрий служил в греческой церкви и в другое время, входя в молитвенное общение или с отдельными семействами и лицами, или со всем приходом, по особым случаям и обстоятельствам. Так он служил в дни погребения именитых граждан из греков: одесского купца М. К. Маврокордато (в 1868 г.), княгини Елисаветы Константиновны Ипсиланти (22 сент. 1866 г.), девицы Марии Константиновны Катакази (25 апр. 1866 г.) и других. При этих случаях он говорил поучительные надгробные слова379, а по отпевании усердствовал сопровождением усопших к месту их вечного упокоения. На церковно-общественную жизнь одесских греков особенно благотворное влияние имело приходское благотворительное общество, открытое под именем «греческого братства» при архиепископе Димитрии, с его благословения и при деятельном его участии. В день открытия благотворительного общества (25 янв. 1864 г.) преосвященный нарочито служил в греческой церкви и произнес слово, прекрасно объясняющее значение прихода, как малой церкви – части единой соборной и апостольской церкви, и отсюда – значения для христианина приходской благотворительности380. Представленный через неделю устав «греческого общества» преосвященный утвердил следующею знаменательною резолюцией: «Именем Господним благословляю греческое братство св. Троицы на его благочестивый подвиг для облегчения страданий и утешения в скорбях бедствующих братий наших о Христе, и молю Господа, да поможет Он в трудах их своею вседействующею благодатью» (14 февр. 1864 г. смиренный Д. Арх. X. и О.). Благодарное братство избрало архиепископа Димитрия своим первым почетным членом.
Особенно важными и навсегда памятными для греков и других жителей Одессы останутся обстоятельства перенесения из России в Грецию смертных останков константинопольского патриарха Григория V-го, ровно полвека покоившихся в одесской греческой церкви. Мученическая кончина блаженного патриарха представляет лучшую страницу в истории борьбы Греции за независимость. В 1821 году, когда патриарх Григорий уже в третий раз занимал константинопольский престол, в пределах древней Ахаии вспыхнуло восстание греков. Широкою волною разлилось оно по всему полуострову и быстро дошло до берегов Босфора. Турецкое правительство прибегало к самым жестоким мерам для подавления восстания и потребовало у вселенского патриарха ручательство за спокойствие христиан. Как ни велик был авторитет Григория в своей пастве, его голос не мог оказать полного усмиряющего влияния на борцов за независимость. Семидесятилетний старец видел неизбежность гибели и мужественно ждал своей участи. В первый день пасхи, 10 апреля 1821 года, он был схвачен турками и через нисколько часов, осужденный на позорную казнь, был повешен на воротах патриаршего дома, в полном святительском облачении. На третий день тело мученика брошено было в море с камнем, привязанным к той же веревке, на которой он был повешен. Ночью 16-го апреля тело, освободившееся от камня, но с веревкой на шее, всплыло на поверхность и волною прибито было к судну, стоявшему под русским флагом и готовому к отплытию в Россию. Признанное укрывшимся на этом судне патриаршим протосингелом, тело было поднято на судно и, после 24-х дневного бурного плавания, доставлено в Одессу. Начальник края, граф Ланжерон, убедившись через греческих эмигрантов, лично знавших патриарха, в отсутствии подлога, донес обо всем случившемся Государю Императору Александру I-му. Тогда, с Высочайшего разрешения, тело священномученика, сохранившееся без повреждения, 19-го июня было предано земле в греческой церкви381. События эти известны были всей России и находили должный отзыв у всех русских людей. Московский архиепископ Филарет ходатайствовал пред благословенным монархом о совершении во всех церквах России панихид по убиенном патриархе; но, в виду современных политических обстоятельств, разрешение на это не последовало382. Греческая колония в Одессе свято хранила память патриарха, покоившегося телом в стенах их приходского храма. Уже давно морейские греки – свободные граждане нового Эллинского королевства выражали желание взять из Одессы священные для них останки мужественного борца и мученика за веру и возвратить их родине383. «Как только Греция сострадательною рукою Всевышнего освобождена была от тягостного ига и признана свободной страной, она бросила взгляд, исполненный слез, на счастливую Одессу, гостеприимно приютившую прах знаменитейшего из сынов, желая воздать ему материнские чувства. Имея в виду торжественно и достославно отпраздновать в текущем (1871) году пятидесятилетий юбилей своего возрождения, она не могла забыть своего первомученика и от имени своего возлюбленного короля Георга I ходатайствовало пред великим Императором всероссийским Александром II о возвращении ей останков патриарха. Великодушный монарх с обычною Ему благосклонностью ответил полным согласием и пожеланием, чтобы Греция всегда пред глазами имела пример доброго пастыря и мученика за веру и отечество»384.
Преосвященный Димитрий, извещенный о таковой Высочайшей воле указом Св. Синода, которым предписывалось ему учинить по сему надлежащие распоряжения, приложил особенное старание, чтобы воспользоваться настоящим, столь важным случаем и «показать торжественно, пред лицом всего христианского мира, сколь жива и действенна вера православная, – как глубоко полагаются основы братского единения между православными восточными народами, как светло и безыскусственно высказывается их взаимная братская любовь в моменты чествования и прославления ревнителей веры, стоявших за святую церковь даже до смерти»385. Днем отправления гроба патриарха из России в родную Грецию назначен был день его блаженной кончины – 10-го апреля. К тому времени в одесский рейд прибыл греческий пароход «Византион», который привез для принятия останков патриарха комиссию, состоявшую из шести представителей греческого клира и народа; во главе комиссии были два архиепископа – Калинник, бывший при патриархе Григории иеродиаконом, и Николай Зантис, член эллинского Св. Синода. По мысли пр. Димитрия, самое торжество перенесения останков патриарха должно было сообразоваться с церемониалом, бывшим при его погребении в 1821 году, и потому распределено было на три дня, соответственно трем действиям, следовавшим в обратном порядке. 8-го апреля последовало открытие останков патриарха. Оно состояло в том, что в присутствии высокопреосвященного архиепископа Димитрия, начальственных лиц города Одессы, членов эллинской депутации и членов троицкого причта, склеп, хранивший останки патриарха, был вскрыт; вынесенный ветхий гроб с останками, по надлежащем их освидетельствовании и приложении ко гробу печати, положен в другой новый гроб, который и поставлен был на катафалке посреди церкви. Тотчас же допущен был к поклонению народ и начались служение панихид и чтение евангелия. На другой день, 9-го числа, состоялось перенесение гроба из греческой церкви в кафедральный собор с подобающею священною процессией, в которой, вместе с архиепископом Димитрием и греческими архиереями, участвовало все городское духовенство и множество прибывших из-заграницы и из Бессарабии архимандритов и священников. Наконец, 10 апреля, после заупокойной литургии, совершенной пр. Димитрием, и соборной панихиды останки патриарха перенесены были из собора на пароход. И во все эти дни греческую церковь и потом кафедральный собор осаждали многочисленные массы народа, жаждавшего поклониться гробу священномученика; но 10 числа, можно сказать, на улицах была вся Одесса, «Полным воинским парадом, присутствием всех высших властей края и представителей всех сословий города, деятельным участием всего городского духовенства, с архиепископом во главе, останкам греческого патриарха возданы были почти царские почести. Это видели и чувствовали прибывшие греческие представители, которые в своих живых патриотических речах провозглашали вечную благодарность эллинского народа благочестивому Императору всероссийскому, всему православному Его народу и Святейшему Синоду за блага, оказанные ими эллинской нации. Провожавшие гроб одесситы исполнены были тех же возвышенных чувств и высказывали греческой депутации горячие пожелания. «Преосвященные иерархи и прочая братия! – говорил им настоятель одесской греческой церкви. Возвестите пред всем духовенством и народом греческим то, что вы своими глазами видели и своими ушами слышали; возвестите пред всеми, что религиозное чувство проживающих в Одессе греков крепко, цветуще и живуще; возвестите пред нацией ту глубокую скорбь о перенесении сих священных останков, какую, вместе с нами, чувствует и единоверный нам русский народ». Наконец, сам высокопреосвященный архиепископ херсонский в своей скромной речи, обращенной к представителям Греции, выразил желание, чтобы смертные останки патриарха Григория, которые полвека покоились на русской земле, и которые, по благочестивым желаниям греческой нации, отныне будут покоиться на земле свободной Греции, были еще в течение многих веков новым звеном соединения между двумя православными народами и новым задатком благосостояния Греции. Отбывший из одесского порта пароход Византион направился в Пирей. Все обстоятельства, сопровождавшие это важное событие в Одессе, подробно изложены были пр. Димитрием в его донесении Св. Синоду, при котором представлен был подлинный акт о вскрытии могилы и гроба блаженного патриарха Константинопольского Григория. Донесение это потом вошло частью и в отчет синодального обер-прокурора за 1871 год.
Через два года после описанного события, когда еще не изгладилось его впечатление на жителей Одессы, пр. Димитрий опять принимал участие в одном радостном празднике одесских греков. Осенью 1873 г. Одессу посетила королева эллинов Ольга Константиновна с двумя старшими сыновьями, наследником греческого престола Константином и Георгием, и пожелала оказать внимание греческой колонии в Одессе посещением их приходского храма. 30 сентября для встречи Ее Величества в Троицкой церкви собрались и греческие и русские прихожане, вместе с церковным причтом и с архипастырем во главе. Встречая высокую посетительницу, пр. Димитрий произнес речь, в которой кратко, но живо изобразил единение двух народностей в его пастве. «Благочестивейшая Государыня! Здесь, в пределах прежнего и в преддверии нового Вашего отечества – радостно встречают Вас два, близких сердцу Вашему народа. С любовью и радостью сретает Вас издревле Царелюбивый русский народ; с умилительным восторгом радости сретает Вас и обитающая здесь часть народа эллинского. Вседержавный промысел Всевышнего предопределил Вашему Величеству великое и славное служение – начать и утвердить собой новый царственный род среди древнего, но возрождающегося ныне к новой жизни, народа, и вместе быть живым союзом двух единоверных народов, чтобы соединяющие их узы сделались чрез то живее, радостнее, неразрывнее. Здесь, В. В. увидите и действительное выражение этого духовно-родственного союза обоих народов: здесь и русские и эллины, каждый своим языком, но едиными усты и единым сердцем, умоляют Господа Вседержителя, да сохранит Он Ваше Beличество, с Августейшим Вашим Домом, под кровом своего милосердного, отеческого промышления; да совершит чрез Вас и потомков Ваших недоведомые для нас ныне судьбы Его Божественного промышления о народе эллинском. Благословенно грядущая во имя Господне!» Приняв, после краткой молитвы, от рук архипастыря в благословение икону Пресвятой Троицы, и поклонясь могиле патриарха Григория, королева отбыла из Троицкой церкви на место закладки греческого училища для девочек. Там опять пр. Димитрий совершал положенное богослужении и, по окончании закладки дома, удостоился выслушать благодарность Ее Величества за милостивое архипастырское расположение к греческим жителям Одессы... Впрочем, вместе с любовью греков одесских и заграничных, пр. Димитрий давно уже пользовался высоким вниманием греческой королевской четы: еще в 1867 г. он, один из первых русских духовных деятелей, удостоен был пожалованием греческого ордена Спасителя 1 степени.
Чтобы закончить речь об отношениях Димитрия к грекам, нужно указать еще несколько слов о его частных, чрез посредство близких ему людей, сношениях с греками константинопольскими – о его неофициальном участии в делах вселенской патриархии. Когда Димитрий вступил на Херсонскую кафедру, в Константинополе шла усиленная работа по вопросам реформы в высшем церковном управление Работа эта вызывала, с одной стороны, живой интерес у всего православного востока, а с другой – внутреннюю борьбу партий, объясняемою не столько потребностями времени, сколько унаследованною наклонностью греков к спорам в церковных делах. При русской посольской церкви настоятелем был в это время друг пр. Димитрия, о. архимандрит Петр, о котором была речь впереди. Сначала о. Петр, только по своей любознательности и, пожалуй, по занимаемому посту, с интересом наблюдал текущие события и сообщал свои наблюдения в Россию неофициально. Но затем, по важности современных событий, ему поручено было от Св. Синода представлять чрез обер-прокурора официальные донесения обо всем, происходящем в церковных сферах востока. Состоя в дружественной переписке с Димитрием, архим. Петр сообщал ему откровенно все, что видел и что знал и нередко просил его советов, могущих быть полезным в сношениях с патриархией. Таких советов в ответных письмах Димитрия было немало. Так, например, возвращая о. Петру рукопись (при письме от 25 апреля 1859 г.), он благодарит его за сообщение интереснейших сведений о действиях «константинопольского народного совета», и с своей стороны дает (по содержанию рукописи) такие замечания: «Напрасно, по моему мнению, Владыки спорили удержать за собою одними право избрания патриарха. Законы церковные никогда не запрещали участие светских лиц в избрании на духовные степени, возбранено только избрание одними светскими. По-моему – хорош порядок у армян. По рассеянию повсюду армянского народа, у них избрание патриарха совершается в день годичного поминовения умершего. К этому времени съезжаются в Эчмиадзин от каждой епархии по два депутата – духовный и светский, которые, с членами эчмиадзинского синода, и составляют избирательное сословие. Каждый член и духовный и светский подают на записке имя кандидата. По рассмотрении всех записок в общем присутствие избираются три кандидата, получившие наибольшее число голосов; из них, потом, баллотировкою, избирается патриарх. И просто и беспристрастно! И надо сказать правду, у них бывали выборы отлично удачные... Спасибо, что при выборе митрополитов (греческих) не забыли потребовать мнения от самих епархий... Состав Синода придуман хорошо: только не слишком ли часто (через год) предположено менять членов? Впрочем, там это виднее, чем со стороны. В предстоящем вопросе о жаловании всеми силами им нужно устранить вмешательство турецкого правительства. Потом устроить так, чтобы все получали непременно жалованье, а не поручные доходы». В другом письме он поясняет свое первое замечание: «мысль мою об участии светских Вы не так поняли. Я говорил об участии мирских лиц в избрании на церковные степени, а не в управлении церковном. Это – вещи различные. Первое может быть вредно разве только при особых обстоятельствах последнее и не законно и всегда вредно». Таким образом, в настоящей переписке высказалось не только знание Димитрием положения дел на востоке, но и его личный взгляд на иерархическое устройство вообще.
Донесения архим. Петра Св. Синоду обращали на себя внимание. Было даже предположено поручить ему войти в переговоры с вселенским патриархом по вопросу об установлении более частых сношений восточной иерархии с русским Св. Синодом по церковным делам. Но такой план не был одобрен московским митрополитом Филаретом, который находил более удобным вести такие сношения полуофициальным путем чрез того же настоятеля русской посольской церкви, и для этой цели предложил заменить архим. Петра (письма которого не удовлетворяли Филарета) другим более способным лицом386. Выбор пал на знаменитого впоследствии, полувекового представителя русской церкви на востоке, архимандрита Антонина, который был учеником и потом сослуживцем Димитрия по академии. Близкие отношения, установившиеся между учеником и учителем в Киеве, продолжались во всю дальнейшую их жизнь и поддерживались, хотя не частой, но весьма интересною перепискою, в которой они обменивались своими взглядами и суждениями о судьбах восточных православных церквей387. Преемников Антонина в константинопольской русской миссии был рязанский уроженец, архимандрит Смарагд, который также был в близких сношениях с Димитрием, – проживал у него некоторое время в Одессе и обязательно сообщал ему живые сведения в тяжкие времена греко-болгарской распри.
В численном отношении в составе Херсонской епархии большое преимущество пред греками имели южные славяне, именно сербы и болгары388. Еще в царствование Елисаветы Петровны в России переселились несколько тысяч сербов и болгар, которые положили начало славянским колониям по берегам Днепра, образовавшим впоследствии (1751–1753 г.) целый округ под общим именем «новой сербии». При Екатерине II, когда окончательно присоединен был к России весь южный край, прилив славян настолько усилился, что к 1790 году численность их равнялась 158.000 человек. Новая епархия, открытая в 1775 году в новоприсоединенном крае, наименована была, по воле Императрицы, Славянскою и Херсонскою, и первые епископы ее (природные греки), имевшие пребывание в Новомиргороде и потом в Елисаветграде, титуловались славяно-сербскими. Со временем численность славянских поселенцев-земледельцев в Новороссии значительно сократилась, благодаря условиям жизни, при которых они естественно сливались с русскими жителями и теряли свои национальные особенности; за то в городах, особенно в Одессе, год от году славяне прибывали более и более. Это были торговцы, или люди из привилегированных сословий, преимущественно же – учащаяся молодежь всех званий и состояний. Редкие из них оставались на постоянное жительство в России и принимали русское подданство: большинство ставило себе целью накопить на гостеприимной русской земле возможно больше благ, духовных и материальных, и нести эти блага родному народу. Постоянный прилив болгар, сербов и других славян в Одессу, или чрез Одессу в другие русские города делали этот город важным пунктом для поддержания постоянного общения между русскими и южными славянами. Необходимость и важность такого общения стали глубже входить в общее сознание и сильнее возбуждать сочувствие именно с 50-х годов, когда, с одной стороны, политические обстоятельства и требования века заставляли наших зарубежных братьев чаще и чаще обращать взоры на России, а с другой – в русском обществе окрепли и дали полный расцвет идеи славянофильства.
Преосвященный Димитрий был, если можно так сказать, славянофил от природы. Доброе сердце святителя, воспитанного в любви к церкви православной, находило обильную пищу в делах любви христианской, обращенных к славянам – братьям по вере и крови. Такие дела находились для него еще в Киеве, когда он по званию ректора академии, в своих заботах о студентах – иноземцах полагал главною целью оказывать присылавшим их церквам верную и крепкую помощь, – именно насаждать в юных умах и сердцах живые семена правой веры и здоровый пауки, могущие возрасти в плодотворные дерева на родной почве. А что Киевская академия времен Димитрия действительно оказывала такие услуги единоверным народом, доказательством того служит историческая благодарственная речь студента X курса В. Попеску-Скрибана, которую он произнес на выпускном публичном экзамене и которую один современный историк389 советует каждому иноземцу-студенту заучить наизусть, чтобы твердо помнить, чем они обязаны России и русской духовной школе. – Во время пребывания в Туле пр. Димитрий находился в близких отношениях с лучшим представителем славянофильства А. С. Хомяковым (а чрез Хомякова знаком был и с Киреевским); Хорошо ознакомленный с идеями собеседников-славянофилов, он с своей стороны, в частных беседах с ними, освещал их философская мысли светом своего глубокого богословствования, что несомненно отразилось на сочинениях Хомякова. В Одессе ему уже пришлось стать очень близко к вопросам практического применения славянофильских учений. Здесь многочисленные братья славяне широко пользовались благодеяниями Димитрия, не отказывавшего и в материальной помощи, но больше всего заботившегося о духовном просвещении единоверцев и живой взаимной связи всех славянских народов.
Самую многочисленную в то время колонии славян в Одессе, и вообще на юге России, составляли болгары. Главною причиною первенства их здесь была близость Одессы к границам Болгарии, изолированной от западной Европы и еще находившейся под владычеством турок. При Иннокентии одесские болгары имели в своей среде видных представителей – и в мире ученом и в городском обществе. Они, при содействии знаменитого архипастыря390, учредили благотворительное общество под именем «болгарского дружества». Впоследствии, именно в 1860 г. при Пр. Димитрии, это общество было преобразовано и переименовано в «Одесское болгарское настоятельство», по уставу которого главным попечителем и покровителем общества должен быть архиепископ Херсонский. Цели общества были: снабжать болгарские церкви всем необходимым; заботиться об образовании пастырей; помогать тем болгарам, которые, по любви к науке, прибывают в Россию учиться; помогать лицам, занимающимся сочинениями о Болгарии и подобн.391. Пр. Димитрий, как попечитель настоятельства, оказывал обществу большие услуги, и своими трудами и материальною помощью клиентам общества, особенно же свободным приемом болгарских юношей в одесскую семинарий: бывали годы, когда число учеников из болгар составляло больше 10% всех учащихся в семинарию392. Одним участием в делах болгарского настоятельства, однако, не ограничивались его заботы о православном болгарском народе, который в это время переживал тяжелые испытания, начавшиеся печальною «греко-болгарскою распрею» по делам церковным и сопровождавшиеся невыносимым политическим положением страны. В своих взглядах на политическое положение болгар Димитрий вполне сходился с Иннокентием. Балгарин X. Палаузов, вспоминая свое первое знакомство с Иннокентием, рассказывает, как он при этом случае заявил архиепископу, что еще в 1845 году он отвечал отказом на участие в вооруженном восстании и предлагал своим соотечественникам «учиться и путем образования подготовлять себя к освобождении от ига». «Так и действуйте, отвечал ему Иннокентий, а я вам буду помогать по возможности»393. Почти тоже высказывал и пр. Димитрий в своих частных письмах и в официальных донесениях. В своих суждениях о распре между греками и болгарами он не оправдывал действии далеко зашедших греков, но не одобрял и стремлений болгарских. Вот что, между прочим, он писал (в марте 1859 г.) архимандриту Петру. «Что творят и глаголют константинопольские болгары? Здесь, по возможности, я удерживаю рьяных анти-эллинов. Хорошо было бы, если бы болгары составили в Константинополе общество, которое, оставив споры с греками в стороне, предположило бы себе главною и единственною целью религиозно-умственное и нравственное воспитание болгарского народа. Это лучше и прямее привело бы их к желаемой ими не независимости, – которая и не законна, и не полезна, и по крайней мере слишком преждевременна, – а к нравственной самостоятельности народа, которая возможна и под управлением патриарха». Когда вопрос о греко-болгарской распре поставлен был на обсуждение в Св. Синоде, от пр. Димитрия, как видно, было потребовано мнение по данному предмету. В пространном письме на имя синодального обер-прокурора он откровенно изложил все, что знал и думал о болгарах и греках и об их исторических взаимных отношениях. Очертив в начале письма характер болгарского народного движения, он указывает далее на ближайшие причины возникновения его, на цели и средства к достижению желаемого, и находит все это в основе справедливым и естественным, если бы руководители движения не выходили из пределов должного и не увлекались стремленьем к невозможному. «Кто прав и кто виноват? – спрашивает он. – Те и другие (и болгары и греки) увлекаются страстями и потому впадают в крайности. Горячие головы из болгар мечтают даже о болгарском королевстве с патриархом в Охриде; греки же стремятся огречить болгар, имея в виду затаенную цель – подготовить илотов для будущей империи». «Какие ближайшие следствия вражды? При внутреннем разладе великая опасность грозит со стороны папистов, которые уже наводнили Болгарию своими миссионерами. Многие из болгар, особенно воспитывавшиеся во Франции и Австрии, находят предложение папою унии не только весьма выгодным, но и не противным Вере... Что нам делать? Первее всего действовать в защиту и пользу болгар от их внутренних и внешних врагов, и действовать открыто и твердо, чтобы враги православия не указывали им на мнимую слабость России; но при этом нужно, чтобы наши деятели на востоке были не только искусными дипломатами, но, что особенно важно, деятелями православными, у которых в душе и сердце интересы веры и церкви православной стояли бы впереди всего». Наконец, преосвященный советует, для поддержания православия в Болгарии и сочувствия ее к России, употреблять те же средства, какими располагают там паписты: посылать образованных миссионеров и снабжать их хорошими средствами, чтобы они могли заводить училища, приюты для сирот, больницы и проч...394 – Между тем, распря шла по наклонной плоскости и скоро, как известно, нашла свой нежелательный, но тем не менее неизбежный конец... Как иерарх русской церкви, Димитрий убежденно высказывал, что состоявшееся отделение болгар от Константинопольской иерархии нимало не изменяет и не должно изменять отношений наших ни к грекам, ни к болгарам: великая греческая церковь должна неизменно оставаться матерью для церкви русской; но и новая, автокефальная болгарская церковь должна обязательно стать ее сестрою.
Весьма ясно и наглядно он выражал это убеждение и соответственное ему чувство в своих сношениях с одесскими греками и болгарами. Мы уже видели, в каком тесном общении пребывал Херсонский архипастырь Димитрий с своего греческою паствою; но не меньше он уделял своих симпатий и к болгарам. Всего лучше это высказалось на одном замечательном болгарском празднике. В 1870 г. в Болгарии праздновался тысячелетний юбилей со времени просвещения страны светом Евангелия. Громко откликнулась на этот праздник Одесская болгарская колония, особенно – учащаяся молодежь. В воскресенье, 3-го мая, пр. Димитрий служил по этому случаю в университетской церкви и после литургии говорил проповедь, и в ней-то глубоко раскрыл пред слушателями основы, на которых зиждется братство двух славянских народов – русского и болгарского, и указал, чем обязана Болгарии Россия и чем она может отплатить ей свой долг. «Отчего святая вера Христова, так скоро распространилась и утвердилась в нашем отечестве? Оттого, что церковь болгарская в самом начале у нас христианства передала нам готовые книги не только священного писания и богослужения, но и поучительные и исторические на родном нам славянском языке. Оттого, что слово веры и спасения проповедано нам, и мы научились молиться и славословить Господа – нашею родною речью. Оттого, что книгохранилища Киева и Новгорода, Смоленска, Ростова, Суздаля и других городов скоро наполнились списками книг, как бы самым промыслом Божиим приготовленных для нас. Оттого, что, при обилии заимствованных из Болгарии книг, мудрые князья и пастыри церкви могли скоро завести и размножить повсюду училища для просвещения народа». – «С своей стороны Россия не однократно поднимала оружие в защиту и на освобождение братьев славян; но не настал еще предопределенный премудростью Божиею день их воскресения» ... «Есть, однако, сила, которая может возвышать и человека и целые народы и делать их воистину-свободными: эта сила – истинное духовное просвещение. Этой-то силы ищут теперь единоверные и единоплеменные нам братья наши – болгары. Они ищут просвещения? Не допустим же их увлечься теми блуждающими огнями, которые не приводят к истине, а отводят от нее и заводят в пропасть, и которыми так называемая цивилизация Европы обогащает неопытные умы. Поможем им просветиться тем истинным светом просвещающим всякого человека, который мы заимствовали некогда от них, но который в течение многих веков умножился и расширился у нас трудами великих и досточтимых учителей церкви русской... Они приходят к нам учиться? О, да сохранит Господь и их и нас от того ужасного бедствия, чтобы они, вместо доброго и полезного, не научились у нас чему-нибудь порочному и вредному»395.
Кроме болгар были в Одессе и другие славяне, которые также пользовались услугами и вообще расположением пр. Димитрия. В незначительном остатке писем от разных лиц к Димитрию есть одно письмо митрополита сербского Михаила (возлюбленного ученика Димитриева), в котором он, благодарственно вспоминая время, проведенное под кровом Киевской академии, просит своего бывшего о. ректора принять участие в судьбе одного студента-серба, проживающего в Одессе. Есть в тех же бумагах просьба за какого-то далматинца. – Вообще видно, что пр. Димитрий, живя в Одессе немало жертвовал времени, забот и конечно средств на пользу славян.
В том же 1870 году и на том же болгарском празднике собравшиеся славяне и славянофилы порешили, под влиянием проповеди владыки-Димитрия, соединиться в одно «Одесское славянское общество», чтобы дружнее стремиться к тем же целям, какие поставили для себя подобные общества в русских столицах. И опять через неделю после болгарского юбилея, пр. Димитрий, как почетный член нового общества, является в собрание на открытие общества (14 мая), и опять говорит слово, горячо защищающее славянские интересы и ярко освещающее все славянское дело. Поставив в начале проповеди слово ап. Павла: требованиям святых приобщающеся (Рим.12:13), он так объяснил эту заповедь. «Замечательно, братие, самое выражение заповеди апостольской. Благотворить мы обязаны всем, без различия веры и народности, – не взирая на то, иудей или самарянин, нуждающийся в нашей помощи; но нуждам святых, т. е. единоверных нам христиан, должно приобщаться – соучаствовать в них душою и сердцем, почитать нужды братий своих своими собственными нуждами, страдать их страданьями, скорбеть их скорбью и радоваться их радостью». «Встречаясь ныне, после столь долгой разлуки, славянские народы – эти родные братья часто не узнают и не понимают друг друга. Подадим же им всем руку искренней братской любви, откроем для всех объятия сердца, согретого родственным к ним участием, – рцем: братие и ненавидящим нас, как учит св. церковь!.. Не трудно сближение тех членов славянской семьи, которые сохраняют свято драгоценное наследие свв. учителей Кирилла и Мефодия – православную верую и богослужение, язык и письмена, преданные ими. На наш возглас: Христос воскресе! с радостью откликнутся и серб и болгарин, и словак и хорват и долматинец, и тем же ответом: воистину воскресе! Но в той же семье славянской есть братья, у которых властолюбие Рима давно отняло не только веру православную и богослужение, но и самые письмена св. Кирилла, заменив их в богослужении письменами латинскими. Но и они наши родные, наши братья! Об них-то тем более нам должно скорбеть и болезнивать, чем далее они удалились от нас. Им-то тем более мы обязаны оказать братской любви и родственного сочувствия, чем труднее им воскресить свою народность и приникнуть душою и сердцем к родному семейству славянскому. Прострите к ним руку братской горячей любви и участия, снищите их доверие родственным к ним сочувствиям. Пусть они увидят и уверятся, что есть у них истинные братья и друзья, что православная церковь есть истинная матерь народов, которая не погашает, а взгревает в них любовь ко всему родному и народному»396. Так широко понимал пр. Димитрий идею славянского братства!
Не удивительно, после всего сказанного, что деятельная любовь благостного архипастыря к родным по вере и языку вызывала такую же беспредельную любовь к нему со стороны облагодетельствованных им, прославлявших его имя далеко за пределами Одессы во всех странах славянских... Но вот явление, по-видимому, малопонятное! Какое бы, казалось, может быть соотношение между русским православным архиереем и евреями? А между тем, одесские евреи «нашли (как они выражались) уголок в сердце архиепископа Димитрия». Они, по крайней мере, старались уверить себя и других в том, что пр. Димитрий любил и заботился об них не меньше, чем о других постоянных жителях в его епархии. Не знаем, бывали-ли раньше случаи торжественных чествований евреями архиереев, – приветствий, подношений адресов и вещественных памятников и подобн.; но такое именно чествование имело место при проводах Димитрия из Одессы в Ярославль. Чем оно было вызвано? Частною благотворительностью Владыки и его деятельным отношением к еврейским благотворительным учреждениям в городе. Но важнейшим побуждением к тому послужил особенный, памятный всем евреям, случай – известный еврейский погром в Одессе, который сравнительно благополучно окончился только благодаря влиянию на православных жителей города их архипастыря. Характерный в жизни Димитрия случай этот стоит подробного изложения. Антагонизм между христианами и евреями, корни которого лежат в социальных условиях жизни, всегда и везде переходил в неприязненные отношения непременно на почве религиозной. Так бывало в старину в польско-литовском царстве; так это повторялось и повторяется в городах и местечках русских, преимущественно в южных и юго-западных. В Одессе, где богатое еврейство более явно угнетает христианское население, антагонизм этот часто переходил в открытую вражду и вызывает столкновения. Почти ежегодно, в дни страстной седмицы и христианской пасхи, бывали здесь уличные столкновения между евреями и христианами; но такого большего и необыкновенного по размерам и последствиям, как в 1871 году, еще не случалось. В один из пасхальных дней, в ограде Троицкой греческой церкви, какие-то евреи-фанатики позволили себе оскорбительные для христианского религиозного чувства выражения, что произвело общее смятение в то время, как в церкви совершалось богослужение. Началась ссора, скоро перешедшая в драку, в которой приняли участие многие вышедшие из церкви; евреи с своей стороны усилили свои ряды прибывшими из соседних лавок. Близость базара быстро удесятерила толпу, запрудившую всю Троицкую площадь. Полиции удалось разогнать участников драки и праздных зрителей; но ушедшие с места побоища только разнесли по городу ненависть к евреям и подготовили страшный погром. Не прошло после того нескольких часов, как на некоторых, самых людных, улицах города появились толпы свободных бильдюжников и разных профессий праздного люда из городских окрестностей. Толпы эти, с криками «бить нехристей», врывались в квартиры евреев и разносили все, что попадалось под руку: товар, мебель, посуду и разный скарб, – все выбрасывали на улицу и уничтожали. Сами евреи попрятались в подвалах и погребах, а свои лавки и магазины заперли, и, для своей безопасности, некоторые из них выставляли в окнах православные иконы, желая показать, что здесь жилище православных. Узнанный обман еще больше раздражал разрушителей, которые решили не прикасаться более к евреям и не брать у них ничего в свою пользу, но все их имущество, как неправедно нажитое от христиан, уничтожать и сокрушать. Едва власти и войска успевали остановить разбушевавшуюся толпу в одном месте, как подобные шайки появились в других улицах, на других концах города. Погром, продолжавшийся целых два дня, наконец общими усилиями полиции и благоразумных граждан был подавлен; но волнение длилось и могло снова вспыхнуть и разрастись в большой пожар. Но вот, на третий день появилось во всех газетах и в огромном количестве в отдельных листках, расклеенных по улицам города, «пастырское воззвание архиепископа Димитрия к православным жителям г. Одессы». На сей раз архипастырь говорил с своими пасомыми особым языком; чувство глубокой скорби, причиненной ему грубым оскорблением святой веры, постыдным самоуправством и необузданным своеволием невольно заставляла его высказывать тяжкую укоризну своим чадам и братьям, порицание их малодушию, осуждение их злой воли и строгое призвание к раскаянию преступивших правила христианского благоповедения. «С тяжкою скорбью (так начиналось воззвание) слышали мы, как целые толпы людей, именующих себя православными сынами церкви Христовой, не взирая на святость дней величайшего из торжеств церковных, яко бы во имя святой веры и церкви, а в самом деле к поруганию и посрамлению и веры и церкви православной, буйствовали на площадях и улицах городских, заводя драки и побоища с согражданами своими евреями, разбивая окна еврейских домов, разрушая торговые их лавки и проч... Все оправдания, на который ссылаются нарушители порядков и какие находят они в оскорблении их веры евреями, не могут считаться оправданиями, так как они осуждены учением Самого Иисуса Христа, заповедями апостолов, законами церковными и государственными... Что вы делаете, мнимые защитники веры Христовой? Нагло преступаете и слово Христа Спасителя своего и заповедь апостольскую и закон царственный... Поставьте себя пред зерцалом истинных чад церкви и вы увидите, что ваше буйство и неистовство есть посрамление веры Христовой, бесчестие православной церкви, тяжкое оскорбление имени христианина, осквернение святых дней светлого торжества церковного. Теперь все неверные и иноземцы будут посмеиваться над нами и говорить: вот какова их вера, что на словах они христиане, а по делам хуже язычников. – Горькая мысль о посрамлении церкви и отечества вашим буйством сокрушает сердце наше и приводит нас в стыд пред населяющими наш город иноверцами. Она же была и причиною, почему мы не решились сопровождать крестным ходом чудотворную икону Божией Матери в предназначенный для того день397... Умоляем вас, братия, именем воскресшего Господа, молившегося за распинателей Своих: изгоните из сердец ваших всякую злобу, гнев и огорчение на кого бы то ни было и за что бы то ни было; перестаньте от злых начинаний ваших и от беззаконных дел неразумной ревности... По Христе убо молим вас: примиритеся с Богом! Закончив свое послание настоящим апостольским увещанием, преосвященный ставит под ним особенную, характерную подпись: «Недостойный пастырь ваш, горько оплакивающей несчастное ослепление и заблуждение вверенных ему Богом чад»398.
Бродившие по улицам города участники беспорядков останавливались перед листами, читали их и скоро «приходили в себя». Они не могли теперь не видеть, что их дела – не только не подвиги в защиту веры Христовой, а наоборот преступления против нее, что своим поведением они нанесли бесчестие церкви и тяжелое оскорбление своему архипастырю. Опять стали собираться уличные толпы, но уже другого характера и с другими целями; все громко высказывали желание идти к архиерею и просить прощение себе и неразумным зачинщикам бунта. История еврейского погрома закончилась потом в стенах окружного суда; там почти все подсудимые искренно раскаивались в своих заблуждениях и просили себе помилования, хотя не все избежали наказания. Скорбь, нанесенная душе кроткого архипастыря Димитрия описанным происшествием в Одессе, благодаря добрым плодам его воззвания, скоро миновала и более не возвращалась399.
Но была у него другая скорбь, которая, к сожалению, более и более росла и усиливалась, по той мере, как увеличивалась ее причина – грустное явление, порожденное другими иноземцами и иноверцами новороссийского края. Говорим о штундизме, который, как теперь доказано, получил начало, окреп и развился в немецких колониях Херсонской губернии. Немецкие колонисты, занявшие в прошлом столетии лучшие земли, при необыкновенно-льготных условиях, неимоверно богатели, – не потому только, что были лучшими земледельцами или культуртрегерами, но и – главным образом – потому, что в Россию они принесли с собою немецкое самомнение о превосходстве своей расы и презрение ко всему русскому, преимущественно же к русской вере. К тому же, по приглашению русского правительства, из Германии двигались к нам на жительство большею частию люди нетерпимые дома – разные сектанты: баптисты, анабаптисты, квакеры, меннониты и др.; а люди нетерпимые, по закону психологии, всегда обладают наивысшею нетерпимостью. Вот почему южные колонисты немцы, сами по состоянию крестьяне, были хуже рабовладельцев, ибо прямо убивали души работавших на них русских людей. Ублаготворяя русского работника во всем внешнем, колонист не упускал ни одного случая заявить пред ним свое превосходство в нравственных и религиозных воззрениях; с своей стороны русский простолюдин, благодарный колонисту за хлеб и добрый заработок, невольно соблазнялся – отвыкал соблюдать посты и праздники, и привыкал думать и верить по-немецки. Здесь начало штундизма. Широкое свободомыслие 60-х годов, разлившееся повсюду, и не знавший границ гуманизм светских властей давали прекрасные условия для быстрого развития сектантства; а разные темные люди, «ходившие в народ», постарались возвести штунду в культ антицерковного и антигосударственного учения. Что делала в это время церковная власть? Разумеется, не оставалась безучастною зрительницею. Архив одесской консисторий даст будущему историку веское доказательство постоянной деятельности епархиального начальства и всего духовенства в борьба с сектантами; но условия, при которых приходилось вести эту борьбу, были крайне неблагоприятны. В результате всего епархиальная власть видела и сознавала, что штундизм, несмотря на усиленную борьбу с ним, не сокращался, а напротив год от года усиливался и расширялся: в начале 70-х годов он достиг крайне смелого и дерзкого обнаружения в пределах Херсонской епархии.
Ниже будет помещено одно письмо пр. Димитрия к г. Палоузову, в котором он высказал гадательную причину своего перевода из Одессы в Ярославль, именно – распространение в Херсонской епархии штундизма. Но напрасно Владыка возводил на себя обвинение в слабости и бездеятельности в борьба с сектантами. Дело в том, что ни он сам, ни кто другой, в то время не сознавали ясно, с чем и с кем нужно было бороться. В то время пр. Димитрий, в письме к г. губернатору, мог наивно выражать свое недоумение – «почему прокурорский надзор с своей стороны затрудняется подвергать сектантов штундистов преследованию за преступления, предусмотренный 196 ст. уложения о наказаниях»400, и так же наивно удивляться – почему он на такие важные вопросы не получает никаких ответов. Только теперь, через 25 лет после событий, отчасти уяснено и раскрыто то тяжелое и печальное положение, которое занимало тогда православное духовенство и церковная власть. Вот что недавно писал один серьезный исследователь штундизма. «Иного рода была деятельность главного начальника южно-русского края, новороссийского и бессарабского генерал-губернатора Π. Е. Коцебу, в 70-х годах. Таким начальникам и их прислужникам, вероятно, в значительной степени обязано развитее и укоренение в наших южных губерниях штундизма. Некоторые вожаки штунды свою пропаганду оправдывали тем, что секта их признана-де терпимою самим г. губернатором, что в сельском правлении колонии С. Данциг получено даже предписание: миссионеров и последователей необаптизма не преследовать. Одесский исправник доносил херсонскому губернатору, что один из штундистов состоял дворецким у Коцебу, что при посредстве его Ратушный и Рябошапка, известные вожаки штундизма, имели совершенно свободный доступ к г. губернатору, и что сам Коцебу принадлежит к их секте, что он покровительствует совратившимся из православия в ересь и, считая их лучшими людьми, не одобряет преследования их. Что же могло противопоставить наше бедное, приниженное духовенство, что могла, наконец, противопоставить епископская власть такой колоссальной силе, которая одним почерком пера могла уничтожить все их добрые начинания. Коцебу мог задавить младенца – штунду; но он этого не сделал, – он взлелеял его, и на памяти его, славной во многих других отношениях, это обстоятельство останется неизгладимым пятном»401.
Однажды, поздним вечером, проходила толпа мимо архиерейского дома. Из разговоров простых малороссов была подслушана такая фраза: «та й що нам Кацуба (т. е. Коцебу), коли есть у нас Владыка-Димитрий». Такая речь для слышавшего ее была мало понятна; но в ней заключался глубокий смысл, и недаром в народном сознании сопоставлялись эти два имени современников, архиепископа и г. губернатора. Нет никакого сомнения в том, что нравственный качества херсонского святителя были так высоки и так ярко светили на свещнице, что одни они, если бы и не было с его стороны никаких особенных усилий в борьбе с нечестием, являлись в глазах народа крепким щитом православной веры против всякого неверия и суеверия. Это понимал православный народ; эта чувствовал штундизм; и имя Димитрия произносилось не напрасно. Бог знает, какой-бы оборот приняло дело при лучших условиях, при перемене обстоятельств; но... дожить до того в Одессе Димитрию не привелось, и он оставлял ее в 1874 году с единственною на сердце скорбью об этих несчастных штундистах.
IX
В Одессе, как большом центр, представляются частые случаи к участию архиерея в делах общественных. Из всех случаев участия преосв. Димитрия в общественных делах города и края укажем здесь на некоторые, которым придавала значение современная одесская печать.
а) Старые губернские присутственные места находятся в губернском городе Херсоне. Новые же учреждения, получившие начало во времена реформ при Императоре Александре II, открывались уже в Одесса. Так в 1869 г., апреля 2-го, было открытое новых судебных учреждений – судебной палаты, окружного суда и мирового съезда; а в 1867 г. в Одессе был открыт военно-окружный суд. В обоих случаях Димитрий, приглашенный благословить начало дела, служил молебствия, освящал новые, приспособления к новым учреждениям, здания и сопровождал общественный молитвы поучительными речами, обращенными к судьям402. Об участии его при открытой новой всесословной думы сказано было выше.
б) Городское управление нередко приглашало Владыку благословить начало или окончание важных общественных работ; и всегда в таких случаях оно встречало с его стороны полную готовность и усердие. Например, 4 мая 1863 г. он служил молебствие на поле, где полагалось начало работ по устройству Парканской железной дороги. Еще раньше, он, в сослужении всеградского духовенства, молебствовал среди городских улиц по случаю открытия работ по устройству гранитных мостовых: сооружение это, стоившее городу миллионы, освободило Одессу от исторической едкой пыли. Осенью 1863 г. им же был освящен оконченный Строгановский мост. Участвовал еще пр. Димитрий в открытии новой купеческой гавани, при закладке сети городских водопроводов и при других случаях. Но самым торжественным и важным для Одессы случаем было открытие памятника светлейшему князю, ген.-фельдмаршалу Михаилу Семеновичу Воронцову. Имя князя Воронцова в истории г. Одессы и всего новороссийского края так же знаменито, как имена Потемкина и герцога Ришелье. Историки даже ставят Воронцова выше его предшественников – Де-Рибаса и Ришелье, так как Воронцов, не уступавший им в энергии и заботливости, был истый русский вельможа и действовал в русском духе – с русскими задачами и целями во всех делах управления. Он был новороссийским и бессарабским генерал-губернатором с 1823 по 1844 год, и этот период был самым счастливым для процветания черноморского побережья и особенно для Одессы и южного берега Крыма. После светлейший Воронцов, удалившийся от дел, проживал в Одессе простым гражданином и умер здесь 6 ноября 1856 года. Над его гробом, при виде свежей могилы в кафедральном соборе, говорил красноречивое слово архиеп. Иннокентий. Пред этою же могилою, в день открытия памятника князю (8 н. 1863 г.) говорил слово и Димитрий. Из всех проповедей преосвященного это похвальное слово нужно считать лучшим образцом его ораторского искусства: брать какие-либо отрывки из этой проповеди нельзя; – ее нужно читать полностью403.
в) Преосв. Димитрий застал в Одессе первое высшее учебное заведение Ришельевский лицей, который при нем был преобразован в новороссийский университет. По случаю открытая университета он служил литургию и молебен в бывшей лицейской церкви, говорил слово о значении храма Божия в храме науки и затем присутствовал на первом университетском акте. Отношения его к университету впоследствии были очень близки: почти ежегодно служил он в университетской церкви в день храмового праздника (30 августа), присутствовал на экзаменах по богословию и на публичных актах, посещал собрания ученых обществ при университете – «Одесского общества историй и древностей» и «Общества изящных искусств», который избрали его своим почетным членом. Кроме университета в Одесса в его время было много и других учебных заведений, мужских и женских, разных ведомств и разных специальностей. Некоторые из них (напр. вторая и третья мужские гимназии, одесское реальное училище, мариинское женское училище) при нем были учреждены и при его молитвенном участии открыты. Но особенным вниманием преосвященного пользовался «Одесский институт благородных девиц», состоящий под покровительством Государыни Императрицы. Институт существует здесь с 1834 г. Во время Крымской войны он был выведен в г. Вознесенск и возвращен в Одессу в 1857 году, почти одновременно с прибытием нового архиерея-Димитрия, принимавшего участие в водворении заведения в обновленном доме. Неопустительно каждый год он служил в институтской церкви в дни выпусков воспитанниц старшего класса и неопустительно каждый раз напутствовал выпускных воспитанниц своим поучительным словом. В 1867 году институтский праздник (15 июня) отличался особенною торжественностью, так как в этом празднике, по случаю 50-ти-летнего юбилея института, принимала личное участие Высочайшая покровительница, Императрица Мария Александровна. Преосв. Димитрий удостоился в эти дни дважды приветствовать Государыню и служить в Ее присутствие.
г) Всего ближе к сердцу благостного архипастыря были богоугодные учреждения и разные благотворительные общества, которыми Одесса изобиловала издавна. Кроме обязательного для архиерея, и принятого везде, участия в тюремном комитете, в звании вице-президента, – а в Одессе еще в комитете так называемых когановских учреждений, в том же звании, – пр. Димитрий был членом и постоянным участником почти во всех городских благотворительных учреждениях. Ближе других у него были отношения к стурдзовским заведениям, получившим, с Высочайшего соизволения, такое название в память известного политического деятеля и одесского благотворителя Александра Скурлатовича Стурдзы, которому принадлежала мысль и первый заботы об устройстве их (в 1848–1850 годах); по его ходатайству этим учреждениям дано было прочное обеспечение пожертвованиями от Императриц Александры Федоровны и Марии Александровны и от Великих княгинь Марии Николаевны и Елены Павловны. Стурдзовские учреждения состоят из а) богадельни, б) больницы и в) общины сестер милосердия. В 1866 году при богадельне устроена церковь. Преосв. Димитрий сам полагал основание этой церкви, освящал ее404 и потом нередко служил здесь в храмовой праздник, или в дни, назначенные для возложения крестов на сердобольных сестер, всегда благоговевших пред лицом кроткого и учительного Владыки405. – Затем следовала группа (6) учреждений, находившихся в ведении «Одесского женского благотворительного общества», которое также пользовалось услугами и жертвами преосвященного. Общество это образовалось в 1835 году и, благодаря попечительности высоких гражданок Одессы (княг. Воронцовой, кн. Барятинской, Шостак, Шевич, Гурко и друг.), широко ставило задачи благотворительности, хотя не всегда соображалось с своими средствами. Пр. Димитрий часто помогал учреждениям общества, особенно «Благовещенскому сиротскому дому», при котором находилась церковь общества и «странноприимный дом». Последний, до устройства Афонского подворья, был единственным местом временного пристанища для всех наших паломников, которые по необходимости проживают в Одессе по несколько дней, чтобы выправить заграничные паспорта для следования на Афон или в Иерусалим. Случалось, что за недостатком места в странноприимном доме, богомольцы с разрешения преосвященного, помещались и в архиерейском доме. – Были еще в Одессе городские богоугодный заведения: городские богадельни, больница и городское попечительство детских приютов; были также частные благотворительный общества, – например, «Общество Красного Креста», «Общество помощи бедным города Одессы», «Общество ночлежных приютов», «Общество покровительства животных» и под. Все они так или иначе привлекали к своему делу щедрого архиепископа, который никогда не отказывал в посильном участии. Сколько преосв. Димитрий жертвовал из своих средств на дела общественной благотворительности, определить трудно; но что пожертвования были постоянные и многочисленные, на это между прочим указывают оставшиеся в его бумагах различные дипломы на звание почетного члена, отчеты обществ, благодарственный официальные письма и даже простые приглашения доставить за известный срок «свой членский взнос». Недостаточность денежных жертв он старался вознаградить личным участием и возможным услаждением жизни тех бедных и несчастных, ради которых устраивались самые общества и их учреждения. С особенным удовольствием он принимал приглашения служить в домовых церквах при богоугодных заведениях, и всегда приносил с собою истинный праздник для обитателей этих заведении. Его умилительные возглашения молитв, его задушевный поучительные слова – вливали отраду и утешение в сердца бесприютных сирот или немощных старцев, – больных и странных или тюремных заключенников.
д) Наконец, сам преосв. Димитрий считал общественным делом заботы о благолепии и украшении городского кафедрального собора. Преосвященный любил этот величественный храм за его широкий простор, за обильный свет, за изящную архитектурную простоту. Одесское духовенство замечало, что нигде Димитрий не произносил своих проповедей так свободно и воодушевленно, как в Преображенском соборе. Сам он нередко приходил уже к мысли и высказывал свою мысль, – что в этом храме готовится место его последнего упокоения. Все это заставляло Владыку заботиться о соборном храме и побуждать к украшению его городское общество. Замечательно, что одесская городская дума, не раз отказывавшая преосвященному в пособии на украшение городского собора, под конец его пребывания в Одессе оказала необыкновенную щедрость и отчислила крупную сумму на капитальный ремонт собора. Ближайшим, однако, поводом к тому послужил следующий печальный случай.
В ночь с 28 на 29 февраля 1872 года какой-то дерзкий святотатец при посредстве поддельных ключей проник в кафедральный собор и поднял руку на главную святыню всей Херсонской страны – чудотворную Касперовскую икону Божией Матери. Вынув икону из киота, вор похитил ее вместе с драгоценною ризою и, нетронув ничего больше, скрылся из собора. Страшное исчезновение святыни, совершившееся в дни великого поста, глубоко поразило всех православных жителей города; больше же всех поражен был архиепископ, который недоумевал – чем объяснить таковое попущение Божие, – тем более тяжелое для него, что сам он был виновником разрешения на ежегодное перенесение чудотворной иконы из Касперовки в Одессу. Все, самые тщательные и строгие розыски полиции не увенчались успехом: святотатство не могло быть открыто. Но Бог поругаем не бывает: чудотворная икона скрыта была от глаз верующих только в течение трех недель. «20-го марта преосв. Димитрий, вместе с городским духовенством, находился почти целый день в кафедральном соборе в ожидании Их Величеств, проезжавших чрез Одессу в Крым. В шестом часу пришло известие, что их Величества, за поздним временем, из вокзала железной дороги проследовали прямо на пароход для дальнейшего путешествия. И тотчас же полицейский пристав принес в собор и представил его высокопреосвященству святую икону Божией Матери, найденную зарытою на приморской даче г. Доната. При чем, по его заявлению, там же, в земле под иконою, найдены завернутые в салфетку большой ключ и стамеска – орудие преступления. При первом же взгляде все присутствовавшие в соборе убедились, что это есть подлинная чудотворная Касперовская икона Богоматери, только без драгоценной ризы. Очевидными признаками подлинности были: 1) хорошо известные изображения ликов и самая доска, на которой писана икона, 2) маленькая золотая дщица, которою был покрыт, отдельно от ризы держимый рукою Богомладенца свиток, 3) лист слюды, покрывавший живопись и 4) малиновый бархат, покрывавший тыльную сторону иконы. Радость была великая и всеобщая. Тотчас же икона, по положении на нее ризы, взятой с копии, поставлена была в киот и перед нею совершено благодарственное Господу Богу молебствие, с добавлением прошений о благополучном путешествии Государя Императора с Августейшим семейством. Затем составлен был акт о событии, для донесения Святейшему Синоду, и сделано постановление воспоминать ежегодно обретение св. иконы празднованием 20-го марта. Следующий воскресный день назначен был для всенародного принесения благодарственных молитв Богу по случаю такого радостного события. Народу в этот день в соборе было больше, чем в самые большие праздники; вместе с простым народом принимали участие в молитвах и все городские власти с генерал-губернатором во главе. По окончании литургии и пред началом молебна преосв. Димитрий обратился к многолюдному собранию с проповедью. Но прежде, чем пригласить слушателей к радости и благодарности Богу, архипастырь изливает в этой проповеди всю горечь наболевшего сердца. Настрадавшись в эти дни не столько от сознания утраты дорогого сокровища, сколько от доходивших до него темных слухов, измышленных праздными людьми, о разных предположениях и ложных причинах сокрытия святыни, он грозно и сильно укоряет и обличает этих злоязычных и самозваных судей, распространявших по городу, устно и письменно – в подметных письмах, клевету и обвинение на всех, начиная с священнослужителей собора до последнего иноверца из евреев. И только в заключении речи архипастырь указывает на отрадный луч света, светящий в той же среде его паствы: он благодарственно взывает к тем избранникам, которые «во всяком граде составляют семя святое и ради молитв которых Господь прилагает гнев на милость, явив и ныне новое непререкаемое чудо в необыкновенному обретении всечестной иконы Царицы Небесной»406. Растроганные и умиленные слушатели благодарили по окончании службы своего Владыку и просили его принять жертву граждан – благословить их устроить новую ризу на чудотворный образ.
Случилось, что перед самым событием похищения Касперовской иконы начато было ходатайство преосв. Димитрия о полном и всестороннем обновлении собора. Еще раньше при нем производился в соборе ремонт, и не один раз. Так в 1859 году, после тщательного осмотра собора особым техническим комитетом, определившим безопасность трещин в стенах колокольни, производились штукатурный и малярные работы внутри собора; в 1863 г. произведена наружная окраска стен и кровли; в 1866 г. обветшавшие рамы во всех окнах заменены новыми. Но в 1872 г., по указанию архиепископа, особым комитетом составлена была смета полной реставрации собора, требовавшая на выполнение всех работ не меньше 30 тыс. рублей. По примеру Иннокентия (которому, при содействии начальника края кн. Воронцова, на подобное обновление храма в 1849 г. отпущено было из городских сумм около 40 т. р.), преосв. Димитрий представил в городскую думу составленную смету, с объяснением неотложности перечисленных работ и с указанием на обязанность городского управления заботиться о должном содержании общественных зданий, в числе которых по справедливости должен занимать первое место городской собор. «Несмотря на трудное время для городской кассы, говорить современная хроника, по предложению городского головы Новосельского дума ассигновала на обновление собора 31 тыс. и назначила строительную комиссию, которая окончила порученный работы в течение одного года»407. Обновление состояло в позолоте всех иконостасов, киотов и люстр, в исполнении лепных работ на потолках, колоннах и карнизах, в расписании собора внутри так называемыми тонами и золотом, в пополнении утвари и ризницы, «как добросовестно исполнялись работы, можно судить по тому, что и к торжественному празднику столетнего юбилея Одессы в 1894 г. внутренний вид собора (кроме главного иконостаса, замененного при архиеп. Никаноре мраморным) неизменно оставался тот же, какой он получил при Димитрий в 1872 году408. Завершением полного обновления собора было возложение новой ризы на Касперовскую икону Божией Матери, совершившееся 24-го марта 1873 г. – через год после обретения похищенной иконы. Накануне праздника Благовещения преосв. Димитрий участвовал в служении всенощного бдения в кафедральном соборе. Во время пения полиелея на средину храма принесли из алтаря новую ризу и положили ее на приготовленном аналое; затем два протоиерея подняли с постоянного места чудотворную икону и также принесли на средину храма. Сам преосвященный, окропив св. водою ризу и прочитав молитву Небесной Заступнице града и страны, возложил драгоценный дар своей паствы на святую икону409. «Так, в третий раз со времени учреждения епархии, обновлению одесского кафедрального собора благословил Господь совершиться в благостное управление Херсонскою паствою преосв. Димитрия, третьего архиепископа Херсонского»410.
X
В частной жизни преосв. Димитрия в Одессе не произошло ничего такого, что отличало бы ее от прежней: та же скромность и уединенность были отличительными ее чертами и здесь, – хотя обстоятельства времени и места не могли не оказать своего влияния в этом отношении. Особенно после возвращения преосвященного из Петербурга стали замечать за ним большую потребность в обществе и расширении сферы сношений с людьми общества. Отчасти это объясняется его усиленною деятельностью в первоодесский период жизни, и отсюда – необходимостью сближения с другими деятелями. Много значило и особенное положение Одессы, в сравнении напр, с Тулою. Одесса всегда была резиденцией генерал-губернаторов Новороссийского края; здесь сосредоточивались нити обширного управления; генерал губернаторский дом, соблюдавший придворный этикет, был центром административной и общественной представительности. Преосв. Димитрий бывал не редким гостем в этом доме. Обыкновенно, в высокоторжественные царские дни, равно как в особенные городские праздники, вместе с другими властями, к парадному столу у генерал-губернатора приглашался и архиепископ. Близкие же, дружественные отношения Димитрия почти ко всем, бывшим при нем, начальникам края411 вызывали на такие же близкие сношения и во всякое другое время. Служебный отношения завязывали знакомства и с другими начальственными лицами, напр. с одесским градоначальником, херсонским губернатором, командующим войсками округа, одесским градским головою. Все эти лица посещали Владыку Димитрия и по требованиям службы и в урочные праздничные дни. С своей стороны Владыка не заставлял долго ждать себя с ответными визитами, а по частным приглашениям не отказывался, без уважительной причины, и от нарочитых посещений412.
Особенно симпатичною чертою в характере преосв. Димитрия была любовь и расположение к своей братии – к духовенству, и особенно ярко выделялась эта черта в его отношениях к духовенству одесскому.
Ближайшие его сотрудники по епархиальному управлению – преосвященные викарий постоянно жили в Херсоне; но, несмотря на отдаленность от Одессы, все служившие при Димитрии викарные архиереи находились в очень близких к нему отношениях, и не только служебных, но и личных. Немногие, найденный в бумагах преосв. Димитрия, письма его викариев полны искреннего выражения их сыновных благодарных чувств и достаточно ясно показывают, что сам высокопреосвященный старался приблизить к себе своих помощников и, ценя их личные достоинства, во всем приравнивал себя к ним. По прибытии на Херсонскую кафедру он застал здесь викарным пр. Поликарпа, которого прежде привык уважать, как друга Иннокентиева и как известного уже благочестивого архиерея. Затем, после кратковременного пребывания здесь преемника Поликарпова – пр. Антония (Смолина), викарием Новомиргородским назначен был почтенный, принесший отечественной церкви пользу на разнообразных поприщах служения, – старец Софония. Девять лет прослужил он с Димитрием и, можно сказать, сошелся с ним до близких, дружественных отношений. Причиною близости было некоторое сходство характеров: оба они, и Димитрий и Софония, были сами откровенны и не терпели лжи в других; оба любили русскую простоту и старину. В 1871 году пр. Софония перемещен на кафедру Туркестанскую; но сношения его с Димитрием не прекратились: переписка продолжалась до самой смерти Софонии (1877 г.). В своих сношениях с туркестанским епископом преосв. Димитрий показывал даже другим пример благодарной памяти. В 1877 году в Одессе праздновали 50-летний юбилей архиепископа Платона. Пославши своему другу (Платону) из Почаева приветствие и благословение, Димитрий поздравляет в частном письме и одесское духовенство с юбиляром и, за этим поздравлением, приписывает: «А вспомнили ль при этом, хотя херсонцы, о преосвященном Софонии, который, по академии, товарищ преосвященному Платону и которому также совершилось пятидесятилетие служения? Я с своей стороны вспомнил об нем и послал ему икону». Преемником пр. Софония в Херсоне был пр. Нафанаил, которого в помощники себе избрал сам преосв. Димитрий, как ученика по академии и человека близкого по землячеству и даже по дальним родственным отношениям: взаимные отношения их в Одессе были проникнуты отеческими и сыновними чувствами.
Таким же расположением и такою же отеческою любовью отличались отношения преосв. Димитрия к городскому духовенству: ему нравилось в этой среде не только образованность и благоразумное отношение к делу, но и особенный склад жизни. В беседах с приезжими родственниками и земляками он обыкновенно хвалил свое одесское духовенство, указывая на отсутствие грубых нравов и привычек, наблюдаемых им в великороссийском духовенстве. Расположение же его высказывалось в близких искренних отношениях к протоиереям и священникам при всяком удобном случае. По примеру Иннокентия он продолжал щедро награждать за усердную и полезную службу, так что представляемые им в Св. Синод наградные списки были не короче Иннокентиевских; получаемые же знаки отличий он самолично раздавал или возлагал на удостоенных при особо торжественной обстановке, пред лицом многолюдных собраний, наприм. на актах в женском епархиальном училище или в семинарии. Ради же такой высокой награды, как Высочайше пожалованная в 1867 году протоиерею Павловскому митра, он даже нарочито служил (28 января) в университетской церкви, чтобы пред всем ученым собранием собственноручно украсить главу уважаемого профессора богословия, который с своей стороны, в знак признательности своему архипастырю, отвечал трогательною речью413. Кроме обыкновенных, праздничных посещений настоятелей церквей, в которых преосвященный служил, он не отказывался быть гостем у старших представителей городского духовенства в дни их семейных праздников. Но что особенно было трогательно, это готовность, с которою он сам вызывался послужить своим умершим сослуживцам отданием тем последнего долга – участием в заупокойных богослужениях и в проводах к месту последнего упокоение. Так, в 1872 г., окт. 18, при похоронах настоятеля Михайло-Архангельской церкви, протоиерея П. Г. Казанского, преосвященный служил литургию и отпевание и проводил покойника до могилы414. По смерти благодетеля для всей епархии – настоятеля херсонского собора, протоиерея Перепелицына преосвященный в письме к викарию высказывал свое крайнее сожаление о том, «что не мог сам лично предать земле тело достойного всякой памяти милостивца и труженика». – Когда умер (в 1873 г.) настоятель Одесского кафедрального собора, протоиерей И. Знаменский, пр. Димитрий находился, по обзору епархии, в Херсоне, а телеграмму о смерти о. протоиерея получил уже на пути из Херсона в Бизюков монастырь. «Преосвященный высказал желание немедленно возвратиться в Одессу; а так как пароходного рейса к этому времени не случилось, то он решился ехать сухим путем. Несмотря на усталость от 17-ти часовой езды и поздний приезд в Одессу, беспримерный наш архипастырь (говорит составитель некролога прот. Знаменского) на другой день сам лично совершал литургию и погребение, и проводил настоятеля своего собора на кладбище, где закончил свои молитвы об усопшем в четвертом часу пополудни»415. – Прощаясь с одесским духовенством в 1874 году, при отъезде в Ярославль, пр. Димитрий уверял всех в своей неизменной любви к ним и обещал навсегда сохранить память о них в своем сердце. И это не было одним словом обещания без исполнения! Почти все его письма (к соборн. прот. Запольскому и другим) из Ярославля и Житомира заканчивались такими приписками: «кланяйтесь от меня всем соборянам и всем вообще отцам одесским, которых помню и люблю и о которых всегда с приятностью вспоминаю»; или – «кланяйтесь от меня о. протоиерею (т. е. кафедральному) и всем соборянам, а также всем оо. протоиереям и иереям одесским» (1876 г.) – «Кланяйтесь всем соборянам и всем духовным и мирянам одесским, кого-только встретите» (1878 г.). Иногда такие поклоны пересылались с поименным перечислением – о. ректора, о. кафедр. протоиерея, о. ключаря и многих других; а в одном письме он просит у всех извинение: «многие, думаю, на меня сердятся за то, что не отвечаю на поздравительные телеграммы. Но живу далеко. Отвечать запоздалою телеграммою – стыдно, а писать – откладывается день за день. Уверьте, что это не мешает мне всех помнить и любить от искреннего сердца, и всем помнящим меня быть благодарным всею душою».
Жил преосв. Димитрий почти постоянно, и зимой и летом, в самой Одессе. Архиерейская дача в Дальнике, устроенная пр. Иннокентием и стоившая ему многолетних хлопот и немалых денег, не представляла удобств, несмотря на свои сады и рощи, редкие в окрестностях Одессы: расположенная в безводной степи, за 14 верст от города она сообщалась с ним только простою грунтовою дорогою, страшно пыльною в сухое летнее время, когда часто нужно было ездить в город. Успенский монастырь, что «на Большом фонтане», при том же недостатке сообщения с городом, не имел при том и хорошего помещения для архиерея. Была еще «архиерейская экономия» на Коцурубе, где-то около Очакова, но ее, кажется, никто из архиереев не посещал. Редкими и завидными дачными качествами обладает, приписанный к одесскому архиерейскому дому, Григориев-Бизюков монастырь. Расположенный на высоком берегу Днепра и окруженный холмами, покрытыми густою растительностью, он отличается красотою местоположения, прекрасными климатическими условиями и всеми удобствами. Но монастырь этот отделяет от кафедрального города добрых две сотни верст, и тем самым делает его бесполезным, как дачное место. Преосв. Димитрий проживал там иногда около недели, но не больше. Все, однако, недостатки в дачных потребностях отчасти выкупались удобным местоположением городского дома, который главным фасадом выходит на аристократическую Софийскую улицу, а усадьбою – на Приморский берег. Для Димитрия особенно важно было последнее: обширный и хорошо устроенный сад, расположенный на высоком берегу и служащий как бы продолжением лучшего в городе места – приморского бульвара, давал уютное и полезное место для прогулок, которыми преосвященный дорожил, как необходимыми для поддержания здоровья.
В материальном отношении положение архиерейского дома и самого архиерея в херсонской епархии во времена Димитрия было весьма удовлетворительно. Главным источником средств был Бизюков монастырь; но и казенные оклады здесь, в сравнении напр. с Тулою, были значительно выше. Кроме того, во время уже архиерейства Димитрия, два раза это положение улучшалось: в 1859 году к личному содержанию архиерея (1085 р. 70 к.) от казны прибавлено было пособие в 800 р.; а в 1861 году, за прекращением назначения штатных служителей, по случаю освобождения крестьян, херсонскому архиерейскому дому на наем служителей назначено 5.800 р. Впоследствии сам преосв. Димитрий, бывший уже Волынским, рекомендовал (в 1877 г.) так одесскую кафедру Платону, когда тот, по поводу предположенного ему перемещения из Новочеркасска в Одессу, обращался к своему другу за советом. «Дом архиерейский в Одессе хорош и поместителен; – кроме шести тысяч отпускаемых казною на содержание дома, не меньше получается и от разных арендных статей. Жалованье архиерею, правда, как и везде, небольшое; но под его настоятельством состоит Бизюков монастырь, во владении которого 25.000 десятин земли и он может доставить настоятелю до десяти тысяч рублей. В этом отношении одесскую кафедру, после митрополий и разве еще воронежской, можно считать первою».
Что же, однако? Обладали, ли лишним достатком сам Димитрий, когда занимал эту кафедру? Нет! Эти тысячи, получаемый здесь, так же легко проходили у него сквозь, руки, как и сотни рублей в Туле. Разница была только в том, что здесь к милостивцу-архиерею в известные сроки обращались, и лично и письменно, не десятки нищих, как в Туле, а сотни лиц разных званий и состояний, наделять которых мелкою монетою не находил удобным и приличным сам раздаятель милостыни. Как легко и скоро выходили у него в Одессе деньги, достаточно указать на один из многих подобных примеров. Когда преосв. Димитрий собирался из Петербурга в Одессу, то брат Матфий Иванович, снабжавший его прогонами, между прочим вручил ему достаточное количество золотых полуимпериалов, назначая их для раздачи, в виде ценных подарков, близким людям. Большинство этих золотых действительно и были розданы преосвященным на родине собравшимся в Лучинске родственникам; но оставалась еще не малая часть, которая довезена была до Одессы и, в присутствии некоторых близких лиц, отложена как бы «на случай». Не прошло однако трех недель, как в одно утро сам Владыка обратился к пришедшему по делам о. кафедральному протоиерею с такою речью: «не достанете ли мне сегодня рублей 50? – деньги крайне нужны, а в доме ни копейки». – «Как, Владыка, а где же те золотые, которые вы привезли из Петербурга?» – «Сам не знаю: должно быть, покрали у меня». На самом же деле никто не крал и не брал заветного золота, а сам же Владыка – как это потом стало известно, раздавши остатки от дороги, с легким сердцем раздавал затем и золотые обыкновенным ежедневно являвшимся к нему, просителям – кому один золотой, кому два и больше. Так-то и всегда уходили из его казны всякие суммы, и расходные и отлагаемые «на случай».
Между тем именно в Одессе преосв. Димитрию нужны были деньги и немалые. Имя его, как щедрого благотворителя, сделалось известным в самых отдаленных уголках России. Многочисленные общества, благотворительные и ученые, равно как и частные лица, буквально заваливали его письменными прошениями, отношениями, письмами и приглашениями принять участие в таком или другом деле благотворительности416. Всякий раз, когда получалась такого содержания бумага, преосв. Димитрий, если у него случались деньги, сам писал ответ и посылал посильную лепту на доброе дело; а в таких случаях, когда официальные бумаги, вместе с извещением об избрании высокочтимого архипастыря почетным членом или покровителем, ясно напоминали ему о главной членской обязанности, – если бы и не было дома денег, то нужно было, но мнению преосвященного, непременно их достать и послать. Эта статья расходов настолько была широка и неопределенна, что границами ее можно было поставить только границы самого имущества.
Но у преосв. Димитрия, во время его пребывания в Одессе, была другая настоятельная нужда, требовавшая также денег; это – заботы его о бедных родственниках и особенно о воспитании сирот – детей своих родных сестер. Уезжая из Тулы, преосвященный объявил своим родным, что теперь, к сожалению, он не может выполнить данного обещания относительно помощи в воспитании детей, так как едет в далекий край, куда сами родители не согласятся отпустить своих сыновей и дочерей. Родные хорошо понимали, что главным побуждением к такой отмене обещания со стороны преосвященного была его боязнь обвинений в непотизме, и осмеливались просить его за своих детей; но Владыка на сей раз был тверд, и действительно никого из родственников не взял с собою в Одессу. Не прошло однако трех лет, как сам он отменил свое строгое решение и стал приглашать родственников в Одессу. Поводом к тому послужили большие перемены и тяжелые обстоятельства в жизни самых близких родственников преосвященного. Еще во время пребывания его в Петербурге овдовела его старшая сестра; тогда же, проездом из Петербурга преосвященный предложил сестре прислать к нему одного из троих мальчиков, а впоследствии взял на свое попечение и остальных двух. Через пять лет после того овдовела так же и другая, младшая сестра; вместе с тем окончательно разорилось родное гнездо в Лучинске. Как только узнал преосв. Димитрий о смерти лучинского зятя, которого, разбитого параличом, едва успели вынести из страшного пожара, он, под впечатлением горестного известия, поспешил послать сестре приказ – «немедленно забрать всех ребят, и учащихся и неучащихся, и ехать к нему в Одессу на постоянное жительство». Не задолго до того скончалась (6 февр. 1869 г.) мать преосвященного, старица Наталья Семеновна, на 81 году от рождения. На могилах родителей, иждивением преосв. Димитрия и его брата, поставлен Белый мраморный памятник, который остается единственным теперь вещественным памятником на родине Муретовых.
Кроме трехлетнего отсутствия из Одессы по случаю присутствования в Св. Синоде, преосв. Димитрий четыре раза выезжал за пределы херсонской епархии. В первый раз он ездил в Киев в 1869 году на юбилей академии, о чем была уже речь раньше. В другой раз, в августе 1873 г., он был опять в Киеве, на юбилее митрополита Арсения. Юбилейное празднество это отличалось торжественностью, не потому только, что в числе многочисленных почитателей юбиляра было десять иерархов, но особенно по тому откровенному и сердечному выражении чувств, какое высказывалось здесь в оценке личных качеств и заслуг почтенного старца. И едва ли не самым сердечным и теплым было выражение взаимных чувств учителя и ученика – м. Арсения и архиеп. Димитрия. В своей приветственной речи преосв. Димитрий напомнил старые отношение к своему о. ректору с глубокою благодарностью. «Как человек, говорил он, обязанный всем, что был и есмь доселе, одному из мудрых прозорливых и, как верую, вдохновенных Духом Божиим – распоряжений ваших417 от всей души благодарю Господа, сподобившего меня в этот знаменательный день выразить пред вами чувство искренней, всесердечной, сыновней благодарности, которое свято хранил я, в глубине своего сердца, в продолжение всей моей жизни, свято сохраню и до смерти, – которого, надеюсь, и самая смерть не изгладит из моего сердца. Да воздаст вам Господь, по богатству щедрот своих, за все добро, которое вы сделали, в течение этого, полного добрых дел, полстолетия, не мне одному, а тысячи подобных мне». В немногих словах, сказанных в ответ на эту речь, м. Арсений замечательно верно и полно охарактеризовал открытую душу своего бывшего ученика. «Ваше приветствие, говорил митрополит, если бы вы и не произносили его сами, я совершенно верно и во всей силе и полноте понял бы, так сказать, по инстинкту: Ваша добрая и благородная душа всегда была для меня открытою; я мог и могу читать в ней и без письмени». Затем, в марте 1871 г., по назначении Св. Синода, преосв. Димитрий ездил в Кишинев для погребения архиепископа кишиневского Антония (Шокотова † 13 марта 1871 г.), бывшего своего профессора и потом сослуживца по киевской академии; на этих же похоронах он в последний раз виделся и вместе служил с своим товарищем-другом, преосв. Петром, викарием аккерманским († 10 окт. 1873 г). Наконец, в 1873 г., по приглашению архиеп. Гурия, Димитрий был в Симферополе на торжестве открытия таврической семинарии. Торжеством этим закончилось отделение таврической епархии от херсонской, и архиепископ Херсонский, передавая бывших воспитанников своей семинарии на попечение другого архипастыря, вместе с пожеланием им добрых успехов, выразил надежду, что они не останутся неблагодарными прежней своей матери-школе, и в будущем послужат живым звеном в жизни двух соседних церквей, много лет составлявших одно целое. Была еще одна попытка к путешествию преосв. Димитрия, которую следует здесь отметить как выражение последних на земле взаимных отношены двух современных святителей. В 1867 году в Москве праздновался юбилей митрополита Филарета. Преосв. Димитрий выражал живейшее желание принять участие в светлом всероссийском торжестве; но не осмелился просить отпуск и ограничился посылкой пространного письма-адреса, доставление которого вместе с списком иконы Касперовской Божией материй поручил одесскому викарию, преосв. Софонии, и представителю городского духовенства, протоиерею М. К. Павловскому. На приветствие херсонского архипастыря с паствою м. Филарет отвечал теплым благодарственным письмом (от 24 авг. 1867 г.); а вскоре не стало самого московского первосвятителя. По первому известию о смерти Филарета преосв. Димитрий служил панихиду в кафедральном соборе 24 ноября; а затем, в определенные дни поминовений (1-го и 8 декабря и 29 января), вместе с городским духовенством, совершал заупокойные литургии и панихиды418.
Долголетнее служение преосв. Димитрия херсонской пастве, его полезные труды на благо пасомых, равно как и высокие личные качества, постоянно обращали на себя внимание высшего церковного управления и награждаемы были Монаршими милостями. После возведения его в сан архиепископа (1860 г.) и сопричисления к ордену св. Владимира 2-й степени (1862 г.), еще во время пребывания его в Петербурге, – в Одессе он был удостоен сопричисления к ордену св. благоверного князя Александра Невского (16 апр. 1867 г.) и пожалования алмазных знаков того же ордена (28 марта 1871 г.). Высочайшие грамоты и рескрипты, коими изъявлялись ему Монаршие милости, в совершенной полноте и справедливости выражали и заслуги и добродетели кроткого архиепископа херсонского. «В многолетнем вашем служении – говорилось ему с высоты царского трона – Мы, к душевному утешению нашему, видим обильные плоды управления весьма попечительного, просвещенного и благотворного для церкви. Вашим вчинанием и личными заботами изысканы способы к возвышению средств содержания и внутреннего благоустройства духовных училищ в епархии; заведения для воспитания и призрения сиротствующих семейств и детей духовенства получают постепенно большее и обширнейшее развитие; паства путеводится ко спасению ревностно, в духе веры и истинной любви Христовой, постоянно назидаемая и вашим словом и высокими образцами украшающего вас благочестия, при отеческом участии в нуждах каждого из духовных чад ваших»...419 «Святительское служение ваше, справедливо снискавшее вам общую любовь и уважение пасомых, постоянно украшается деятельностью истинно-полезною для церкви. В духе христианской любви и кротости руководя паству ко спасению и утверждая ее в правилах веры и благочестия словом назидания и примером собственной жизни, вы с неустанною ревностью заботитесь об утверждении благосостояния вверенной вам епархии и состоящих в ней духовно-учебных заведений и принимаете живое участие в облегчении положения бедных и сиротствующих семейств духовенства»420.
Казалось бы, что узы, так тесно связывавшие архипастыря с паствою, должны были оставаться неразрывными до конца; но Промыслу Божий угодно было разлучить архиепn- скопа Димитрия от херсонской паствы на продолжительное время.
XI
Перевод преосвящ. Димитрия из Одессы в Ярославль был неожиданным для многих и – правду сказать – совсем нежелательным как для херсонской паствы, так и для самого архипастыря.
«К 21-му сентября (1874 г.), ко дню ангела Высокопреосвященнейшего Димитрия, Одесса получила печальное известие о том, что горячо любимый и глубоко чтимый ее архипастырь перемещается в Ярославль. Долго не хотели верить слухам, хотя они исходили из верных источников. Газетные известия подтверждали эти слухи; но на этот раз преданной пастве хотелось менее всего верить газетным сообщениям. Скоро стало несомненным, что уже состоялось постановление Свят. Синода о таковом перемещении Владыки»421. Сам же преосвященный, на своих именинах, пред собравшимися гостями высказал недоумение относительно своего перемещения и сожаление о предстоящей разлуке с возлюбленной херсонской паствою. Общее грустное настроение побудило одесских граждан решиться даже на чрезвычайную меру, чтобы удержать у себя любимого архипастыря – на ходатайство пред Государем Императором. Обстоятельство это подробно изложено в «воспоминаниях» г. Палаузова422. «Жители Одессы, говорится в этих воспоминаниях, были крайне опечалены известием о перемещении преосвященного. Городское общественное управление, в виду всеобщего огорчения, назначило экстренное собрание Городской Думы, которое единогласно постановило отправить депутацию и адрес к Государю Императору в Ливадию со всеподданнейшею просьбою об оставлении преосвященного Димитрия навсегда в Одессе. Эти было 26 сент. 1874 г. На меня, как на гласного, собранием возложено было поручение немедленно отправиться из заседания к преосв. Димитрию для доклада о последовавшем единогласном решении думы и для извещения последней об ответе Его Высокопреосвященства. Это поручение я исполнил, сообщив думе, что преосв. Димитрий покоряясь последовавшему распоряжению, просит не возбуждать вопроса ни о депутации ни об адресе. На другой день, рано утром, я получил от преосвященного нижеследующее письмо, которое я немедленно переслал занимавшему в то время место городского головы, А. С. Великанову.
«Любезный друг, Николай Христофорович! Бога ради, остановите отправление предположенной депутации и адреса. Цели эта поездка не достигнет, потому что сделанного переделать нельзя. Ни Государь Император не захочет изменить своего решения, ни Синод не осмелится делать новое представление, противоположное прежнему. Между тем эта попытка нашей думы навлечет на меня негодование, которое будет сопровождаться непрестанными придирками и замечаниями, так что я должен же буду, чрез какой-нибудь год времени, оставить службу и выйти в отставку... Я узнал стороною, что предстоящее перемещение меня в Ярославль состоялось по неудовольствию за то, что я допустил появиться и развиться в херсонской епархии так называемому штундизму. Итак, если почтеннейшие сограждане наши имеют ко мне расположение, то я прошу и умоляю их оставить предположенную попытку просить Государя Императора о перемене сделанного назначения меня в Ярославль. Городское Общество может выразить свое расположение ко мне и заявить свои чувства иным каким-либо образом, не перерешая прямо волю правительства и не пытаясь изменять его распоряжения. Еще и еще прошу вас постарайтесь остановить предположенную поездку депутации. Этим сделаете мне величайшее одолжение и обяжете меня всегдашнею вам благодарностью. Димитрий, архиепископ Херсонский. 27 сентября 1874 года».
После такого письма, разумеется, в самом начале прекращено было «движение», которое не увенчалось успехом только благодаря личным качествам Владыки Димитрия, – его благопокорливости и боязливости, – так как в то время перевод еще не был утвержден Высочайшею властью, и даже определение Св. Синода не было еще препровождено из Петербурга в Ливадию. Вообще, в этом событии какая-то непонятная случайность играла главную роль, а действия людей представляли одно сплетете недоразумений. С одной стороны в Одессе никто, не исключая самого преосвященного, не знал истинного положения дел, и все недоумевали относительно целей и побуждений, какими руководились в данном случае высшие власти; а с другой – в Петербурге совершенно искренно выражали удивление (хотя и позднее) тому, что их заботы и попечения о достойнейшем заместителе Ярославской кафедры, – херсонском архиепископе, приняты самим архиепископом и его паствою с чувством скорби и нескрываемого несочувствия к такой заботливости. – Дело же было так.
В июне месяце умер ярославский архиепископ Нил. Преемник ему долго не назначался по уважительным причинам. Ярославская кафедра считалась старейшею после митрополий; занимавшие ее иерархи почитались ближайшими кандидатами в митрополиты; даже личные высота заслуги покойного ярославского архиерея вызывали интересовавший всех вопрос – «кто-то будет преемником Нила». Безличная молва, в ответ на этот вопрос, чаще всего произносила имя Димитрия. Важность вопроса заставила отложить его решение до более полного состава Св. Синода, – до осенней его сессии. Между тем, первенствующий член Синода, Новгородский митрополит Исидор не раз высказывал уже свое одобрение, когда ему указывали на Димитрия, как на кандидата на ярославскую кафедру. Случилось в начале августа быть у митрополита брату преосв. Димитрия, настоятелю митрофановского кладбища М. Ив. Муретову, который явился к Владыке с приглашением служить у них в храмовой праздник (7-го авг.). Митрополит вместо себя послал служить викария – преосв. Гермогена, которому поручил осведомиться – «не будет-ли преосвящ. Димитрий против его назначения в Ярославль». За праздничным столом в квартире настоятеля само собою зашла речь о Димитрии и Ярославле. Преосв. Гермоген, как-бы из любопытства, поставил прямой вопрос: как принял бы преосвященный Димитрий назначение его в Ярославль. Матфий Иоаннович, не подозревая важности вопроса, высказал в своем ответе личное мнение, но при этом употребил неосторожную фразу: «конечно, после семнадцатилетнего сиденья на одном месте, он должен быть доволен таким движением вперед». В своем докладе митрополиту пр. викарий еще усилил это мнение, добавив, что брат Димитрия положительно уверяет, что он скучает в Одессе. Таким образом митроп. Исидор, в полной уверенности, что он оказывает услугу Димитрий, внес в Св. Синод предложение о переводе его из Одессы в Ярославль. Возражений не последовало и определение состоялось. Правда, Матфий Иоаннович после своего праздника писал брату о всех приключившихся; но преосв. Димитрий, уже осаждаемый телеграммами и поздравительными письмами – хотя основанными пока только на слухах, – оставил это письмо без ответа – опять по своей нерешительности сказать да или нет. Когда же телеграммы и корреспонденции из Одессы в столичных газетах выяснили, какое недовольство возбуждено было там переводом преосвященного, тогда уже было поздно изменять что-либо. 2 октября 1874 г. Высочайше утвержден был всеподданнейший доклад Св. Синода о назначении Димитрия архиепископа Херсонского и Одесского на архиерейскую кафедру в Ярославль и о переводе на его место архиепископа подольского и Брацлавского Леонтия. Через неделю получен был о том указ Св. Синода и «Одесско-Херсонская паства стала приготовлять себя к тяжелой разлуке с архипастырем».
Одесские проводы преосв. Димитрия, если не походили на такие же проводы его из Тулы, особенно отличавшиеся простотой, – то ни уступали последним по своей сердечности и единодушию в выражении благодарных чувств от всех званий и сословий его паствы. Описание этих проводов помещено было в «Епарх. Ведомостях» и распространено в десятках тысяч отдельных оттисков. Вот, между прочим, что сообщалось в этом описании. «Во второй половине октября, Владыка в последний раз посетил Николаев и Херсон. 20-го октября он совершал литургию в Херсонском соборе, при чем сказал исполненное глубокого умиления и назидания прощальное слово». «Со слезами, – сообщалось из Херсона, – выслушали мы святителя, с которым сроднились истинно как дети с отцом. Разлука с таким лицом не может быть передана слабым пером». По выходе из алтаря, когда Высокопреосвященный стал осенять молящихся святительским благословением, настоятель собора, прот. С. Серефимов в краткой речи высказал те чувства, какими переполнены были сердца пасомых423. – «Буди над вами благословенье Божие» сказал благодушный архипастырь; затем благословил народ. В 6 часов вечера в покоях преосвященного Викария собралось все духовенство для принятия последнего благословения от Высокопреосв. Димитрия. «Благодарю вас, братия, за усердное исполнение ваших обязанностей», сказал архипастырь и затем благословил и лобзанием мира запечатлел любовь свою. От протоиерея до причетника все удостоились сего утешения. Минута была невыразимо-величественна и трогательна. Видя слезы прощавшейся паствы, архипастырь сказал: «не скорбите! преемник мой гораздо больше добра сделает вам, чем я».
27-го октября дан был в честь Его Высокопреосвященства прощальный обед гражданами Одессы. В биржевой зале собрались представители разных сословий, обществ, племен и вероисповеданий. Здесь был и католический епископ, и протестантский пастор, и англиканский пресвитер; были русские, славяне, греки, немцы и не один представитель еврейской национальности. От высокого сановника до скромного мещанина – все собрались для выражения глубочайшей преданности и почтения тому, который был всем вся. За обедом, весьма торжественным по многолюдству и обстановка, произнесено было несколько речей, служивших выражением тех чувств, которые внушала деятельность архипастыря. Первым говорил городской голова Великанов, закончивший свою речь следующими словами: «Одесса никогда не забудет, что и в дни ее скорби, и в дни радости, вы всегда были среди ее граждан благовестником мира и любви». В ответ на эти слова Его Высокопреосвященством была сказана следующая воодушевленная речь. «Искренно от всего сердца благодарю почтеннейшее городское общество Одесское за теплое радушие, которое оно оказывало мне при всяком случае, с которым и теперь собралось напутствовать меня в предлежащий мне путь. Благодарю за постоянную, искреннюю любовь, которую встречал я во всех сословиях Одесского общества, во всех жителях Одессы, и принадлежавших и не принадлежавших к духовной моей пастве, – которою я пользовался свыше всяких заслуг моих. Благодарю за ту всегдашнюю готовность споспешествовать мне во всем, которую встречал я и в Городском управлении, и в лицах начальствующих, и во всех гражданах Одессы. Все это глубоко запечатлелось в моем сердце и будет для меня самым отрадным, самым утешительным воспоминанием на всю мою жизнь. В вещественном отношении я не сделал, да и не мог сделать для Одессы ничего, по самому свойству моего служения; но потому-то особенно и драгоценна и утешительна для меня любовь ваша, что она бескорыстная, чистая, духовная. Если же есть какой-либо добрый плод моей духовной деятельности, прошу сохранить его на память обо мне, как залог моей искренней, горячей любви к вам, которая готова была, по мере сил и средств своих, служить всем и каждому во благое и которая пребудет не изменною в моем сердце везде и всегда. В семнадцать лет пребывания моего в Одессе – я не говорю свыкся – нет, я сроднился душою и сердцем с одесскою моею паствою; вы сделались мне родными на всю мою жизнь. О вас молился я здесь, буду молиться и везде до самого гроба, буду молиться и за гробом, если и тогда Господь примет мою грешную молитву. Да благословит Господь Бог Одессу и живущих в ней всяцем благословением в небесных и земных».
Из числа других речей, сказанных за этим обедом, полнее других передавала чувства благодарности архипастырю речь протоиерея М. К. Павлоского, сказанная им от лица городского духовенства. Затем выдающимся здесь было чествование преосв. Димитрия от еврейского общества. «Член городской управы, доктор Соловейчик – из евреев, обратился к преосвященному с речью, в которой объяснил, что только болезнь помешала раввину еврейского общества занять за столом место, которое он себе приготовил, – что все собрались здесь как во имя уважения к высоким личным добродетелям Его Высокопреосвященства, так и для того, чтобы отдать должную дань уважения той идее мира, которой служила вся деятельность архипастыря. После этой речи Владыке, при адресе, поднесена была от евреев книга Ветхого Завета на еврейском языке, при чем как в начале адреса, так и на самой книге написаны были, на еврейском и на русском языках, стихи (30, 31) из 36-го псалма:
Уста праведника изрекают премудрость,
И язык его произносит истину;
Закон Бога его в сердце у него,
Стопы его не колеблются.
8-го ноября Владыка служил литургию в Одесском Архангело-Михайловском монастыре, где находилось сировоспитательное училище для девиц духовного происхождения – особенно близкое сердцу архипастыря. После богослужения, в зале училища он благословлял монашествующих и детей-воспитанниц. Слезы и рыдания были ответом на краткое приветствие Владыки; они заглушали и речи, приготовленные на прощание с ним; особенно резким и общим сделался вопль детей, когда одна из девочек, приготовленная к произнесению речи, могла только сказать: «Владыка нас оставляет!» Но Владыка утешал плакавших смиренным выражением надежды на лучшее будущее. «Мой преемник, говорил он, будет для вас полезнее меня; он в Подольской епархии, в течение десятилетнего управления своего устроил два девичьих училища».
«10 ноября незабвенный архипастырь совершал последнюю литургию в Одесском кафедральном соборе, в сослужении викария своего, преосв. Нафанаила, двух архимандритов, восьми протоиереев и иереев. Погода была в высшей степени неблагоприятная: сильный ветер, дождь, туман и грязь удержали дома многих, усердствовавших к архипастырю. Тем не менее обширный собор был почти полон народа. Все молились с особенным умилением. Когда настало время проповеди, массы народа хлынули к поставленному для Проповеди для аналоя. Бодро и твердо, но с глубочайшим чувством, возгласил архипастырь слова Спасителя: «Мир мой оставляю вам». Сильное впечатление на слушателей произвели эти слова, изшедшие из уст святителя, которого душа – мир и жизнь – мир. Трудно, однако, было словом мира успокоить наболевшие скорбью сердца слушателей, когда учитель и образец мира вземлется от среды их. Все плакали во время произнесения архипастырем прощального слова424. После совершения литургии В.-преосв. Димитрий служил благодарственное Господу молебствие, в котором участвовало все городское духовенство. Когда, при выходе из храма, Владыка подошел для поклонения к чудотворной Касперовской иконе Божией Матери, то кафедральный протоиерей А. Лебединцев, поднося ему копию чудотворной иконы, выразил, от лица соборян и граждан, благодарность, как виновнику ежегодного пребывания иконы в Одесском соборе.
Из собора Владыка посетил семинарию. Прощаясь с учениками, он сказал им: «Учитесь, учитесь и учитесь! Наука всегда нужна была и для всех, а теперь особенно, и особенно для пастырей церкви. Приготовляясь к служению пастырскому, бойтесь принимать его на себя легкомысленно. Когда же Господь приведет вас удостоиться священного сана, с благоговением сохраняйте и возгревайте в себе дар благодати священства. Помните, что Бог, по слову писания, поругаем не бывает». Затем, из рекреационной залы семинарии Владыка перешел в актовую залу, где собралось все духовенство Одессы, все служащие при семинарии и старосты городских церквей. Здесь был поставлен, украшенный цветами и зеленью, портрет Его Высокопреосвященства, сделанный по заказу духовенства г. Одессы для архиерейского дома. Здесь же духовенство предложило преосв. Димитрию прощальную хлеб-соль. Во время обеда, после тостов о здравии Государя Императора и о благоденствии Св. Синода, кафедральный протоиерей прочел адрес Его В.-преосвященству от духовенства херсонской епархии. Пространный и замечательный акт этот исполнен был самых искренних и сердечных выражений признательности, благодарности и удивленья любимому архипастырю. «Счастье, говорилось в адресе, семнадцать лет бывшее уделом нашим, взято у нас. Еще мало и – не увидим Тебя, Тебя – наше счастье, нашу гордость. От избытка счастья своего мы, кажется, не знали всей цены, его. Теперь только, когда лишаемся Тебя, Ты восстаешь пред нами во всей красоте Твоих высоких пастырских достоинств и добродетелей. В молитве и воздеянии рук Твоих у престола Божья ты был святитель наш неустанный. Мы изнемогали, но Ты не изнемогал. А если изнемогал (памятны нам трогательные случаи Твоего изнеможения в молитве425, то самым изнеможением своим еще более трогал и умилял нас. От устремления на моления с народом ни буря ветреная, ни видимая опасность морского плавания не могли удержать Тебя... От молитвы у Тебя обычно было переходить к проповеди слова Божия. Ты проповедовал его, можем сказать, неумолчно, и не в этом одном – престольном граде Твоем, но и по всем градам и весям паствы Твоей, Проповедь Твоя, подобно апостольской, состояла не в препретельных человеческой мудрости словесех, но в явлении духа и силы: Ты не искал славы проповедника, или похвал от человеков, а единого на потребу – спасения душ наших. Управление Твое, кроткое и мирное, во всех действиях и распоряжениях Твоих носило один девиз: благость и милость Ты любил благотворить так, чтобы не знала шуйца, что творит десница Твоя; однако, чрез это не утаился от народа, у которого снискал себе имя милостивого Владыки, милостивого Димитрия» ... На этот адрес Владыка с свойственной скромностью отвечал благодарностью духовенству, не только за выраженный чувства, но и за усердие к службе; обещал сохранить в душе своей, самые светлые воспоминания о службе своей здесь и – по своей благости – предложил готовность содействовать по возможности всем, которые в нуждах будут искать его помощи.
За адресом от духовенства следовал адрес от семинарии, прочитанный о. ректором, протоиереем Μ. Ф. Чеменою. Отвечая на этот адрес, Владыка с особенным удовольствием заявил, что благоустроенное состояние и прекрасные успехи Одесской семинарии засвидетельствованы уже лицами компетентными – гг. ревизорами духовно-учебного комитета; но при этом выразил сожаление, что не успел устроить общежития для своекоштных учеников и церкви. «Слава Богу, что мысль об устройстве церкви уже готова перейти в дело; а общежитие – добавил он – есть надежда – устроит мой преемник, который создал образцовое общежитие в Подолии».
Председатель училищного совета при Архангело-Михайловском монастыре, о. протоиерей М. К. Навловский прочитал от имени училища адрес, который заканчивался испрашиванием благословения Владыки на увековечения его имени в сиротском училище учреждением стипендии его имени.
Кроме адресов, за обедом произнесено было много речей, ряд которых закончен был речью на греческом языке, выраженною в высоком и строгом древнем стиле. Говорил эту речь, взволнованным голосом, с глубоким чувством и со слезами на глазах, о. настоятель Одесской греческой церкви, архимандрит Евстафий Byлизмо.
На другой день, 11-го ноября, преосвященный принимал депутацию славянского благотворительного общества, поднесшую ему адрес. Еще раньше Владыке поднесены были адресы: от греческого благотворительного общества, «Одесского общества сострадания к животным» и «Общества изящных искусств».
12-го ноября с 7 часов утра стало собираться духовенство г. Одессы и народ в крестовой церкви архиерейского дома для молитвы о благополучном путешествии Владыки. Молебен совершал преосв. епископ Нафанаил со всем духовенством. «По окончании молебствия смиренный и на веки незабвенный архипастырь Димитрий поклонился до земли собравшимся в храме, и паства поклонилась до земли своему архипастырю. Владыка, преподав последнее целование мира духовенству, отправился на станцию железной дороги. Здесь были городские власти и толпы народа, осаждавшего Владыку, чтобы получить от него последнее благословение. Много было плакавших не только между простыми сердцем, но и между такими, которые обыкновенно не легко поддаются движениям чувства; плакали даже люди, которым редко приходилось плакать в своей жизни. Были немые, но умилительные сцены прощания: наприм. безмолвное и производившее сильное впечатление на зрителей прощание архипастыря с графом А. Г. Строгановым. Когда преосвященный становился уже на ступеньку вагона, народ буквально прильнул к нему п целовал полы рясы его, целовал ноги и, кажется, не было места на нем, которое не было бы орошено слезами».
«В 9 часов и 25 минут утра, 12-го ноября 1874 года, поезд увез незабвенного Владыку Димитрия из Одессы» ...
Многие из духовенства, с преосвященным викарием во главе, провожали Владыку до пределов Херсонской епархии. При последнем прощании на станции Мардаровке к преосв. Димитрию обращена была еще одна – последняя и самая трогательная речь, сказанная членом епархиального попечительства, прот. Г. Я. Селецким. «Между епархиальными учреждениями, говорил о. протоиерей, разделявшими Ваши труды и заботы о благе Херсонской паствы, есть одно скромное учреждение, предназначенное для того, чтобы облегчать страдания несчастных вдов и сирот духовного звания. Это – епархиальное попечительство. Оно не смело, подобно другим учреждениям, оглашать пред всеми о Вашей христианской благотворительности, о Вашем теплом и живом участии в судьбе страдальцев. Это было Вашею домашнею тайною. Но попечительству более, чем кому-либо другому, известны ваши постоянный пастырская заботы об облегчении их тяжкой участи. Бедные духовного звания знали Ваше доброе сердце и потому всегда обращались к Вам смело и с надеждою. И нам известно, что те, которые шли к Вам со слезами, от Вас выходили облегченные словом утешения, а чаще всего – материальною помощью. В попечительство Вы отсылали бедных за помощью только тогда, когда оскудевали Ваши собственный средства. Херсонский же Перепелицынский приют и началом, и продолжением своего существования вполне обязан заботам и щедротам Вашего Высокопреосвященства... Пусть же глубокая благодарность бедных вдов и сирот духовного звания будет последним словом к Вам от Херсонской Вашей паствы».
Признательное духовенство херсонской епархии позаботилось упрочить память архиепископа Димитрия и вещественным лучшим памятником. «На совещании, бывшем еще 13-го октября, Одесское духовенство положило соединить имя милостивого архипастыря с каким-либо делом милосердия, которое, как сокровище не гибнущее, сохранило бы его имя в Херсонской епархии навсегда, а в свое время перешло бы с ним и в грядущий век». На разосланные тогда же приглашения все благочинные поспешили прислать свои отзывы, в которых выражали живейшее сочувствие духовенства всей епархии к мысли об учреждении в девичьем сиротском училище стипендии имени В.-преосв. Димитрия, – и готовность взнести в кассу училища нужный для сего капитал. При прощании с Владыкою ему было заявлено об этом, как о мысли, готовой перейти в дело. Тогда же положено было основание этой стипендии внесением в совет училища 2000 рублей, пожертвованных одною благоговеющею к архипастырю особою Через полгода после отбытия преосв. Димитрия взносами от духовенства образовался капитал в 5000 руб., на проценты с которого положено основать полную стипендию для сироты – «воспитанницы архиепископа Димитрия», а ежегодные остатки выдавать беднейшим воспитанницам при выходе их из училища426».
Городское Одесское общество с своей стороны также выразило усердие к преосв. Димитрию устройством удобного передвижения его на новое место служения и, кроме того, поднесением дорогого подарка. Ко дню отъезда преосвященного из Одессы от города нанят был и представлен в полное распоряжение Владыки вагон I кл., для прямого, но бессрочного путешествия его от Одессы до Ярославля. Кроме удобства и отсутствия всяких хлопот, эта любезность одесситов дала преосвященному возможность оказать на прощании существенную помощь близким родным, которым он разделил свои прогоны – 800 руб. Подарок граждан гор. Одессы – богатая панагия, украшенная жемчугом и драгоценными камнями, – не был готов ко времени отбытия преосвященного, потому что городское общество сочло нужных ходатайствовать о Высочайшем разрешении на такое чествование любимого архипастыря. Панагия была доставлена Владыке в Ярославль уже в феврале 1875 г., при бумаге за подписом городского головы и членов думы. Преосв. Димитрий, в ответ на таковое приношение, при благодарственном письме на имя Гр. Гр. Маразли, послал в благословение городу Одессе икону свв. угодников и чудотворцев Ростовских. Письмо его было прочитано в общем собрании Одесской Городской Думы, которая постановила благодарить Его Высокопреосвященство и поставить присланную им икону в зале присутствия городской управы «в знак всегдашнего молитвенного общения архипастыря с гражданами Одессы».
Молитвенное общение это было крепко и действенно, ибо ему, и ничему другому, следует приписать редкое событие – возвращение преосвященного Димитрия, на закате дней, к возлюбленной пастве Херсонской.
Глава 4. Ярославль
I
Кратко было время святительства Димитриева на древней Ростово-Ярославской кафедре – всего один год и шесть месяцев. Но и оно ознаменовалось теми же высокими достоинствами и добрыми делами архипастыря, и такою же любовью к нему и преданностью его новой паствы.
Имя милостивого Димитрия давно было известно и в пределах Ярославской епархии. Назначение его в Ярославль принято было здесь с неподдельною радостью; прибытие его ждали с нетерпением. Местный епархиальный орган заранее озаботился ближе познакомить духовенство епархии с личностью нового Владыки, – с его архипастырским словом проповеди и с событиями последних дней на месте его прежнего служения427. Но такое знакомство могло служить для читателей только напоминанием известных уже черт знакомого образа: Димитрия знали все и имя его произносилось с любовью и уважением. В одной сельской церкви, уже через год по вступлении преосв. Димитрия в управление ярославской епархией, священник при встрече Владыки, приветствовал его речью, которая начиналась так: «Прежде нежели стопы Твои коснулись земли ярославской, взоры духовенства, Богом и Царем врученного Твоему водительству, обращены были на Тебя с глубокою признательностью за ту любовь, которую Ты стяжал себе в сердцах херсонской паствы своим смиренномудрием, кротостью, искренностью и благостью428.
Путешествие преосв. Димитрия от Одессы до Ярославля продолжалось почти три недели. По обычаю, он не пропустил случая побывать в Киеве, где прогостил пять дней; останавливался в Москве и заезжал в Сергиеву-Троицкую лавру. Только 29-го ноября он прибыл в Ростов. Несмотря на раннее утро, в вокзале железной дороги собралось множество народа, встречавшая своего нового архипастыря: здесь были депутации от Ярославского и Ростовского городских обществ, представители епархиального духовенства и местные обыватели, жаждавшие принять первое благословение от своего Владыки.
Первым его делом в Ростове было исполнение давнишнего желания – посещение Яковлевского монастыря с целью поклониться мощам святителя и чудотворца ростовского Димитрия. Горячая молитва со слезами, обращенная к небесному покровителю самого архипастыря и всей его новой паствы, послужила первым, безмолвным его поучением для собравшихся свидетелей этой молитвы. – В полдень Владыка посетил городской собор и некоторый другие городские церкви и монастыри. На другой день в 101/2 ч. утра, Высокопреосвященный Димитрий прибыл из Ростова в Ярославль. Городские власти и многочисленный толпы народа встречали его на станции железной дороги; а городское духовенство, в полном составе, ожидали его в кафедральном соборе. При вступлении преосвященнейшего в собор, кафедральный протоиерей приветствовал его речью, в которой выразил радость осиротевшей паствы при виде нового архипастыря в следующих выражениях: «Слава и благодарение Спасителю нашему! Он не оставил нас сирых, даровав нам недостойным, по молитвам, как веруем, великого угодника своего святителя Димитрия, второго святителя того же дорогого нам имени; – и печаль наша претворилась в великую радость. ...Вниди убо, Богодарованный архипастырь и Отец наш, в престольный храм новой своей паствы, и осени святительским благословением новых чад своих, с трепетным благоговением ожидающих сего благословения. Как Ангела Божия, как посланника небесного сретаем Тебя, во умилении сердца взывая: благословен грядый во имя Господне». В тот же день Владыка принимал в своем доме, явившихся к нему для приветствий, знатнейших лиц городского общества, членов городской думы, духовенство и всех служащих по духовному ведомству. По русскому обычаю, граждане и духовенство поднесли ему хлеб-соль, при чем просили «принять это обычное приношение, как слабое выражение тех усердносыновних чувств, с какими новая паства, обрадованная дарованием ей столь Богомудрого архипастыря и столь благосердного отца вручает себя его водительству, в твердом уповании, что под таким водительством, при святительских молитвах и благословениях, и ярославская паства так же будет счастлива, как были счастливы паствы Тульская и Херсонская»429.
На другой день, в воскресенье 1-го декабря преосв. Димитрий совершал первую литургию в ярославском кафедральном соборе и произносил первое слово к новой пастве430. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и люби Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами». Этими словами божественной службы начинал он свою беседу. Объяснив, что Божие благословение, как лучший дар, какой он мог принести и преподать своим новым чадам, послужит важнейшим предметом его молитв и наилучшим пожеланием при первом свидании с ними и указав на особые обстоятельства, которые перевели его к ним, он излагал пред слушателями «главнейшие и существеннейшие части своего служения, как нового пастыря посреди новой паствы» – свои обязанности и обещания, с одной стороны, и ожидания и надежды – с другой. «Ожидая нашего пришествия, говорил он слушателям, вы конечно любопытствовали знать, кто мы и каковы, чего можно ожидать от нас и что принесет вам наше пришествие и служение посреди вас. На эти вопросы мы сами поведаем вам, братия мои, что мы первые из грешников, ищущие и чающие оправдания и помилования в едином Господе Иисусе Христе, что сами по себе мы немощны духом и телом, и окаянны, и бедны, и слепы, и нищи, и наги... Ни какие-либо особенный заслуги возвели нас на сей древний престол церкви Ростово-Ярославской, возвеличенный и прославленный столькими воистину великими богоносными и святыми иерархами, которые сияли здесь, как светильники, поставленные на свещницу, которые и доселе продолжают светить всему миру. Одно благоволение Монарха Благочестивейшего, одно благое изволение о мне святейшего собора пастырей церкви всероссийской послали меня к вам и поставили во главе сей одной из древнейших церквей в отечестве нашем. Послушание, полное, беспрекословное, привело меня сюда, послушание будет и руководить мною здесь». Отвечая на вопрос – «что можете ожидать от нас», преосв. Димитрий предъявил ярославской пастве ту же программу своей деятельности, какую обещал и выполнил на кафедре херсонской: неустанную проповедь и усердную, постоянную молитву. «Мы обещаем вам, братия, возвещать вам неленостно спасительное слово Господа нашего Иисуса Христа, и ничего более, как это божественное слово. Просим и вас искать в беседах наших не препретельных человеческие мудрости словес, а явления духа и силы, – духа, который оживлял бы вашу совесть и сердце, возвышал бы вашу душу над всем земным и временным. Обещаем также неленостно приносить о вас не наши только слабые молитвы, и сию всеспасительную жертву, заповеданную нам Господом, как жертву мира и спасения. Умоляем и вас приходить неленостно в храм Божий, участвовать здесь в этой, поистине, всемирной и всесильной молитве пред возносимою здесь всемирною жертвою тела и крови Сына Божия». – Торжественно давал Владыка Димитрий свои обещания, но и верно он соблюдал и исполнял их. В Ярославле особенно часты были его богослужения и проповеди: он не служил и не проповедовал только тогда, когда болезнь приковывала его к постели.
II
Ярославскую епархию преосвященный Димитрий застал почти в таком же состоянии, в каком оставил Херсонскую. Общие запросы времени, вызывавшие тогда реформы и улучшения, были одинаковы во всех концах нашего отечества и, при сходстве условий жизни, решались аналогичными соображениями; указанные же высшею церковною властию меры приводились в исполнение почти одинаковыми способами. И в Ярославле тогда, как везде, насущным и важнейшим вопросом было улучшение быта духовенства, далеко не видевшее своего конца; не упрочена была и новая реформа духовно-учебных заведении; не упорядочились еще, тесно связанные с этою реформою, съезды духовенства и недостаточно определилась сфера их деятельности.
Впрочем, в деле улучшения быта духовенства преосв. Димитрий нашел в Ярославле не мало нового. Здесь было уже все подготовлено к приведению в исполнение самой важной, указанной свыше, меры – сокращения штатов. Незадолго до приезда нового архиерея «ярославский епархиальный комитет по расписанию приходов» закончил свои занятия. Результатом его трудов было печальное сокращение причтов почти наполовину – явление едва-ли повторившееся в другой какой-либо епархии. Из 860-ти сельских церквей комитет, согласно норме, указанной главным присутствием по обеспечению сельского духовенства, принуждена был оставить самостоятельными только 471 церковь; остальные 388 церквей (не считая бесприходных – соборных и кладбищенских) должны были сделаться приписными. Такое большое отчисление за штат церквей и причтов в ярославской епархии объясняется особыми, исключительными условиями здешнего быта пастырей и пасомых. Ярославская губерния, имеющая 1,200,000 жителей, отличается от всех губернии особенною подвижностью населения; благодаря неблагоприятным условиям сельского хозяйства и тесноте, целая четверть населения исстари искала себе заработков на стороне – в отхожих промыслах, и притом не временных только, летних (как в других губерниях), а постоянных – в торговле, преимущественной в Москве и Петербурге. Между тем как в древне ростовской области, не подвергавшейся татарским погромам, оставались старинные монастыри и храмы, к ним время от времени, присоединялись новые церкви и приходы, и очень часто не по требованиям местного населения. Разбогатевший в столицах ярославец строил церковь на родине – в глухой деревне, и, пожалуй, при своей жизни помогал новому причту. Но дети храмоздателя обыкновенно забывали свою родину, и церковь с причтом оставались на попечении малочисленного и бедного прихода. Так образовалось в ярославской епархии большое количество приходов, которые, при новых требованиях, не могли оставаться самостоятельными. Составленное комитетом «расписание приходов» было представлено преосв. Димитрием в Св. Синод и при Димитрии же возвратилось оттуда окончательно утвержденным. Но приведение во исполнение этой меры к улучшению быта духовенства при Димитрии и не начиналось, как по краткости пребывания его в Ярославле, так и по его личному нерасположению к такой мере. Оставалась она в таком же положении и при преемнике Димитрия, преосв. Леониде, и даже после него до 80-х годов, когда снова разрешено было восстановлять закрытые штаты и открывать упраздненные вакансии священнослужительских мест431.
Одною из добрых местных мер к улучшению быта духовенства в Ярославской епархии было, начатое при архиеп. Ниле, устройство и приобретение в церковную собственность домов для членов причта. Важность этой меры особенно должно ценить духовенство великороссийское, которое испытывает столько горя с собственными постройками на церковной земле, – при всяких случаях перемещений и особенно при случаях смерти одного из членов причта и замещении вакансии другим. Доклады консистории и донесения благочинных о приобретении домов в церковную собственность всегда радовали преосв. Димитрия; на всех таких донесениях он писал: «благодарить жертвователей или способствовавших к приобретению, и пропечатать о том в епархиальных ведомостях ко всеобщему сведению и подражанию432».
Обращали на себя внимание милостивого Владыки и отдельные случаи благотворительности и помощи духовенству. Например, в декабре 1874 года прихожане Градо-Ярославской Предтеченской церкви собрали единовременно 1575 руб. на содержание своего причта. На донесение благочинного положена резолюция архипастыря: «напечатать в епарх. ведомостях, с изъявлением благодарности прихожанам433». – В ноябре 1875 г. местный благочинный донес, что в селе Никольском – на Пелье, Ростовского уезда, старанием священника приобретены 1300 руб., в видах сохранения самостоятельности прихода. Преосвященный соизволил «благодарить священника, а жертвователям преподать архипастырское благословение434». Подобной же участи – лишению самостоятельности подвергалась церковь в с. Горицах, Романо-Борисоглебского уезда. Прихожане обратились к Его Высокопреосвященству с просьбою об определении к их церкви кого-либо из заштатных священников, объяснив при этом, что есть 34 десятины церковной земли, дом для священника, дрова в церковном лесу и 100 руб. руги от помещиц – содержательниц церкви. Резолюция преосвященного на этом прошении была такая: «объявить о сем, не пожелает ли кто из заштатных священников совершать богослужение в означенной ружной церкви». Желающих нашлось несколько, и горицкая вакансия была замещена через две недели435. Более крупное пожертвование было от колл. асессора Муранова, который представил архиепископу Димитрию 3.300 р, на нужды Ярославского епархиального попечительства о бедных духовного звания. Преосвященный выразил благодарность жертвователю и, кроме того, предложил поминать во всех церквах епархии умерших его сродников, указанных в прошении436. Нашел однажды Владыка Димитрий средство помочь и в случайной, тяжкой беде. В селе Новоселки, Ростовского уезда, 15 июля 1875 года случился пожар, в котором погорело все имущество причта. На донесении об этом благочинного преосвященный положил резолюцию: «дозволяется пригласить духовенство Ростовского уезда к пожертвованию на помощь пострадавшему причту». И помощь была своевременно оказана437.
Знакомясь с делами епархиального управления, преосв. Димитрий в этой области встретил некоторые особенности, которые резко отличали его новую епархию от прежней. Здесь глубоко укоренился и широко применялся, почти неизвестный на юге, обычай представлять епархиальному начальству так называемые «заручные» от прихожан при подаче прошений об определении на священнослужительский места. Чтобы ограничить действие этого, имеющего, правда, каноническое основание, но давно потерявшего законность, обычая, преосв. Димитрий 21-го декабря 1874 г. сдал в консистории следующее предложение: «Несмотря на кратковременное управление Ярославской епархией, мною получено много прощений от прихожан городских и сельских церквей, где состоят праздными священнослужительские и псаломщические вакансии, которыми они просят об определении на таковые вакансии избранных ими, известных с доброй стороны лиц. Но прошения сего рода, а равно и приходские приговоры, даваемые искателям мест, являются, в большей части неимеющими засвидетельствования подлинности своей. Таковое опущение, роняя значение самых документов, дает повод к недоумениям и только затрудняет ход ставленических дел. В виду сего предлагаю Духовной Консистории объявить по епархии, чтобы избрание прихожанами известных им, по нравственным качествам, кандидатов на праздные священнослужительские при церквах их вакансии производимо было в церкви, в присутствии местного благочинного, порядком, требуемым § 40 инструкции благочинным; а самые прошения и приговоры, заключающее в себе ходатайства об избранных, доставляемы были к епархиальному начальству с засвидетельствованием о рукоприкладстве их теми же благочинными; без чего подобного рода прошения оставляемы будут без последствий и удовлетворения438».
Уже из одного этого предложения видно, как много дела предстояло преосв. Димитрию в норой епархии. В Ярославле в то время викария не было, и епархиальному архиерею, кроме разнообразных и многочисленных занятий, нужно еще было часто служить для тех же ставленников. Напр., в феврале 1875 г. преосв. Димитрий служил в своей крестовой церкви, даже в будни, шесть раз, а в марте – восемь раз, собственно для рукоположения ставленников. Вообще же, несмотря на продолжительные промежутки времени, когда болезнь не позволяла преосвященному выходить из дома, «богослужение, по замечанию местного бытописателя, бывали совершаемы им даже чаще, нежели многими сельскими и иными городскими священниками439». В Ярославле, как и в Одессе он считал неотложною своею обязанностью служить во все высокоторжественные дни и великие праздники. Служила он обыкновенно в кафедральном соборе, или в своем спасском монастыре; но кроме того, по особым случаям, или в дни храмовых праздников, не однократно служила в монастырях – мужском, Афанасьевском и женском, Казанском, в приходских городских церквах – напр. Власьевской и Димитриевской, в церквах при учебных заведениях – семинарии, женском духовном училище, Демидовском юридическом лицее и Николаевском приюте, в тюремном замке и на кладбищах. – И так же часто, как прежде, его богослужения сопровождались проповеданием слова Божия. Изданный в 1876 году сборник проповедей Димитрия к Ярославской пастве – представляет целый том, хотя некоторые проповеди, сказанные здесь, и не вошли в него. Ярославская паства Димитрия оказывала особенное усердие к участию в общих молитвах с своим архипастырем и особенное расположение к слушанию его проповедей. Нужно полагать, что здесь, как и в Туле, наполнявши храмы при архиерейском служении простой, великорусский народ, по своему складу ума и религиозному воспитанию, ближе подходил к пониманию (если не умом то сердцем) и усвоению особенностей проповеди Димитрия440. Вот почему ярославцы особенно любили его, и чаще всего вспоминают теперь – именно как «учительного святителя». Сам преосв. Димитрий хорошо понимала эту сторону народной симпатии к нему, и даже высказал это в своем прощальном слове, когда благодарил все сословия паствы Ярославской за то благочестивое усердие к храмам Божиим, которого плоды он встречал повсюду, где священнодействовал, – за ту ревность, с которою они своими молитвами подкрепляли и согревали его молитвы, – за то благоговейное внимание, с каким все слушали и принимали возвещаемое им слово Божие441. А когда он уже отбыл из Ярославля, то на страницах местных епархиальных ведомостей появились «воспоминания о Димитрии, архиепископе Ярославском», и в этих воспоминаниях больше всего отведено места для оценки его проповеднической деятельности. Здесь с достаточною полнотою выяснены главные черты его проповеди, привлекавшие слушателей: глубокая убежденность самого проповедника в истинности возвещаемого им учения; теплота и живость священного одушевления, изливавшегося из души, движимой мыслями и чувствами святыми; проникновенность во глубины Боговедения и – отсюда – неотразимое властное действие помазанного слова на сердца слушателей. «Тем и сильны проповеди В.-преосв. Димитрия, что в содержании их виден сам проповедник – его нераздельные слово и дело: чрез слово Димитрия о Боге и Его законе сквозит действительно общение его самого с Господом, действительное служение Его воле, Его слову, Его царству, – служение во имя Его и по его поручении. Кротко и смиренно открывая сердце слушателя к восприемлемости и проникая во внутреннейшие глубины его, проповедник движет его к принятию важных и святых решений. Нежное чувство отеческой любви Владыки пробуждает и в слушателях чувства глубокого почитания и сыновней доверчивости: душа слушателя чувствует себя детски настроенною к следованию по указываемому пути442». Приводим здесь настоящий отзыв о проповеднике Димитрий, главным образом, потому, что он относится к периоду его жизни, который можно считать центром его проповеднической деятельности.
Заботы преосв. Димитрия о духовно-учебных заведениях, по-прежнему, стояли у него впереди в ряду других забот и попечений. Чтобы пояснить – как постоянны были эти заботы, достаточно, указать на то, что в течение полуторагодового служения в Ярославле преосвященный посетил семинарию семнадцать раз443. Самым же важным и самым памятным в жизни этого заведения останется первое его посещение, 12-го января 1875 г., когда он освящал новоустроенный семинарский храм во имя святители Димитрия, ростовского чудотворца. Торжество этого дня было знаменательно и для семинарии и для преосвященного, который только что положил основание новому храму в Одесской семинарии и, вскоре же по прибытии на новую кафедру, должен был освящать также первый храм в семинарии и притом, еще до его прибытия, посвященный имени его небесного покровителя. В Ярославской семинарии только в 1873 году было закончено полное преобразование по уставу 1867 года; к тому же времени окончательно устроено было новое здание. Освящение нового храма таким образом послужило венцом полного обновления. На торжественном акте, последовавшем в этот день за богослужением, было прочитано множество приветствий и поздравлений от бывших питомцев семинарии. Между ними было приветствие профессора А. Ф. Лаврова (впослед. архиеп. Литовского Алексия), в котором он напоминал, что дело о постройке новой семинарии с церковью тянулось целых 40 лет, и указывал, как на особенное знамение свыше, на освящение храма во имя св. Димитрия – основателя; семинарии – архиепископом вторым дорогого для ростово-ярославской земли имени: «как, будто нарочито, дожидали второго Димитрия».
Одновременно с семинарией устраивались по-новому и духовные училища Ярославской епархии. При Димитрии открыто было новое училище в Ростове и упрочено самостоятельное существование Ярославского училища. Ярославский окружной съезд духовенства решил-было (в 1874 г.), по неимению достаточных средств к хорошему устройству своего училища, перевести его из Ярославля в Ростов. Но представился случай получить постоянное пособие, и проект о перемещены училища был отложен. Купец Салов изъявил согласие давать ежегодно 3000 р. на нужды Ярославского училищного съезда, если за ним оставят исключительную поставку свеч во все 350 церквей Ярославского округа. Как ни нежелательно было допускать в таком деле монополию, но в виду того, что своего епархиального завода свечного не было и устройство его в близком будущем не предвиделось, преосвященный благословил съезду заключить с купцом Саловым контракт на поставку церковных свеч и затем утвердил этот контракт, с ограничением, впрочем, срока444. Между тем и в Ростове в том же году открылось новое училище, в готовом и удобном помещении.
Духовенство пошехонского училищного округа настолько успешно устраивало свое училище, что находило возможным открыть при нем общежитие для своекоштных учеников. В этом смысле сделано было окружным съездом постановление, которое доставило утешение их архипастырю; на журнал съезда против означенного постановления преосвященным отмечено: «предмет особенно важный. На него необходимо съезду обратить все свое внимание, и изыскать по возможности средства к устройству общежития445.
Наконец, пред самым отъездом преосв. Димитрия из. Ярославля, созрела мысль об учреждении «дома общежития» для воспитанников Ярославской семинарии. На докладе об этом семинарского правления преосвященный мог только написать такое распоряжение: «о необходимости собраться для сей цели обще-епархиальному съезду можно сделать известным по епархии; но назначение времени для съезда отложить до прибытия нового преосвященного».
III
Условия жизни в Ярославле для преосв. Димитрия вообще были благоприятны. Искрение выражения любви и глубокого уважения к нему постоянно оказывала вся его паства, – и духовенство, и городское общество, и простой народ. Сам преосвященный высоко ценил такое расположение к нему, и всячески старался отплатить за то добрым делом и словом. Но не уклоняясь от правды, нельзя здесь не заметить, что некоторый особенности местных нравов и понятий, сказывавшаяся в оригинальных выражениях религиозного чувства и благодарности, были не по душе смиренномудренному архипастырю446. Впрочем, случаи к наблюдению таких выражений, имевших притом в основании благие намерения, бывали редки, а потому и не нарушали общей гармонии. Наблюдаемое везде древнее благочестие, при отсутствии разноплеменных и разноверных элементов; благолепие и множество храмов; древние иноческие обители и – всего важнее – древние святыни ростовского края – все это не могло не возвышать духа благостного архипастыря, не поднимать его энергии в общественном служены.
Нельзя того же сказать о частной, домашней жизни преосв. Димитрия в Ярославле. Во все время пребывания здесь он постоянно жаловался на разные неудобства. Ярославль для него был совершенно чужой город, в котором не было никого из прежних знакомых. По непривычке к новой обстановка и по отсутствие близких людей, при плохом состоянии здоровья, он и жил здесь совершенно уединенно, – и нельзя сказать, чтобы такая жизнь не тяготила его. Указывая посетившему его брату на толстые стены и сравнительно малые окна старинного архиерейского дома, он говорил: «вот в этом мрачном, одиночном заключении придется проживать по крайней мере восемь месяцев в году, совсем закупоренным; вся надежда на два летних месяца, когда можно будет подышать чистым воздухом». К сожалению, ему не пришлось воспользоваться и летними месяцами единственного, проведенного в Ярославле, лета, так как в это время он предпринимал продолжительное путешествие по обзору епархии.
Жаловался преосв. Димитрий и на некоторых людей, особенно на слуг ярославского архиерейского дома, которые «по привычке» не допускали никого до архиерея без подачек на чай: тяжело было ему слушать, когда говорили, что многие из жаждавших его милостыни и утешения, не имели к нему доступа. Еще больше он вынужден был жаловаться на недостаточность средств, которые, по переселении его в Ярославль, сократились больше, чем на половину. Для себя ему, как известно, требовалось очень немного; но ему тяжело было сокращать и даже вовсе прекращать пособия тем лицам, которые уже привыкли пользоваться его милостынею. А между тем число клиентов росло и умножалось: продолжали обращаться к нему за пособием прежние просители, и из Одессы, и из других мест; обращались во множестве и новые. «Что досаднее всего, – писала преосвященный из Ярославля в Одессу, – со всех сторон, и от известных и вовсе мне неизвестных бедных, получаю непрестанно просительный письма о пособии, – и именно потому, что теперь я состою в богатой будто бы Ярославской епархии. Не понимают, несчастные, какая злая насмешка заключается в этих поздравлениях с богатой епархией».
Наибольшим злом, удручавшим преосв. Димитрия в Ярославле, был суровый климат и его прямые последствия – недуги и страдания. На суровость климата и болезни он указывал в своей прощальной беседе с ярославцами, как на единственную причину, побудившую его искать другого места служения. Переселяться на жительство с крайнего юга на север не всегда безопасно для людей с крепким здоровьем и свежими силами, а Димитрию было уже 65 лет, и здоровье его было надломлено давно. Нажитой еще в Петербурге, в 1861 году, ревматизм не оставлял его и в Одессе. Но там теплый климат и ежегодно повторяемый курс морских ванн задерживали развитее болезни и не давали ей обнаруживаться в острых мучительных болях. – На первых, впрочем, порах и в Ярославле состояние здоровья Владыки было удовлетворительно. «Здоровье мое, писал он в Одессу от 14 апр. 1875 г., кое-как выдерживает все невзгоды здешнего климата, но силы видимо слабеют. Сильное изнеможение после каждого служения, частая бессонница и постоянная вялость и как будто усталость во всем теле громко напоминают об упадке сил и ослаблении нервов». Чрез месяц же после этого письма он уже извещает родных о первом серьезном заболевании. «Здоровьем я крепился, но нужно же было поплатиться чем-нибудь здешнему климату. 4-го мая, после крестная хода и продолжительная служения, когда весь был в поту, мокрый до нитки, застудил как-то правую руку: прикинулась рожа и вот целую неделю сижу с завязанными руками и едва могу писать. Теперь, слава Богу, опухоль прошла; но нужно будет сидеть еще несколько дней». После лета, проведенного в усиленных трудах, наступившая сырая осень весьма неблагоприятно отозвалась на здоровье Владыки. С половины октября он заболел: две недели не выходил из комнаты; после того служил несколько раз подряд; затем опять должен был заключиться на неделю... так и пошло на всю зиму. «Здесь я не живу, писал преосвященный в марте 1876 г., а прозябаю как оранжерейное растение, не выходя из комнаты и продолжая всю зиму лечиться». В этом же письме он наглядно пояснил, как тяжело его положение при повторяющихся болезнях и неотложных обязанностях службы: «Мы ждем неблагоприятной весны; а я и теперь уже кашляю. Вчера читал Великий канон (разумеется, в домовой церкви – больше нигде не служу), сильно согрелся; а входящие постоянно отворяли дверь, и я наглотался сырого и холодного воздуха, – заложило всю грудь, охрип и кашляю. А между тем служить необходимо, ждут ставленники». – Наконец, это тяжелое положение привело Димитрия к сознанию невозможности продолжать при таких условиях службу: он твердо решился просить увольнение от службы и уйти на покой. Еще весною 1875 г. он писал, между прочим, своему брату: «если Бог даст мне пережить и будущую зиму, после Пасхи непременно думаю уволиться на покой. Авось пенсией удобнее будет делиться с сестрами, нежели нашим жалованьем, состоя на службе» ... Но промыслу Божию, продлившему до глубокой старости высокопоучительную жизнь архиепископа Димитрия, угодно было, чтобы светильник сей стоял на страже Господней и светил людям до своего заката – до последнего дня «земного странствования», как сам он любил выражаться о настоящей жизни. Случайное, как увидим, обстоятельство послужило поводом к новой перемене в его жизни, и мысль об отставке была отложена.
Были однако, и здесь светлые и радостные в жизни Димитрия дни. В Ярославле ему привелось праздновать двадцатипятилетие своего служения в епископском сане. Сам он любил приветствовать старцев447 по случаю настоящих – пятидесятилетних юбилеев; но 25 лет он не считал особенным термином и поводом для празднования. Он даже и не думал о своем юбилее; и когда ему напомнили о том, то всячески старался отклонить всякую мысль о каком-либо торжественном праздновании этого дня: он говорил, что хорошо не помнит число, в которое совершилась его хиротония, и что не считает себя в праве принимать поздравления от паствы, которой служит всего полгода. Но паства искренно желала почтить своего архипастыря. В епарх. ведомостях, за долго до 4-го марта, появилось извещение о предстоящем, знаменательном в жизни преосвященного, дне; отцам благочинным рекомендовалось заготовить письменный приветствия от лица подведомого им духовенства, – так, чтобы вся епархия могла принять участие в выражении благожеланий своему Владыке. Желания почитателей исполнились: поздравления их были приняты с благодарностью... Никакого торжества и празднества по этому поводу не было, ни в архиерейском доме, ни при кафедре. Тем не менее Владыка видимо был тронут неожиданными выражениями искренней любви к нему всей ярославской паствы, в лице представителей ее от всех сословий и званий; с другой стороны и поздравители до глубины души умилены были добротою и простотою своего архипастыря, которые так полно вылились в его благодарственной речи. Что действительно юбилейный день пролил луч света на душу преосв. Димитрия, это видно из тона его письма в Одессу, в котором он, как бы мимоходом, описывает свой праздник. «Кстати о 4-м числе. Здешнее городское общество почтило этот день тем, что собрало до 3.000 руб. на стипендию в семинарию и гимназию. Вспомнили, дай им Бог всякого блага, и одесситы: одесская дума, чрез исправляющего должность головы, прислала мне свой привет. Я не только не говорил никому, а напротив, когда спрашивали, указывал то на 10-е, то на 15-е число: но доискались. Впрочем, я все-таки не велел никого принимать; а служил у себя в домовой церкви по-домашнему: с двумя иеромонахами и без певчих, под предлогом посвящения ставленника. Но 5-го числа был в нашем монастыре большой праздник – перенесение свв. мощей почивающих здесь угодников. Этим и воспользовались поздравители и собрались в большом количестве».
В другой раз ярославская паства имела случай выразить своему архипастырю сугубую радость во дни св. Пасхи в 1875 году, когда, вместе с праздничными приветствиями, принесены были от всех сословий поздравления с высокою Монаршею милостью. 13-го апреля сего года преосв. Димитрию был пожалован алмазный крест для ношения на клобуке, при следующем рескрипте: «Преосвященный архиепископ ярославский Димитрий! Святительское поприще ваше, в течение многих лет совершаемое, непрестанно ознаменовывается благотворною для церкви деятельностью, неослабными трудами на пользу паств, вверяемых вашему архипастырскому водительству, самоотверженною христианскою любовью и отечески-попечительным управлением, стяжавшим вам глубокое уважение и сыновнюю преданность пасомых. В справедливом и признательном внимании к столь высоким качествам вашего служения Всемилостивейше жалую вам препровождаемый при сем алмазный крест для ношения на клобуке. Молитвенное предстательство соименного вам угодника Божия, некогда подвизавшегося на занимаемой вами святительской кафедре, да укрепить ваши силы и сохранит вас на дальнейшее служение св. церкви».
IV
«Судьба ведет меня опять в пределы Малой России, или, лучше сказать, Польщизны. Я переселяюсь в Житомир, на Волынскую кафедру». Так начиналось письмо преосв. Димитрия в Одессу (от 17 мая 1876 г.), в котором он описывал обстоятельства этого переселения.
Великим постом 1876 г. преосвященный был болен и не выходил из комнат три недели. На второй день Пасхи он писал поздравительное письмо митрополиту Арсению, находившемуся в то время в Петербурге. В этом письме Димитрий подробно описал свое тяжелое положение. Указав на то, что в 1875 году он проболел около пяти месяцев, и в 1876-м – около месяца, он прямо выводил заключение, что «делать новый опыт оставаться здесь еще на осень и зиму даже опасно, так как пребывание его в Ярославле сопряжено с великими неудобствами, и для него, и особенно для епархии». Прося далее, совета у своего старого учителя и покровителя, он в заключении высказал ему свою мысль: – «если еще не настало время покончить службу и идти на покой, то я с удовольствием принял бы перемещение на одну из двух вакантных, южных епархий – Волынскую или Кишеневскую»448.
Митроп. Арсений с большим сочувствием отнесся к положению Димитрия и с полною готовностью помочь ему в стремлении на юг. Через неделю преосв. Димитрий получил от Арсения ответное письмо, из которого видно, что в Петербурге речь о переводе Димитрия из Ярославля в Житомир ведена была еще раньше выраженного самим Димитрием желания. Арсений настойчиво рекомендовал Димитрию епархию волынскую, которую хорошо знал, так как управлял ею двенадцать лет (1848–1860) бывши архиепископом варшавским, – и побуждал поторопиться прошением; «Желанию и разумному выбору Вашему, писал митроп., я вполне сочувствую, и даже без Вашего спроса и ведома делал по сему предмету некоторые попытки пред властями предержащими, но ничего пока определенного не услышал. Перемещение это (на Волынь), надеюсь, оживить Вас: в Почаевской лавре воздух прездоровый, да и в Житомире климат очень хорош. Напишите и попросите поусерднее самого председателя Св. Синода: может быть наконец и смилуются над Вами, и без того – ни за что, ни про-что – уже довольно чувствительно обиженным. А о Кишеневе, ради Бога, не говорите ни слова». Преосв. Димитрий исполнил совет Киевская митрополита и написал просительное письма митрополиту с.-петербургскому Исидору, сообщив о своем согласии и Арсению. «Два митрополита – пишет в своем письме преосв. Димитрий – подвинули мое дело так быстро, что 23 апреля положили в синоде составить доклад о перемещении меня на Волынь, а 26 – доклад был утвержден уже Государем Императором... А на другой день в ночь митрополита Арсения не стало в живых: как будто он для того и спешил, чтобы дождаться перемещения моего на Волынь». Последнее обстоятельство крайне поразило Димитрия, – тем более, что узнал он о смерти Арсения совсем неожиданно. 27-го апреля он получил от Арсения телеграмму с извещением об окончании дела, и в тот же день послал ему ответную телеграмму, которую, к великому удивлению, получил обратно 28-го числа, с надписью: «недоставлена за смертью адресата». – Преосв. Димитрий так и объяснял это обстоятельство, как особенное действие промысла Божия над ним. «Моя судьба, писал он впоследствии, тесно была связана с митроп. Арсением, на всем протяжении жизненного пути; но особенно поучительны для меня начало и конец наших земных отношений. Первым, важнейшим для меня, действием покойного было назначение меня в Киевскую академию; последним его делом на земле была забота обо мне же, об улучшении моего положения: он, кажется, и отошел в вечность с мыслию обо мне». Действительно, духовное сродство необыкновенно сближало в жизни этих замечательных святителей; им Бог послал одинаковый исход и в жизнь вечную: оба они – и Арсений и Димитрий – скончались внезапно, безболезненно, после приготовления к совершению божественной литургии.
Указ ярославской духовной консистории о перемещении ярославского архиепископа был послан из Св. Синода 3-го мая. Между тем, преосв. Димитрий еще раньше начал приготовляться к отъезду и прощаться с ярославскою паствою, участвуя, по обычаю, в усиленных, почти ежедневных, молитвах вместе с пасомыми. Так, 2-го мая он совершал литургию в Афанасьевском монастыре; 3-го мая служил в семинарии, отложив, впрочем, прощание с учащими и учащимися до другого дня; 9-го служил в церкви Николаевского детского приюта; 12-го, в день отдания Пасхи, совершал литургию в женском духовном училище и прощался с детьми; 13-го, в день Вознесения, служил в женском Казанском монастыре, а 14-го – в крестовой церкви архиерейского дома; наконец, 16-го мая он совершал последнюю литургию в кафедральном соборе и прощался со всею паствою.
Накануне этого дня преосвященный нарочито посетил семинарию, где к 12 часам в актовой зале собрались начальствующее, преподаватели и ученики. По входе Владыки пропет был тропарь Вознесению Господню; затем, ректор семинарии, протоиерей Н. Тихвинский высказал архипастырю дорогие для семинарии воспоминания и те искренние чувства, которые невольно вызывались близкими, истинно-отеческими отношениями Его Высокопреосвященства к семинарии. – «Светлы были, – говорил в своей речи о. ректор, – отрадны и ясны, полны мира и благодати непродолжительные дни Вашего святительского управления нами: светлы они были для всей Вашей паствы, согретой Вашею отеческою любовью; но особенно много радостных, неизгладимых воспоминаний они оставляют для семинарии. Вы приняли под свое любвеобильное попечение семинарию, почти только выступившую на новый путь, указанный ей реформой, и руководили нас в то время, когда особенное необходимо и благотворно было для нас опытно-мудрое водительство. Вы духовно возродили семинарию в новом, давно ожиданном и благоустроенном ее помещении, освятив наш храм. При частых посещениях нас Вы не жалели дорогого времени и сил, чтобы наставить, поощрить и ободрить и учащих и учащихся». – Благостно и с доверием к искренности и непритворности сказанного выслушав речь начальника заведения, Владыка с любовью Отца выслушал и непосредственные выражения чувств самих воспитанников в двух речах. По выслушании первой ученической речи, архипастырь обратился к оканчивавшим курс воспитанникам с напутственным наставлением, в котором, напомнив о высокой важности и ответственности пастырского служения, советовал сколько возможно строже и обдуманнее относиться к избранию поприща священнослужительского и лучше избирать всякое другое посильное поприще, чем легкомысленно и без достаточного испытания внутреннего призвания поступать во священника. Затем, Владыка, прощаясь с учащими и учащимися, преподал архипастырское благословение каждому отдельно. Общее настроение чувств, выражавшее скорбь о разлуке, видимо трогало доброго Владыку, глубоко любившего детей: у него на глазах навернулись слезы и многие из воспитанников буквально заплакали. Преподав после молитвы общее благословение всем собравшимся, Владыка оставил семинарию. При выходе из зала он скромно вручил о. ректору тот банковый билет, который поднесен был ему Ярославским городским обществом в день совершившегося двадцатипятилетия его святительского служения. «Стипендия имени преосв. Димитрия, сказано в заключении описания настоящего посещения им семинарии449, служа вещественным памятником глубокого уважения и любви к Владыке ярославского общества, будет для семинарии вечным памятником любви к ней архипастыря, давая средства к безбедному учению и воспитанию одного из бедных воспитанников».
Торжественное служение преосв. Димитрия в кафедральном соборе, в воскресенье 16-го мая, собрало все городское духовенство и множество народа, жаждавшего принять благословение почитаемого Владыки и услышать его последнее слово. Нужно сказать, что обстоятельства, при которых Димитрий оставлял Ярославскую кафедру, невольно порождали смутное неопределенное чувство как у архипастыря, так и у паствы: сам преосвященный не мог не смущаться мыслию, что уходит с кафедры по своей, так сказать, вине; а с другой стороны – и ярославцы, искренно полюбившие Димитрия и не желавшие отпустить его, не смели говорить о том, принимая на себя невольную вину, заключавшуюся в их «суровом климате». Прощальное слово Димитрия совершенно изгладило эту внутреннюю борьбу чувств и примирило всех с необходимостью разлуки. Он со всею откровенностью и прямотою высказал своей пастве причины, побудившие его оставить занимавшую кафедру, и с полною убедительностью привел слушателям все доводы, по которым они должны были отпустить его с миром и благословениями. Вот что говорил он в этой проповеди: «Знаю, что вы, возлюбленные братие и чада мои о Господе, не без скорби разлучаетесь со мною, ибо видел и вижу выражения на ваших лицах. Простите мне, причинившему вам эту скорбь. И тем усерднее прошу о том, что не смею назвать мою разлуку с вами невольною, вовсе независящею от моего хотения, хотя не могу с другой стороны не признать себя вынужденным удалиться отселе. Не как наемник, который видит волка грядуща и бегает, оставляю я вас, братие мои. Если бы я видел какую-либо угрожающую вам опасность, я охотно разделил бы ее с вами. Если бы град ваш и всю страну сию посетил гнев Божий в каком-либо бедствии общественном, я готов был бы первый подвергнуться за всех вас. Но благодарение милосердию Божию, я оставляю паству ярославскую благоустроенною, пребывающею в мире, тишине и благоденствии, не угрожаемою никакою опасностью и никаким бедствием. И молю всем сердцем Господа, да осенит ее выну Своим небесным благословением. Не упрекайте меня и в малодушии, которое, не стерпев суровости воздуха, боясь подвергнуться болезням, побуждает меня удалиться отсюда, забыв долг пастыря, полагающего душу свою за овцы. Если бы опасность угрожала моему здоровью, а не самому делу служения моего, – если бы от нее не происходило ущерба и вреда многим, – я пренебрег бы ею для вас, неубоялся бы никакого недуга, чтобы не разлучаться с вами до конца жизни. Знаю, что недуги и болезни суть наше неотъемлемое наследие от первого праотца, что они неразлучны с нами во всех странах света, что ни от болезней, ни от смерти не уйдешь никуда. Но мог ли я не скорбеть духом, когда многие, имевшие настоятельную и крайнюю нужду в личном объяснении мне своих требований, в личном участии и действиях моих для удовлетворения их нуждам, приходившие из дальних пределов нашей области, должны были возвращаться со скорбью, не видевши своего пастыря, прикованного к одру болезни? Мог ли я, не сокрушаться сердцем, когда и в великие праздники Господни и во дни торжественных молений, завещанных нам благочестием предков, не мог участвовать в общественной молитве со своею паствою, когда православный народ представлялся смятенным и оставленным – яко овцы, неимущие пастыря? И мог ли не желать я в такие горькие для меня часы, чтобы Господь послал им, вместо меня, пастыря доброго, сильного духом и телом, могущего понести всю тяготу пастырского служения со всею ожидаемою от него пользою для пасомых. И я от всего сердца молю Господа, да пошлет Он пастве ярославской достойного ее пастыря, могущего паче меня. Прошу и молю вашу любовь простить мне эту печаль, какую причинил вам моим безвременным разлучением с вами... С своей стороны чувствую одну только потребность – искренно и вседушевно благодарить всех и за все». Выразив затем особую благодарность сопастырям и сотрудникам, пасомым всех сословий и званий – за все, что утешало и радовало его, и высказав, что все, неизбежные в пастырском служении, скорби и огорчения давно уже забыты и непомянутся к тому, – он преподал пастве последней урок о хранении веры и соблюдений духа древнего благочестия, и закончил словами апостола: «Прочее же, братие, радуйтеся, совершайтеся, утешайтесь, тожде мудрствуйте, мир имейте, и Бог мира и любви да будет с вами».
«Прощальное слово архипастыря вызвало у всех слушателей искрение слезы. Дни разлуки с ним были днями истинной печали для всех ярославцев без исключения»450. Волновавшие их в то время чувства нашли свое выражение в появившихся вскоре после отъезда из Ярославля преосв. Димитрия «воспоминаниях» о нем, которые начинались таким красноречивым сравнением. «Как Товит счисляли мы дни своего сиротства по кончине В.-преосвящен. Нила, и как мать молодого Товии смотрели мы в ту сторону, откуда должен был прийти к нам новый архипастырь – Димитрий: слава о пастырских добродетелях его предходила ему. Ангел Господень сохранил его в пути и привел сюда здравым, и мы, подобно тому израильскому юноше, имели все основания благодарить и прославлять Бога за те высокие духовные радости, какие архипастырь доставил нам своими священнослужениями, проповедничеством и высоким примером жизни. Но вот, не прошло и полутора года, как мы снова вручаем его тому же путеводящему Ангелу, который и привел его сюда. Суровость северного климата, которая угрожала совершенным расстройством здоровья, побудила его желать переведения на юг. Но эти счастливые для нас полтора года оставят в наших сердцах неизгладимую, благодарную память о Владыке-Димитрии» ... Дальнейшие воспоминания451 посвящены оценке проповедничества Димитрия и разъяснению того глубокого влияния на паству, какое производила его общественная молитва и проповедь слова Божия.
Три дня (16, 17 и 18 мая), следовавшие за торжественным прощанием Димитрия с паствою в кафедральном соборе, посвящены были на прощания частные. И в Ярославле, как в Туле и Одессе, преосвященный не мог отказать желающим принять от него последнее благословение, а потому должен был отлагать назначение дня отъезда. «В продолжение этих дней народ непрерывно наполнял архиерейский дом, куда спешили все, чтобы в последний раз взглянуть на Владыку, услышать его слово и принять благословение. Наконец, 19-го мая, после напутственного молебствия в церкви благоверных князей, Владыка еще раз простился с паствою и в 12 часов отбыл на станции железной дороги, где приготовлен был экстренный поезд, окруженный несметною толпою народа. Тронутый до глубины души Владыка стоял у открытого окна и благословлял народ, из которого доносились возгласы: «Благослови нас Владыка святый». – «Помолись за нас, Владыка, и мы будем молиться за тебя». – «Прости нас, если мы не умели тебя ценить и, быть может, огорчали иногда»... Поезд отошел медленно, а народ все бежал и не сводил глаз с удалявшегося святителя...
До Ростова преосвященного сопровождали начальник губернии, представители Ярославского городского общества и многие из духовенства. Прибыв в Ростов, преосвященный прямо из вокзала поехал в городской собор. Собор был полон народа; около собора, также на всем пути стояли толпы ростовцев. В соборе преосвященный слушал молебен у мощей ростовских святителей и потом благословлял народ. Посетив затем духовное училище, открытое в бывшем архиерейском доме, он отбыл в Яковлевский монастырь на ночлег. На другой день Владыка служил литургию, за которою говорил прощальное слово, обращенное к жителям великого Ростова; а по окончании литургии служил молебен святителю Димитрию, у святых его мощей, и много плакал у его раки. Здесь так же, как и в Ярославле, Владыка должен был несколько часов благословлять народ, сначала в храме, потом в своей квартире. Затем он пожелал посетить храмы Иоанна Милостивого, Исидора блаженного, Авраамиев монастырь и женский монастырь, – и таким образом оставался без отдыха целый день. В 11-м часу ночи он снова отбыл на железную дорогу, для дальнейшего следования. Опять пришлось простоять около часу, чтобы проститься с ростовскими гражданами, наполнявшими вокзал и желавшими выразить свою любовь к архипастырю и глубокую скорбь о разлуке с ним. Только к 12-ти часам Владыка мог войти в приготовленный для него вагон, который, по усердию ярославцев, нанят был на весь путь – от Ярославля до Киева. «Так мы проводили любимого архипастыря Димитрия, заключает описатель проводов. – «Слезы наши были искренни: не стало у нас благодатного молитвенника. Год и 51/2 месяцев согревал он нас своею святительскою любовью... Ярославль осиротел»452.
Чувства взаимной любви архипастыря и паствы еще раз выразились спустя некоторое время после отбытия Димитрия из пределов ярославской епархии. Желая закрепить свою любовь к бывшему своему Владыке и его расположение к себе, ярославские граждане, через посредство своего городского головы А. П. Шубина, послали на память преосв. Димитрию нарочито изготовленную архиерейскую мантию. В ответ на это преосвященный прислал ярославским гражданам копию с чудотворной Почаевской иконы Богоматери, при следующем письме на имя городского головы. – «С сердечным умилением и радостью имел я утешение получить чрез посредство Ваше дорогой для меня подарок ярославских граждан, – тем более дорогой, что он напоминает мне о той любви и усердии, с которыми и встретили и проводили меня жители Ярославля, которыми я пользовался не по заслугам и достоинству и во все время пребывания моего в Ярославле. Как ни коротко было это счастливое для меня время, но оно оставило в сердце моем глубокое чувство родственной любви и привязанности к ярославцам, которое не изгладится никогда, которое душа моя унесет за пределы гроба. – И всегда я не переставал поминать в молитвах моих незабвенную для меня паству ярославскую: теперь же всякий раз, при входе в храм Божий облачаясь в пожертвованную мне мантию, тем усерднее буду молиться: да сохранить Господь сию цветущую благочестием и усердием к св. церкви паству под кровом Своей благости, да оградит и защитит ее от всяких зол ограждением св. Ангелов Своих. Препровождаемый при сем список к Почаевской чудотворной иконы Божией Матери прошу представить ярославской думе, как представительницы городского общества, и поставить в зале, где происходят совещания гг. гласных о нуждах и пользах города. Пресвятая Владычица наша Богородица да управит все советы и намерения их во благое и да сохранит их и всю паству ярославскую под благодатным покровом Своего матернего заступления».
«Призывая на Вас и сограждан Ваших благословение Господне, с искреннею любовью и преданностью пребуду навсегда ваш усерднейший слуга и богомолец – Димитрий, архиепископ Волынский. (9 Сентября 1876 г.).
Этим письмом и мы заканчиваем ярославский период биографии преосв. Димитрия.
Глава 5. Волынь
I
Извещая родственников об отбытии из Ярославля, преосв. Димитрий писал между прочим: «отсюда я выезжаю послезавтра, 19-го мая, но буду ехать медленно, останавливаясь в Ростове, в Сергиевой лавре, в Москве, Орле, Курске и Киеве, – так что прибуду в Житомир не раньше 4-го, или 5-го, а может быть и после 10-го июня». Медленность движения вызывалась, с одной стороны состоянием здоровья преосвященного, недозволявшим ему утомительных переездов, а с другой – желанием воспользоваться случаем для свидания с известными ему преосвященными. Более продолжительная остановка была, конечно, в Киеве, что вызывалось особенным душевным настроением преосвященного. Он чувствовал на сей раз особую потребность в усердной молитве пред дорогими для него киевскими святынями о ниспослании ему немощному небесной помощи для продолжения служения в новой, неведомой стране. Кроме того, ему желательно было помолиться над свежею еще могилою своего благодетеля – митрополита Арсения; он даже нарочито остался здесь несколько дней, чтобы в сороковой день (6-го июня) по кончине митрополита отслужить заупокойную литургию.
В Житомир Димитрий прибыл поздно ночью 10-го июня. Еще из Ярославля он писал эконому житомирского архиерейского дома, поручая ему передать городскому духовенству первое его архипастырское благословение и выражая желание вступить на новую кафедру, как вступал некогда на кафедру тульскую. – На этот раз желание его не исполнилось: неблагоприятная погода утра 11-го числа воспрепятствовала устроить крестный ход. Но Владыка не отложил своего намерения служить литургию в первый день своего пребывания на новой епархии. К 10 часам утра он прибыл к кафедральному собору, где его встретило собравшееся городское духовенство с преосвященным викарием во главе. В приветственной речи, обращенной к новому архипастырю, преосв. Иустин выразил ему радость паствы и надежду на добрые взаимные отношения. «Твои прекраснейшие качества, на опыте изведанные уже многими паствами и везде стяжавшие любовь к Тебе, – Твоя отеческая доброта, Твоя пастырская мудрость, Твое слово, благодатью растворенное и умиротворяющее, давно были ведомы и новой Твоей пастве. Поэтому, сретая Тебя, радуемся и благодарим Бога.... Дал бы только Бог, чтобы и Ты в новой пастве обрел такие качества, который могли бы достойно привязать к ней Твою отеческую и архипастырскую любовь»453.
В конце литургии, совершенной вместе с пр. викарием и соборным духовенством, преосв. Димитрий говорил свое первое слово к волынской пастве. По содержанию это слово имеет много сходным с словом, сказанным при вступлении на кафедру ярославскую. Преподав благословение «стране, которая древле была достоянием св. Владимира и его потомков, – приветствовал миром православный народ земли волынской, сохранивший твердо и неизменно веру отцов среди вековых бурь и напастей, запечатлевший любовь свою к Господу Иисусу Христу – единому вечному и непременяемому Главе церкви Своей – вековыми страданиями и терпением», архипастырь далее дает урок о том, как нужно принимать и сохранять в душах благодатный, превосходящий всякий ум, мир Божий, живою верою, любовью споспешествуемою и делами благими оправдываемою; в заключении же обещает посвятить всего себя на служение пастве. «Мы не только по долгу, – говорил он своим слушателям, – но и по любви пастырской необленимся споспешествовать вам в этом важном и необходимом деле умиротворения и упокоения духа вашего в Боге. Будем неленостно возвещать вам слово Божие, сколько благодать Духа Святого подаст нам разума и силы. Будем возносить о вас молитвы пред всепримиряющей жертвою. Просим и вас возбуждать наше усердие постоянным вниманием, подкреплять наши молитвы вашими совокупными молитвами»! – По литургии совершено было, при участии всего городского духовенства, благодарственное Господу Богу молебствие.
На другой день в том же соборе преосвященный служил панихиду по своем предместнике, архиепископе Агафангеле; а на третий день (в воскресенье 13-го июня) опять в кафедральном соборе служил литургию и произносил вторую проповедь. В то же воскресенье он принимал в своем доме всех, пожелавших приветствовать нового архипастыря и принять от него благословение. Тут были представители губернской власти, с начальником губернии во главе, затем, по обычаю западного края, явились депутации от городских обществ, – от местного купечества и разных городских цехов, – все с хлебом-солью «на новоселье». Выдающеюся была депутация от богатого житомирского еврейского общества. Тридцать избранных старцев евреев поднесли преосвященному, от лица всех единоверцев, хлеб-соль с следующим торжественным заявлением: «Евреи всего юго-западного края хорошо знают о том высоком уважении к архиерею-Димитрию, каким он пользовался у их единоверцев – жителей Одессы, за оказанные им благодеяния; а потому и мы считаем священною обязанностью с теми же чувствами уважения и любви приветствовать новое пришествие в наш край праведного служителя Божия». Смиренный Владыка всех милостиво выслушал, всех благодарил от всего сердца, и всем выражал искреннее желание найти в новой пастве новый радости и утешения.
Через две недели новый волынский Владыка был уже на другом конце своей епархии. Посетив на пути город Острог, где служил литургию и произносил проповедь в церкви Кирилло-Мефодиевского братства, он прибыл 25-го июня в Кременец и встречен был торжественно в городском Николаевском соборе. Главною целью путешествия было посещение семинарии, так как семинарию Димитрий считал важнейшим учреждением в епархии, а потому требующим наибольшего внимания со стороны архиерея. При этом первом посещении Волынской семинарии преосв. Димитрий – совершенно случайно, но вполне кстати и своевременно – высказал одно замечание, дававшее ясный намек на те правила, которых он сам намерен был держатся, вступив в управление новою епархией. Нужно заметить, что Волынская семинария, самая обширная по числу воспитанников, занимает едва-ли не самое лучшее помещение, доставшееся по наследству от старинного католического учреждения. В больших каменных корпусах помещался прежде Базилианский монастырь и при нем униатский коллегиум, преобразованный, в начале настоящего столетия, в польский шляхетский лицей, а в тридцатых годах, вместе с Почаевскою лаврою и другими униатскими монастырями, переданный правительством в ведение Волынского епархиального начальства. Тогда же (в 1836 году) переведена была в Кременец семинария, теснившаяся до того времени – то в Остроге, при архиерейской кафедре, то в м. Аннополе (с 1825 г.). В конце приветственной речи, которою встречал преосв. Димитрия о. ректор семинарии, высказана была мысль о неисповедимых путях промысла Божия, который в тех самых стенах, в которых прежде ковалось оружие против православной церкви, – из того института, который приготовлял борцов против нашей веры, образовал и укрепил рассадник православия, источник истинного света на обширный юго-западный край России. Отвечая на эту речь, преосвященный пожелал семинарии полного успеха в предначертанном ей свыше деле, но при этом сказал: «забудьте старое зло; а лучше поблагодарите прежних врагов за то, что они, неведомо для будущего, устроили вам такое прекрасное здание»454. Этими словами он прямо указал, что в православном «рассаднике» нужно воспитывать умы не в духе вражды к многочисленным иноверцам – католикам, среди которых придется служить будущим православными пастырям волынской епархии, а в духе кротости и мира. Это было как бы продолжением того глубокого учения о мире Божием, которое раскрыто было Димитрием в его первом слове к Волынской пастве.
Осмотрев семинарию и духовное училище и переночевав у пр. викария в Богоявленском монастыре, преосвященный Димитрий на другой день отбыл в Почаевскую лавру, с намерением провести здесь лучшую летнюю пору для отдыха и возможного поправления здоровья. Первое впечатление лавры на преосвященного было хорошее и благоприятное, что, между прочим, видно из подробного описания в первом его письма в Одессу. «Почаев – действительно прекраснейшее место! Лавра на высокой горе, а под горою – местечко Почаев, по здешнему обычаю, набитый евреями. С одной стороны, верст на 8–10 долина, покрытая полями и рощами, а за нею возвышенности и горы, одетые лесами, с другой – за монастырским садом – лес, покрывающий холмистую, постепенно возвышающуюся местность. Большая, холодная церковь, – великолепная, построена над самым обрывом скалы и на самом ее темени; к ней примыкают, по обычаю католических кляшторов, братские корпуса. Отдельно построена теплая церковь и отдельно же – изящная и высокая колокольня. Архиерейский дом на скате скалы, так что с одной стороны он выходит одноэтажный, а с другой – трехэтажный. Помещение очень хорошее и удобное. – За то житомирский архиерейский дом неудобен и тесен, и притом находится на сыром месте. Лет десять тянется переписка о постройке нового дома, на другом месте – вблизи собора: но скоро-ли придет в исполнение это предположение – Бог знает. По всей вероятности, мне уж не дождаться. Если есть что в Житомире особенно замечательного, это – собор, действительно великолепный. По вместимости – он не менее Одесского, а в архитектурном отношении не может быть и сравнения».
В Почаеве преосв. Димитрий прожил все лето и часть осени, до половины октября, но жил не постоянно, так как в некоторые дни считал нужным быть при кафедре и служил в кафедральном соборе (в высокоторжественные дни 22 и 27 июля, 26 и 30 августа и 6-го августа – храмовой праздник собора). Проездом из Почаева в Житомир и обратно обыкновенно посещал города и местечки для обозрения церквей. Точно так Димитрий располагал временем и в последующие годы: зиму он проживал в Житомире, а на лето переселялся в Почаев. Впрочем, такой порядок здесь заведен был издавна и вызывался отчасти необходимостью. Кафедра Волынской епархии, основанная сначала в Остроге (1795 г.), была потом в Аннополе (с 1821 г.) и одно время – в Почаеве (с 1834 г.), и только в 1841 году перемещена в губернский город Житомир. Епархиальному архиерею нужно было находиться и в Житомире, где находится консисторий, а с другой стороны требовалось непосредственное его управление лаврою и надзор за семинарией, находящейся близ Почаева. А между тем, и то и другое место пребывания архиерея находятся не в центре епархии, а в противоположных концах ее, и потому представляют одинаковые удобства для сношения с духовенством. Вот почему Волынские архиереи всегда, и до Димитрия и после него, делили почти поровну время пребывания между Житомиром и Почаевым455.
II
Преосвященный Димитрий сам просил о перемещении его из Ярославля на Волынь. Но что же? Можно ли сказать, что это случайное перемещение отвечало его сокровенным желаниям, – его настроению и душевному состоянии? Нет. Оно не обещало ему тех духовных радостей и утешений, какие обильно доставляли ему прежние паствы. Напротив, непривычная, юго-западная среда, так резко отличающаяся своими особенностями, не могла не влиять неблагоприятно на открытую душу чисто-русского человека, каким был Димитрий; а при болезненном его состоянии, многие местные явления просто удручали его и невольно вызывали чувства неприятные. Еще до отъезда из Ярославля он высказывал сомнение относительно спокойствия, какое обещали и желали ему на новом месте служения, а то, что увидел и узнал он здесь, превзошло даже его опасения. Прожив год на Волыни, он так описывал свое положение в письме к другу – архиепископу Платону. «Что сказать Вам о себе? Увы, я променял сокола на кукушку. Меня напугал суровый ярославский климат (правда, я долго страдал там ревматизмом), но здесь (собственно в Житомире) нашел еще хуже. Зима здесь чересчур непостоянна: только в декабре, недели две–три подержался порядочный мороз, а с конца декабря пошли такие перемены: то распустит, то подморозить, – то снег валит хлопьями, то дождь и слякоть. К несчастно, дом архиерейский, весьма тесный и неудобный, находится в такой сырой местности, что подвалы постоянно полны воды. В течение зимы у меня три раза возобновлялась ревматическая боль в ногах, которая заставляла просиживать недели по две без движения, и столько же с полудвижением. Если придется пережить здесь еще такую зиму, то, по всей вероятности, я совершенно лишусь употребления ног. Одна лавра, с ее дивным местоположением, – одна святыня лавры делают пребывание там приятным; а здоровый горный воздух может освежить и поддержать здоровье. За то люди здесь – бедовые. Здешнее духовенство пропитано насквозь шляхетским духом пронырства, лживости, лукавства и строптивости. Думаешь отдохнуть в лавре, под сенью святыни, а и там, между монашествующими, тот же п… дух456. Невольно иногда посетуешь на покойного митрополита Арсения, который втянул меня сюда». Такая, необычная в устах кроткого Владыки, плачевная жалоба, быть может, вылилась из-под его пера под влиянием какого-либо особенного огорчения, или просто под гнетом физических страданий; но несомненно то, что для подобного суждения о своей епархии он имел верные основания. «Древнее достояние Св. Владимира». – Волынь слишком долго была под иноземным и иноверным владычеством, чтобы население края могло так скоро освободиться от привитого к нему шляхетского духа.
В Волынской епархии, обширнейшей по пространству и многолюднейшей457, в 80-тых годах насчитывалось 1208 православных церквей. Одно множество епархиальных дел и количество духовенства не могли не смущать слабого силами и уже преклонного старца – нового архиерея. Если же присовокупить к тому действительно существовавшие, исторически-сложившиеся особенности местного быта, – тот дух, который особенно смущал смиренного Димитрия, – то понятна будет тягота, которую испытывал он во все время управления Волынскою епархией. Вся Волынь, как и Подолия, еще недавно была почти сплошным католическим и униатским краем: большинство православных церквей были прежде униатскими; все двенадцать монастырей, вместе с почаевскою лаврою, также приняты от униатов; очень многие из духовных были ближайшими потомками униатов, а некоторые старцы и сами были прежде униатами. Уния так глубоко здесь укоренилась, что надолго еще оставила свои следы, как во внешнем быту пастырей и пасомых, так и во внутренней церковной жизни, даже в церковных обрядах и особенностях богослужения458.
Преосв. Димитрий хорошо сознавал, что по своему характеру он не может выступать на путь борьбы с укоренившимися недостатками, а потому старался действовать на умы и сердца духом кротости и смирения. Все законные желания духовенства он предупредительно приводил в исполнение и все просьбы по возможности удовлетворял; постановления съездов духовенства, как выражения мнений всей епархии, всегда утверждал, без особенных возражений на суждения съездов459, и только иногда высказывал (в своих резолюциях) сожаление о том, что на его предложения съезды мало обращают внимания, или недостаточно обсуждают его мнения по частным вопросам. С другой стороны он не опускал случая выразить одобрение и поблагодарить духовенство, когда деятельность его представителей совпадала с его желаниями и намерениями. Тем не менее, нельзя было не заметить, что со вступлением на Волынскую кафедру деятельность преосвященного по епархиальному управлению значительно сократилась. Уступая настоянию близких людей и особенно врачей, советовавшим ему беречь остатки сил, и подчиняясь отчасти чувству нерасположения к местному характеру быта, он постепенно передавал дела по епархиальному управлению своему викарию. Так, на Волыни преосв. Димитрий не предпринимал уже обычных, продолжительных поездок для ревизии церквей. Следуя порядку, заведенному здесь еще при прежних архиереях, он утверждал составляемый ежегодно консисторией маршрут, а выполнение его предоставлял викарному преосвященному, которого посылал для обзора церквей в уездах – преимущественно южных и крайних северных, не лежавших на пути из Житомира в Почаев. В 1879 году, предлагая некоторые вопросы на обсуждение обще-епархиального съезда духовенства, преосвященный указал также, чтобы все журналы по текущим делам окружных съездов представлялись на рассмотрение и утверждение преосвященному викарию, и только дела по важным вопросам представлять ему. А в начале 1880 года, по предложению Его Высокопреосвященства, от 7-го января, Волынская консистория постановила: 1) все журналы консистории отныне представлять на рассмотрение и утверждение к преосвященному викарию, и 2) подтвердить чрез Епархиальные Ведомости, чтобы прошения на причетнические и просфорнические места подавали преосвященному Викарию460. – Благодарение Богу – преосв. Димитрий счастлив был тем, что оба викарные преосвященные, преемственно служившие при нем на Волыни (сначала – до 23 апр. 1879 г. пр. Иустин461, а потом пр. Виталий462, были люди опытные, весьма деятельные и старательные помощники епархиальному Владыке.
При всей, однако, слабости старческих сил преосв. Димитрий много сделал доброго и для волынской епархии. Главным и постоянным предметом его забот и здесь были духовно-учебные заведения. Волынская семинария по штату 1867 г. выделялась из всех семинарий многочисленностью учащих и учащихся: в ней одной только положено было по три штатных отделения в I, II и III классах, и по два – для IV, V и VI клл.; число штатных учеников определено в 605 челов.; учительский персонал состоял из 30-ти человек, кроме ректора, инспектора и его помощников. И несмотря на такие широкие штаты семинария все еще не могла удовлетворять волынское духовенство в воспитании детей; кроме того, она находилась в отдаленной окраине епархии, что весьма затрудняло духовенство в содержании учащихся. Если где, то на Волыни требовалось неотложное решение вопроса об устройстве общежития для своекоштных учеников семинарии. Вопрос этот и был поднят еще при пр. Агафангеле, но в течение десяти лет оставался без разрешения. В 1878 г., по предложению Димитрия, семинарское правление представило епархиальному съезду духовенства проект устройства общежития и основательно доказывало как неотложность дела, так и своевременность приступить к нему. Правление указывало на предшествовавшие заботы пр. Агафангела, на заявление о том же двух ревизоров Учебного Комитета, на возрастающую потребность в ограждении учеников от дурного влияния, и наконец на удобный случай: «теперь – говорилось в предложении – когда штат семинарии точнее определился и когда начаты уже при семинарии постройки, имеющие целью применить здания к требованиям нового устава, – удобнее всего приступить и к устройству общежития своекоштных учеников». Съезд согласился с предложением в принципе, но пока на общежитие ассигновал только 5.000 рублей, и то с рассрочкою на четыре года; при чем он просил Его В.-преосвященство ходатайствовать пред Св. Синодом, чтобы содержание будущего дома по ремонту помещений для своекоштных воспитанников было принято на казенный счет463. Преосв. Димитрий знал, что подобное ходатайство не может быть удовлетворено, и потому побуждал духовенство озаботиться скорейшею постройкой дома для общежития, не входя в обсуждение будущего содержания его. Но дело шло туго. Духовенство не хотело возвышать сборов на этот предмет, и в течение первых трех годов (1878, 79, и 80) собрано было только 2.350 р.464.
Впрочем, у волынского духовенства была на то своя причина. Давно оно тяготилось отдаленностью помещения семинарии; давно высказывало желание перевести ее в губернский город. Но так как и Житомир находится не в центре губернии, то, при введении нового устава и по поводу новых штатов, духовенству пришла мысль – вместо одной многолюдной семинарии устроить две: одну оставить в Кременце, а другую, в виде параллельных классов, учредить в Житомире. Навстречу этой мысли с большим сочувствием шел и преосв. Димитрий, тем более, что представлялся прекрасный случай, который давал надежду осуществить мечту весьма скоро и удобно. В то время в военном министерстве решено было закрыть Житомирский военный госпиталь и разместить его по другим городам, сообразно с расквартированием войск. Оставалось таким образом прекрасное здание, на которое и указали духовенству, как на удобное для семинарии. Преосв. Димитрий, снесясь предварительно с генерал-губернатором и узнав, что зданию не предстоит пока другого назначения, поспешил войти с представлением в Св. Синод, прося его распоряжений о приобретении указанного дома и разделении епархиальной семинарии. От Св. Синода послан был архитектор, который осматривал здание госпиталя и находил его вполне удобным для намеченной цели. Но дело устройства житомирской семинарии тогда не осуществилось по той простой причине, что военное министерство, после долгих колебаний, решило (уже после отбытия преосв. Д. из Волыни) оставить военный госпиталь на своем месте – в Житомире. – В ожидании устройства общежития преосв. Димитрий предложил, в 1880 г., еще одну меру к улучшению быта семинарии: он посоветовал образовать при семинарии «попечительство о бедных учениках». Мера эта была принята и попечительство скоро открыло свои действия, благодаря щедрому пожертвованию, положенному в основание самим Димитрием. К сожалению, во взглядах на улучшение быта семинаристов, желания епархиального преосвященного иногда не совпадали с желаниями волынского духовенства: они, так сказать, не сходились во вкусах. Так, например, съезду духовенства правление семинарии предлагает (1880 г.) устроить баню для учеников. Съезд определяет: предложение отклонить. Пр. Димитрий делает против этого определения свою заметку: «очень жаль, что духовенство мало обратило внимания на баню при семинарии и пожалело отпустить 400 р. на устройство необходимого предмета». (Но известно, что малороссы баню не считают насущною потребностью). С другой стороны духовенство настойчиво просить о таком предмете, который на взгляд Димитрия кажется не стоящим внимания: «съезд еще раз просить Его В.-пр-ство ходатайствовать о присвоение форменной единообразной одежды для учеников всех учебных заведений в епархии»; преосв. Димитрий с своей стороны замечает: «Стоит-ли ходатайствовать? Приличная форма для духовного воспитанника, готовящегося к священству, – подрясник. Станут ли носить?»465.
Духовных училищ в епархии было четыре, как и ныне: Житомирское, Кременецкое, Мелецкое и Клеванское. Все они, кроме внутренней реформы по требованию нового устава, нуждались в то время и во внешнем улучшении и обновлении. Одно только Кременецкое духовное училище, как помещавшееся в собственном новом доме, была сравнительно в хороших условиях и не испытывало при Димитрии никаких перемен во внешнем устройстве; притом, находясь в одном городе с семинарией и под ближайшим надзором викария, оно и со стороны воспитательных и учебных средствах было поставлено лучше других.
Клеванское дух. училище находилось прежде в Дерманском монастыре и испытывало там такие стеснения и неудобства, устранить которые, при введении нового устава, считалось почти невозможным. Еще до приезда на Волынь пр. Димитрия возбуждено было ходатайство о перемещении этого училища в другое место, при чем, как на удобное для него помещение, указывали на Клеванский замок, находившийся в ведении департамента уделов. В половине 1876 года дело это решилось в самом благоприятном смысла: в мае месяце получен был на имя преосв. Димитрия указ Св. Синода, которым сообщалось о Высочайшем соизволении на передачу замка в епархиальное ведомство для помещения в нем духовного училища. Таким образом, в первое же лето Димитриева пребывания на Волыни Дерманское училище переселилось в Клевань и устроилось хорошо.
Житомирское училище, также перед самым прибытием Димитрия, приобрело себе другой дом, по соседству с прежним помещением. В 1876 г. был в Житомире ревизор от учебного комитета и советовал окружному духовенству построить еще здание, которое соединяло бы оба дома. Духовенство приняло такой совет с удовольствием и на съезде того же года положило просить Его В.-преосвященство ходатайствовать по этому делу пред высшим начальством, если только не потребуются на то новые сборы с духовенства». Преосв. Димитрий не только ходатайствовал о разрешении построить новый дом, но и просил Св. Синод отпустить из строительного капитала десять тысяч рублей, указывая в оправдание просьбы на то, что духовенство епархии из своих средств употребило 10 т. рублей на постройку церкви и больницы при казенном «Волынском женском училище духовного ведомства». Ходатайство было уважено и требуемая на постройку сумма была отпущена. В построенном двухэтажном здании ныне помещаются – вверху училищная церковь, а внизу рекреационный зал»466.
В печальном состоянии было четвертое д. училище – Мелецкое. Оно помещалось в старом деревянном доме при Мелецком монастыре, который находится в низменной, болотистой местности и окружен бедными поселками, наполовину заселенными евреями. Одно время окружное духовенство поставило даже вопрос о закрытии Мелецкого училища. Преосв. Димитрий передал вопрос на обсуждение общеепархиального съезда (1878 г.), который отверг предложение и постановил не возбуждать более этого вопроса467. Очевидно, что училище было нужно; но округ не знал, что с ним делать. На окружном съезде (1879 г.), вследствие обширного и печального представления училищного правления, духовенство признало положение училища крайним. Указанный правлением недостатки давно были известны духовенству, но в это время число их увеличилось: в училище везде была сырость; здания до того обветшали, что полы проваливались, классный комнаты были непоместительны; что особенно печально – ученики, как и учители, принуждены были квартировать у местных мещан и евреев, рядом с кабаками, при виде постоянных дурных примеров; нравы же общества были таковы, что, например, училище никак не могло сберечь своих дров, постоянно растаскиваемых обывателями. Хотя для устранения квартирного зла духовенство давно решило построить при училище дом общежития и понемногу собирало на сей предмет деньги; но, когда выяснилось крайнее положение самого училища, оно решило искать других радикальных мер. Изложив в своем журнале нужды училища, съезд просил Его В.-преосвященство ходатайствовать пред высшим начальством об упразднении Мелецкого монастыря, с переводом братии в Владимиро-Волынский или Загоровский монастырь, и о передаче монастырских зданий училищу, – или же упразднить Владимиро-Волынский монастырь и перевести училище туда. Преосв. Димитрий на этом журнале положил следующую резолюцию: «Что касается упразднения Мелецкого монастыря, как древле-православного, в который народ издревле привык стекаться на богомолье, то этого предположения одобрить нельзя, тем более, что все неудобства от низменной и сырой местности, от неимения вблизи ни врача ни аптеки, от отдаленности почтовых контор и подобн., останутся те же и по перемещении училища в монастырские здания. На передачу же училищу Владимирского монастыря, как построенного униатами и неимеющего особенного значения для православных, – я согласен, о чем и последует от меня представление Св. Синоду». (12 марта 1879 г.)468. Но прежде, чем войти с представлением в Синод, преосвященный счел нужным нарочно съездить в Владимиро-Волынск, чтобы лично осмотреть монастырские здания, а главное – узнать мнения о предполагаемом упразднении монастыря. Городское общество и само духовенство города выражали Владыке сожаления, если для нужд училища действительно потребуется закрыть монастырь, и видимо не сочувствовали этой мысли, хотя и желали помочь училищу. Отчасти под влиянием подобных отзывов, отчасти по состоянию монастырских зданий, требовавших больших издержек для приведения их в добрый порядок, преосвященный остановил пока дальнейшее движение дела. Между тем вскоре представился случай устроить Мелецкое училище без подобных жертв. По ходатайству преосв. Димитрия, Св. Синод разрешил перевести училище в м. Мациов, где приобретен был удобный для него дом. Окончательное устройство училища последовало уже при преемнике Димитрия.
Не менее, если еще не более, услуг оказал преосвящ. Димитрий волынскому духовенству в деле воспитания дочерей устройством женских училищ. В Житомире давно существует «Женское училище духовного ведомства», состоящее под покровительством Государыни Императрицы469. Но, как существующее на особые, раз определенные средства, училище это по своим штатам и по помещению было в то время очень ограничено: при трех двухгодичных классах оно могло содержать не более 60-ти воспитанниц. Принимая на казенное содержание сирот, оно оказывало существенную помощь не одному только волынскому духовенству; но для своекоштных воспитанниц здесь почти не было места. Озабоченное настоятельною нуждою, епархиальное духовенство давно подыскивало меры к выходу из стеснительного положения, и больше всего останавливалось на двух предложенных проектах: или ходатайствовать о расширении и преобразовании существующего училища, или устроить свое епархиальное женское училище в г. Кременце. Так именно поставлен был вопрос на епархиальном съезде, журнал которого (от 13 января 1878 г.) представлен был на усмотрение епархиального архиерея, с изъявлением крайней необходимости в том или другом училище. Преосв. Димитрий предложил немедленно составить комиссию для основательной разработки вопроса и для приведения его к одному какому-либо результату, при чем сам назначил некоторых членов в эту комиссию. Как и следовало ожидать решение вопроса приняло первое, как более легкое, направление, и комиссия вскоре (13 февр.) представила выработанный проект преобразования «волынского женского училища духовного ведомства», указав при этом на благоприятные обстоятельства, так как в новом прикупленном доме, в котором устраивается церковь, еще много места для новых классов. Съезд постановил: «просить Его Высокопреосвященство войти в сношение с обер-прокурором и просить его ходатайства, чтобы 1) существующее в Житомире училище, не быв изъято из-под Высочайшего покровительства Ее Императорского Величества, было преобразовано в шестиклассное, с расширением учебных программ, применительно к программам Мариинских гимназий, 2) чтобы к средствам, какие духовенство будет жертвовать на ежегодное содержание училища, была отпускаема и та сумма, которая ныне отпускается правительством, 3) чтобы для возвышения уровня образования увеличены были право на жалованье (до 35 р. за урок) и на пенсии преподавателям, 4) заведывание училищем поручено было педагогическому совету, а 5) экономическая часть была вверена правлению из выборных лиц от духовенства и 6) чтобы образование начать с следующего учебного года». Резолюция преосвященного последовала такая: «Согласен. Изготовить, по содержанию сего, отношение г. синодальному обер-прокурору. Для сведения же духовенства напечатать журнал в епархиальных ведомостях»470. Полного успеха от такого ходатайства ждать было нельзя, так как высшее начальство не могло согласиться на некоторые поставленные духовенством условия и вообще не могло допустить смешения двух различных и вполне установившихся типов училищ – «епархиальных» и «духовного ведомства». Но некоторые преобразования и улучшения в училище были разрешены и введены. Из отчета «о состоянии училища за 1878–9-й учебный год» видно, что 1) в этом году введено преподавание физики, применительно к программе епархиальных женских училищ: на покупку физического кабинета преосв. Димитрий пожертвовал 300 рублей, и кроме того препроводил в библиотеку училища богатое издание, в четырех томах, под названием «народы России», 2) по особому ходатайству Его Высокопреосвященства оканчивающим курс в училище дано право на звание домашней учительницы и 3) в одном из зал устроено для воспитанниц домовая церковь, при живом участии и пожертвованиях деньгами и церковными принадлежностями от того же Владыки Димитрия. «Но все же, заключает отчет, в училище так тесно, что больше воспитанниц принимать нельзя. Желательно, чтобы скорее исполнился проект соединения корпуса с новым пожертвованным домом (бывш. Косяковского), на что потребуется 20 тыс. рублей, и тогда возможно будет увеличить число учениц до 40 в каждом классе»471. Желание это не заставило долго ждать исполнения, так как указанные средства скоро были найдены. Епархиальный съезд следующего 1880 г., обсуждая предложение преосвященного о реформе Житомирского женского училища, заявил, что «условия изменились к лучшему, – а потому надежда на пособие, по ходатайству В.-пр. Димитрия, со стороны Св. Синода на выдачу 25 тыс. рублей из сумм Дубенского монастыря – не подлежит сомнению; кроме того, духовенство согласно собирать на тот же предмет по 5 руб. с причта в течение четырех лет». На обсуждение того же съезда дано было новое предложение Его Высокопреосвященства – «открыть новое женское епархиальное училище в Кременце, так как, по мнению пр. Димитрия, несмотря на расширение Житомирского училища духовного ведомства, полезно и даже необходимо иметь еще свое училище для девочек». Для духовенства волынской епархии эта мысль была не новая, а потому съезд, по обсуждении предложения, постановил: «заняться окончанием реформы Житомирского училища и немедленно приступить к собиранию средств для будущего – Кременецкого»472. Вскоре после этого съезда, по распоряжению епархиального начальства, в г. Кременце при семинарии составился комитет для учреждения – а) в Дерманском св.-троицком монастыре учебно-ремесленного училища для мальчиков и б) в г. Кременце женского епархиального училища. По данной инструкции и предварительному проекту комитет немедленно открыл свою деятельность и повел дело очень быстро. Ровно через год мысль о кременецком женском училище стала делом. В 1881 году, 15-го и 16-го октября, уже производились первые приемные испытания в новооткрытое училище; а 18-го числа торжественно освящен был дом и открылось учение в первом классе, в который принято было 40 девочек. В первом составе начальствующих и учащих были следующие лица: 1) начальница, 2) преподаватель закона Божия (смотритель духовного училища), 3) преподаватель математики, 4) учитель русского языка, 5) делопроизводитель, 6 и 7) учители чистописания и пения, 8) учительница рукоделья и две надзирательницы. Все преподаватели семинарии и духовного училища, изъявившие желание преподавать науки в новом училище, взяли на себя этот труд бесплатно473. – Так начало существовать «Волынское женское епархиальное училище», которое в настоящее время в ряду других подобных учреждений занимает не последнее место.
Сейчас упомянутое Дерманское училище своим возникновением так же обязано заботам преосв. Димитрия о пользах духовенства. Наибольшую печаль для духовенства на Волыни, как и везде, и всегда, представляли заботы об устройстве сыновей, выбывших по разным причинам из училищ или из младших классов семинарии. В Почаевской лавре уже раньше была школа, которая при Димитрии преобразовались в «трехклассное научно-ремесленное училище» и воспитывало то 40 учеников, из которых 26 были на полном содержании лавры. Желая доставить еще больше средств и удобств для практической подготовки к жизни сиротам и таким ученикам, которые «по слабости умственных способностей и по другим причинам не могут продолжать образование», преосвященный предложил духовенству воспользоваться свободным помещением в Дерманском монастыре, оставшимся за переводом оттуда духовного училища в Клевань, и учредить там научно-ремесленное училище по образцу почаевского. Съезд духовенства (1880 г.) принял предложение архиепископа с благодарностью, хотя и постановил условие, чтобы на это училище не было новых сборов с церквей и причтов.
Кроме устройства духовно-учебных заведений, преосв. Димитрий оставил добрую память на Волыни и по другим частям епархиального управления. Так, при нем была закончена одна важная мера к улучшению быта духовенства. Волынским соединенным присутствием составлены были точные списки приходов, при которых или совсем не было церковной земли, или была в недостаточном количестве. По ходатайству преосвященного пред министром Государственных имуществ, церковные наделы были пополнены из казенных земель; кроме того, многим сельским причтам был отпущен из казенных дач лес на постройку причтовых домов. – С большим сочувствием относился пр. Димитрий к возникшей среди духовенства мысли об учреждении эмеритальной кассы. Два раза предлагал он съездам духовенства озаботиться устройством епархиального свечного завода; но в то время волынское духовенство еще не решалось приступать к такому большому делу, по неимению свободных средств и по множеству неотложных нужд.
Заботясь об улучшении материальном, преосв. Димитрий весьма внимательно относился к возвышению нравственного положения духовенства. По его инициативе в волынской епархии введено было выборное начало как в замещении должностей благочинных, так и в составе благочиннических съездов. Кроме того, преосвященный не только охотно согласился на желание самого духовенства применить то же начало к составу епархиального попечительства бедных, но и предложил преобразовать самое попечительство по образцу херсонского и увеличить число членов, расширив круг деятельности474.
Существенною помощью для епархиальных учреждений со стороны преосв. Димитрия были его личные пожертвования. Получая значительные доходы по званию священно-архимандрита Почаевской лавры, он считал себя обязанным делиться своим достоянием с епархией и жертвовать для ее учреждений. Из числа таких пожертвований документально известны следующие: а) на устройство храма при «Волынском женском училище духовного ведомства» 200 р. (в 1876 г.); б) на покупку физического кабинета в том же училище 300 р. (1878 г.); в) на учреждение двух стипендий в том же училище, в память чудесного спасения жизни Государя Императора, 300 р. (1879 г.); г) на учреждение двух стипендий – одной при семинарии и одной при женском епархиальном училище, – в память исполнившегося (в 1880 г.) ХХV-летия царствования Александра II. 600 р. (в добавок к 2,767 р., собранным от духовенства); д) при открытии Кременецкого Николаевского братства (в 1881 г.) 100 р. на нужды братства; наконец, при прощании с Волынскою паствою, е) в пользу попечительства о бедных воспитанниках семинарии 200 р., ж) на стипендии в женском епархиальном училище – 1,500 р. и 3) в «попечительство о бедных духовного звания» 100 рублей. Почти все такие пожертвования делались обыкновенно от имени «неизвестного», – так и писались они официально; но все, разумеется, знали этого неизвестного: в одной из речей, сказанных при проводах Димитрия в Одессу, пред ним самим раскрыто было инкогнито475. Известны также крупные пожертвования, сделанный в это время преосвященным для родного края. Давно собирался он «отплатить» чем-нибудь воспитавшим его учебным заведениям, но все откладывал по неимению наличных денег. В 1876 г. при рязанской семинарии открыто было «братство св. Василия». Преосвященный Димитрий с радостью отозвался на приглашение к участию и на первых же порах существования братства переслал в его распоряжение 3000 рублей. В родной Лучинск он посылал из Почаева значительную помощь на обновление храма, на устройство иконостаса и ризницы и, кроме того, переслал «полный круг богослужебных книг», печатанный в лаврской типографии.
Частная жизнь преосв. Димитрия на Волыни еще больше отличалась замкнутостью, чем в прежних местах служения. Главною причиною того было болезненное состояние и наступившие лета старости. Живя осенью и зимою в Житомире, он почти никуда не выезжал из дому, и у себя принимал очень редко: выезды ограничивались посещением кафедрального собора и других городских храмов для совершения богослужения; приемы же большею частию были только официальные – утренние для просителей и немногочисленных посетителей. В Почаевской лавре жизнь его текла совсем по-монастырски, хотя здесь она была разнообразнее, чем в Житомире. Обыкновенно, утром после литургии, у него бывали ежедневные продолжительные приемы богомольцев, желавших принять святительское благословение; затем – прием просителей, когда они бывали; в течение дня однажды или дважды (когда пил минеральные воды) прогулка в монастырском саду; наконец вечером – занятие текущими делами, чтение или приготовление проповеди.
По-прежнему неутомим был преосвященный в совершении богослужений, а в проповедничестве его труды на Волыни были даже усилены в сравнении с прежними временами. Часто служил и в Житомире, и в других городах и местечках; в лавре же он не опускал ни одного воскресного и праздничного дня, даже и тогда, когда чувствовал себя не совсем здоровым. В одном письме из Почаева он сам жалуется на сильную усталость после каждой службы, но здесь же приписывает: «а неслужить нельзя, – здешний народ любит, чтобы служил той, що в золотой шапци». Петербургские родственники, посетившие преосвященного в Почаеве в 1880 году, с грустью рассказывали, как они видели Владыку, ведомого под руки из архиерейского дома в лаврский собор на служение. «Служит наш Владыка с усердием, говорится про него в одном частном письме, хотя самому ему отказываются служить собственные ноги». – Что же касается до проповедничества преосв. Димитрия, то волынский период его жизни нужно считать самым многоплодным. Здесь он говорил по двенадцати и более проповедей в год, при чем волынские его проповеди отличаются богатством содержания и соответственным обширным изложением. Здесь так же представлялось больше удобств к распространению проповедей путем печати, благодаря своей, лаврской типографии. Многие советовали пр. Димитрию воспользоваться этим удобством и издать в системе и все, сказанные им проповеди. Но Владыка, по своей скромности, каждый раз уклонялся от выполнения предлагаемого издания, отговариваясь обыкновенно невозможностью собрать все, нужное для такого издания. Некоторые предлагали даже свои услуги по собиранию материалов для издания, на преосвященный отвечал, что он не желает затруднять людей своим домашним делом. Впрочем, лаврская типография, по благословению самого Владыки, ежегодно выпускала отдельными книжками все его проповеди, помещавшиеся предварительно в Волынских епархиальных ведомостях: таких выпусков было пять (по числу лет, проведенных преосв. на Волыни). Отдельными же оттисками проповеди преосвященного печатались в очень большом количестве за счет самого проповедника, который обыкновенно оделял этими брошюрками являвшихся к нему богомольцев.
III
Не смотря на хорошие климатические условия, особенно в Почаевской лавре, здоровье пр. Димитрия на Волыни год от году все ухудшалось. Уже в первую зиму, в конце декабря 1876 г., он проболел две недели. Правда, на сей раз ревматические боли не так были сильны, как прежде; но все же он должен был сидеть в уединении и не служить в такие большие праздники, как 1-го и 6-го января. Зато в следующую зиму застарелая болезнь, незахваченная вовремя и еще усиленная частыми и продолжительными службами в великом посту, до такой степени разыгралась, что преосвященный принужден был пролежать в постели весь апрель месяц. Вместо обычных пространных праздничных приветствий своим родным и знакомым, он в великую субботу (1878 г.) едва мог написать в Одессу несколько строк: «Боль в ногах не утихает ни на минуту; без посторонней помощи не могу встать с места, да и писать могу с трудом. Для людей светлый праздник, а я, как колодник, привязан к месту». – За тем, каждый год – раннею весною, или поздней осенью, он отдавал обычную дань своему ревматизму. Врачи давно советовали ему принять радикальные меры и выдержать полный курс лечения; но он, по неимению времени, откладывал это дело до благоприятного случая. Только в 1881 году, по убедительной просьбе экзарха Грузии Евсевия, приглашавшего Димитрия на Кавказ для лечения, он решился просить себе отпуск по болезни. Вот что он писал в январе этого года: «Мое здоровье, естественно, становится все хуже и хуже не только с каждым годом, а с каждым почти днем. Едва-едва могу еще кое-как служить с большим трудом и утомлением. Если Бог даст дожить до лета, то нужно будет всенепременно поехать на Кавказ или в Крым. Тогда, на обратном пути, может быть придется увидеться со всеми Вами в Одессе». Намерение это было исполнено. 2-го мая 1881 г. последовало Высочайшее соизволение «на увольнение волынского архиепископа Димитрия, по случаю болезни, согласно его прошению, в ставропольскую губернию для лечения Кавказскими минеральными водами, сроком от 10-го июня по 10-е августа». Указом Св. Синода, уведомлявшим о сем волынскую консисторию, управление епархией поручено было викарию, епископу острожскому. 7 июня пр. Димитрий выехал из Житомира и через неделю был в Пятигорске. К сожалению, неблагоприятное, дождливое лето препятствовало успешному выполнению лечебного курса, и поездка преосвященного на Кавказ не принесла ему желанной пользы. Вот как описывал свою неудачу сам Димитрий, в письме от 19-го июля 1881 г. «Другой уже месяц живу в Пятигорске, и жду... чего? – сам не знаю. С 16-го июня начал было регулярное лечение и питьем ессентукских вод и купаньем в теплосерных ваннах. Но, к несчастью, лечение должно было остановиться: 29-го июня привязалась лихорадка, с которою провозился восемь дней; а с 16-го июня разболелась рука жестокою ревматическою болью, и купанье нужно было оставить, – продолжаю только пить воду... Впрочем, о чем жалеть – не знаю: кажется, прежде всего о бесполезной поездке, о трате времени и денег. После принятых доселе двадцати ванн, я не вижу и не чувствую никаких для себя благоприятных последствий. В ногах та же тяжесть и почти решительная невозможность ходить. Пройду десяток шагов и ноги начинают подкашиваться. Верно сбудется надомною причта: поехал незачем и ворочусь ни с чем». – Однако курс лечения все же принес некоторую пользу. Возвратился преосвященный в Житомир сравнительно здоровым; острые припадки ревматизма не повторились более года, хотя общее слабое состояние продолжалось без изменения.
Еще за год до поездки на Кавказ, преосв. Димитрий ездил на две недели в Киев с специальною целью – «посоветоваться с Киевским митрополитом Филофеем о своей отставке». Но Киев всегда действовал на Димитрия в высшей степени животворно, освежающе и одобряюще. И на этот раз легко было уговорить его отказаться от мысли об отставке. К счастию, в этот же раз Димитрий встретил в Киеве человека, который тогда же сделался его постоянным спутником и собеседником, и с которым он не расставался до своей смерти. В Киево-Михайловском монастыре проживал тогда, присоединенный к православной церкви, иеромонах Владимир Терлецкий волынский уроженец, бывший униатский священник и известный деятель заграницею. При первой же встрече с о. Владимиром преосвященный оценил этого образованного и бывалого человека и пригласил его на родину – на Волынь. По прибытии в Житомир, преосв. Димитрий зачислил о. Терлецкого в число братии архиерейского дома и назначил своим собственным и братским духовником. Впоследствии, когда Димитрий переведен был опять в Одессу, с ним переехал и его духовник, «сделавшийся постоянным собеседником изнемогавшего архипастыря»476.
Живя на Волыни, преосв. Димитрий, так сказать, чувствовать близость родной Одессы и старался поддерживать непрерывное духовное общение с одесситами. Постоянно он приглашал к себе и радушно принимал родственников, проживавших в херсонской епархии, и других жителей Одессы. Из числа последних особенно дорогим гостем был в.-преосвященный Платон, архиепископ херсонский, нарочито посетивший Димитрия в Почаевской лавре в 1879 году. И сам пр. Димитрий неоднократно высказывал желание побывать в Одессе. Однажды он дал даже слово прибыть туда, чтобы принять участие в праздновании пятидесятилетнего юбилея преосв. Платона; но не исполнил обещание, выставив в письме такое извинение: я в настоящее время войны (в 1877 г.) нам, служащим на границе, неприлично и неблаговременно разъезжать». – Само-собою разумеется – тогда он и не думал, что придется опять переселиться в Одессу и там сложить свои кости.
В 1882 году, 29-го января, скончался киевский митрополит Филофей. Преосвященному Димитрий, как ближайшему по месту жительства архиепископу, Св. Синодом указано было совершить погребение усопшего. Появление Димитрия в Киеве при таких обстоятельствах и его участие в качестве первенствующего при торжественных богослужениях вызвали у киевлян, обычные при подобных случаях, толки, которыми наперед решено – быть ему митрополитом в Киеве. Одна современная корреспонденция из Киева, помещенная в распространенной Петербургской газете477, так и начиналась: «Если бы до нашего времени сохранился древний способ избрания епископов – клиром и народом, то выбор киевлян, кажется, единодушно пал бы на преосв. Димитрия, архиепископа волынского, который двадцать лучших лет своей жизни посвятил Киеву и дорог киевлянам своею ученою деятельностью, своею частою сердечною проповедью и своею благотворительностью» ... Толки, разумеется, оставались толками и Димитрий не зная об них, благополучно возвратился из Киева в Житомир. На вакансию Киевского митрополита назначен был (4-го февраля) старейший архиепископ Платон. – И вдруг, по случаю такого передвижения, пр. Димитрий получает неожиданный запрос, не желает ли он ныне возвратиться к херсонской пастве... Редкий случай!
Какое впечатлите произвела на Димитрия эта новость, и как он принял предложение, это лучше всего объясняет его письмо в Одессу, от 22-го февраля 1882 г. «Со мной – пишет он – совершилась странная метаморфоза. Но случаю перемещения преосвященного Платона на киевскую митрополию, меня спрашивали: не пожелаю ли я возвратиться опять в Одессу, так как перемещение меня из Одессы случилось по какому-то яко-бы недоумению? Я отвечал, что с радостно готов перейти туда. Настрадавшись в Житомире и телесно и душевно, я готов был убежать отсюда куда бы ни попало; а переход в Одессу я считал и считаю за особую милость Божию. И вот вчера я получил извещение, что Высочайшим указом 20-го февраля я перемещен в Одессу. Я-то рад, но что подумает и скажет Одесса? Не будет ли ей слишком прискорбно – на месте такого блестящего архиерея увидеть дряхлого, безногого, искалеченного старика?.. Но воля Божия да будет! На будущей неделе мне нужно еще съездить в Почаев и Кременец – проститься. Пятую неделю поста неудобно употреблять на сборы и приготовления к дороге; а на шестой неделе думаю отправиться уже в Одессу». В следующем затем письме преосвященный пишет: «сейчас получил я указ Св. Синода о перемещении меня в Одессу. Пришел он так неблаговременно, что до страстной седмицы ни консистория не успеет распорядиться приемкой дома с имуществом, ни сам собраться в путь-дорогу. По всей вероятности придется провести здесь не только страстную седмицу, но и отпраздновать пасху».
Так и случилось. Из Почаева преосвященный возвратился только накануне Вербного воскресения. Страстную седмицу и первые дни Пасхи он служил в житомирском кафедральном соборе; остальные дни пасхальной недели употребил на прощание с лицами и учреждениями. В неделю св. Фомы служил последнюю литургию в соборе и говорил прощальное слово.
Не смотря на отсутствие прямых, сердечных отношений волынского духовенства к архиепископу Димитрию, оно не могло отпустить его из епархии без выражений благодарности и признательности. 20-го апреля предложен был Владыке от духовенства прощальный обед, за которым произносились приличные случаю речи, и в заключении поднесен благодарственный адрес. В том адресе между прочим, перечислялись следующие заслуги Димитрия для волынской епархии: 1) его попечительность о духовно-учебных заведениях и постоянное личное наблюдение за их благосостоянием; 2) значительный пожертвования на стипендии в учебных заведениях и вклады в епархиальное попечительство; 3) поучительный образ действий в управлении, – основанный на законности и справедливости и всегда покрываемый духом кротости и любви; 4) внимательность к заслугам и снисходительность к погрешностям духовенства, – за что оно приносит особую благодарность; 5) отеческая попечительность о бесприютном и беспомощном сиротстве и 6) наконец – его усердные хлопоты об открытии нового женского училища в Кременце и новой семинарии в Житомире». Из произнесенных речей большою искренностью и правдивостью отличалась речь прот. М-ского. «Мы должны сознаться, говорил он, что нередко своими действиями и речами причиняли скорбь любвеобильному Владыке, и не умели окружать его своею любовью. За то праведно и наказуемся тем, что уже более не увидим нашего возлюбленного, добрейшего архипастыря и отца, – не увидим того, под сению кого мы, как израильтяне во дни Соломона, покоились в продолжение 6-ти лет, который услаждал и питал всю волынскую церковь нетленною пищею слова Божия, который защищал и спасал нас – пред Богом своими молитвами, а перед начальством и обществом своим великим именем, – который поистине составлял утешение, украшение, честь и славу Волыни».
Глава 6. Одесса (вторично)
I
В день погребения умершего митрополита Филофея 4-го февраля, Св. Синоду дан был именной Высочайший указ о назначении на киевскую митрополию херсонского архиепископа Платона, а 6-го числа подписан Высочайший рескрипт на имя нового митрополита. Затем, 20-го февраля состоялось Высочайшее утверждение доклада Св. Синода о перемещении волынского архиепископа Димитрия на кафедру Херсоно-Одесскую. Таким образом, вести о перемещении преосв. Платона и о назначении Димитрия прибыли в Одессу одна вскоре после другой, и чувство одесситов невольно раздвоилось: с одной стороны, они искренно и справедливо выражали сожаление о том, что должны лишиться такого прекрасного архиерея, как преосв. Платон, а с другой не могли скрывать своей радости о возвращении к ним сердечно-любимого Димитрия. Провожая митрополита Платона и выражая свое сожаление о разлуке с ним, одесситы высказывали в своих речах, что их печаль «умеряется сознанием высокого внимания к херсонской кафедре от которой впервые отъемлется архипастырь затем, чтобы поставить его на высоком свещнике – в ряду первосвятителей российской церкви». Но сам митрополит хорошо понимал чувства своих пасомых и в своей речи, обращенной к членам одесской думы, прямо высказал: «радуюсь за вас: у вас будет опять Димитрий – добрейший архиерей, умнейший архиерей, любвеобилнейший архиерей»478.
Посетив в Киеве нового митрополита Платона, преосв. Димитрий 8-го апреля, в 10 часов вечера, прибыл в Одессу. «Невозможно описать ту радость, тот восторг, с каким встретила маститого святителя давно знающая его Одесса. Несмотря на позднее время, дебаркадер железной дороги переполнен был массою народа всякого звания, состояния и национальности. Люди высокого общественного положения, люди среднего состояния и простые – все слились во едино в общем желании увидать незабвенного Владыку, приветствовать его, поклониться ему, принять его благословение. А он, святитель Божий? Он с тою же неизменною любовью и благостью благословлял, обнимал и целовал своих духовных чад, с которыми был в разлуке семь лет. Все чувствовали, что к ним возвратился их отец... Со станции «Куликово поле» архипастырь приехал прямо в архиерейский дом. 9-го апреля в 11 часов утра, святитель принимал в своих покоях городское духовенство в полном составе, служащих в консистории, в семинарии и духовных училищах. Представление подчиненных открыто было речью о. кафедрального протоиерея А. Г. Лебединцева, в которой почтенный представитель духовенства изъяснил чувство радости подчиненных о возвращении в Одессу архипастыря. Святитель каждого благословлял, для каждого почти нашлось у него ласковое слово, и отпустил всех с миром, пригласив всех усердно и по совести исполнять обязанности своего звания и прося молитв о нем, чтобы Господь укрепил его силы. Представлявшиеся архипастырю нашли в нем мало перемены: силы его бодры» … – Так описывали встречу Димитрия в официальном органе – в местных епархиальных ведомостях. Но в частных беседах и письмах, с чувством скорби, высказывались наблюдения и другого рода. «С нетерпением, писал один родственник преосвященного, ожидали мы приближающейся поезд и с грустью смотрели, как согбенного старца под руки выводили из вагона. Прошло только семь лет и какая перемена! Одно утешало нас: ясный взгляд Владыки и его неизменная добрая улыбка на устах говорили нам о его бодром духе, о его довольстве возвращением в Одессу».
«11-го апреля Владыка совершил первое богослужение в одесском кафедральном соборе, при участии обоих викариев и представителей одесского духовенства. Храм был наполнен молящимися. Все жаждали слышать молитвенные возглашения Владыки и его поучительное слово. И услышали молитву и слово архипастыря, и возрадовались, что звуки его голоса ясно и отчетливо носились по самым отдаленным частям храма. В этих звуках по прежнему слышалось глубокое чувство благоговения и умиления; а проповедь его многих привела в слезы. Он выразил в этой проповеди собственную радость о возвращении в Одессу, где провел лучшие годы своей службы, выразил вместе и скорбь о том, что возвращаться к прежней пастве с телесными немощами и болезнями»479. – «Чем, думал я говорил преосвященный своим слушателям, – чем могу утешить дорогую для меня паству херсонскую? Увы! земная храмина моя приходит в разрушение, и я приношу с собой одни ее развалины. Мои силы, и душевные и телесные, постоянно ослабевают и угасают, и слабое их мерцание не может заменить того света, который, по заповеди Христовой, в лице пастыря должен светит всем иже во храмине суть. Эта, говорю, горькая для меня мысль невольно приводила меня в смущение и недоумение. Я, с горестью, спрашивал себя, какую пользу может принести пастве херсонской мое возвращение к ней? И не лучше ли для меня и для нее, чтобы я оставил совсем свое служебное поприще иному, могущему паче меня, и позаботиться о спасении своей души в уединении и неизвестности? Но я помню и никогда не забуду той любви, которую, несмотря; на мое недостоинство, вы окружали меня в прежнее пребывание мое посреди вас. Это воспоминание, которое всегда, и везде служило мне истинно-благодатным утешением и укреплением и в трудах и в немощах моих, во все время разлуки моей с вами, побудило меня при первой открывшейся возможности пожелать возвратиться к вам, посвятить остаток сил моих на служение вашему духовному благу и потрудиться еще для боговрученной мне паствы херсонской; наконец, умереть посреди вас и найти место покоя своему утружденному телу под сенью сего св. храма... Правда, отныне нам не угрожает никакая новая разлука в жизни; но кто поручится, что долго еще будем наслаждаться самою жизнью? О, если бы сподобил Господь всем нам увидаться и соединиться в вечном его царстве!»
Однако, не прошло месяца, как случилось событие, последствия которого именно угрожали Херсонской паства новым разлучением с архиепископом Димитрием. 9-го мая 1882 года внезапно скончался Московский митрополит Макарий. Имя Димитрия опять стали настойчиво произносить и в народной молве и в печати. Самая распространенная газета – «Московские Ведомости» заканчивали некролог Макария такими вопросами: «Кто займет теперь осиротевшую кафедру Московскую? И мысль и сердце невольно обращаются к далекой Одессе. Неужели Херсонский Владыка, учитель нашего в Бозе почившего архипастыря, столь еще деятельный в проповеди слова Божия, – неужели этот высокий светильник не догорит в Москве?» По получении в Одессе известия о кончине высокопреосвященного Макария, Димитрий с одесским духовенством совершил в своей домовой церкви панихиду о упокоении души новопреставленного митрополита. Но в этот же день он немало был смущен неожиданным посещением генерал-губернатора И. В. Гурко, который, как оказалось потом, явился по телеграфному из Петербурга поручению – узнать, частным образом, мысли и чувства преосвященного на тот случай, если бы он назначен был на кафедру Московской митрополии. Предварительное осведомление на этот раз было весьма кстати. Находясь в хороших личных отношениях с ген.-адьют. Гурко, преосв. Димитрий откровенно высказывал ему, что он никогда не стремился занимать высшие, более ответственные посты, – а теперь, при его летах и здоровье, он почел бы новым для себя наказанием передвижение из Одессы в Москву, – что высказанная им недавно надежда не разлучаться с Херсонскою паствою и желание умереть в Одессе не были только словами, а самым искренним его убеждением. Через несколько дней после этой беседы, Димитрий получил от обер-прокурора Св. Синода письмо, которое окончательно успокоило его. Глубоко уважавший преосв. Димитрия, К. П., писал ему: «Внезапная кончина Московского митрополита Макария нанесла русской церкви тяжелую рану и возбудила тревожную заботу о приискании ему достойного преемника. У всех было в мысли и на устах Ваше имя, как старейшего и достойнейшего из сонма иерархов. Вашему Высокопреосвященству известно питаемое и мною к Вам уважение: без сомнения, и мне приятнее всего было бы представить имя Ваше, и ничье иное. Но зная и от Вас лично, и по свидетельству многих, душевное Ваше расположение, ·и слышав неоднократно от Вас о немощах Ваших, побуждающих Вас искать прежде всего южных стран и теплого климата, я не решился в сем случае самовольно наклонять судьбу Вашу к северу, раз уже оказавшемуся нестерпимым для Вашего здоровья. Опасался я и прямо обратиться к Вам с вопросом, дабы тем не поставить Вас в затруднение. Я просил многоуважаемого И. В. Гурко в частной беседе с Вами узнать расположение Ваше, – и осведомился от него, что если бы Вам сделано было предложение, Вы не решились бы по своей воле принять его. Как ни мало согласовалась это известие с моим искренним помышлением, однако, размыслив, я не решился убеждать Вас. Думалось: что если в Москве силы Ваши не вынесут тяжкого служения на высшей степени, – а между тем в Одессе, при лучшем климате, могут еще, по милости Божией, надолго сохраниться для церкви и отечества? Такова была мысль, решившая меня не настаивать на имени Вашем: она была внушена мне глубоким к Вам уважением и заботою об Вас, и потому надеюсь, что Вы за нее не осудите меня»480.
Сознавая слабость своих сил и опасаясь каких-либо упущений по управлению епархией, преосв. Димитрий, вскоре же по вторичном вступлении на Херсонскую кафедру, принял меры, какими он руководился уже несколько лет на Волыни. Через неделю после первого служения в соборе он сдал в консисторию такое предложение: «В видах возможно правильного и безостановочного движения; епархиальных дел, с другой стороны в видах предоставления участия в епархиальном управлении преосвящ. Неофиту, второму викарию Херсонской епархии, я нахожу необходимым указать, какие из дел по епархиальному управлению должны быть предварительно рассматриваемы пр. викарием и с заключением его поступать на мое утверждение, и какие могут быть рассматриваемы и решаемы, окончательно пр. викарием. (За тем, в предложении изложено 15 пунктов по делам более важным, который должны приводиться в исполнение с утверждения епархиального архиерея, – и 20 пунктов по делам, решаемым пр. викарием). Сообщая об этом херсонской духовной консистории, предлагаю ей: 1) принять в руководство выше изложенное распределение дел между мною и пр. викарием; 2) представлять мне на рассмотрение и те из дел, которые предоставлены на окончательное решение пр. викарию, в том случае, когда в резолюциях своих он не согласится с определениями консистории, а консистория не признает возможным изменить или дополнить сии определения по его резолюциям, и 3) опубликовать настоящее предложение мое чрез Херс. Еп. Ведомости для сведения и руководства подведомому духовенству и светским лицам Херсонской епархии, с тем, чтобы – 1) бумаги по делам первого разряда адресовались мне, а по делам второго рода представлялись пр. викарию, и 2) чтобы все другие бумаги по делам с дополнительными сведениями, объяснениями, доказательствами, опровержениями, а равно и по другим делам, не указанным в сем распределении, адресовать в Духовную Консисторию и Епархиальное попечительство, по принадлежности»481. Это предложение пр. Димитрия нельзя не считать мудрым решением вопроса, который в то время не определялся точно ни уставом консистории ни другими общими законоположениями, – вопроса о правах и круге деятельности викарных архиереев.
Почему пр. Димитрий предоставлял такое участие в епархиальном управлении второму викарию – это объясняется тем, что епископ Елисаветградский жил в Одессе же, где находится консистория, а первый викарий имел постоянное пребывание в Херсоне. Вскоре однако, и пр. Израилю, первому викарию, Димитрием было поручено важное и нелегкое дело – обозрение церквей в епархии. В августе 1882 г. консисторией был составлен и Его Высокопреосвященством утвержден маршрут для обозрения пр. Израилем 55-ти церквей в уездах Херсонском, Елисаветградском и Александрийском, с назначением Архиерейского служения в городах: Николаеве, Вознесенске, Елисаветграде, Новомиргороде и Васунске.
8-го января 1883 г. Высочайше утверждено определение Св. Синода о перемещении епископа Израиля на острожское викариатство Волынской епархии, а 4-го февраля пр. Израиль выбыл из Одессы, простившись с пр. Димитрием и испросив у него позволение продолжать духовное общение при помощи переписки. На вакансию Новомиргородского викария назначен был (12 марта 1886 г.) ректор Екатеринославской семинарии архимандрит Далмат. По случаю этого назначения преосв. Димитрию привелось быть председателем временного собора епископов и принимать главное участие в редком для провинции торжестве, так как хиротония еп. Далмата назначена была в Одессе482. Прежде чем состоялось определение Синода о возведении архимандрита Далмата в сан епископа, обер-прокурор спрашивал Димитрия: позволят ли ему силы совершить наречение и хиротонию нового викария? – Ответ дан был утвердительный. Был еще вопрос о назначении соседних епископов на помощь Херсонскому архиепископу; но, по совету митрополита Исидора, решено предоставить это усмотрению самого Херсонского преосвященного. Димитрий пригласил принять участие в одесском торжестве подольского епископа Иустина и аккерманского викария Августина. Но пр. Иустин не мог прибыть, и собор составился из двух епископов – Неофита и Августина под председательством архиепископа Димитрия. 9-го апреля в крестовой церкви одесского архиерейского дома состоялось наречение архим. Далмата во епископа Новомиргородского, а 10-го, в воскресенье, совершена была его хиротония в Одесском кафедральном соборе. Вручая архиерейский посох, пр. Димитрий приветствовал новопоставленного епископа речью, в которой глубоко изъяснил важнейшие обязанности епископского служения483.
Новому викарию пр. Димитрий предоставил такое же участие в управлении епархией, какое дано было раньше епископу елисаветградскому, второму викарию херсонской епархии. В новом предложении Его Высокопреосвященства, данном на имя консистории, между прочим сказано: «нахожу нужным вверить пр. Далмату наблюдение за благовещенским женским монастырем, перепелицынским приютом, и рассмотрение и решение некоторых дел, касающихся ближайших к г. Херсону, в котором имеет пребывание пр. викарий, уездов – херсонского, елисаветградского и александрийского». – Затем в предложении перечислены те же пункты по делам, подлежащим предварительному рассмотрению или окончательному решению – какие даны были в 1892 году для второго викария.
Помощь преосвященных викариев нужна была Димитрию не только по слабости его старческих сил, но и по осложнению епархиальных дел сравнительно с первым периодом его управления херсонской епархией: умножилось число церквей и духовенства; увеличились потребности в содержании учебных заведений; открылись новые учреждения и благотворительные общества. В числе последних особенных забот требовало, как новое епархиальное учреждение, «Свято-Андреевское братство», основанное при одесской семинарии архиепископом Платоном, с важными целями и задачами – вести борьбу с штузиазмом, помогать русским паломникам и покровительствовать русским афонским монастырям. Пр. Димитрий, кроме руководства делами братства, нередко оказывал ему и материальную помощь. – Привлечен был преосвященный и в новое общество «попечение о слепых», которому 22 мая 1883 г. препроводил крупное пожертвование.
Прежнее «болгарское настоятельство», со времени образования болгарского княжества, также расширило свою деятельность, и пр. Димитрию, как попечителю, предстояло принимать в ней более живое участие. Его труды и щедрые пожертвования обратили на себя внимание нового болгарского правительства. «5-го августа 1882 г. депутация от одесского болгарского настоятельства поднесла в.-пр. Димитрию золотую медаль, пожалованную ему князем Александром I за заслуги в деле возрождения Болгарии и за 18-ти летнее плодотворное попечительство над одесским настоятельством. Медаль прислана была при грамоте и письме болгарского князя. Правитель Болгарии, в теплых выражениях очертив заслуги в.-пр. Димитрия по отношению к Болгарии, выразил ему глубокую признательность за понесенные труды во благо болгарского народа. Письмо заканчивалось надеждою и уверенностью, что гуманный и просвещенный святитель Димитрий и в настоящее время, как в былое, будет руководить действиями настоятельства по пути процветания. Сквозь слезы святитель благодарил депутацию за добрую память о нем и пожелал всякого счастия и благоденствия князю Александру и болгарскому народу»484. – В следующем 1883 г., по докладу обер-прокурора Св. Синода 25 июня, Государь Император соизволил разрешить на принятие и ношение по установлению митрополитом киевским Платоном и архиепископом херсонским Димитрием пожалованных Его Высочеством князем болгарским Александром знаков новоучрежденного ордена Александра I ст.485.
Выдающимся событием этого времени было всероссийское торжество по случаю священного коронования Императора Александра III-го. Богатая Одесса праздновала исторические дни с полным великолепием и роскошью; но благодаря только живому участию старца – архипастыря дни эти, предначинавшиеся каждый раз молитвою, носили характера церковно-общественных праздников. «В самый день коронования, 15-го мая, пр. Димитрий служил литургию в кафедральном соборе. Около часу пополудни по телеграфу получено было известие о совершившемся в Москве священном торжестве. Владыка вышел на амвон и в душевной проповеди разъяснил глубокий смысл и значение обрядов и действий, совершаемых при венчании и помазании на Царство Русских Государей, – и тем самым поставил своих слушателей как бы участниками и очевидцами торжества, бывшего в это утро в Успенском соборе. После проповеди, в сослужении всего городского духовенства, он совершил благодарственное Богу молебствие с коленопреклонением. На другой день, в 11 час. утра, такой же молебен им совершен был в одесской городской думе, в присутствии всех представителей города. Наконец, на третий день, 17 мая, он служил благодарственный молебен в церкви одесского института, при многочисленном собрании детей – воспитанников и воспитанниц учебных заведений»486. – Кроме того, херсонский архипастырь позаботился сделать свою паству непосредственною участницею торжества в первопрестольной столице: от лица епархии и своего он послал в Москву депутацию, состоявшую из настоятеля и ключаря кафедрального собора, для поднесения Их Величествам, при всеподданнейшем адресе, копии с местной святыни Касперовской иконы Божией Матери. Миссия эта благополучно была исполнена и заботы архипастыря награждены милостивым вниманием Государя. Обер-прокурор Св. Синода, в отношении на имя Димитрия от 23-го мая, писал ему: «доставленное мне вашим преосвященством, для поднесения Государю Императору, по случаю совершившегося коронования Их Императорских Величеств, от Вашего имени и от духовенства вверенной Вам епархии – всеподданнейший адрес и копия с чудотворной иконы Касперовской Божией Матери представлены мною Его Императорскому Величеству. На всеподданейшем моем по сему предмету докладе Государя Императору, в 22 день текущего мая, благоугодно было собственноручно начертать: «Благодарю искренно»487. В день коронации пр. Димитрий награжден был высшим отличием – сопричислением к ордену св. Владимира I ст., при особенно-милостивом Высочайшем рескрипте. Первое извещение о Монаршей милости сообщено было следующею телеграммою: «Поздравляю, любезный друг, с царской милостью; желаю здоровья. Платон, андреевский кавалер»488. Высочайшая грамота, сопровождавшая новое пожалование, кратко, но сильно выражала и заслуги и личные высокие качества пр. Димитрия с одной стороны, и чувства к нему нововенчанного Монарха – с другой. «Долговременное, постоянно ревностное служение ваше церкви и отечеству, – говорилось в этом акте, – любвеобильная, отеческая попечительность о духовном благе паств, преемственно вам вверяемых, неутомимые труды в проповедании слова Божия и украшающие вас высокие качества духа снискали вам всеобщее в отечественной церкви уважение... С искренним желанием, да Господь всемощною силою Своею укрепит силы ваши в подвигах архипастырского служения св. церкви, пребываем к вам Императорскою милостью Нашею благосклонны».
И действительно, только небесная помощь могла укрепить и поддержать силы дряхлеющего старца. Лето 1883 г. было жаркое, тяжелое для здоровья преосвященного; между тем он непосильно много брал на себя трудов. Кроме частых служений и непрерывных дел по епархиальному управлению, он особенно усердно посещал в это лето учебные заведения, как духовные, так и светские. Семинарию во время экзаменов он посещал почти каждый день; а в день торжественного акта, 20 июня, служил в семинарской церкви молебен и потом в зале произнес речь, обращенную к окончившим курс воспитанникам. И частые посещения и эта пространная речь, как будто, указывали на сознание самого преосвященного, что быть может – они будут последними. Самое содержание последнего слова архипастыря, обращенного к вступающим в жизнь будущим пастырям, носит характер отеческого завещания. Он говорил оставлявшим семинарию ученикам: «не спешите принимать сан священства, не испытав себя добросовестно и основательно, а испытывая себя более или менее продолжительным опытом прежде всего предлагайте себе вопросы – 1) имеете ли твердую и искреннюю веру в Бога и 2) горячо ли любите Христа Спасителя, чтобы служить во имя Его спасению ближних с самоотвержением. Охлаждение народа к вере и церкви во многом зависит от ослабления веры и усердия к церкви самих служителей алтаря Господня: народ не спешит по праздникам в кабаки в тех приходах, где священники с должным вниманием и благоговением совершают богослужение и поучают народ. Не смотрите на священство как на средство к приобретению материальных выгод: Господь не обещал апостолам никакого обогащения, а требовал от них одной любви к делу и самоотвержения. Если у вас есть желание нажить состоите, то для этого избирайте другие пути жизни, – занимайтесь земледелием, торговлею и другими средствами к жизни; но берегитесь принимать для этой цели священство. Оно будет для вас бременем на всю жизнь, даст вам одни страдания от неудавшихся расчетов и, что важнее, подвергнет вас тяжкой ответственности пред Богом и людьми».
В августе месяце преосв. Димитрий получил от волынского архиепископа Тихона приглашение прибыть на предстоявшее торжество по случаю исполнившегося пятидесятилетия со дня возвращения Почаевской лавры от униатов в православное ведомство. Приглашение это, по особой причине, хорошо отвечало мыслям и намерению самого Димитрия, который и поспешил уведомить пр. Тихона о своем желании помолиться с бывшею своею паствою пред чудотворною почаевскою иконою Богоматери. Из четырех епархий, которыми преемственно управлял архиепископ Димитрий, одна Волынская оставляла в его памяти некоторую тень: ему казалось, что взаимные отношения пастыря и пасомых, как они выражались в период его святительства на Волыни, недостаточно гармонировали с общим, многолетним и миролюбивым его служением отечественной церкви. Вот почему он так рад был случаю явиться еще раз, на закате дней своих, среди волынской паствы, чтобы свободно, не зависимо от официальных отношений, преподать ей мир и просить взаимного мира.
В сентябре ожидали приезд нового патриарха иерусалимского Никодима, который, после хиротонии его в С.-Петербурге, должен был посетить Одессу проездом к своему месту служения. Пр. Димитрию весьма было желательно самому встретить высокого гостя и о многом беседовать с патриархом лично, в виду того, что почти все русские паломники в Иерусалим отправляются из Одессы и Херсонский архиепископ считал своим долгом заботиться об их благосостоянии. Но, так как время ожидаемого приезда Никодима совпадало с назначенными днями, юбилея Почаевской лавры, то пр. Димитрий, сделав подробные распоряжения о приеме патриарха, отслужил 8-го сентября литургию и в тот же день отбыл в Почаев. Там он дважды совершал торжественное богослужение п крестный ход, в сослужении местных и прибывших преосвященных и многочисленного волынского духовенства; участвовал во всех праздничных собраниях; посетил в Кременце семинарию и на четвертый день праздника отправился домой. Обратный путь свой он направил на Киев. Здесь также прогостил несколько дней: служил литургию в великой печерской церкви; подолгу беседовал с своим другом митроп. Платоном, с которым при расставании, как заметили его спутники, необыкновенно трогательно простился... Ко дню своего Ангела – к 21 сент. пр. Димитрий был уже в Одессе. Совершенно бодрый, с свежими силами после благоприятной во всех отношениях поездки, он энергично принялся за свои обычные дела: часто служил, посещал учреждения и лиц, и – конечно – в это время не предвидел своей близкой кончины.
II
В одной проповеди, на день св. Иоанна Богослова, преосв. Димитрий напоминал своим слушателям церковное предание об апостоле любви, который, «достигнув глубокой старости, не мог уж ни ходить, ни говорить много: его обыкновенно приносили в собрание верующих, где, вместо поучения, он повторял одно слово: чадца, любите друг друга». С сыновней покорностью исполняли волю св. Благовестника жители г. Ефеса, охраняя его своими заботами о нем. – Подобно тому, и паства Херсоно-Одесской церкви окружала любовью своего старца архипастыря, прилагая свои старания о сохранении его слабого здоровья. Преосв. Димитрию неоднократно высказывались просьбы, чтобы он берег остаток своих сил, – чтобы не утруждал себя частыми службами, приемами и занятиями, чтобы не особенно беспокоился о пастве, которая из любви к своему архипастырю всегда готова предупреждать его во всех желаниях и намерениях. Ему говорили: «мы будем счастливы и глубоко благодарны, если Вы, Владыко, только изредка будете являться между нами и поучать нас своею молитвою и своею проповедью». Но Владыка обыкновенно отвечал на подобный просьбы: «я не могу не служить, потому что не имею права быть больным, пока состою на службе». Не раз он выражал намерение уволиться на покой, опасаясь, чтобы при его немощах и болезнях не ослабели порядки в управлении епархией. «Но опасения его были напрасны. Его здоровая и светлая голова и любящее сердце, его высокий нравственный авторитет делали его сильным и среди немощей и болезней телесных»489. В одной беседе, высказывая желание удалиться в Бизюков монастырь, он говорил: «стар я стал и недовольны мною – говорят, что распустил епархию; пора уступить место другому». Но слушавшие в один голос отвечали: не оставляйте нас Владыка; живите с нами: Вы сами при вступлении в собор сказали, что теперь ничто нас не разлучит. И любящий Владыка не мог ничего сказать против такого искреннего выражения любви к нему. Он крепился и продолжал с прежнею любовью и смирением нести свою службу. По-видимому, он сам не сознавал угрожавшей ему опасности. В одном из последних писем к родным он говорит: «службы очень утомляют меня. Но на это не следует обращать внимания, – нужно только после каждой службы хорошенько отлежаться». Между тем, врачи давно уже замечали, что силы его упадают, бессонные ночи, слабое биение пульса и общая вялость в движениях ясно указывали на ненормальную работу сердца.
Климат Одессы, благотворный вообще для слабых и больных, в известные периоды бывает тяжел для страдающих пороками сердца и расстройством нервов. Южные летние жары в 1883 году видимо вредно действовали на здоровье преосв. Димитрия. Выпадали для него дни страшного, мучительного томления от жаров и возвращавшихся острых болей, от ревматизма. Для видевших его в это время ясно было, что жизнь архипастыря, с застарелыми болезнями при его преклонных летах, не может быть продолжительна. – Впрочем, с наступлением осени силы преосвященного, по-видимому, стали крепче. Он благополучно съездил в Почаев и Киев, и по возвращении в Одессу чувствовал себя сравнительно очень бодрым: был постоянно благодушен и приветлив. На беду, в эта именно время, при двух штатных викариатствах, он не имел ни одного помощника. Старший викарий, преосв. Далмат, проживавший в Херсоне, был болен и с сентября не мог ни служить, ни заниматься делами. Второго викарного, преосв. Неофита в августе взяли на Туркестанскую кафедру и на его место долго никого не назначали. По необходимости преосв. Димитрий сам служил во все праздничные дни, по пятницам читал акафисты пред чудотворною Касперовской иконой Божией Матери, принимал ежедневно просителей и посетителей, и решал представляемые дела по управлению епархией.
В день св. Архистратига Михаила, 8-го ноября, по случаю храмового праздника в женском одесском монастыре, преосвященный служил в монастырском храме литургию, – и эта литургия была последняя, совершенная святителем Димитрием! Чрез несколько дней он приезжал в кафедральный собор служить обычный молебен пред Касперовскою иконою, и читал акафист Богоматери, как заметили многие, с особенным чувством, с особенною выразительностью. Посещавшие архипастыря в эти дни замечали в нем особенную бодрость духа, особенную приветливость и высоко-благодушное настроение. «Накануне кончины лицо его как бы сияло особым светом»490.
В высокоторжественный день рождения Государыни Императрицы, 14-го ноября, преосвященный готовился служить литургию в кафедральном соборе. Совершив накануне правило, положенное для готовящихся к литургии, он отошел на покой, но всю ночь не мог соснуть. Это, впрочем, не беспокоило его, так как бессонница часто случалась с ним; она только сильно утомляла его. Вставши утром, он никакого особенного утомления не чувствовал. По прочтении молитв ко святому причащению, стал собираться в церковь. В девять часов оделся и уже вышел из внутренних покоев, чтобы отправиться в собор, но вдруг почувствовал слабость и, согласившись на совет сопровождавшего его секретаря – остаться пока дома, послал в собор сказать, чтобы литургию служили без него, надеясь прибыть к молебну. Однако, раздевшись, он почувствовал себя хуже; спросил стакан воды и прилег на постель. Послали за доктором, который прибыл очень скоро, в приготовленном для Владыки экипаже. Когда, вместе с доктором, вошли в спальню секретарь и прислуга и увидали Владыку, лежащим спокойно на правом боку с закрытыми глазами, то подумали, что он заснул. Но доктору пришлось только констатировать смерть, последовавшую за несколько до того минут от паралича сердца. – Так тихо и мирно отошел в вечность архиепископ Херсонский Димитрий, в 91/2 часов утра 14-го ноября 1883 года, на 73-м году от рождения!
Несмотря на давние опасения за жизнь архипастыря, первое известие о внезапной смерти преосв. Димитрия страшно поразило жителей Одессы и особенно городское духовенство. Печальная весть принесена была в кафедральный собор во время пения херувимской песни и произвела общее смятение. Хотели умолчать и не говорить об этом до окончания богослужения, но весть быстро распространилась не только в алтаре, между собравшимся на царский молебен городским духовенством, но и в соборе, среди наполнявших его богомольцев. Многие выходили из собора и направлялись к архиерейскому дому, чтобы удостовериться в печальном известии. Особенно тяжелы были минуты, когда, после литургии, соборное и городское духовенство вышло на средину храма – и на сей раз без своего главы – архипастыря, – чтобы совершить благодарственное Богу молебствие о благоденствии царствующего дома. Время от времени в народе раздавался плач, который невольно передавал служащим тяжелое настроение и производил нечто необыкновенное: торжественные молитвы и возглашения постоянно прерывались слезами горя и печали…
«Скончался святитель Божий! Угас светильник святой церкви. Мирным, ясным и теплым светом светил он не только в Херсоно-Одесской пастве, но и во всем православном свете. Не в одной России чтили его, как одного из лучших представителей церковной иерархии; его имя известно и за пределами нашего отчества...» «Тяжелая, невыразимо-чувствительная утрата пала на долю Одессы и Херсонской епархии...» «Наше духовное солнце померло: умер великодушнейший человек, согревавший нас лучами христианской любви и всепрощения...» «Скончался пастырь, исполненный бесконечной доброты и благости; перестало биться любвеобильнейшее сердце..» – Такими и подобными выражениями скорби, возбужденной смертью преосв. Димитрия, наполнены были, вышедшие на другой день в трауре, органы Одесской прессы491. Целую неделю потом столбцы местных газет, равно и корреспонденции в столичных – (С.-Петербургских и Московских), наполнялись подробностями последнего прощания одесской паствы с усопшим архипастырем. Все говорили и писали о невознаградимой потере, понесенной всею Русскою церковью, в лице умершего Архиепископа, о неподражаемых его личных качествах, о высоких заслугах его для преемственно-вручаемых ему паств, о небывалом единодушном выражении чувств к нему со стороны последней его паствы.
Посмертные события не имеют уже прямого отношения к жизни умершего, но они-то обыкновенно бывают очень дороги для оценки того значения, какое имел умерший среди оставшихся живых. Все то, что происходило у гроба покойного преосв. Димитрия, при его погребении и после, так живо и ярко отражало в себе любовь осиротевшей паствы, что описание печальных дней в Одессе по смерти приснопамятного Владыки по необходимости должно служить продолжением и лучшим заключением его биографии. Подробное описание, помещенное в Херсонских Епархиальных ведомостях, составлено, очевидно, лицом близким, глубоко почитающих покойного; оно написано спокойно, а главное – отличается скромностью, достойною кроткого и смиренного Димитрия.
«После совершения царского молебна в соборе, все городское духовенство немедленно прибыло в архиерейский дом. По облачении тела усопшего архипастыря в светлые пасхальные ризы, совершена была первая панихида, при многочисленном стечении начальствующих и служащих в различных ведомствах. Ежедневно затем, по вечерам в 7 час. и по утрам в 11 часов, совершались панихиды в присутствии гг. генерал-губернатора, градоначальника, попечителя учебного округа, городского головы и многочисленных граждан. Чтение Евангелия часто прерывалось кроме того панихидами отдельных учреждений и ведомств. 15-го числа, в 8 час. утра, совершена была панихида по просьбе сестер милосердия Стурдзовской богадельни. На смену их пришли служащие и учащиеся в Одесской духовной семинарии и духовном училище. После панихиды, совершенной ректором с участием священнослужителей семинарской церкви и других, все удостоились воздать поклонение и целование телу, служившему храмом любвеобильной души Святителя. После семинарской панихиды, совершилась панихида по просьбе монахинь Одесского Архангело-Михайловского монастыря. Такая смена панихид продолжалась и после. – 15-го ноября вечером тело положено во гроб и перенесено с подобающею честью в крестовую церковь архиерейского дома. Желая проникнуть во св. храм и поклониться чтимому архипастырю, народ толпами осаждал архиерейский дом. Полиции предстояло очень много труда, чтобы, соблюдая порядок, предоставить возможность удовлетворить благочестивому желанию народа.
16-го ноября прибыл в Одессу преосвященный Геннадий, епископ Сумский, викарий Харьковской епархии, – преданнейший ученик в Бозе почившего архипастыря, уроженец Херсонской губернии, некогда священствовавший в здешней епархии. Во все дни пребывания своего (от 17-го по 22-е ноября) он совершал литургии и панихиды. В первую же литургию он произнес надгробную речь, в которой в сильных выражениях объяснил значение великой потери в лице оплакиваемого усопшего и коснулся благодеяний, оказанных лично ему в Бозе почившим. Приводим часть этой речи, как выдающейся из ряда других по глубине чувства. «Рыдай кипарис, ибо паде кедр (Зах.11:2). Архипастырь, обильно питавший несколько паств от богатой сокровищницы даров духовных, во гробе. Так древо великорослое и многоплодное, всех около себя покоившее мирным приосенением, всех насыщавшее своими плодами, Святитель Божий Димитрий, прекраснейший кедр русского Ливана, паде, – вполне созрев и совершив свой период, покорился воле Господней, всем определившей время сеяния и жатвы, деятельности и покоя, время радости и печали, жизни и смерти. Увы! где ни пронесется весть о кончине архиепископа Димитрия, болезненно сожмутся сердца всех; ибо его сердце всегда и широко было открыто для всех. Восплачут Тула и Ярославль, Волынь и Киев... особенно Киевская духовная академия... Восплачет вся Россия о своем умнейшем и добрейшем, сдержаннейшем, смиреннейшем и кротчайшем иерархе. Восплачут о тебе за себя сироты и бедные, безмерно вспомоществуемые Твоею сострадательностью. Особенно хорошо – разумно восплачут о тебе твои ученики, коих по всем пределам Отчества много и много, у коих всех любви к тебе горячей и до смерти крепкой много и много!..» Как поучительный пример богомудрой заботливости усопшего пр. Геннадий выставил в своей речи себя самого. «В 1842 г., говорил он, молодой и несчастный священник, по милостивому указанию милостивейшего Филарета, пал к ногам твоим со слезами и с вопросом – «что делать с собою» – и твоя богомудрая любовь воскресила меня, направила на путь трудный, но и спасительный; ты постоянно следил за мной и болезновал о мне пред самою смертью492».
17-го ноября прибыл в Одессу назначенный св. Синодом для совершения погребения Высокопреосвященный Сергий, архиепископ Кишиневский. К великой скорби паствы, ближайший помощник усопшего, первый викарий епархии, преосв. Далмат не мог прибыть из Херсона по причине тяжкой болезни493. Ожидали Высокопреосв. митрополита Киевского Платона, дорого чтимого в Одессе и глубоко почитавшего в Бозе почившего архипастыря; но состояние здоровья не дозволило киевскому святителю лично отдать последний долг другу. Разделяя скорбь Херсоно-Одесской паствы, он прислал, вместо себя, наместника Киево-Печерской лавры о. архимандрита Илариона, а Киевской духовной академии благословил командировать для присутствия при погребении депутатом ординарного профессора д. с. с. Б. Ф. Певницкого.
17-го же числа, в 31/2, часа пополудни, началось перенесение тела в Бозе почившего архипастыря из крестовой церкви в Одесский кафедральный собор, по особому, составленному на сей случай, церемониалу. Перенесение это совершилось при необыкновенно-большом стечении народа (несомненно, было больше 100.000 лиц) и необычайной обстановке. В этом обстоятельстве в высшей степени выразительно сказалась благоговейная любовь к усопшему всего населения города, без различия званий, состояний, вероисповеданий и национальностей. – Никогда ничего подобного Одесса не видала, хотя бывали в ней разного рода торжества. В печальном шествии, кроме многочисленного духовенства и начальствующих всех ведомств и учреждений, приняли участие: а) воспитанники сиротских приютов всех ведомств, в том числе и воспитанники еврейских приютов, б) по распоряжению г. попечителя одесского учебного округа воспитанники гимназий, прогимназий и реальных училищ Одессы, в) воспитанники духовной семинарии и духовного училища, г) воспитанницы епархиального женского училища, д) сердобольные сестры Касперовской общины, е) монахини женского монастыря, ж) муниципалитет с городским головою, несшим городское знамя, 3) протестантский пастор с помощниками, и) еврейский раввин с двумя ассистентами, несшими венки, и и) множество граждан. На всем протяжении пути стояли шпалерами войска без оружия. Народ сплошными массами наполнял широкие тротуары; на балконах, крышах домов, даже на деревьях были люди. Благоговейная, священная тишина царила в этой массе живых людей: ясно было слышно пение ирмосов, исполняемое далекими хорами певчих. По принесении тела в кафедральный собор, протоиерей Г. Попруженко, ученик архипастыря, воспитанник XI курса (вып. 1843 г.), произнес речь, в которой указывал на уроки, преподанные нам жизнью архипастыря, и принес почившему благодарность от лица многочисленных учеников его по академии.
Новейший обычай возлагать венки на гробы чтимых людей применен был и к гробу усопшего архипастыря Димитрия. Первый венок принесен был от Одесского института благородных девиц; затем воспитательницы и воспитанницы женского епархиального училища возложили от себя венок; им последовали Одесское Греческое Общество, коммерческое училище, еврейское общество и другие учреждения и общества.
18-го ноября с девяти часов утра начался благовест к литургии. В половине 10-го прибыли преосвященные в собор и началась заупокойная божественная служба. После причастного стиха ректор семинарии, протоиерей Μ. Ф. Чемена, ученик учеников в Бозе почившего святителя, воспитанник ХVII курса (1855 г.), произнес слово, в котором, указав на любовь почившего к пастве Херсонской, среди которой он пожелал умереть, проповедник представил краткий обзор жизни и нравственного облика Святителя. В погребении тела архипастыря приняли участие не только все городское духовенство, но и депутаты от духовенства Одесского училищного округа, обнимающего три уезда. В четыре длинных ряда, от архиерейского амвона до алтарной солеи, стали священнослужители. «Покой, Спасе наш, с праведными раба Твоего» – пропетое всем духовенством, произвело потрясающее действие. По прочтении пятого евангелия, пред началом канона, на церковную кафедру взошел в церковном стихаре профессор Киевской академии В. Ф. Певницкий и произнес выразительную речь, в которой яркими красками обрисовал высокое значение личности и трудов преосвященного Димитрия для Киевской академии и для русской богословской науки494. – Умилительно было последнее целование усопшего. Преосв. Геннадий заплакал навзрыд. Слезы обильно струились по лицам как поседевших от лет и трудов, так и юных и свежих священнослужителей. Это была естественная благодарная дань благодарных сердец своему учителю и пастырю. Руками священнослужителей495 гроб усопшего был поднят и понесен к могиле, выкопанной у левого придела собора, близ арки, отделяющей трапезную церковь, и против могилы князя М. С. Воронцова. Пред опущением гроба в могилу кафедральный протоиерей А. Г. Лебединцев, ученик усопшего, воспитанник XI курса (1843 г.), произнес последнюю речь, в которой, высказав, как тяжело своими руками предавать земле хладное тело дражайшего отца, выразил упование духовного общения усопшего с паствою и паствы с усопшим. В среде духовенства были и еще желавшие говорить у гроба приснопамятного пастыря, но опасение продлить обряд погребения, окончившийся в 3 часа пополудни, удержало от произнесения других речей. При том нужно сказать, что жизнь почившего архипастыря была так светла и сильна назиданием, что похвальные слова ничего не прибавили бы к этой силе и этому свету496».
Во дни поминовений покойного, кроме собора, во многих церквах Одессы и в других городах епархии совершались заупокойные литургии и панихиды. Так, в ближайшее воскресенье, 20 ноября, совершена заупокойная литургия в университетской церкви, при чем профессором богословия, протоиереем Кудрявцевым сказана была речь о значении утраты, понесенной Одессою в лице усопшего архипастыря. В тот же день заупокойные службы, сопровождавшиеся поучениями, были в церквах семинарской и приходской греческой. В девятый день по кончине святителя, 22 ноября, преосв. Геннадием совершена была заупокойная литургия и панихида в кафедральном соборе при многочисленном стечении народа. Пред панихидою сказал речь на греческом языке настоятель греческой церкви, архимандрит Евстафий Вулизма; он разъяснил значение усопшего святителя в церкви Христовой вообще и частное в его отношениях к греческой нации. – Молились за упокой души Димитрия не только христиане, принадлежавшие к пастве покойного, но и иноверцы. Особенное усердие оказало Одесское еврейское общество. 23 ноября, в присутствии начальствующих лиц города, совершенно было заупокойное моление в главной еврейской синагоге; при чем старший раввин, г. Швабахер произнес на немецком языке речь, в которой изобразил высокие нравственные черты покойного, а кантор, после пения хором псалмов, возгласил по-русски: «архипастырь Димитрий, услыши нас!».
Место упокоения своему удрученному тему преосв. Димитрий указал сам, еще при жизни. При вторичном вступлении на Херсонскую кафедру, он говорил своим слушателям: «я пришел умереть среди вас и найти место покоя своему утружденному телу под сенью сего св. храма». В беседах с соборянами он неоднократно высказывал желание, чтобы его похоронили при входе в собор, именно на том месте, где обыкновенно бывает архиерейская встреча, – «чтобы больше утаптывали мою могилу и попирали мой прах», как объяснял он свое желание. Но когда ему указали на свободный и уютный уголок, близ стены северного придела и против могилы князя Воронцова, он согласился, что это место действительно будет удобно, хотя при этом выразил опасение – как бы и над его могилою, для симметрии и украшения собора, не воздвигли саркофага, подобного княжескому. – Завещание покойного исполнено было свято: поверх его могилы положены старые плиты, сравнявшие это место с остальною площадью собора. Но так как любовь осиротевшей паствы не могла мириться с отсутствием видимого знака, который мог бы напоминать ей любимого архипастыря, то и над его могилою явился особенный, оригинальный памятник. В той стене, к которой примыкает могила святителя, усердием граждан Одессы устроен величественный из черного мрамора тот, в котором поставлена икона святых седьми священномучеников – епископов Херсонских (празднуемых церковью 7-го марта); а над этою иконою, в круглой раме из того же мрамора, помещено поясное изображение св. апостола Андрея первозванного, благовестника веры Христовой на русской земле. Под иконою священномучеников херсонских, на мраморной доске из золоченых бронзовых букв, укреплена надпись: «Телом своим зде почивает отшедший к Богу духом преосвященный Димитрий, архиепископ херсонский и одесский. Скончался 14 ноября 1883 года». Небольшая чугунная решетка окружает пьедестал киота и поставленный пред ним подсвечник.
Кроме постановки этого памятника в соборе, вскоре же после смерти преосв. Димитрия, последовали заявления от разных лиц и обществ о желании увековечить память архипастыря пожертвованиями на полезные учреждения. Одесская городская дума, в одном из ноябрьских заседаний, постановила построить на новом городском кладбище храм во имя святителя ростовского Димитрия497 «в вечную память об истинно-праведной жизни и деятельности архипастыря херсонского Димитрия» (как сказано в докладе Думы). Для выполнения постановления тогда же Дума ассигновала из городских сумм 25.000 рублей и учредила строительный комитет, а при городской управе открыта была подписка пожертвований, которые преимущественно предназначались на внутреннее украшение будущего храма. Пожертвования, действительно, вскоре явились, и в значительном количестве. Когда была освящена (1891 г.) новоустроенная церковь св. Димитрия, внимание богомольцев невольно останавливалось именно на внутреннему украшении храма, которое особенно много говорило о соответствии своем с намерениями храмоздателей. На многих иконах, как в иконостасе, так и на стенах, изображены церковные праздники, или святые Божии, дни памяти коих были знаменательными днями в жизни архиепископа Димитрия, – или напоминали особые случаи и обстоятельства, при которых крепла взаимная любовь между паствою одесскою и ее покойным архипастырем. – В это же время, т. е. вскоре после освящения храма, городское общество сделало еще одно доброе дело в память Димитрия: близ нового храма отведено особое специально-духовное кладбище для бесплатного погребения священно-церковно-служителей города Одессы.
Одна особа, пожелавшая остаться неизвестною, после панихиды в университетской церкви в 40-й день по кончине преосв. Димитрия, изъявила желание дать от себя сумму на учреждение стипендии имени покойного архиепископа в одном из средних учебных заведении города Одессы. Еврейское одесское общество образовало несколько стипендий имени преосв. Димитрия в одном из приютов для бедных. – Впоследствии такие же пожертвования поступали в разные благотворительном учреждения, и в Одессе и в других городах губернии. Но едва ли не лучший и самый дорогой (не по ценности, а по высоте мысли) памятник преосв. Димитрий воздвигло благодарное духовенство херсонской епархии. В первые же дни после смерти приснопамятного Владыки, по почину одесского училищного совета, духовенство городское и окружное положило собрать по подписке капитал, проценты с которого выдавались бы ежегодно в день кончины архипастыря (14-го ноября) беднейшим жителям г. Одессы и выдачу эту именовать Димитриевскою милостынею. Извещая о таковом постановлении, консистория разослала по епархии приглашение к пожертвованиям. Духовенство горячо отозвалось на предложение и дружно, в течение первых же четырех месяцев, собрало капитал, который дает нескудную милостыню. Жертва эта дорога именно тем, что будет вечным помином по душе святителя, отличительною чертою которого была нищелюбие и главною заботою в жизни – милостыня.
III
Тяжелая утрата для церкви в лице умершего архиепископа Димитрия оплакивалась не одною Херсоно-Одесскою паствою. Весть о его кончине вызвала глубокую скорбь во всех местах его прежнего служения, – везде, где его знали и почитали, и не только в пределах нашего отечества, но и на далеком православном востоке, – везде приносились усердные молитвы о упокоении души его. В первые же дни по кончине святителя, осиротевшая паства утешаема была соболезнованиями, получавшимися из разных мест. Константинопольский патриарх прислал следующую телеграмму на имя г. Вучины, греческого консула в Одессе: «Глубоко огорченные кончиною благочестивейшего Владыки Димитрия, архиепископа Херсонского и Одесского, молимся о упокоении души его. Вселенский патриарх Иоаким». – Болгарский министр-президент Цанков телеграфировал одесскому болгарскому настоятельству: «В воскресенье, 20-го ноября, будет отслужена панихида о упокоении души Высокопреосвященного Димитрия». – В Иерусалиме, по просьбе ученика усопшего – архимандрита Антонина, молились за Димитрия и в патриархии и в «русском доме», молились о нем и в Белграде и в Афинах; молились во многих городах русских: – в Петербурге – родные и почитатели покойного, в Киеве – в Духовной академии, в Ярославле – при кафедре, на Волыни – в Почаевской лавре, и друг. – В Туле, 17-го ноября – в день погребения Владыки Димитрия, по заранее разосланной повестке от городского начальства, было большое стечение народа в кафедральном соборе, где В.-преосв. Никандром совершена была заупокойная литургия и потом панихида; в тот же день такое же поминовение совершалось в семинарской церкви для всех преподавателей и воспитанников духовных. В Рязани, по распоряжению епархиального начальства, во всех духовно-учебных заведениях совершались поминовения в 20 и 40-й дни по кончине архиепископа Димитрия. – Во многих периодических изданиях, преимущественно в духовных журналах, печатались обширные некрологи Димитрия и живые воспоминания о нем учеников и почитателей498.
Что вызывало такое широкое сочувствие к усопшему архиепископу Херсонскому, – такое искреннее выражение любви к нему, такую горячую молитву о упокоении его души? Без сомнения – высокие личные качества и достоинства покойного: его богопросвещенный ум, принесший плоды в живой, действительной проповеди, его чистое, любвеобильное сердце, исполненное глубокой веры и христианского милосердия, его праведная жизнь, далеко светившая с высокого свещника.
На сколько достаточно раскрыты и освещены различные моменты этой жизни в предлагаемой биографии преосвящ. Димитрия, пусть судят знавшие покойного святителя. Последнее же слово о нем предоставляем лицам, послужившим при погребении его и напутствовавшим своим словом в жизнь вечную. Вот что говорилось об архиепископе Димитрии в надгробных и поминовенных речах, в Одессе и других местах его служения.
«Прежде всего это был святитель, с величайшим благоговением совершавший службы Божий. Одаренный величественным видом, сильным и ясным голосом, ясною дикцией, он совершал богослужение так, что невольно располагал к молитве всех. В его движениях, в его взгляде, в его поклонах была такая высокая простота, истовость и благоговение, каких не сумеет искусственно выразить самый даровитый художник. Они были самым прямым и естественным плодом его глубочайшей искренности, правдивости и благочестия. Тут не было ничего деланного, никакого желания показать себя, произвести впечатление; одно желание – быть ясным и внятным в выражении молитв св. церкви. Около престола в алтаре не было никакой суеты; все опасались нарушить тишину или сделать какое-либо упущение. Сделано незначительное упущение, – на него, по-видимому, не обрящают внимания чтобы не нарушить благоговейного настроения духа. Сделано более значительное упущение, – вздох архипастыря и молитвенное поднятие глаз его к небу давали понять, что сделано упущение. – В произношении возгласов архипастырем была некоторая певучесть. В устах святителя, при его органистом голосе, она имела особенную приятность и действенность499. В устах другого она, может быть, не имела бы той силы. А с каким благоговением повергался святитель пред престолом Божиим по освящении св. Даров и при пении молитвы Отцу небесному! По возвращении из С.-Петербурга, архипастырь с особенным умилением повергался пред престолом во время так называемой выклички, когда протодиакон произносит, что св. Дары приносятся «о спасении Благочестивейшего, Самодержавнейшего, Великого Государя нашего Императора». Всегда самый искрений верноподданный, святитель Димитрий глубоко сознавал особенную потребность в усиленных молитвах о Государе Императоре в наше беспокойное, тяжелое и неблагодарное время500». – «Почти каждый воскресный и праздничный день он совершал службу Божию – и как совершал! Мы не погрешим, если скажем, что тысячи присутствовавших в храме при совершении церковных богослужений покойным всегда уносили в душе глубокие впечатления из храма в свои дома, по нескольку дней, оставались под влиянием радостного восторга и умиления. А сколь многие проливали слезы, слушая чтение почившим святого евангелия и молитвословий церковных – чтение по чину, чтение от глубоко-верующего сердца, благоговейное, умудряющее во спасение501». – «Благодарим Тебя от глубины души – сказано было в лицо архипастырю Димитрий, при прощании его с Херсонскою паствою – благодарим за твои священнослужения. О, какими словами можно выразить те благодатные впечатления, которые производило на нас, каждый раз, священнодействие литургии, Тобою совершаемое. То был воистину светлый праздник для верующих сердец. Каждое слово, каждый возглас молитв св. Златоуста в твоих устах получали особенную, неотразимую силу, отзываясь в благоговейном сердце как-бы сотрясающим образом. При каждом молитвенном воздеянии святительских рук твоих и особенно при произнесении дивных слов: призри с небесе Боже… мы видели в тебе – да не оскорбится, Владыка, скромность твоя – величественный образ Василия Великого, с трепетным сердцем и глубоким умилением призывающего благодать Божию на церковь святую502». – «На обязанности служб архипастырь Димитрий смотрел совершенно по-евангельски. Для службы он не щадил себя, доводя свои труды до возможной степени самоотвержения. Его приглашают служить в какой-либо церкви, – он отправляется, хотя и слабы его силы. Сильный обморок, случившийся с ним однажды в 70·х годах во время службы в Успенской церкви, ясно показал, до какой степени святитель не щадил себя503».
«И молитвы архипастыря, исполненного веры и благочестия, имели действительную силу пред Богом. Не можем не припомнить при этом один замечательный случай. В один из 60-х годов была в Одессе страшная засуха: на небе ни облачка; растения и посевы погибали; барометр не подавал никакой надежды на дождь. Святитель приглашен был служить литургию в кладбищенской церкви. После обычного облачения, он распорядился служить молебен о даровании дождя. К изумлению маловерных и к радости верующих, в половине литургии под самым куполом кладбищенской церкви, вдруг образовалось густое облако, разросшееся в тучи, покрывшие весь горизонт и разразившиеся обильным дождем504».
Он был пастырь учительнейший. Как часто и с каким усердием проповедовал он везде слово Евангелия! И с какою сердечною силою и убедительностью излагал он свои поучения! У него был свой язык, свой особый склад речи, не совсем подходящий под легковесный говор нашего суетного времени, но этот язык был понятен нам, и слово его глубоко падало в душах слушателей, потому что-то был благодатный язык библии и глубоко верующего и любящего сердца»505. – «Его проповеди без сомнения, займут весьма почетное место в истории русского проповедничества. Они – весьма содержательны: на основании их можно составить целое богословие в применении к современной нам жизни. Они дышат такою сердечностью и святостью, каткие можно разве найти у прославленного Богом Святителя Русской церкви, имя которого носил наш почивший архипастырь»506. – «В этих проповедях, как в чистом зеркале, отразились и глубокий ум святителя и доброе теплое, сердце его. Как глубокий мыслитель, и ученейший богослов, преосв. Димитрий говорит обо всем вполне основательно и доказательно; как человек сердечный, он каждое слово свое согревает горячим чувством; как оратор, говорит изящною и в то же время весьма простою и ясною речью. Слово его и властно, как слово архипастыря, вместе с тем и сердечно – любовно, как слово человека, проникнутого любовью к человеку собрату, искреннею заботою о его душевном спасении»507.
Он был пастырь учительнейший не по словам только, но и по делам. Согласие между словами и делами его было замечательное! Учил-ли он нас чему-либо, чего сам прежде не исполнял? Где найдем мы ныне эту высоту самоотвержения? Он был пастырь, правивший паствою по духу благодати. Не в его характере было с поспешною горячностью исторгать плевелы из нивы Божией: он предоставлял им расти вкупе с пшеницею до жатвы, или до того созревания, когда порок сам себя наказывает и губит. «Можно-же радоваться, сказал он об одном беглеце, злоупотребившим доверием, – можно ли желать, чтобы его поймали и предали в руки правосудия. Ведь и бежал-то он под тяжким сознанием своего греха». Какое глубокое снисхождение к падшему!»508 «Личным оскорблениям и нарушению личного права своего он не придавал никакого значения. Бывало иногда, что под-епитимийный, под давлением раздражения, наговорит архипастырю слов неприятных. Но для кроткого святителя не существовало дерзости: он понимал силу раздражения и старался успокоить взволнованного таким решением, какого и не ожидал виновный. Не было, кажется, худого деяния, которого он не простил бы, если видел истинное раскаяние. Он не отвергал и тех несчастных, которые, совершив непохвальное деяние, с дерзновением обращались к его кроткому, любвеобильному сердцу. Зло от такого образа действий святителя не умножалось, а число несчастных в жизни сокращалось»509.
«Говорить ли еще об отеческом участии почившего Архипастыря в нуждах и скорбях каждого, к нему обращавшегося, о его всегдашней готовности помочь каждому в горе? Но кто не знает о бесчисленных делах милосердия его, которые уподобляли его знаменитым подвижникам св. церкви»510. – «Думают, что рассказы о его милосердии имеют легендарный характер. Но это несправедливо. Случаи крупных пожертвований бедным, когда Владыка, движимый чувством милосердая, отдавал все, что имел, – были известны многим, и не скрывали их сами облагодетельствованные511. Еще за два месяца до смерти преосвященного был такой пример его благотворительности. Один офицер, потерявший службу, человек семейный, попросил у него 300 рублей. Святитель обещал дать ему эту субсидию, когда получит деньги из монастыря, – и свято исполнил свое святительское слово. Такой способ благотворения ставил архиепископа Димитрия выше нашего времени; оттого и рассказы о его благотворениях кажутся иным легендарными»512.
Без сомнения, эти именно высокие качества духа покойного архиепископа Димитрия желали обобщить, когда, в некрологических воспоминаниях, его имя сопоставляли с именами великих иерархов вселенской церкви. «Скончался – сказано о Димитрии в одном некрологе – один из старейших иерархов, пользовавшийся великим и всеобщим почтением, отличавшийся глубоким и всесторонним богословским образованием, замечательным умом и ученостью, и в то же время представлявший, вместе с такими качествами ума, редкое (в наши по крайней мере дни) соединение высоких свойств сердца и истинно-христианских добродетелей: безграничной доброты, евангельской простоты и незлобливости, апостольской нестяжательности. Это был по истине муж апостольский, живо напоминавший епископов первых веков христианства, в возможной полноте осуществлявший в своем лице слова Христа Спасителя: «будите мудри, яко змии, и цели, яко голуби». Что значило той или другой епархии лишиться преосвященного Димитрия, это хорошо знают епархии, которым приходилось с ним расставаться; день прощания с Владыкою Димитрием был для них днем глубокой всенародной скорби и тяжелых сцен, особенно для Тулы и Одессы. Вспоминая такой день, один из представителей тульского духовенства в своей речи, произнесенной на панихиде по усопшем Херсонском архиепископе, говорил: «эти проводы напоминали нам тогда те прощания святителей с своими паствами в древней церкви, когда достойнейших из них одна паства привлекала к себе, а другая не желала отпустить. И вот, этого архипастыря, подобного древним вселенским святителям, не стало – он сошел в могилу, оставив нам в подражание доблестный облик своей высокопросвещенной, широко любящей и кроткой души»513.
«Счастливая Одесса! Под сводами твоего первенствующего храма покоятся бренные останки знаменитейших русских иерархов XIX столетия, доблестно послуживших отечественной церкви, – Иннокентия, Димитрия и Никанора»514. В ряду этих красноречивых могил могила Димитрия занимает центральное положение; она выступает далеко на запад – на самую средину храма – как бы затем, чтобы начертанное на ней дорогое имя истинно-народного архипастыря чаще и чаще вспоминалось в молитвах окружающих ее богомольцев, – чтобы живая память о святителе, наиболее почитаемого из всех Херсонских святителей, сохранялась в херсоно-одесской пастве до самых отдаленных времен. «Для того именно приснопамятный Владыка и исходатайствовал небывалое на практике возвращение к прежней пастве, чтобы облегчить ей первую разлуку; для того и прибыл вторично в Одессу, чтобы здесь, где более знали и любили его, запечатлелся окончательно величавый нравственный образ его, чтобы здесь почивало благословение его, чтобы здесь упокоились и самые бренные останки его. – Да не смущается, сердце твое, паства Херсонская! Великую милость обрела ты у Господа Бога, что святитель Димитрий среди тебя именно провел остаток дней своих. С заботою о тебе он оставил земное поприще свое; с молитвою о тебе предстал он пред престолом Царя царствующих; с твоим именем будет передаваться слава о нем из уст в уста, из поколения в поколение»515.
Святителю Божий! По благодати Господа ты был непостыдным делателем в вертограде Его и дал церкви светлый образ словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою (1Тим.4:12). Ты подвигом добрым подвизался течение совершил, веру сохранил и теперь готовится тебе венец правды (2Тим.4:7–8).
Приложение
Пр. Димитрий состоял почетным членом:
а) Киевской академии (с 1869 г. окт. 1).
б) Московской д. академии (с 30 ноября 1871 г.).
в) Казанской д. академии (с 1879 года).
г) Новороссийского Университета (с 1872 г.)·
Кроме того состоял почетным же членом:
а) Киевского Богоявленского братства (вспомоществования недостаточн. студентам Киев. академии), с 1882 г.
б) Братства св. Василия Рязанского (при Ряз. сем.) с 1880 г.
г) «Московск. Общества любителей духовного просвещения», с 1870 г. февраля 5.
д) Одесского Общества истории и древности при Новор. университ., с 1875 г.
е) Общества Изящных искусств в Одессе при Новор. университ., с 1882 г.
ж) Одесского Славянского благотворительного Общества.
з) Попечителем Болгарского настоятельства в Одессе.
и) Благотворительного общества при Одесской Греческой церкви.
й) Красного креста.
к) Общества для вспомоществования бедным г. Одессы.
л) Кагановских учреждений в Одессе.
м) Общества пособия ученицам Одесс. женской гимназии.
н) Общества пособия ученикам Одесс. Реального училища.
о) Попечительства о недостаточн. студентов Демидовского Лицея в Ярославле.
п) Кирилло-Мефод. братства в г. Остроге.
р) Общества вспомоществ. недостаточн. учеников Житомирской гимназии.
с) Общества вспомощ. недост. уч-цам Житомирск. Женск. гимназии.
т) Общества вспомощ. недост. ученикам Замостской прогимназии.
у) «Замостского Свято-Никольского братства».
ф) «Покрово-Богородицкого братства в г. Аккермане».
х) Пятигорского Общества вспомоществования больным.
ц) Пермского Общества св. Стефана.
* * *
В местном предании сохранилось остроумное объяснение названий рех, рядом лежащих, сел. В Коленцах Проня поворачивает под прямым углом – коленом; в Лучинске делает излучину, а в Столпцах идет прямым столбом.
К сожалению, теперь (с недавнего времени) нет уже этого старинного бортного леса: на его месте лежит сплошная черная пашня.
Картинное и в тоже время правдивое изображение быта духовенства рязанской еп. за этот период можно читать в «воспоминаниях» профессора Спб. академии, Д. Ив. Ростиславова. («Русск. Старина» 1873 г.)
Название «подрясник» и теперь еще неупотребительно у рязанского духовенства, как мало отвечающее одежде, которая редко носится «под рясою».
Даже в позднейшее время сельские священники Рязан. епархии удобно обходились без собственных ряс. В редкие приезды в город, где иногда нужно явиться к соборному протопопу и благочинному или смотрителю училища, они брали у своего сродича или знакомого городского священника рясу на прокат на время: и всем то эта ряса приходилась и в меру и в пору!
Уже в 1867 году, когда в рязанской семинарий вводился новый устав, правление вздумало предложить съезду духовенства перенести летние каникулы на более жаркое время на июнь и июль; но такая затея встретила общий протест, мотивированный одним вопросом: «кто же сам будет убирать с полей хлеб, если в конце июля старшие дети должны будут являться в семинарию».
Старший сын Алексея Феодуловича Григорий Алексеевич при жизни отца посвящен был в диакона в том же селе Столпцах; Иван Алексеевич (старший), отец пр. Димитрия, служил диаконом в с. Лучинске; Николай был на гражданской службе; Иван Алексеевич (младший) был учителем Скопинского духовного училища; Михаил Алексеевич служил диаконом в гор. Сапожке. – Старшая Дарья Алексеевна была за священником в г. Данкове, младшая же Дарья Алексеевна – за священником Ожидаевым в селе Перевлесе.
Фамилию Столпянский (по родному селу) носили в семинарий три старших сына Алексея Феодуловича. С этой же фамилией учились потом и сыновья Григория Алексеевича – Яков и Иван, пока в 1828 году начальство не переименовало их в «Сапфировых».
«История Рязан. семинарии (с 1724 по 1840 г.)» Д. Агнцева. Рязань, 1889 г., стран. 51.
Больше всех помогала Ивану Алексеевичу, как и другим братьям, сестра Ирина, оставшаяся девицей и получившая от отца, по завещании, все его сбережения.
Священник Семен Тарасиевич (род. 1764 г., ум. 1848 г.) служил более 50-ти лет при церкви с. Смыкова, Сапожков, уезда и уже в глубокой старости сдал свое место внучке – родной сестре пр. Димитрия, Евдокий Ивановне.
В виду разных и неправильных (даже в послужном списке) показаний о летах преосв. Димитрия, помещаем здесь точную выписку о его рождении из метрических книг Лучинской церкви. «1811 года № 3, в первой части – о родившихся значится: у диакона села Лучинска, пронского уезда, сын Климент родился 16 числа и крещен 21-го февраля. Восприемниками были: деревни Полубояриновой помещик Петр Михайлов Вельяминов и дочь его Елена Петрова. Таинство крещения совершал иерей Мирон Герасимович».
В настоящем очерке в трех местах помещаются сновидения для иного читателя, не придающего серьезного значения снам, пожалуй, покажется странным, что в «жизнеописание» вводятся рассказы, не относящиеся к действительной жизни. Но эти сновидения принадлежали таким людям, которые сами глубоко веровали в путеводное значение снов, бываемых видимо – не без воли Божией. Поэтому составитель очерка не считает себя в праве опустить их из ряда других предании, тем более, что одно из этих сказаний принадлежит, как увидим, самому пр. Димитрию и давно уже составляет собственность печати, в различных даже вариациях.
Матфей Иванович Муретов, 3-й магистр Х-го курса Киевской академии, был профессором сначала Киевской и потом С.-Петербургской семинарий – затем протоиерей Исакиевского собора и законоучитель 2-й гимназии; сконч. 28 ноябр. 1890 г. в звании настоятеля Митрофановского кладбища в С.-Петербурге. – Евдокия Ивановна была в замужестве за священником К. А. Смирновым († 1860 г.), бывшим в с. Смыков, на месте деда Семена Тарасиевича. – Анна Ив-на была в замужестве за Семеном М. Каниным, поступившим в Лучинске диаконом, на место тестя, и сконч. в 1866 г. священником в Лучинске же.
«Полн. собрание пропов. Димитрия». Т. I, №№ 62 ,61 и др.
Сверстник Пр. Димитрия, Андрей Кононович […] священником и в том же Лучинске.
Ту же фамилию потом получил и самый младший брат Столпянских – Михаил. Впоследствии фамилию – «Муретов» носили и многие другие из духовенства Рязанской епархии, даже не состоявшие в родстве с пр. Димитрием.
«Воспомин. о пр. Димитрии» прот. Н. Флоринского (Душ. Чт. 1886 года. Т. II).
В благодарной памяти к первому наставнику пр. Димитрий, с отеческою любовью, принимал живейшее участие в судьбах его старшего сына, который учился у Димитрия – в академии, окончил курс магистром и впоследствии был ближайшим его помощником в сане викарного епископа. – Протоиерей Григорий Покровский, много лет бывший смотрителем Сапожковского училища, имел счастье видеть из своих учеников двух архиепископов: Димитрия Херсонского и Макария Донского († 24 дек. 1894 г.).
Единственный недостаток в речи – нетвердое выговаривание буквы р, или, скорее, какое-то особенное слияние ее с буквою л (рл) – остался на всегда у знаменитого витии.
Павел Игнатьевич Беневоленский, проф. словесности, а потом философии в Рязан. семинарии, в 1828 г. перешел в Вифанскую, а оттуда вскоре перемещен был в М. академию бакалавром философии. Скончался в 1865 г. в сане протоиерея церкви Николы Явленного в Москве.
Приводим здесь полные аттестации ученика Кл. Муретова за риторический курс. – В списках 1826/7 учебного года по классу словесности он записан под № 2 из общ. числа 147), с отметкой «отличных способностей, примерно-ревностного прилежания и отличных успехов» (Проф. Беневаленской). По классу греч. языка под № 3, с отметкой «весьма ревностного прилежания и отличных успехов» (лектор, ученик-богослов, В. Богородицкий). По кл. франц. языка «в. ревностного прилежания и отличных успехов» (лектор Ив. Соллертинский). По классу всеобщей историй – под № 8 (из 304-х) «оч. хороших способностей, в. ревностного прилежания и в. хороших успехов» (учит. Виноградов). – В разрядном списке, составленном в конце года, на основании частных ведомостей и экзаменов, значится под № 2. – В особой книге семин. правления, заведенной для записи отличавшихся, в 1826/7 записано: Кл. Муретов отличался по кл. словесности, вс. историй, греч. и франц. языкам» (ректор архим. Илиодор. Инспект. игумен Гедеон).
В списках 1827/8 года: по кл. словесности – под № 2 «отличных способностей, примерно-ревностного прилежания и отличных успехов»; по кл. греч. языка – под № 1; по кл. франц. языка – под № 1; по кл. всеобщей историй – под № 10 (из 267), «оч. хороших способностей, ревностного прилежания и оч. хороших успехов». – В списке проф. словесности за весь курс (1826–28) Муретов уже значится под № 1-м, с отдельною в его графе отметкой – «отличных способностей, неутомимого прилежания и превосходных успехов.» – В особой книге правления значится отличившимся по кл. словесности, греч. и француз, языком; а в окончательном переводном списке записал под № 1-м.
«История Моск. академии», стр. 76.
Заканчивать философский курс Кл. Муретову пришлось у другого профессора – Алексея Дроздова (брата преосвящен. Афанасия), не менее талантливого преподавателя, хотя и скоро и печально окончившего свою педагогическую карьеру (уволен в 1834.).
В философских познаниях он уступал двоим сверстникам: Як. Виноградову (потом товарищу своему по Киевской академии) и родственнику Дм. Ф. Гусеву (известному впоследствии профессору Казанской академии).
Прохождение философ. курса Муретовым по частным документам аттестуется так: За 1828/9 учеб. год: по классу философии записан под № 2 (из 94-х) с отметкой – «весьма хороших способностей, примерно-ревностного прилежания и в. хороших успехов» (проф. Беневоленский); по кл. математики – под № 1-м – «в. хороших успехов»; по греч. языку – под № 5 – «хорошего прилежания и в. хороших успехов» (учит. П. Поспелов); по кл. франц. языка – под № 2 – «весьма прилежен и оч. хороших успехов» (уч. Дмитревский); в общем списке, после экзаменов, записан под № 3-м.
За 1829–30 год: по кл. философии записан под № 3 с отметкой «при способностях в. хороших и ревностном прилежании, успехов в. хороших» (проф. А. Дроздов); по кл. математики – под № 1-м – «в. хороших способностей, в, ревностного прилежания и в. хороших успехов» (учит. М. Дмитревский); по классу франц. языка – под № 2-м – «в. ревностного прилежания и в. хороших успехов»; по классу греческ. языка – под № 5 – отличного прилежания и успехов» (учит. Н. Ильдомский). – В разрядном списке, составленном после переводных экзаменов, в июле 1830 года значится под № 3-м. Отличившимся записан по математики, философии и французскому языку.
Впоследствии митрополит Киевский († 1876 г.).
Отметки выписаны из списков о. инспекторов семинарии, вносимых в семинарское правление.
Из воспоминаний Ив. Гр. Сапфирова.
Так справедливо назвал этот тяжелый труд преосвящен. Анатолий (Мартыновский), когда рассказывал свою радость по поводу появления первого учебника по догматическому богословию См. «биографии пр. Антония Амфитеатрова, «архим. Сергия».
Об этом свидетельствовал сам пр. Димитрий в докладе св. синоду с представлением проекта устава (см. ниже.)
Прошение это единственный автограф. преосвященного из периода его юности.
В богословском класса Муретов учился один год (1830–31) и имел в начала учебного года следующие аттестации: по классу богословия значился в списке под № 3-м (из 106-ти учеников) с отметкой – «весьма хороших успехов» (ректор семин. архим. Арсений, инспект. священ. Н. Ильдомский); по классу еврейского языка – под № 3, с отметкой «прилежания ревностного и в. хороших успехов“ (учит. Як. Алексинский); по кл. церковной историй – под № 4 «отличного прилежания и в. хороших успехов“ (учит. прот. Поспелов). Но в разрядном списке, составленном к концу года (без экзаменов), Клим. Муретов значится уже под № 1-м, с отличною от всех аттестацией: благодаря влиянию ректора он, при окончании курса семинарии, явился лучшим ее представителем для первой рекомендации в Киевской академии.
Прецедентом к такому суждению в р. семинарии был пример известного писателя Н. Надеждина, которого ревизор предназначил в академию еще во время учения его в «риторике». – Впрочем, семинарский курс, к которому принадлежал Кл. Муретов, отличался обилием даровитых учеников: кроме двоих, назначенных в Киев. академию, пятеро посланы были в этом же году в Петербургскую (из них трое окончили магистрами) и четверо потом – в Московскую (все магистры). Сверх того, еще из философского класса выбыли больше десяти человек – в Московский университет, в Педагогический институт и в М. Хирургическую академию (см. истор. Рязан. семинарии).
Через год, по болезни, возвратился в родную епархию.
«Пятидесятилетний юбилей Киев. духовн. академии». Киев. 1869 г., стран. 94.
Официальное дозволение преподавать богосл. и философ. науки на родном языке по усмотрению ректора, дано было предписанием Ком-дух. уч-щ в 1819 году; но традиции были сильнее предписаний.
Аскоченский. «Ист. К. дух. академии“. Спб. 1863 г., стр. 119.
«Ив. М. Скворцов» (некролог) проф. Малышевского. В тр. К. д. ак. за 1862 г., т. Ⅱ, стр. 441.
Там же, стран. 445.
Особенно последний. Не было почти ни одного дела, сдаваемого Филаретом в академию на рассмотрение, ни одного поручения академической корпорации, в котором бы митрополит не требовал мнения Ив. М. Скворцова (см. «Биограф. Филарета» – архим. Сергия).
Некролог Скворцова, стран. 459.
Яков Космич Амфитеатров. (См, «Богосл. вестн.» 1893 г., кн. III. стр. 445).
По воспоминаниям преосвящен. Иеремии такое совпадете произошло даже без его ведома. Митроп. Серафим при назначении Иннокентия высказал ректору: «а Иеремии будет скучно без него; пусть уж оба едут в Киев». (Пр. Иеремия. Н. Нов. 1886 г., стр. 30).
Труды Киев. ак. 1877 г., т I, стр. 280.
Воспоминания Иеремии об Иннокентии. § 12.
Там же. §§ 23 и 30.
Николай Александр. Ильдомский, маг. VIII курса Спб. академии, в 1829 году определенный на службу в Рязан. семинарию, 35 лет был инспектором и профессором богословия. † В 1865 г. в сане кафедр. протоиерея. – Ректора Арсения в августе 1831 г. уже не было в Рязани.
Указанный распорядок между кафедрами, равно как и взаимные, официальные отношения лиц академических корпораций, необходимо иметь в виду всякому, имеющему дело с историей старых академии. В настоящем случай это важно в объяснении разных обстоятельств жизни Димитрия, как во время его студенчества, так особенно в служба его при академии.
Труды Киев. ак. 1863 г., т. Ⅱ, стран. 453 и 454.
В монаш. Антоний; впоследствии инспектор и профессор богословских наук. † 13 марта 1871 г., в сане архиеп. Кишиневского.
Василий Николаевич Карпов, по переходе на службу в Спб. академию, вступил в родство с братом преосв. Димитрия, прот. М. Ив. Муретовым. Во время троекратного пребывания Димитрия в С.-Петербурге, входил с ним в самые близкие сношения.
Аскоченский. Ист. Киев. академии, стран. 153.
Впоследствии баккалавр философии (1836–1842).
Преосвященный Парфений, архиеп. Иркутский. † 21 янв. 1872 г.
Дела внутреннего правления Киев. акад. за 1833 г., № 55. Сведения извлечены профессором Η. М. Дроздовым.
По плану Филарета (Дроздова), составленному в 1818 г., «Откровенное богословие» (после естественного – философского) делится на I) коренное или собирательное, которое заключается в священ. писании, и II, производное или систематическое, которое извлекается из первого и приводится в систему. Последнее разлагается на а) толковательное, б) составительное и в) применительное. Составительное в свою очередь подразделяется на историческое и учительное, а применительное – на собеседовательное, каноническое и пастырское. (См. Чистович. Ист. Спб. акад., т, I, стр. 273).
См. ниже – первое слово Димитрия к Херсонской пастве, с похвалою Иннокентию.
Из лекций Амфитеатрова. (См. «Богослов. вестник» 1893 г., кн. Ⅲ, стр. 445).
Аскочен. Ист. К. ак., стран. 250.
Там же, стран. 251.
Як. К. Амфитеатров («Странник» 1892 г., сентябрь).
Юбилей Киев. акад., стран. 103.
Воспоминания прот. Флоринского («Душеп. чт.» 1886 г., кн. 6).
Надгробная речь прот. Попруженко, ученика пр. Димитрия.
. По воспоминаниям Киевских старожилов.
По воспоминаниям Киевских старожилов.
По воспоминаниям Киевских старожилов.
Воспоминания преосвящен. Иеремии, епископа Нижегородского, писанные в 1857 году, во время пребывания его на покое.
Сочинения Иннокентия (Издание Вольфа). Спб. 1875 г., т. V, стр. 620.
Буткевич. Биография Иннокентия (стран. 93).
Дела внутрен. правления Киев. Д. ак. 1835 г., № 33-й. – К греческому языку Муретов, как видно, не прилежал даже до окончания учения, благодаря той антипатии к этому предмету, какую успел внушить мальчику строгий и безрассудный учитель Сапожковского училища.
В «Воспоминаниях (неизв. автора) о пр. Иннокентии Борисове, как ректоре Киев. духовной академии“ (Труды Киев. Д. акад. 1895 г., апрель).
Составитель утвержденной в 1885 г. для семинарий программы «Нравственного богословия» указал на это сочинение, как на пособие в изучении соответствующей части науки.
В истории Московской академии есть не одно указание на такие требования со стороны митроп. Филарета, которому приходилось бороться с развивавшемся, год от году, многописанием.
Например: «Церковь управляющая и управляемая благодатью Божиею» (Киев. ак.), или – «О достоинстве человека, раскрытом и утвержденном христианскою религией» (писал. М. Филофей) и подобн.
В Киев. академии был случай такой. Митроп. Моск. Филарет, читавший сочинения студентов XII курса, настоял, чтобы третий магистр Андрей Монастырев был выпущен первым (выше Макария Булгакова), так как сочинение его нашел «отличным от других».
Проф. прот. Иоаким Георг. Орлов, маг. Ш к. Спб. академии.
Профессор Н. Мих. Дроздов, сообщивший это письмо Филарета к Иннокентию редакции «Трудов Киев. ак.» (помещено в № 7-м 1884 г.), объясняет знакомство Филарета с Димитрием именно изложенною историческою справкой о сочинении последнего и оригинальною рецензией первого.
Из 14-ти магистров VII курса семеро занимали академические кафедры. Вместе с Димитрием при академии оставлен был, на кафедре церк. истории, Дм. Ив. Макаров (в монаш. Лаврентий, с 1841 г. э.-орд. профессор архимандрит, сконч. наместником лавры). После прибыли в академии и служили с Димитрием: Ив. Сем. Кульчицкий, занявший после Димитрия каф. св. писания (в монаш. Василий; был инспектором Харьк. коллегиума), Павел Ив. Борисович (в монаш. Афанасий, скоч. ректором Черниг. семинарии) и Вас. Ник. Курковский (в 1842 г. выбыл на гражд. службу). Кроме того, Евсевий (Ильинский) по окончании курса назначен баккалавром С.-Петербургской академии, а Космин Ив. Илар. – Московской.
Как видно из журнальных постановлений Комиссии Дух. уч-щ 1828 года.
Труды К. Дух. ак. 1895 г., апр., стр. 367–8.
Труд. К. ак. 1895 г., апр., стран. 367.
Брошюра «Памяти святителя Димитрия». Одесса, 1883. стр. 14.
Брошюра «Памяти святителя Димитрия». Одесса, 1883. стр. 14.
Аскочен. История Киев. ак., стран. 179.
Юбилей Киевской Дух. академии, стран. 118.
Еще в бытность Иннокентия профессором богословия в С.-Петербургской академии, ревизия 1826 г. (производимая Филаретом Амфитеатровым) находила в его чтениях некоторое неправомыслие. А в 1835 году, конфидициально – чрез и. Евгения, от высшего начальства ему предъявлены были записки по богословию, найденные у студентов Спб. академии и приписываемые Ин-тию, с требованием объяснения на отмеченных местах, казавшиеся неправомысленными. Иннокентий отвечал: «таких записок мною даваемо не было». Запрос повторился, с предъявлением другого экземпляра записок, на котором будто бы находились собственноручные пометки Иннокентия. Ответ последовал тот же. (Архим. Сергий. Биография Филарета, стран. 204–207).
Требование конспекта богословия особо-учрежденным (в 1837 году) при С.-Петербургской академии Комитетом могло, конечно, показаться Иннокентию новым недоверием к его профессорству.
Скончался архиепископ. Воронежским, 22 апр. 1886 года.
Прекрасная и полная в этом отношении характеристика преосвящен. Григория находится в «Ист. Казанской академии» профессора Знаменского.
Отчет об.-прокурора за 1839 год. В Киевской академии, впрочем, и раньше один из бакалавров назначался в помощь инспектору.
Аскочен. «История Киев. акад.», стран. 202. (Сравни с инструкцией Моск. Академии 1844 года. Ист. М. ак., стран. 592).
В последствии, в 60-х годах, преосвященному Димитрию пришлось слушать рассказ о непорядках в одной академии, возникших из-за недоразумений по инспекции и экономии. Выслушав рассказ, он высказал такую сентенцию: «молодое пиво бурливо; нельзя закупоривать его крепко и наглухо; иначе и бочка порвется и пиво пропадет».
Воспомин. преосв. Иеремии. § 19-й.
Кажется, больше награжденного был доволен исходатайствовавшей, награду. Извещая о том Иннокентия (в письме от 7-го мая), Филарет прибавляет: «а крест привезу сам».
«Душепол. Чтение» 1886 г., т. I, стран. 125.
Архим. Сергий. «Биография Антония“, т. I, стран. 198.
Оба Филарета, и Московский и Киевский, с 1842, ни разу не посещали Петербурга.
«Письма прот. I. М. Скворцова к архиепископу Иннокентию» Киев 1877 г. (См. № № VI, XXXVI и ХLII).
Воспомин. прот. Флоринского («Душен. Чт.» 1886 г., т. II).
Письма Скворцова к Иннокентию. № VI.
Покойный о. протоиерей, ректор Полтавской семинарии Μ. Ф. Гаврилков. Его «воспоминания о преосвященном Димитрии», помещенные в Полтав. епарх. ведомостях, перепечатаны были в «Правосл. обозрении» (1884 года).
Напр., в 1843 г. по кафедре св. писания; или в 1848 – по патрологии.
Воспомин. прот. Флоринского.
Воспомин. прот. Флоринского.
Воспомин. о. Гаврилкова.
Воспомин. о. Гаврилкова.
Для примера можно указать на студента Н. Ив. Покровского (впослед. архиеп. Никандр), который взявши для курсового сочинения тему – «о поместных соборах» слишком широко ее понял, а потому во время не успел сделать и половины работы. Но когда Димитрий указал ему писать «только о тех соборах, правила коих заключаются в Кормчей книге», сочинение поспело к окончанию курса и доставило автору степень магистра Богословия, (см. брош. проф. Корсунского: «В. пр. Никандр, архиеп. Тульский» стр. 5).
В Х-м курсе (выпуск 1841 г.) из 60-ти окончивших было 24 магистра и 13 старших кандидатов, с правом на магистра: в ХI-м к. (в 1843): из 69-ти – 29 маг. и 10 ст. кандидатов: в XII к. (в 1845 г.) из 65-ти-30 маг. и 11 ст. к-тов; в XIII – (1847) из 47-ми 18 магистр, и 11 ст. канд-тов; в XIV к. (1849) из 59-ти 24 маг. и 17 старших кандидатов.
М. Филарет еще в 1840 г. лично защищал в Синоде списки Киевской академии и успел. «Разряды степеней, писал он Иннокентию, милостиво кончены»; для сравнения же прибавил: «а бедные Петербургские пострадали от оплошности конференции. Назначили в магистры 20, а рассуждения представили только 12-ть. Только и возвели в степень магистра 11 человек. (Письма – Ф-та, М. Киев., к Иннокентию, № XIX.).
Впоследствии архимандрит Иероним; сконч. в 1877 году. Характеристика этой личности, ясная из писем к Иннокентию Филарета (Дроздова – № 3) и Скворцова (VII и IX), восполнена издателем этих писем, проф. Н. Ив. Барсовым, в его примечаниях к изданию.
Воспоминания прот. В. Гурьева, печатан. в «Русск. Вестн.» 1879.
«Из участников в «Воскр. Чтении» трое – Димитрий, Скворцов и Амфитеатров были особенно плодовиты своими статьями, в которых, несмотря на их краткость, рельефно высказывались особенности научного развития каждого из них» (Юбил. Киев. акад. – стран. 115).
Эта «общая часть каноники», читанная Димитрием, служила некоторое время руководством в академии, хранясь в студенческих записках. Дополнением к ней были «записки по церковн. законоведению» Скворцова, читавшего этот предмет в академии». (Юбилей Киев. ак., стр. 98–99).
Пассии, введенные в академии митрополитом Петром Могилою, совершающиеся ежегодно в первые 4 пятка в. поста, соединяясь с малым повечерием, состоят из пения «тебе одеющагося» чтения Евангелия о страданиях Христовых, проповеди и песни «Приидите ублажим». – Евангелие читает ректор академии, а проповеди говорят профессора (там же).
Воспомин. прот. Флоринского.
Юбилей Киев. акад., стран. 103.
Письма Скв. к Ин-тию, №№ LVIII–LX.
Аскочен. Ист. Киев. академии.
Протоиерей Флоринский в своих воспоминаниях рассказывает, со слов самого преосвящен. Димитрия, подобный случай, имевший место при оценке диссертации одного магистра С.-Петербургской академии.
История Моск. Д. акад. стр. 112.
Чистович Ист. СПб. Академии. Т. I, стр. 425.
Письма Филарета (Амфитеатрова) к Иннокентию. №№ IV, V, VII, и IX.
Собрание мнений Филарета, Μ. Μ. т. II, стр. 458.
Аскочевский. История Киев. ак., стр. 220–221.
Письма Филарета Амф. к Ин-тию. № V.
Собр. мнений Филарета, т. III, № 236 и 288.
Письма Гавриила, архиеп. Рязанского к Иннокентию (христ. чт. 1887 г.), № XXXII.
Легенда о визит гр. Протасова архим. Димитрию, о внезапном вызове его в Зимний Дворец и проч., и проч. все это (в виде истинного происшествия) талантливо рассказано г. Полимсестовым, в его «воспоминаниях об Иннокентии» («Странник» 1889 г.)
Письма Скворцова к Иннокентию. № XXXVII.
Аскочен. Ист. К. Ак. стр. 225–227.
Письма к Иннок. Гавриила. № XXXII.
Письма Д-рия к Ин-тию (Тр. К. Д. ак. 1884 г. т. II, – 595)
Из Киева писали о недоразумениях, вышедших у г. инспектора с студентами из-за певческого хора.
В некоторых некрологических статьях и воспоминаниях о Димитрии несправедливо говорится о его раннем сиротстве.
Письмо арихиеп. Гавриила к Инн-тию, от 16 марта 1841 г.
Надгробная речь проф. Певницкого.
Юбилей К. академии. Историч. записка проф. Малышевского.
«Памяти Димитрия». Одесса, стран. 15.
Профессор Μ. Ф. Ястребов, в своем реферате о «Макарии и Димитрии», читанном в 1887 г., в главных чертах изложил всю программу чтений Димитрия. См. VI т. твор. Димитрия.
Юбилей Киев. академии. Историч. записка.
«Историч. Вестн.», т. VII, стр. 336.
Воспомин. прот. Гаврилкова.
Воспомин. Гаврилкова.
Воспомин. Гаврилкова.
Тр. Киев. Д. акад. 1895 г., май, стр. 95.
Воспомин. прот. Гаврилкова.
Воспомин. прот. Гаврилкова.
Воспомин. прот. Гаврилкова.
В оставшихся от пр. Димитрия рукописях встречаются пометки, касающиеся перестановки мыслей; но почти нет поправок в словах и выражениях.
По воспоминаниям одного из учеников Д-трия, протоиерея В. Ив. Добротворского.
Киевский митрополит Филарет возвращался в 1642 г. из Петербурга очень веселым, по случаю бессрочного увольнения его от присутствия в Синоде. Радостно приветствовал он всех встречавших его; а к о. ректору академии обратился с особенно ласковою речью – «ну, о. Димитрий: пол-России я исколесил, а нигде не встречал такой бороды, как у Вас... Всем-то Господь Бог наградил Вас! («Биограф. Филарета» – архим. Сергия).
В бумагах пр. Димитрия сохранилось одно письмо известного архимандрита Антонина. В этом письме о. Антонин вспоминает, как «он писал этот портрет о. ректора, во время лекций. Портрет при VI т. представляет копию его.
Покойный прот. В. И. Добротворский, бывший профес. богословия в Харьковском университете (из писем его к С. П. Никитскому).
Из писем известного о. протоиерея, законоучителя Моск. кадетского корпуса Г. П. Быстрицкого.
Речь проф. Певницкого.
Известны сборники лекций Димитрия: а) принадлежавший покойн. прот. Н. Я. Оглоблину (студ. X в.) и б) найденный у прот. Д. Ельчукова (студ. XI к.). – За Димитрием записывали многие его ученики, и между ними преосвященные – Макарий, Антоний и Филарет (Филаретов).
Воспомин. прот. Гаврилкова.
Смотри ниже – речь пр. Димитрия на юбилей К. академии.
Архим. Сергий. – «В.-пр. Антоний, архиепископ Казанский.», т. I стран. 80.
Там же стр. 110.
Отзыв писал ректор Евсевий (Орлинский), впоследствии архиепископ Могилевский, сконч. 1881 г.
Письма Скворц. к Инн. №№ LIV и LXII.
Журнал Ком. Дух. уч-щ от 22 дек. 1808 г. (В истории Спб. дух. акад. т. I, стр. 191).
Собрание мнений м. Ф-та, т. I, стр. 149.
См. напечатанную часть трактата в VI т.
Из писем архиеп. Анатолия к архим. Антонию. (Сергий – Биогр. Антония т. I стран. 139).
В «Историч. Вестнике» (1884 г. февр.,) помещена статья «Памяти Архиеп. Димитрия», в которой анонимный автор, на ряду с прекрасными и меткими характеристиками пр. Димитрия, как святителя и ученого богослова, повторяет легендарное предание, по смыслу которого, сам Д-рий будто заявлял на догматику Макария права авторской собственности оставляя на долю последнего только внешнюю архитектонику. («Тут крест – то мой, а Макария только цепочка»! Эту фразу будто сказал Д-рий, указывая на книгу Макария).
Воспоминание прот. Добротворского, покойного профессора Харьковского университета (в письмах к Н-му).
«Памяти в Бозе почивш. свят. Димитрия», стран. 15–16.
«Митроп. Макарий» – Его биография (помещается вТруд. Киев. Д. ак. с 1894 г.) – 1894 г., т. III, стр.250–53. – Автор биографии (Ф. И. Титов), со слов старца-воспоминателя, говорит в одном месте о том, как на полугодовом экзамене (в 1841 г.) ректор сам производил испытания студентов по предмету бакалавра Макария, и долго оспаривал правильность деления русской историй на древнюю – до-Петровскую и новую – после Петра. Напрасно биограф в этом факте ищет начало каких-то особых отношений Димитрия к Макарию (а не Макария к Димитрию)! Очень может быть, что о. ректор и не соглашался с бакалавром и доказывал неправильность деления; но нужно знать, что Димитрий был убежденный славянофил (до славянофильства) и крепко не долюбливал новых историков – западников, которые намеренно старались выделять новую историю «цивилизованной России» от истории «Руси варварской». – Заключением экзамена, как свидетельствует биография М., была публичная похвала о. ректора студентам и благодарность о. бакалавру (1895 г., кн. I, стран. 92).
Венок на могилу Иннок., стран. 26. – В одной дружеской беседе Макарий – еще ректор академии, – высказался: «Мне иногда кажется, что я и не архиерей. Какой я, в самом деле архиерей? – Настоящий то архиерей это – Димитрий» (Со слов покойного проф. И. А. Чистовича).
Брош. проф. Ястребова, стран. 2. – В журнале «Душепол. Чтение» (1895 и 1896 гг.) помещено – «Введение в курс богослов. наук ректора К. Д. акад. Димитрия» – по студенческим запискам (в редакции очень сжатой и конспективной), сообщенное учеником Димитрия, прот. Η.И. Флоринским. Нельзя не поблагодарить почтенного о. протоиерея за такое сообщение; но желательно бы видеть именно академическое издание, редактированное на основании всех имеющихся и могущих найтись сборников Димитриевых лекций.
Тр. Киев. Д. ак. 1895 г., кн. I, стр. 93, 94–108; кн. IX, стр. 65–80.
Брошюра проф. Ястребова, под выписанным названием стр. 11.
Пр. Димитрий при этом благословил академию образом «Покрова Пр. Богородицы».
Письма гр. М. Толстого в «Душепол. Чтении». 1869 г.
Слово, сказанное при гробе пр. Д. ректором Одесской семинарии, прот. Μ. Ф. Чеменою.
«Памяти архиепископа Димитрия Одесского» (Исторический Вестник 1884 г., февраль).
Макарий едва ли слушал Иннокентия, так как в том же 1837 г., в котором Булгаков поступил в академию, профессором богословия, за увольнением Иннокентия сделался Димитрий. Сам автор ниже признает, что в богословии Макарий следовал Димитрию.
«Если сравнить Макария с учителями в проповедничестве, то окажется ближайшее родство между Димитрием и Макарием, а не между Иннокентием и Макарием». (См. «Богословский Вестник» 1893 года, апрель. Т. I, стр. 443).
Генетическую связь между тремя учеными – членами указываемого триумвирата, кажется, верно выражает давно сложившееся в Киеве образное присловие: «Иннокентий роди Димитрия, Димитрий же роди Макария и братию его»
«Киево-Братский училищный монастырь» – Н. Мухина (Tp. Киев. Д. ак. 1895 г., кн. VI).
Воспомин. прот. Гаврикова. – Как за близких знакомых Димитрия указывают на двоих киев. протоиереев: о. Сим. Пилинея (однокурсника с Д-рием) и о. Лободовского.
Маг. XIV курса, профессор Саратовской семинарии, протоиерей. † в начале 70-х годов.
Брат Д. Ракитина, Петр Васильевич, священник Покровской, Киево-Подольской церкви († 1892 г.); Гр. И. Успенский, протоиерей в Киеве; Петр Ал. Муретов, доканчивавший учение в Тульской семинарии, священ. г. Новосиля и др.
Из воспомин. прот. Гаврикова.
Прот. Н. Флоринский.
Антоний (Амфитеатров) ректор Киев. семинарии, находившийся в это время в С.-Петербурге, на очередном служении.
Письма Димитрия к Иннокентию. – Труды Киев. акад. 1884 г., т. II.
Антоний Павлинский, сконч. 28 апр. 1878 года, в сане архиепископа Владимирского.
См. брошюру проф. Ястребова, стран. 8, примеч.
Покойный в.-преосв. Феоктист, архиепископ Рязанский. † 1894 г. Студенческий проводы Димитрия, между прочим, описаны Ф. Л-цевым (студ. ХV к.) в «Киевской Старине» (1883 года, кн. ХII), в некрологич. статье.
Полный текст речи см. т. V, № 84.
См. полный текст этой речи т. V, № 72.
Тульские губернск. ведомости 1857 г. № 30.
Полное собрание творений Димитрия т. V, № 85.
Высокопреосв. Никандр (Покровский), 33 года управлявшей потом Тульского епархией, сконч. 27 июня 1893 года.
Первым магистром в этом курсе окончил учение высокопреосв. митрополит Иоанникий, а вторым – ордин. профессор Н. В. Щеголев. Из 18-ти воспитанников Тульской семинарий, учившихся в Киев. академии при Димитрии, 10 человек окончили курс магистрами и 4 ст. кандидатами.
«Памяти в.-пр. Димитрия» (Тул. Еп. Вед. 1883 года).
Дом этот устроен в 1841 году князем Голицыным, бывшим Тульским губернатором.
Громадная постройка, продолжавшаяся особенно успешно при епископе Алексие (1857–60), закончилась только при архиеп. Никандре, которым и освящен был собор в 1863 году.
«Тульский Богоявленский собор» (Тул. Еп. Вед. 1863 г.).
См. Т. V № 38.
Очень вероятно, что эти собрания открыты были по инициативе самого пр. Д-рия. В его неизданном еще проекте преобразования академии высказано желание восстановить в академиях и семинариях старинные «диспуты», – конечно с приспособлением к новым требованиям и условиям.
Впоследствии Новосильское училище было переведено в г. Ефремов.
В своем месте будет указано, как Димитрий, дожившей до знаменательного времени 60-х годов – времени споров и толков, в обществе и печати, о разных жизненных для духовенства вопросах, – высказывал и отстаивал свой определенный взгляд на эти вопросы, между прочим на «сдачу мест» и «указание невест». В Туле же он широко практиковал старинный способ обеспечении сирот, ничтоже сумняся.
Тул. Губерн. Вед. 1855 г. № 39.
Прибавл. к Тул. Епарх. Вед. 1884 г., т. I, стр. 236.
Пр. Григорий, маг. V курса Киевской академии, два года бывший наставником самого Димитрия, дважды – сослуживцем его в той же академии, потом – сосед по епархии и, наконец, вместе присутствовавший в Синоде (1860–61 гг.), – был очень близок к пр. Димитрию: их сближало единство взглядов на многие современные церковные вопросы.
См. т. V, № 77.
Слово в нед. Вс. Святых (Полн. собр., III, № 14). Вскоре после смерти архиеп. Димитрия это слово, как образцовое, перепечатано было во многих «Епархиальных» и «Церковных» Ведомостях.
Тул. Губерн. Вед. 1857 г. № 30.
Тул. Губ. Вед. 1853 г., № 30.
Тул. Губ. Вед. 1854 г., № 8. Здесь же помещена сказанная при настоящем случае речь. (См. т. V).
Тул. Губ. Вед. 1854 и 1855 г.
Там же, 1855 г., № 12 и 42.
Тул. Губ. Вед. 1856 г., № 7. См. т. V, № 58.
3aмечательно для города Тулы совпадение обстоятельств. В Отечественную войну на Тульской архиерейской кафедре был (1804–1816 г.) известный проповедник Амвросий Протасов и самыми лучшими были его проповеди: на отправление тульского ополчения (1812 г.), на возвращение ополченцев (1814) и на заключение мира (1814).
В день именин пр. Димитрия.
Ныне Щеглово далеко не пустынно. Рядом с архиерейскою дачею теперь красуется обширный Никандров монастырь, устроенный трудами и средствами всем известного, покойного настоятеля русского монастыря на Афоне, архимандрита Макария (Сушкина), тульского уроженца.
Более частыми посетителями преосвященного были: Хомяков, Офросимов, Андреев, Томашиевские и Корженевские.
В Tуле, кроме 400 руб. на теплый собор, о других подобных пожертвованиях Димитрия не было слышно.
История с пакетом могла почитаться легендарною, особенно на том основании, что одними (некролог в одной Одесской газет и «Нов. Врем.» 1882 г.) она приписывается Димитрию в Одессе, а другими («Душепол. чт.» 1886 г., т. II) относится к тульскому периоду его жизни. Но дело в том, что правда – в том и другом сказании. В жизни пр. Димитрия было два почти торжественных по обстоятельствам случая. Описываемый здесь случай относится к 1854 году, когда пр-ный отдал вдове дворянке невскрытый пакет, полученный им за освящение церкви в подгороднем селе М-ве. В другой раз, в 60-х годах, он получил денежный пакет за отпевание одесского негоцианта М. и отдал его одной вдове священника.
См. письма Д. к Иннокентию (Труды К. Д. ак 1884 г., т. II).
Всех родственников Димитрия училось в Тульской семинарии десять человек и только один (П. А. Муретов) получил священническое место в г. Новосиле, женившись на сироте. Один впоследствии получил место священника в Таврической епархии. Один даже поплатился за двухгодичное гостеприимство Тульской семинарии: по окончании курса он явился в Рязань с просьбою о священническом месте; но епархиальное начальство прямо ему сказало где учился, там ищи и место, или запишись в списки желающих служить в Пермской епархии (откуда в то время было требование кандидатов). Поставленный в такое положение, студент Тульской семинарий (В. И. У-ский) согласился на последнее, и поныне священствует в Пермском краю. Остальные, после отъезда пр. Димитрия в Одессу, поспешили перебраться в родную Рязанскую семинарию и потом заняли места в Рязанской епархии. Только двое последние из рязанцев доканчивали учение в Туле и потом самою семинарией посланы были (в 1861 г.) в С.-Петербургскую духовную академию.
Само собою разумеется, что никому не могли помешать двое тульских уроженцев, по достоинству занявших в епархии места и женившихся на племянницах пр. Димитрия. Один из них был профессором семинарии, потом законоучителем кадетского корпуса (впоследствии преосв. Никон, епископ Туркестанский, † 19 июня 1897 г.); другой по окончании курса в семинарии поступил священником к одной из городских церквей, на место своего престарелого отца.
В одном письме митроп. Филарета к еп. Алексию, преемнику Димитриеву в Туле, сказано: «Подлинно искушение для вас множество родственников архиерейских. Но не всем же угождать». – Из изложенного выше читатель может ясно видеть, насколько справедлива была жалоба на множество родственников, оставленных Димитрием в Туле! (см. письма Μ. Μ. Ф-та к Алексию. № 199, стран. 186).
Тул. Еп. Вед. 1884 г. т. I, стр. 236.
Замечательно, что рассказ пр. Д-рия о сновидении, сообщенный им оч. немногим, близким к нему людям, скоро каким-то образом получил широкую известность. По крайней мере пр. Иеремия, бывший епископ Нижегородский заносит его в свой «дневник воспоминаний» еще в октябре того же 1857 г. (см. брошюру «пр. Иеремия еп. Нижегородский и его воспоминания» Η. Н. 1886).
В последствии пр. Платон был на Одесской кафедре, перед вторым пребыванием там Димитрия.
Описание было помещено в «Тульских губернских ведомостях» (1857 г., №№ 29 и 30); перепечатано в «Одесском вестнике» (в том же 1857 г., № 85); возобновлено в некрологических статьях «Тульских (1883 г, № 23) и Рязанских (1883 г., № 24) епархиальных ведомостей».
О. ректор семинарии дважды (в соборе и при прощании за городом) просил у преосвященного рукопись его прощального слова, чтобы напечатать для раздачи народу на память. Но, вероятно, рукопись была неокончена и Димитрий обещал выслать ее из Одессы; но обещания не исполнил. Так и осталось эта проповедь не напечатанною; не нашлась она и в рукописях преосвященного.
Отзыв Хомякова о Димитрии можно читать, между прочим, в его письмах к друзьям-славянофилам.
В письме к графу Ал. Петр. Толстому (впоследствии об.-прокурор Св. Синода) он описывает, подробно и с любовью, проводы Д-рия из Тулы и заключает описание такими словами: «тут было что-то напоминающее первые века церкви! Одна такая сцена облагораживает и очищает жизнь... Я счел обязанностью рассказать ее вам, особенно после разговора нашего о Димитрии: я уверен, что эти подробности будут вам оч. приятны» – (Русск. Архив. 1879 г., февральская книжка).
В письме к Ал. Ив. Кошелеву Хомяков пишет: «Ты знаешь, что Иннокентий умер, и что на его место назначен Димитрий наш Тульский. Как я рад, что об его прощании с Тулой не будет ничего в газетах. Это было так хорошо, искренно и трогательно, что стыдно было-бы видеть это вместе с прочими вестями о прощаниях с обожаемыми начальниками. Весь город подвинулся, от мала до велика, и провожал его карету за несколько верст пешком; а в соборе рыдания были общие. Находит же человек отзыв, хотя бы и у нас! Я с ним много говорил о болгарах: ведь теперь он должен об них печься. На него можно надеяться». (Р. Арх. 1879. Ноябрь. Стр. 299).
Самарину Хомяков писал: «Димитрий, к крайнему удивлению всех рясоносцев, поступил на место Иннокентия. Необычайное повышение! Ему же поручается теперь болгарское дело. Я об нем уже говорил и нашел большое сочувствие. Нам, может быть, можно будет сильнее за это дело приняться, чем прежде, Димитрий не эгоист». (Там же, стр. 397).
Киевский Филарет скончался в том же 1857 г., 21-го декабря.
См. т. V. № 86.
† 17 марта 1898 г., на 62 году священства и 89-м – от рождения.
Херс. Епарх. Вед. 1860 г., №№ 1 и 2.
Законоучителем в лицее, а с этого времени и настоятелем церкви, был протоиерей М. Карп. Павловский; инспектором же классов и преподавателем философии был сослуживец Д-рия, бывший профессор Киевской академии, Иос. Григ. Михневич.
Одес. Вестн. 1857 г., №№ 97 и 99.
Херс. Еп. Вед. 1862. Т. V, стр. 38; VI, стр. 90. – Од. Вестн. 1857, №№ 93 и 95.
Слово помещено в Херс. Еп. Вед. 1862; VII, стр. 27. См. т. V. № 60.
См. т. I. № 41.
Из всех проектов памятника Государь Император утвердил проект пирамиды, сложенной из крупных монолитов, и вмещающей в себе светлый храм.
Для собрания средств на постройку храма открыта была повсеместная в Империи подписка.
См. т. V. № 25.
Избранный в члены Общества, Иннокентий еще из Харькова писал в Одессу: «Не упускайте из виду Крымских древностей; изучайте их на самом месте» (Хер. Еп. Вед. 1861., прибавл. V т., стр. 38).
В исторической записке Иннокентия, поданной Св. Синоду, указаны следующие места, освященные древними христианскими святынями: 1) Успенская скала, близ Бахчисарая, 2) церковь свв. Апостолов, между Бахчисараем и Чатырдагом, 3) источник бессребреников Косьмы и Дамиана, 4) развалины Херсонеса, 5) мыс св. Георгия, 6) церкви в Инкерманской скале, 7) Балаклавская долина, 8) Часовня Иоанна Предтечи в Байдарской долине и 9) церковь св. Ап. Матфея в Судакской долине.
Впоследствии (с 1853 г.) первый Одесский викарий.
На этом месте, в одном склепе с адмиралом Лазаревым, первым начальником Черноморского флота, погребены были знаменитые моряки – защитники Севастополя: адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин. Предполагалось, что эти могилы будут под сводами Владимирского храма.
Духовн. Беседа 1858 г., т. III, стр. 272.
Слово в «Полн. Собр.» т. II, № 56.
Между другими жертвователями особенно щедрым был севастопольский купец П. Телятников, построивший здесь на собственные средства церковь.
См. «Месяцеслов русск. святых» пр. Димитрия, еп. Подольского.
«Одесский Вестн.» 1858, №№ 125, 132.
См. т. II № 24.
См. брош. «Памяти Димитрия». Од. 1883 г.
П. Собр., Слов. т. V, № 70.
И в Ярославль и на Волынь пр. Д. в большом количестве выписывал из Одессы образки Касперовской Б. М., для раздачи народу. Точную копию с чудотворной иконы, при адресе, он представил, чрез своего викария, Императору Александру III, после Его коронации.
Херс. Еп. Вед. 1862. – «Собрание мнений м. Ф-та», т. V, ч. 1, стр. 298, 462–506.
«Странник» 1863 г., февр., отд. IV.
Херс. Еп. Вед. 1892, №№ 17 и 18.
Попечитель учебн. округа Пирогов, проф. И. Михневич и другие.
Преосв. Петр, в мире Платон Алексеевич Троицкий, маг. VII курса Киев. академии, близкий к Димитрию и по студенчеству и по долговременной службе в Киеве. † 10 окт. 1873 г. в сане епископа Аккерманского, вик. Кишинев. епархии.
Пр. Феофан (Говоров), маг. X курса Киевской академии, известный духовный писатель и подвижник. † 6 янв. 1894 г.
«Письма Филарета к Леониду», стран. 30.
Из писем к архим. Петру.
Между прочим, признано было возможным давать экстренные распоряжения и принимать донесения – по телеграфу, что прежде официально не допускалось.
К сожалению, «Свод мнений» составлялся канцелярскими средствами и на скорую руку: многое из этого живого и любопытного материала пропало для комитетов по преобразованию семинарий и училищ.
Членами комитета были: 1) ректор С.-Петербургской Духовной академии – до сент. 1860 г., пр. Нектарий, а потом его преемник, пр. Иоанникий, 2) ректор С.-Петербургской семинарий, архим. Платон, 3) протоиерей М. И. Богословский, 4) протоиерей Василий Полисадов, 5) протоиерей Григорий Дебольский, 6) протоиерей Кирилл Крупский, 7) д. ст. сов. Ив. Гаевский и 8) н. советн. Т. Филиппов. Кроме членов, в делах Комитета принимали участие: Директор Дух.-учебного управления, кн. Урусов, очередные архимандриты – ректоры семинарий, и впоследствии нарочито вызванный профессор Московской академии Ал. Горский.
Из донесения председ. к., пр. Димитрия.
«Памяти пр. Д-рия» (Историч. Вестн. 1883 г., кн. Ⅱ).
Дневник Горского. (Приб. к Твор. Св. От. 1884 и 1885 гг.).
См. выше, в письме к архим. Петру.
Проект устава еще не был окончен, когда содержание его очень полно было сообщено, и в таком направлении разобрано в одном духовном журнале, а через него попало в критический отдел светских. Поводом к сближению с иезуитскими школами послужил «Устав Сорбонской семинарии», обязательно сообщенный комитету лицом, имевшим случай ознакомиться с этим учреждением на месте.
Член Св. Синода, протопресвитер В. Б. Бажанов, высказывался против проекта Димитрия именно из-за его требований об особенности и замкнутости для духовных воспитанников. (См. Дневник Горского).
Проект Димитрия особенно осуждался за этот новый план, как представлявший множество практических неудобств. Но это было простое недоразумение. В своей объяснительной записке Димитрий допускал существование прежних уездных училищ, в виде параллельных четырех грамматических классов семинарии (на подобие прогимназий). Соединение же семинарии с училищами в «Уставе» имелось в виду для показания полной системы образования.
Богословские науки, по обзору, разделяются на I) приготовительные, дающие источники учения православной церкви: а) священ. писание, б) натрология и в) церковная история; II системы а) догматика, б) нравственное богословие и в) литургика; III) науки практические (прикладные); а) пастырское богословие, б) гомилетика, в) каноника и г) обличительное богословие (с обличением раскола), см. т. VI.
Из донесения председателя комитета, пр. Димитрия.
Замечательно, что это средство – «сокращение» настойчиво рекомендовалось духовному правительству при всех его заботах о реформах. Комитет «об улучшении быта духовенства», как известно, кончил сокращением приходов и закрытием церквей. Второй комитет по преобразов. семинарий тоже ввел в устав «штаты учеников».
См. дневн. Горского.
На сколько были неравномерны взносы разных епархий, комитет, для примера, указал на Московскую – где из 1,628,000 общего дохода представлялось 28 т., а получалось на две семинарии и восемь училищ, – и Херсонскую, где на две епархии имелось одна семинария (в 150 человек) и три училища, а доставлялось в Синод 18 т. рублей из скудных средств.
Одни документы – именно: а) устав семинарий, б) журнал комитета по преобразованию духовых училищ, в) донесение Св. Синоду преосвященного Херсонского, г) особое мнение члена-редактора Т. Филиппова, д) мнение д. с. с. Ив. Гаевского, и е) приложение к §§ устава: А. – Расписание учебных предметов, Б. – Проект инструкции комнатным надзирателям и В. – Краткий обзор наук, преподаваемых в дух. семинариях, – указом Св. Синода, от 18 февр. 1863 г. предложено преосвященным «рассмотреть лично и чрез доверенных лиц»; а другие – именно: а) особые соображения комитета, б) особый соображения преосвященного Херсонского и в) мнение Т. Филиппова об особых соображениях – при указе, от 20-го того же февраля, разосланы были немногим иерархам «для непосредственного рассмотрения, без передачи подведомым местам и лицам, и для доставления их личных мнений».
Самым замечательным в этом отношении был отзыв пр. Смоленского Антония, который, на основаниях Димитриевского проекта, ввел в своей епархии реформу семинарии и училищ за долго до утверждения нового устава (1867 г.).
Собрание мнений и отзывов М. Филарета, № 570 (т. V, стран. 18).
Там же, – № 872 (т. V, стр. 926 и д.).
Письмо м. Ф. к проф. Горскому.
Собр. мн. и отз. Ф-та, № 844 (т. V, стр. 849 и далее).
Собр. мн. и отз. Ф-та, № 691. (т. V, стр. 382).
Там же, № 822 (т. V, стр. 772).
Там же, № 844, XXVIII.
Комитет был под председательством Нижегородского епископа Нектария. Во втором комитете также образовалось меньшинство, но не из светских членов, а из двух архимандритов – ректора Киев. акад. Филарета и инспект. Моск. акад. Михаила, которые представили в Синод свой проект. Труд этот по своим задачам и целям близко подходил к проекту Димитрия, но шел дальше в применении основных мыслей, – разделяя все образование духовного юношества между двумя, различными по типу, заведениями – семиклассною общеобразовательною гимназией и трехклассной семинарией, в виде специальных богословских курсов. После прочтения м. Филаретом, проект архимандритов оставлен без дальнейшего движения.
«Памяти пр. Д-рия» (Истор. Вестн. 1884 г., кн. 2-я).
Неудачная идея всесословности не только невыгодна для духовенства (детей духовных лиц не примут, напр., ни в кадетские корпуса, ни в коммерческие училища, для них фактически закрыты входы во все высшие светские училища); она еще вносит особый дух в наши учебные заведения, не свойственный их прирожденному церковному складу жизни (см. об этом в академии. речи покойного проф. Кояловича).
См. воспомин. прот. Гаврилкова.
См. слово архим. Владимира (Терлецкого) – (Херс. Еп. Вед. 1884 г., № 11), и слово свящ. М. Юркевича (ibid. 1890 г., № 20).
Не лишен интереса случай, вспоминаемый сослужившими в этот день Димитрию и характеризующий его, как человека простого воспитания и пользовавшегося простыми народными средствами. Температура, довольно высокая с вечера, неожиданно упала утром до –17°. Пр. Димитрий тотчас же, как положить принесенный на голове крест, попросил подать ему сухого света, быстро и крепко вытер им закоченевшие руки и потом спокойно погружал крест в оледенелую воду и шел с крестом в руках окроплять воинские знамена.
При Димитрии приняли хиротонию от. Св. Синода: 1) Нектарий, вик. Выборгский († архиеп. Харьк. 1874), 2) Израиль, вик. Винницкий († 1864), 3) Серафим, вик. Чигиринский († А. еп. Ворон. 1886), 4) Ириней, вик. Екатеринбургский († через 2 мес.), 5) Леонтий, вик. Ревельский († митроп. Моск. 1893), 6) Варлаам, вик. Екатеринбургский († А. еп. Чернигов. 1872), 7) Никандр, еп. Тульский († 1893), 8) Феофилакт, вик. Старорусский († еп. Кавк. 1872) и 9) Иоанникий, вик. Выборгский (ныне митроп. Киевский).
Прот. Райковский был родственником по жене брату пр. Димитрия, М. Ив. Муретову.
«Стран.» 1860. Июнь.
См. «Письма м. Филарета к Алексию, архиеп. Тверскому», №№ 225, 228, 239 и 240.
Херсон. Еп. Вед. 1864 г., № 2.
Брош. «В. преосвящен. Никандр, А. Еп. Тульский» – проф. Корсунского. М. 1893 г. (стран. 14 и 15).
На самом деле пр. Димитрий ценил таланты В. И. Аскоченского; но не особенно высоко ставил его «Домашнюю Беседу». «Хотелось бы, писал он в одном письме архим. Петру, послать вам курьезнейшую вещь – журнал, издаваемый В. Ип. А-м в Петербурге, под названием: «Дом. Беседа», – в крепко религиозно-церковном духе, с достаточною грозой против цивилизаторов и прогрессистов. В. И. ратует с свойственным ему жаром и едкостью слова». (Неизд. письм. к А. П.)
В настоящий вид Ярославское подворье приведено капитальным ремонтом в конце 70-х годов.
Замечательное совпадение. – В Пасху 1860 г. саном архиепископа были награждены три архиерея: Димитрий Херсонский, Иосиф Воронежский и Варлаам Пензенский – все трое рязанские уроженцы, все – воспитанники сапожковского училища и рязанской семинарий.
Особенно, в. преосв. м. Исидор и протопресвитер В. Б. Бажанов, знакомые с ним по родной им Тульской епархии.
Дневник прот. Горского (Прибавл. к Твор. св. от. 1885 г., ч. XXXV, стран.225:226).
Душепол. чтение 1889 г., XII, стран. 494.
Письмо м. Филарета к архиеп. Алексию, № 240 (стран. 252).
«Письма м. Ф-та к Высоч. Особам» т. II, 125 и примеч.
Нужно думать, что ему, между прочим, было поручено увещание архимандрита Феодора (Бухарева); по крайней мере посещения Димитрием Перервинского монастыря и о. архимандрита обставлены были такою таинственностью, которая немало удивляла Димитриева келейника, сопровождавшего его.
Учитель семинарии Пав. Ив. Доброхотов (выпуска 39 года), прот. Лука Як. Воскресенский (41 г.), прот. Иос. Пот. Рязанов (43 г.), священ. И. Еф. Любимов (45 г.), Сергей Фед. Гумилев (51 г.).
Священники: Пав. Ив. Озерицкий, В. И. Крылов и друг.
Наталья Семеновна скончалась 5 февр. 1869 г. Вскоре после смерти матери пр. Димитрий, вместе с братом, прот. М. Ив. Муретовым, устроили общий памятник (белого мрамора плиту) под могилами своих родителей.
При отъезде из Петербурга преосвященный занял в долг около 3.000 рублей; больше половины этой суммы он роздал в Лучинске родным.
Херс. Еп. Вед. 1862 г. Прибавл. т. VI, стр. 299 (извлеч. из Тул. Еп. Вед.).
Херс. Еп. Вед. 1862 г. Приб. т. VI, стр. 301.
Хер. Еп. Вед. 1862 г., т. VI, стр. 204.
Одесский, Херсонский, Елисаветградский и Александрийский.
В селе Александровке, в г. Новомиргороде и в Елисаветградском соборе два придела. (Хер. Еп. Вед. 1862 г. Приб. т. III, стр. 89, 225, 281, 337).
В епархии, кроме шести уездных городов, было еще девять заштатных (награжденных городским титулом при Потемкине) и один адмиралтейский – Николаев. – Всех церквей в епархии было: по статистике за 1860 год 482 (Херс. Еп. Вед. 1860 г., № 1); в 1864 г. – 509 церквей (там же 1864 г., № 11); в 1865 г. – 498; в 1868 и 1873 гг., также 498 (Херс. Еп. Вед. 1865 г., № 1, – 1868 г., № 23; 1873 г., № 1).
В сельских причтах получали: старший священник – 141 р. 12 коп., младший – 105 р. 84 к., диакон – 52 р. 93 к., дьячок – 35 р. 23 к., и пономарь – 23 р. 52 к. (Херс. Еп. Вед. 1860 г., № 1).
Доклад земской управы (Херс. Еп. Вед. 1874 г., № 1).
По этому штату положено: священнику в Одессе и Херсоне – 160 р., а в других городах – 150 р., диакону – 72 р., дьячку – 48 р., пономарю – 36 р. в год.
См. выше.
Херс. Еп. Вед. 1863 г., № 15.
X. Еп. Вед. 1872 г., №№ 9 и 10.
Напр. в селе Роксоляны, отделившемся от Овидиопольского прихода.
«Одесский Кафедр. Собор». Брош. Свящ. Петровского. Одесса (IV–123) и Херс. Еп. Вед. 1864 г., № 9.
Хер. Еп. Вед. 1864 г., № 9.
См. его речь, т. V.
Херс. Еп. Вед. 1864 г., № I. Хроника.
Ук. Св. Синода 1823 г., августа 12.
«Митроп. Исидор, подписав протокол, привез его с собою в Синод и сказал: «все, что написано в этом протоколе, – истинно; но чем же мы будем содержать наших бедных?» Но протокол был подписан и дело кончено... (Из писем проф. А. Ф. Лаврова. – Бог. Вестн. 1895 г., кн. I, стр. 123).
См. Слово его в день рожд. Госуд. Императрицы, сказан. в 1882 году. т. V.
«Памяти в Бозе почивш. Святит. Д-рия». стр. 7–8.
Не один Димитрий так относился к указанной мере. Известно, напр., что м. Исидор не скрывал своего нерасположения к тем священнослужителям своей епархии, которые поспешили сложить с себя «обязательства» немедленно после выхода в свет строгого указа.
Херс. Еп. Вед. 1866 г., № 21.
Херс. Еп. В. 1872 г., №№ 4 и 22.
Воспомин. прот. Флоринского (Душеп. Чт. 1886 г., II, 410–425).
Хер. Еп. Вед. 1814 г., № 1.
X. Е. В. 1868 г., № 23.
X. Еп. В. 1862 г., № 5 и приб. V, стр. 222 и д.
Полн. Собр. Пропов. V т.
X. Еп. В. 1874 г., № 12.
X. Еп. Вед. 1867, № 3.
Слово в Яросл. семин. 1875 г. янв. 12. См. т. V.
Свящ. Петровский. «Семь Херсон. Архиепископов» (стр. 16–20).
Там же (стр. 20, 21).
«Семь Херс. Архиеп.»
Херс. Еп. Вед. 1864, № 6.
В Херсоне ученики-сироты помещены были в доме инспектора Чепуровского; а в Елисаветграде жили на частных квартирах, с платою от казны.
См. т. V.
Духовно-учебные заведения Херсонской епархии причислялись по окладам к 1-му разряду, по которым выдавалось: жалованье профессору семинарии – 321 р. 75 коп., учителю училища – 171 рубль; на казеннокошт. ученика в семинарии полагалось 57 рублей, а на ученика училища 34 р. 28 коп. в год.
Духовенством указаны были и лица на эти должности: кафедр. протоиерей Арс. Лебединцев и благочинный, прот. И. Гавела.
Херс. Еп. В. 1866 г., № 23; 1869, № 7 и 1870, № 8.
Ректором семинарии утвержден прот. Μ. Ф. Чемена – вот уже 30 лет проходящий эту должность, – а инспектором священник Н. Неводчиков (впоследствии в.-преосв. Неофит, архиеп. Кишиневский).
X. Еп. В. 1866 г., №№ 19 и 20.
X. Еп. В. 1867 г., № 21, и 1868 г., № 1.
Херс. Еп. В. 1868 г., № 2.
В отчете за 1868–9 года сказано: «И ученики и преподаватели с полным вниманием и назиданием выслушали замечания Его В.-Пре-ства – об историческом и каноническом происхождении индульгенции в Римской церкви; о значении в историй церкви борьбы с иконоборцами; о значении титла «вселенского», принятого св. Иоанном Постником; о неизменяемости правил вселенских соборов; о вере оправдывающей; о национальности в церкви; об отношениях церкви к усовершению ремесл, искусств и губительного оружия; о неточности в определении таинств, принятом в наших учебниках; о том, что корыстолюбие священника обличает в нем неверие; о субъективном идеализме и свободной воле – против материалистов; о характере произведения Лермонтова; о направлении критики Белинского и др. (X. Е. В. 1870 г., № 1).
X. Е. В. 1870 г., № 21.
«Странник» 1871 г., апрель.
Один о. депутат мотивировал свое несогласие на устройство общежития при училище таким силлогизмом: «в свободе человека выражается образ Божий; заключить детей в общежитие – значит лишить их свободы; следовательно...» (X. Еп. В. 1873 г., № 5).
X. Еп. В. 1867 г., № 24.
X. Еп. В. 1868 г., № 21.
X. Еп. Вед. 1869 г., №№ 1 и 2.
X. Еп. В. 1860 г., № 4.
X. Е. В. 1868 г., № 12 и 1869 г., № 11.
X. Еп. В. 1869. г., № 11.
Херс. Еп. В. 1871 г., № 18.
X. Е. В. 1873 г.
Полн. собр. твор. Д. т. V, № 60.
X. Е. В. 1873 г., № 24; 1874 г., №№ 12 и 14.
Статистика населения Херсонской губернии, за время пребывания пр. Димитрия в Одессе, наглядно показывает на взаимное численное отношение народностей и вероисповеданий. Берем статистику за 1865 год, как средний из времени Димитриева архиерейства, и находим следующие показания: православного населения в губернии считается 886,706 (обоего пола); римско-католиков 25,129; протестантов разных 21,072; армян-грегориан 1,336; евреев 79,557 и караимов 946. Православных храмов в епархии 487; католических костелов 16 и часовен 19; протест. кирок 9 и часовен 35; армянских церквей 3; еврейских раввинских синагог 39 и молитвенных домов 125. Смесь населения особенно заметна в Одессе. При 16-ти приходских и 9-ти домовых церквах православных в городе есть великолепный католический костел (с настоятелем суффраганом), лютеранская кирка св. Павла, церковь армяно-грегорианская, церковь английская, церковь евангелическо-реформатская, бадзал – молитвен. дом анабапдистов, четыре богатых еврейских синагоги, магометанская молельня и две молельни старообрядцев-беспоповцев. О численности евреев можно судить по тому, что в 1865 г. в Новороссийском университете на 322 студента православн. приходилось 178 евреев; на 6,500 учеников городских школ – 3000 еврейских мальчиков.
«Семь Херсон. архипастырей» (стр. 43).
«Из прошлого Одессы». (Сборн. 1894 г., стр. 376). Первые миллионеры в городе были греки. Пр. Димитрий застал торговые дома – Анатра, Пораскева, Маврокордато, Родоконаки и др. греков, которые почитали доброго архипастыря и помогали ему в делах благотворительности.
Троицкая греческая церковь, как мы видели, заложена была в один день с первою русскою православною церковью, при открытии города Одессы.
«Из прошлого Одессы» (стран. 379). – «В 1812 году одесские греки пожертвовали на нужды войны 110.000 рублей; пожертвования же их на благотворительные учреждения города нужно оценивать в миллион рублей».
Пр. Димитрий застал в Одессе почтенного о. протоиерея Родостата, после которого долгое время настоятелем был архимандрит Е. Byлизма, один из самых горячих почитателей Димитрия.
Иннокентий скончался в день Пятидесятницы.
Полн. Собр. твор. т. V.
Полн. Собр. твор. т. V.
Херс. Еп. Вед. 1871, № 9.
Письма Ф-та к Антонию, I, 58.
Патриарх Григорий, в мире Георгий Ангелопуло, родился в г. Димитсане, в Пелопоннесе.
Из речи одного члена комиссии, прибывшей из Греции в Одессу за гробом патриарха.
Из речи пр. Димитрия, сказанной при проводах гроба п. Григория.
«Собрание мнений Ф-та», т. IV, 335–389; т. VI, 8, 34, 37, 185–195; т. IV. 490 и XVI.
Последние письмо Антонина (о делах иерусалимской патриархии) было получено Димитрием за полгода до его смерти (1883).
В 1859 г., на 1.122.355 челов. всего православного населения в Херсонской епархии считалось 2.297 греков и 9.138 болгар (X. Еп. В. 1860 г., № 1).
Тр. Киев. д. акад. 1895 г., кн. I, стр. 169 и д. «О русско-румынских отношениях» – Василий Попеску – впоследствии митрополит Ясский Филарет – оказал отечеству величайшую услугу, отстояв, при воцарении Гогенцолна, православную веру, как господствующую – государственную в Румынии. Автор указанной статьи говорит, что м. Филарет Ясский до конца своей жизни вел замечательную переписку с Иннокентием и Димитрием.
«Из прошлого Одессы» (Од. 1894 г.), стран. 161–170. – Особенно усердными деятелями из болгар были г. Палаузовы.
Херс. Еп. Вед. 1861 г., кн. III, стр. 282; 1863 г., № 10.
Напр., в отчете семинарии за 1867 год значится, что из 45-ти окончивших курс семинарии было 7 человек болгар; из всего числа воспитанников 250-ти 15 болгар.
«Из прошл. Одессы», стр. 162.
Из донесения Д-рия графу Толстову в 1871. (В черновых бумагах).
Полн. собр. твор. Д. т. V.
Полн. собр. твор. Д. т. II.
Обыкновенно в среду на пасхальной неделе в Одессе ежегодно бывает торжественный крестный ход из собора на пристань по случаю проводов иконы Касперовской Б. М. в Херсон. В 1871 г. это торжество было отменено.
См. т. V.
Не любил пр. Димитрий и вспоминать этот еврейский погром. В одном письме с Волыни, упоминая о депутации евреев, подносивших ему хлеб-соль, он сопоставляет факт с таким же, имевшим место в Одессе, и с горькой иронией передает еврейское объяснение чествования: «иэтто ему за то, что он нашу цесть спасал».
Церк. Вестн. 1891 г. № 5, стр. 73. (Из дел Херс. консистории № 65, стр. 321–322).
«Странник» 1895 г. т. I, стран. 365 и след.
См. т. V.
См. т. V.
X. Еп. В. 1866 г., № 9; 1874 г., стр. 108.
В одном письме из Почаева пр. Д-рий, озабоченный болезнью младшей сестры, которая жила в Одессе у дочери, советовал племяннице и зятю поместить больную в Стурдзовскую больницу. «Надеюсь, пояснял он, что сестры, из благодарной памяти ко мне, приложат все свои старания к облегчению страданий болящей».
X. Еп. Вед. 1872., № 8. Полн. coбp. преп. т. V, № 47.
Херс. Еп. Вед. 1872 г., № 17.
«Одесский кафедр. собор» – священника Петровского. Од. 1894 г., стран. 80–83.
Золотая риза, украшенная драгоценными камнями, устроена была, московским мастером Овчинниковым и стоила 6,500 рублей.
Хер. Еп. Вед. 1872 г., № 17.
Особенно близкие, сердечный отношения Димитрия были к графу Строганову и впоследствии к ген.-адъют. Гурко.
На основании оставшихся бумаг и по другим данным можно судить, что пр. Димитрий в Одессе был знаком с домами: графа Μ. П. Толстого, кн. Д. И. Гагарина, княг. Оболенской, адмир. Чичагова, д. с. с. Палоузова, городск. головы Новосильцева, гг. Великанова, Маразли, Гладкого, Катакази и друг.
Херс. Еп. Вед. 1868 г., № 3.
Херс. Еп. Вед. 1872 г., № 23.
Херс. Еп. Вед. 1873 г., № 19.
Только за полтора года вторичного архипасторства Димитрия в Одессе, в посмертных бумагах его найдено таких прошений и писем более двухсот; разумеется, что здесь сохранились далеко не все подобные бумаги.
Разумеется назначение Климента Муретова в Киевскую академию.
Херс. Еп. Вед. 1867 г., № 18, 24; 1868, № 2.
Высочайшая грамота 16 апр. 1867 г.
Высочайший рескрипт 28 марта 1871 г.
«Прощание В.-пр. Димитрия с Херсоно-Одесскою паствою» (Херс. Еп. Вед. 1874 г., № 22).
«Из прошлого Одессы» (стран. 168–170).
Прекрасная речь о. протоирея – ученика и потом сослуживца преосвященного по Киевской академии, помещены в Херс. Еп. Вед. 1875 г., № 2.
Кратко передать содержание этого трогательного слова (см. Полн. собр. творен, т. V), невозможно.
Однажды, во время крестного хода, пр. Димитрий едва не упал от сильного зноя и утомления. В другой раз, во время богослужения в городской Успенской церкви; с ним сделался продолжительный обморок.
X. Еп. Вед. 1875 г. 13, 24. – Положение о стипендии Высоч. утверждено по представлению Св. Синода от 7 февр. 1876 г.
В «Яр. Еп. Вед.» (№ 46,1874 г.) помещена была проповедь преосв. Димитрия «на день Архист. Михаила»: а затем (№№ 47 и 49) напечатано описание проводов его из Одессы. В том же (49) № епархия оповещена была официально о перемещении преосвященного. – Современное искусство помогало распространению популярности нового архиерея: два местных фотографа одновременно выпустили карточки пр. Димитрия и в течение двух недель распродали более тысячи экземпляров.
Яросл. Еп. Вед.» 1875 г. № 31, – Помещая эту речь священника С. Иванова, редакция Ведомостей делает такое примечание: «во многих селах священники встречают Владыку с речами: любовь к Владыке открыла уста духовенству».
Яросл. Еп. Вед. 1874 г. № 49.
Полн. собр. твор., т. V.
Юбилей архиеп. Ионафана (Церк. Вед. 1893 г. № 47).
Яр. Еп. Вед. 1875 г., №№ 1, 2, 3, 8 и 42.
Там же, 1875 г., № 2.
Там же 1875 г. № 45.
Яр. Еп. Вед. 1875 г. № 39.
Яр. Еп. Вед. 1875 г., № 28.
Яр. Еп. Вед. 1875 г., № 45.
Яр. Εп. Вед. 1845 г., № 1.
Яр. Еп. Вед. 1876 г., № 26.
Характерен в этом отношении рассказ одного Ярославского священника (Л-ва), учившегося в то время в семинарии. – «Жили мы – восемь человек семинаристов у одной пожилой мещанки, которая была очень заботлива и вообще умела хорошо кормить нас. Но в воскресные и праздничные дни мы обыкновенно голодали. – Наша хозяйка в эти дни наскоро ставила обед в печь, а сама спешила к архиерейской службе – где бы она ни была – и только твердила: «Господи, как бы к проповеди-то не опоздать». Возвращалась она, так сказать, заряженную: впечатления от проповеди Д-рия наполняли, все ее существо; в умиленном состоянии она находилась несколько дней, и постоянно повторяла: «Господи, как он хорошо читал-то!» казалось, что она этим только и жила».
Полн. собр. проп. т. V.
Яр. Еп. Вед. 1876 г., № 26.
Пять раз преосв. Д. священнодействовал в семинарском храме, восемь раз присутствовал на годичных испытаниях 1875 г. и четыре раза посетил семинарию в разное время, по особым случаям. (См. речь ректора, прот. Тихвинского. Еп. Вед. 1876 г. № 22).
Яр. Еп. Вед. 1875 г. № 9.
Яр. Еп. Вед. 1875 г. № 28.
Сам пр. Д-рий рассказывал навещавшим его в Ярославле родственникам такой случай. Пригласили его служить «к празднику» в одной приходской церкви, на благоукрашение которой много жертвовал купец – местный староста. Последнею его жертвою был большой, чуть, не тысячепудовый колокол. За праздничною трапезою у старосты преосв. заметил хозяину, что не лучше-ли было бы для него сумму, употребленную на колокол, вложить в церковь вкладом – на помин души. Купец отвечал скоро, но отрицательно: «нет, Владыка святый, батюшка-то когда помянет, а когда и забудет; а колокол будет гудеть и поминать меня каждый праздник и каждое воскресенье». – Но особенно изумился и крайне смутился Владыка, когда узнал, что тот купец прикрепил на диване дощечку с надписью: «здесь сидел такого-то числа архиепископ Димитрий».
В черновых бумагах пр. находятся приветственные его письма, по слую 50-ти-летий, – М. Филарету, м. Исидору, м. Арсению, протопресвитеру Бажанову, генералу Коцебу и друг.
Архиеп. Агафангел (Соловьев), бывший Волынский, сконч. 8 марта. Из Петербурга дошел до Ярославля слух, что на Волынь имеет быть перемещен Павел, еп. Кишиневский. Вот почему Д-рий указывает или на Волынь, или на Кишинев.
«Последнее посещение В.-пр. Димитрием Яросл. семинарии» (Яр. Еп. Вед. 1896 г., № 22).
Яр. Еп. Вед. 1876 г., № 47, ч. IV.
Помещены в Яр. Еп. Вед. 1876 г., №№ 21, 22 и 25.
Яр. Еп. Вед. 1876 г., №№ 47 и 52.
Волын. Епарх. Вед. 1876 г., № 13.
Вольн. Еп. Вед. 1876 г. № 17.
В последнее время, когда открыто было второе викариатство в Волынской епархии, с назначением постоянного пребывания второго викария, еп. Владимиро-Волынского, в Житомире, для епархиального архиерея неудобства пребывания в Почаеве значительно сократились. Но во времена Димитрия единственный викарий жил постоянно в Кременце, и временно только пребывал в Дерманском монастыре.
Особенный дух в монашествующей братии объяснялся нетерпимостью местных уроженцев ко всему великороссийскому. «Не один раз, говорил пр. Д-рий, архиереи-настоятели лавры задавались мыслию обрусить монастырь и с этою целью помещали в число братии великороссов; но всякий раз местное большинство притесняло, гнало и совсем выживало «москалей».
Все население Волын. губернии считается в 2.460.000; но около трети (700.000) составляют иноверцы, преимущественно католики и евреи. (Рус. Календ. 1896 г.).
Вскоре после отбытия Димитрия из Волын. епархии, по предложению нового архиерея (пр. Тихона) Волынская духовная консистория издала указ, которым, под страхом запрещения священнослужения, предписывалось духовенству оставить всякие местные введения и отступления от служебника, – напр. поминовение на великом выходе военачальников, градоначальников и почетных прихожан поименно, или – осенение народа свечами, и т. под. – Указ В. Д. Конс. 1883 г., № 1391.
Однажды пр. Димитрий оч. скромно выразил свое несогласие такою резолюцией на журнале училищного съезда: «Все постановления съезда, за исключением ст. 7-ой, утверждаются». – А эта статья 7-я выражала ни больше ни меньше, как желание духовенства жаловаться Св. Синоду на бездеятельность органов епархиального управления. (Вол. Еп. Вед. 1880 г., № 4, офф.).
Вол. Еп. Вед. 1880 г., № 4 (офиц.).
Ныне архиепископ Херсонский.
Сконч. в 1885 г. епископом Могилевским.
Волын. Еп. Вед. 1878 г., №. 4.
Там же. 1880 г., № 17.
Волын. Еп. Вед. 1880 г., №№ 28, 29.
Волын. Еп. Вед. 1876 г., № 3 и 1878 г., № 13.
Там же 1678 г., № 4.
Вол. Еп. Вед. 1879 г., стран. 306.
Таких училищ в разных местах находится двенадцать, и все они устроены по образцу первого, царскосельского.
Вол. Еп. Вед. 1878 г., № 3.
Вол. Еп. Вед. 1879 г., оф. стр. 931.
Вол. Еп. Вед. 1880 г., №№ 28, 29.
Вол. Еп. Вед. 1881 г. неоф. ч., стр. 1053.
Вол. Еп. Вед. 1876 г., № 3. – Там же 1880 г., №№ 7, 28 и 29.
Кроме пожертвований от «неизвестного», от преосвященного Д., как от почетного члена, ежегодно поступали взносы в разные учреждения и общества: напр. в братства Кременецкое-Богоявленское, Лупкое-Николаевское, Острожское-Кирилло-Мефодиевское, – в попечительства мужской и женской житомирских гимназий и т. п.
См. «архим. Владимир Терлецкий». – Биограф. очерк. Стрельбицкого. Одесса 1889 г.
«Новое Время» 30 янв. 1882.
Херсон. Епарх. Вед. 1882 г., № 8-й.
Хер. Еп. Вед. 1882 г., № 8.
В PS этого же письма прибавлено: «Высоч. указом сегодня назначен пр. Иоанникий из Тифлиса митрополитом Московским».
X. Е. В. 1882 г., № 9.
Это, впрочем, был не первый, а третий уже случай в Одесса. В первый раз Иннокентий рукополагал первого викария Одесского Поликарпа; во второй раз была совершена Хиротония Неофита архиепископом Платоном.
Полн. собр. творений Д. т. V.
Херс. Епарх. Вед. 1882 г., № 16.
Херс. Еп. Вед. 1883 г., № 16.
Хер. Еп. Вед. 1883 г., № 11.
По указанию покойного Императора, икона Касперовской Б. Мат., вместе с адресом пр. Димитрия, помещена в Гатчинской дворцовой церкви.
Митрополит Платон в тот же день награжден был орденом св. Андрея Первозванного.
«Памяти Д-рия» (стран. 6).
«Памяти Димитрия» (стран. 4).
Особое приложение к Епарх. Ведомостям (от 15-го н.), «Ново-росс, телеграф», «Одесский листок», «Одесские новости» и друг.
Пр. Геннадий, из вдовых священников херсонской епархии, принят был Димитрием в Киевскую академию среди курса (XII) в 1842 г. Сконч. 10 февр. 1893 г.
Пр. Далмат скончался вскоре после смерти Димитрия, 23 декабря 1883 год
Часть этой блестящей и сильной речи помещена выше – в заключении Киевского периода биографии.
Из воспитанников Киевской академии следующие лица послужили при погребении своего великого представителя: 1) старшие его по выпуску – прот. Н. И. Соколов (V курса – 1831 г.) и прот. Μ. К. Павловский (VI курса – 1833 г.); 2) ученики усопшего – кроме преосв. Геннадия (XII курса, 1845 г.), протоиереи: С. А. Серафимов (X курса, 1841 г.), А. Г. Лебединцев и Г. И. Попруженко (XI курса, 1843 г.), А. А. Соловьев и М. М. Диевский (XV курса, 1851 г.); 3) ученики учеников почившего: профессор В. Ф. Певицкий, протоиереи: Μ. Ф. Чемена и Г. Я. Селецкий (все XVII курса, 1855 г.). – Было при погребении, сверх того, довольно воспитанников К. академии, не имеющих духовного сана, начиная с бывшего проф. И. Г. Михневича (VI к., 1833 г.), товарища пр. Димитрия В. Мокиевского, и кончая служащими в духовно-учебных заведениях.
«Памяти в Бозе почившего святителя Димитрия» (стран. 24–30).
Еще раньше, после отбытия пр. Димитрий в Ярославль, в Одессе, в память о нем, была освящена во имя Димитрия Ростовского церковь в епархиальном женском училище.
Обстоятельные некрологи были в Епарх. В-стях – Херсонских, Рязанских и Тульских и в Церковном Вестнике. Воспоминания о Димитрии; в «Душеполезном чтении» (прот. Флоринского), в «Историческом Вестнике» (Б. К.), в «Киевской старине» (Ф. Г. Л-цева), в «Тульск. Еп. Вед.», в «Московских Ведомостях» (прот. Виноградова), в «Саратов. Листке», в «Киевск. Епарх. Ведом.», в «Церк. Вестнике» и во многих других органах печати.
В память о почившем архипастыре соборный иподиакон Фащевский некоторые возгласы преосвященного переложил на ноты и издал в приложении к брошюре «Памяти святителя Димитрия». Глубокую благодарность о. Фащевскому приносят почитатели покойного Владыки за то, что он дал возможность возобновлять в памяти не только внешний образ пр. Димитрия (по распространенным его портретам), но и голос его, читая нотные переложения возгласов.
Памяти святит. Димитрия. Стран. 19–20.
Из речи прот. Г. Попруженко.
Речь прот. С. Серафимова (X. Еп. Вед. 1875 г., № 2).
Памяти святит. Д-рия (стран. 20).
Там же (стр. 18). – Подобный пример действенной силы пред Богом молитвы святителя Димитрия отмечен был в ранний период его служения в Туле, когда, после совершенной им в г. Черни литургии и крестного хода, губительная язва – холера ясно стала ослабевать и скоро прекратилась.
Речь прот. М. О. Чемены.
Памяти Димитрия (стр. 20).
Отзыв учебного комитета о проповедях Димитрия.
Речь прот. Μ. Ф. Чемены.
Памяти Димитрия (стр. 21).
Речь прот. Чемены.
Некоторые, подобные случаи изложены выше, в Тульском периоде.
Памяти Димитрия (стр. 22).
Церк. Вестн. №№ 47 и 51.
«Семь Херсон. Архиеп.» (стр. 90).
Из речи протоиерея А. Н. Кудрявцева (Херс. Еп. Вед. 1883 г., № 20).
