Часть I. Стихотворения лиро-эпические
К стихотворениям лиро-эпического характера относится весьма богатый отдел стихотворений дидактических, которые, в свою очередь, для удобства разбора можно подразделить на четыре категории: 1) гномические, или этико-прагматические стихотворения; 2) исторические поэмы, 3) дидактические поэмы и 4) стихотворения обличительного характера (сатирические).
1. Гномы
Γνώμη (γνώναι), лат. Sententia, в обыкновенном смысле означает изречение, которое, соединяя с возможно краткой формой выражения возможно большую полноту мысли, синонимично со словами: λεξις, λόγος, λόγων, ρησις, ρήμα, ρήτρα (dictum, dicterium), απόφθεγμα. Кратко и метко выражая результаты нравственно-практических наблюдений и выводы житейского опыта, гномы сходны с пословицами и подобно этим последним имеют целью поучение, преподание нравственного урока, правила, наставление. Различие гномических изречений от пословиц ( παροίμιον, παροιμία, αίνος dictum, verbum, proverbium, adagium) состоит только в том, что пословица живет и обращается в устах народа как общее его достояние; она общеизвестна, хотя и никто не знает, кто ее автор; «она ходит, – как выражается Даль, – под чеканом народности». С изречениями же гномическими продолжают неразлучно жить обыкновенно и имена их авторов. Как самая удобная и общедоступная форма выражения разнообразных жизненных наблюдений, моральные сентенции, или гномы, свойственны всем вообще народам, особенно в древнейшую пору их жизни, и везде служили началом дидактической поэзии. Но особенным уважением и успехом всегда пользовались гномы на Востоке.
В древнегреческой литературе гномы встречаются уже у Гомера, а у Гесиода, гномы или сентенции, становятся сами по себе содержанием целых определенных видов стихотворений. Древнейший род такой нравоучительной или дидактической поэзии встречаем в Εργα και ἡμέραι (поэме «Труды и дни») Гесиода. И в творении Гесиода соединены еще два различных элемента – правила, касающиеся материальной жизни, и нравственные. Позднее, когда последние начинают составлять единственный предмет дидактической поэзии, образуется поэзия собственно гномическая. Временем высшего развития этическо-гномической поэзии у эллинов был период так называемых «семи мудрецов» и «греческих законодателей». Задачей их гномической мудрости было частью давать в кратких изречениях и сентенциях нравственно-житейские нормы и правила благоразумия 1 частью – через политические предписания и законы облагораживать жизнь и таким образом содействовать развитию высшей культуры, в которой нравственные и политические элементы, первоначальные опыты философии и законодательства, нераздельно слитые между собою, выражались в поэтической форме; чаще всего гномические стихотворения излагались в форме строф, состоящих из двух или трех элегических дистихов, которые обыкновенно назначались и посвящались какому-нибудь другу. Многие из гномических стихотворений, например Солона, имели на заглавном листе личные посвящения: προς Κριτίαν, προς Φιλόκυπρον, προς Φωκον, соединяя, таким образом, субъективный характер элегии с обсуждением общественных вопросов. Вначале, впрочем, самой приличной формой для спокойного мирообсуждения и бесстрастного изложения житейской мудрости считался гекзаметр. Позднее же, когда гномические стихотворения преобразовались в так называемую «гномическую элегию», метрической формой гномов сделалось элегическое двустишие, представляющее соединение гекзаметра с пентаметром. Но наряду с этой формой по-прежнему оставался в употреблении и гекзаметр, которым написаны (в числе 71) и так называемые «золотые изречения» (χρυσὰ ἔπη) Пифагора. Однако преобразование гекзаметрической формы гномических стихотворений в элегическое двустишие (размером которого написано одно из лучших гномических стихотворений святого Григория Назианзина) весьма заметно отразилось на чисто поэтическом элементе их; мало того, само преобразование это совершилось под влиянием поэтического элемента. Хорошо приспособленная, по самой краткости своих строф, к аккомпанементу простой и незатейливой игры на музыкальном инструменте, гномическая поэзия позднейшего размера содержит в себе по местам много вдохновения, оживляющего элегический стих силой и теплотой, достойными Каллина и Тиртея34
Такой силой и жизнью отличаются в особенности гномические элегии Солона. Вообще же гномические стихотворения, благодаря меткости своих правил, изящной точности и изысканности языка, были особенно драгоценны по своей пригодности для воспитательных целей. Они охотно заучивались юношами и навсегда запечатлевались в их памяти; они пережили в истории литературы многие гениальнейшие произведения классической древности. Даже после диалогов Платона и нравоучительной философии Аристотеля не забыли Фокилида, Солона и Феогнида35. «Золотые стихи» Пифагора имели комментаторов еще во времена святого Григория Назианзина. Позднее же потом все подобного рода стихи, как и апофтегмы 36и притчи в прозе, перешли в нравственные антологии, например Ориона, Стобея 37, и в различного рода энциклопедии и руководства. После разновременных пересмотров и переделок, они встречаются потом то с печатью христианского мировоззрения в греческой поэме псевдо-Фокилида 38, в собрании Сивиллиных предсказаний, в мыслях епископа и мученика Нила, то с характером стоической философии – в латинских дистихах Дионисия Катона.
Из христианских писателей, образовавших свой талант и вкус на художественных образцах древнеклассической литературы, святой Григорий Назианзин первый с успехом воспользовался гномической формой поэзии для выражения христианских идей.
К гномическому роду стихосложения относятся следующие из его стихотворений: 1) Στίχων ή άκροστιχίς των πάντων στοιχείων [№ 30. «Мысли, писанные одностишиями"]); 2) Γνώμαι δίστιχοι [№ 31. «Мысли, писанные двустишиями"]); 3) Γνωμικά δίστιχα [32. «Двустишия"] и 4) Γνομολογία τετράστιχος [№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями«]; к этой же категории следует причислить и 5) стихотворение под заглавием: » Οροι παχυμερεΐς [№ 34. «Определения, слегка начертанные"].
По предметам своего содержания гномические стихотворения святого Григория Богослова так же богаты и обширно разнообразны, как сложна и разнообразна самая жизнь человеческая во всей совокупности ее духовно-нравственных проявлений. Гномы его обнимают, с моральной стороны, жизнь человека во всевозможных отношениях его общественного и домашнего быта, наставляют и нравственно руководят христианина среди самых разнообразных обстоятельств его личного положения, при самых различных условиях его звания и состояния, его пола и возраста. И миряне и монахи, и пастыри и пасомые, и отцы и дети, и замужние и девственницы, и рабы и господа, и бедные и богатые – все одинаково в гномической мудрости поэта-богослова находят каждый по себе и для себя нравоучительное правило, руководственную норму или жизненно-опытный совет, с которыми каждый, в высших религиозно-нравственных интересах своих, должен сообразовать свой образ действий и поведения в том или другом случае жизни. С другой стороны, гномические стихотворения святого отца не лишены и чисто исторического значения для характеристики внутренне-бытовой стороны современной ему эпохи. В своих гномических нравоучениях святой Григорий с особенным успехом пользуется своим любимым методом заключения «от противного»: от внешнего явления – к высшему внутреннему смыслу его, от чувственного – к сверхчувственному, от современного, изменчивого – к вечному, постоянному, от заблуждения, порока – к истине, добродетели. Прием этот сам по себе часто дает святому Григорию случай обрисовывать, правда отрывочными, но метко схваченными, живыми штрихами современные ему недостатки, обличать господствующие предрассудки и пороки. Такая широкая задача всестороннего нравоучения и руководства, всех вообще и каждого в отдельности, только и доступна гномическому стихотворению по самым свойствам его композиции и характера. Не подчиняясь обыкновенному литературному требованию единства содержания, достигаемого строго-последовательным развитием главной мысли и органически тесным отношением частей к своему целому, гномическое стихотворение есть исключительный род словесного произведения, в котором христианский поэт, по широте и разнородности предметов нравоучения, может быть, по апостолу, всем для всех (см.: 1Кор. 9:22). Пред глазами читателя поэт открывает в своих гномах необозримо широкое поприще человеческой жизни и деятельности. Пестро, как самые явления жизни, проходят пред ним, в живой очередной смене, разнообразные отображения и картины этой жизни. С каждым отдельным стихом выступает какоенибудь новое житейское отношение, получая, под углом зрения христианского поэта, свою особую яркую полосу света, уясняющего внутренний смысл и значение его; в каждом гномическом изречении новая нравоучительная мысль, новое назидательное правило или нравственно-практический совет выводятся из наблюдения над каким-нибудь новым явлением или комбинацией явлений в опыте жизни человеческой и олицетворяются в новых одушевленно-поэтических образах и метафорических формах.
Литературные достоинства гномических стихотворений святого Григория Богослова, обусловливаемые до известной степени самыми внутренними свойствами их содержания и характера, заключаются, между прочим, в этом разнообразии и беспрерывной смене живых образов, сильных и метких сравнений и уподоблений, тонко-прозрачных аллегорий, неожиданных и поразительных антитез. Благодаря этим высоким качествам – совместно содержания с формою, гармонии мысли с образом выражения ее – длинное, примерно в 326 стихов, гномическое стихотворение, представляющее непрерывную цепь моральных наставлений, читается не только без утомляющего однообразия, но и с большим, до конца не ослабевающим подъемом.
Анализ содержания гномических стихотворений (строф) святого Григория Богослова
Всю обширную область гномов, подлежащих нашему вниманию, по трем главным сферам отношения нравственно-практических обязанностей и правил христианского поведения, рекомендуемых моралью их, можно разделить, прежде всего, на три не одинаковые по объему группы: 1) гномы, касающиеся обязанностей христианина в отношении к Богу; 2) в отношении к другим людям («ближним») и 3) в отношении к самому себе.
1) В отношении к Богу
Гномические строфы святого Григория Богослова, по предмету своему относящиеся к первой из названных трех категорий, весьма несложны.
Принципом его моральных наставлений рассматриваемой категории гномов служит высочайший принцип христианства: возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем помышлением твоим (Мф. 22:37) 39 Эта «первая и большая заповедь» служит исходным пунктом гномических нравоучений святого Григория.
В гномах его мы читаем: «Бог есть сущность ( ουσία) и первая доброта» 40; «Прежде всего бойся Бога»41 etc.; «Оставь весь мир и всякое здешнее бремя, направляй парус в небесную жизнь» 42; «Желаю, чтобы ты богател одним Богом, а целый мир почитал всегда наравне с паутинными тканями» 43; «Только к Богу одному и Божественному будь безмерно привязан. Бог ближе всегда к призывающим Его. Он Сам жаждет жаждущих Его, непрестанно и щедро источая Себя им. А если кто богаче тебя в другом чем – сноси это равнодушно»44 «Бога имей началом и концом всякого дела» ("Αρχήν απάντων και τέλος ποιου Θεόν) 45.
Но чтобы богопочитание, во всех видах его проявления, выражающих непосредственное отношение христианина к Богу, с одной стороны, соответствовало своей внутренней высоте и важности и было достойно величия Божия, с другой – чтобы оно было благотворно и спасительно для самого христианства, святой отец внушает в своих моральных сентенциях, как необходимое условие для этого, чистоту и искренность расположения души: «Оскорбительно для веры, – гласит его гном, – не в сердце ее иметь, но поставлять в каком-нибудь цвете. Краску не трудно смыть, а я люблю то, что проникло в глубину» 46; «В жертву Богу преимущественно пред всем прочим приноси душу» 47, etc.; «Непрестанно созидай ум свой в храм Богу, чтобы внутри своего сердца иметь несокрушимую опору – царя» 48.
Некоторые из гномических изречений, относящихся к этой серии христианских наставлений, – поклоняться Богу в духе и истине (Ин. 4:24) и оправдывать веру делами, любопытны с точки зрения характеристики времени святого Григория, когда, как видно, любили больше рассуждать о Боге и религии, чем жить в духе религии и христианской любви к Богу. «Более будь привязан к Богу, чем стой за учение о Боге. Всякое слово можно оспаривать словом, но жизнь чем оспоришь» 49; «Возвышайся более жизнию, нежели мыслию. Жизнь может сделать тебя богоподобным, а мысль – довести до великого падения» 50; «Благодать дается не тому, кто говорит, но тому, кто хорошо живет» 51; «Пусть непрестанно трудится твой ум, напечатлевая в себе божественные мысли и глаголы жизни. А на язык будь скуп, потому что он весьма способен делать вред, и чем скорее движется, тем меньше приносит пользы» 52.
Что касается «скороподвижности» языка в отношении обычая клятвы, то христианские гномы Григория, направленные против этого нравственного недостатка, едва ли менее применимы и к настоящему времени, чем к веку Григория.
«Избегай всякой клятвы. Ты спросишь – чем же уверить других? Словом и жизнью, согласной со словом. К чему тебе призывать в посредники Бога? Сделай, чтобы посредником твоим были твои добрые нравы» 53; «Весьма худо и давать клятву, и требовать ее; в обоих случаях оскорбляешь правду» 54.
2) В отношении к ближним
В основании гномической морали Григория Богослова касательно правил поведения христианина в отношении к ближним лежит также нравственно-христианское начало, выраженное в евангельской заповеди о любви к ближнему (см.: Мф. 22:39; Ин. 13:34; 15:12). Но так как любовь эта по своим видам и проявлениям, сообразно разным условиям и отношениям ближних, весьма различна, то и сфера нравоучений, обнимаемых этой второй группой гномических изречений Григория, широка и разнообразна. Всю эту группу гномов, по принятому нами началу классификации, можно подразделить, в свою очередь, на изречения общие, касающиеся всех вообще ближних, и частные, определяемые различными состояниями и отношениями, в которых они поставляются в жизни. В гномических изречениях первого отдела поэт-богослов преподает христианину следующие наставления.
«Милости Божией ищи себе милостями к ближним» 55.
«Береги сам себя, а над падением другого не смейся» 56.
«Приятно возбуждать к себе зависть, но весьма постыдно самому завидовать»57.
«Чего вовсе не хочешь терпеть от другого, того и сам не желай делать другому» 58.
«Разбирай больше сам себя, нежели дела ближних» 59.
«Хвали другого, но не думай высоко о себе, когда тебя хвалят: опасно, чтобы не оказаться тебе ниже похвал. И другого хвали, не торопясь, но прежде дознай опытно, чтобы не понести тебе стыда, когда окажется он худым» 60.
«Лучше о себе слышать худое, нежели говорить худо о другом. Ежели кто, желая позабавить тебя, выставляет ближнего на посмешище, то воображай себе, что предметом смеха служишь ты сам; в таком случае слова его всего более огорчат тебя» 61.
«Не заботься во всем и всегда одерживать верх. Лучше уступить над собой победу с пользой, нежели победить со вредом. И у борцов почитается побежденным не всегда тот, кто лежит внизу, но часто и тот, кто остается вверху» 62.
Из частных моральных обязанностей христианина, определяемых различными состояниями и отношениями ближних, в каких находятся они, поэт рекомендует:
Касательно добродетельных и порочных
«Старайся узнавать все поступки добродетельных» 63.
«Добродетельному стыдно быть защитником порочных; это почти то же, что собственной ногою стать на стезю порока» 64.
«Доброго всегда предпочитай недоброму. Обращаясь с порочными, и сам непременно сделаешься порочным. От худого человека никогда не принимай милости, потому что он старается чрез это найти у тебя извинение своим делам»65.
«Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного» 66.
Относительно родителей, наставников и учащихся
«Легко отречется и великого Бога, кто отрекся отца. И наставника в благочестии уважай как отца» 67.
«Сыну никогда не входить в спор с отцом – повелевает закон, а прежде закона – природа»68
«Или вовсе не учи, или учи доброй жизнью. Иначе будешь одной рукой притягивать, а другой отталкивать. Меньше потребуется слов, если делаешь, что должно. Живописец больше учит своими картинами» 69.
«Особенно вам, служители алтаря, советую не быть оком, исполненным тьмы, чтобы не оказаться первыми в порочной жизни. Ибо если свет темен, чем будет самая тьма?» 70.
«Учи глупых соображаясь, сколько можно, с их природой; тогда, может быть, сверх чаяния, сделаешь их благоразумными» 71.
Относительно богатых людей, господ и слуг
«При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой никогда»72.
«Ненавижу бедняка, делающего подарки богатому, как человеку, который сладко говорит, но забывает накормить» 73.
«Что значат слова: господин и слуга? Какое дурное деление! У всех один Творец, для всех один закон, один суд. Принимая услугу, смотри на служащего как на сослуживца» 74.
Относительно друзей и дружбы
«Никакое приобретение не лучше друга; но никогда не приобретай себя в друзья худого человека» 75.
«Ничего не жалей для верного друга, который показал себя не за чаркой, но в трудную минуту жизни, который ничего не делает тебе в угождение, кроме полезного. Знай пределы вражде, а не благорасположению» 76.
«Глаз другое видит, а себя не видит; даже и другого не видит, если очень слеп. Посему надобно во всяком деле иметь советника. И руке нужна рука, и ноге – нога» 77.
3) В отношении к себе самому
Нравоучительные изречения поэта, относящиеся к этой третьей группе, составляют самый обширный по объему и самый разнообразный по содержанию класс гномов. Этот класс, сильнее отразивший на себе печать поэтического дарования автора, представляет лучшую и наиболее интересную часть всей гномической поэзии его. Богатству внутреннего содержания этих гномов вполне отвечают, в большинстве гномических строф, их художественно-литературные достоинства; с искусством необыкновенно тонкого мотивирования идей христианской этики, составляющих внутреннюю сторону содержания этих гномов, соперничает изобразительность внешнего, стилистического выражения их. С другой стороны, широкое разнообразие предметов нравственно-практических наставлений, входящих в содержание гномических изречений рассматриваемой группы, представляет большую трудность для применения в данном случае такой подробной и точной классификации, которая в целом обнимала бы собой всю эту обширную группу гномов до отдельного изречения. Тут – что ни гном, то новый сюжет, новая поучительная мысль, новое суждение, правило или совет, не имеющие между собой никакой необходимой связи, часто совершенно разнородные и разнохарактерные, но все вообще основанные на глубокой житейской опытности; так что исследователю, желающему во всей полноте и точности обнять своей классификацией все это количественно и качественно многосложное разнообразие гномов, пришлось бы чуть не для каждого отдельного гномического изречения ставить новую отдельную рубрику. Прием этот, разумеется, всего менее удобный в данном случае. Из обзора же гномов в общей, так сказать, огульной сложности под вышеозначенной рубрикой общего деления нельзя составить такого ясного представления о достоинствах гномических строф этой группы, а главное – нельзя видеть такого цельного и отчетливого мировоззрения христианского поэта, какое получается из обследования систематизированного материала. Остается, таким образом, придерживаясь того же начала общего деления, сделать возможное подразделение в самой сфере вышеозначенной третьей рубрики, разложив ее на некоторые частнейшие пункты, и по ним распределить, для удобства обзора, всю эту сложную группу гномов.
К этой третьей группе гномических строф, как уже сказано, мы относим в своем анализе изречения, по предметам своим касающиеся правил поведения и обязанностей христианина в отношении к самому себе.
Общим введением в область содержания всего этого отдела гномов может служить прекрасное гномическое изречение (из стихотворения № 31, ст. 7.), по первоначальному происхождению своему восходящее к отдаленнейшей поре греческой умственной производительности: «Познай самого себя» (Γνώθι σεαυτο᾿ ν). По преданию, приписывающему это изречение одному из «семи мудрецов», оно вместе с другим афоризмом: «Золотая середина» (Μηδέν άγαν – «Ничего лишнего») 78 -было начертано, как уже замечено выше, золотыми словами над входом в Дельфийское святилище. Эти два гнома потом послужили у греков ядром всех прочих изречений и, так сказать, центром тяжести эллинской философской мысли. Таким образом, цитируемое нами в качества эпиграфа или, скорее, введения к анализируемой группе гномов, изречение святого Григория Богослова было счастливо высказано и с большим уважением распространено уже за тысячу лет до времени жизни святого отца. Но кажущееся тождество двух сличаемых нами гномов, строго говоря, не простирается дальше сходства в них одной внешней формы. Ничем не мотивированный древнегреческий афоризм с точки зрения христианского поэта получил совсем иное освещение, новый глубочайший смысл, внушающий христианину не просто психофизиологическое самоисследование и изучение на общих началах и законах естествознания, а внутреннее самопознание на метафизической почве. Полная формула этого гнома у святого отца следующая: «Познай самого себя, из чего и каким сотворен ты, доблестный мой, и чрез это удобно достигнешь красоты Первообраза». Ясно, что по смыслу гномического изречения христианского поэта – «чтобы удобно достигнуть красоты Первообраза» – самопознание христианина должно обнимать, кроме общих естественных свойств и сил природы человеческой, как физической, так и духовной, в частности состояние его нравственно-духовного повреждения, в отличие от состояния первобытной невинности («каким сотворен ты»), – должно обнимать не только то, что он есть, но и то, чем он может и должен быть по его достоинству и назначению и по его силам и средствам, какие дарованы ему от Бога. В гномическом наставлении христианского поэта указывается и образец нравственного совершенства – в богоподобном состоянии человека, в каком он вышел из рук Творца, и идеал для этого совершенства – в Самом Творце. Таким образом, сфера самопознания у христианского поэта несравненно шире и глубже области самопознания, какую могла иметь и имела мораль языческого параллельного гнома. Соответственно такому объему, такому характеру и тенденции христианского самопознания поэт наш и преподает в своих гномических изречениях правила и советы христианину в отношении к нему самому. Более частная классификация этих гномических изречений, следовательно, до известной степени вытекает из анализа содержания гнома, предпосылаемого нами в качестве общего введения к рассматриваемой группе гномических стихов. Именно, представляется наиболее удобным рассматривать все эти гномические строфы, со стороны содержания их, в трех главных отношениях, или с трех общих точек зрения: а) с точки зрения правил и обязанностей христианина, излагаемых в гномах, в отношении к душе; б) в отношении к телу и 3) нравственнохристианских наставлений в отношении к внешнему благополучию и временной жизни вообще.
а) Гномы, содержащие нравственно-христианские советы в отношении к душе
Гномические наставления поэта в отношении к душе, вытекающие из его глубоких, непосредственных наблюдений над человеческой жизнью и опирающиеся на общежитейский опыт, так же, как и прочие все, имеют нравственно-практическую цель. В них поэт, то предостерегая, то увещевая, то советуя, то поучая, преподает христианину нормы для нравственно-духовной жизни и деятельности во всех главнейших видах ее проявления. Объектом его гномической морали здесь служат вообще душевные силы и способности, привычки и наклонности человека. Но так как задача этой морали чисто практического свойства, то поэт здесь имеет дело, собственно, с нравственно-практической способностью человеческого духа – волей, предлагая в своих гномах средства к воспитанию и укреплению ее в правилах христианской нравственности и добродетели. Усовершенствованию воли в этом направлении и вообще такому стройному, гармоническому развитию всех духовно-нравственных сил и способностей, при котором христианин лучше всего может восходить к своему назначению и совершенству, особенно препятствуют, как известно, страсти – господствующие порочные наклонности, обнаруживающиеся в решительном преобладании над разумом и волей. На них поэтому, главным образом, и сосредоточивается дидактизм этой категории гномов.
«Для чего, – говорит поэт в одном из этих гномов, – мы слагаем во всем вину на бедного врага, когда сами своей жизнью даем ему над собою власть? Укоряй самого себя или во всем, или в большей части проступков. Огонь зажигаем мы сами, а злой дух раздувает пламя» 79.
«И от малой искры возгорается великое пламя, и семя ехидны бывало нередко пагубным. Имея в виду это, уклоняйся и того, что производит малый вред. Теперь вред невелик, но со временем сделается он большим» 80.
Поэт внушает своему читателю в этих гномах строго оберегаться от непомерного, ненормального развития и превратного направления одной силы или деятельности души на счет другой, одного чувства или одних влечений в ущерб другим.
Советует «обуздывать гнев, чтобы не выступать из ума» 81. «Гнев, – говорит он в другом гноме, – небезопасный для всякого советник; что предпринято в гневе, то никогда не бывает благоразумно» 82. Рекомендует «удерживаться от обольщения зрением и знать меру языку» 83, «умерять свою смелость, которая иначе будет дерзостью, а не мужеством» 84. Внушает «не слишком себя обнадеживать и не вовсе терять надежду; одно ослабляет, другое ведет к нравственной несостоятельности» 85. Не советует «иметь ни справедливости неумолимой, ни благоразумия, избирающего кривые пути. Лучше всего – во всем мера» 86. Убеждает «не за всякою славою гнаться и гнаться не слишком»; «лучше быть, нежели считаться добрым. А если не можешь себя умерить, лови славу, но не суетную и не модную. Что пользы обезьяне, если примут ее за льва» 87. «Суетная слава – это западня для людей недалеких умом» 88. «Тебе предстоят скорби, удовольствия, надежды, опасения, богатство, нищета, слава, бесславие, престолы; пусть течет все это, как хочет. До человека, утвердившегося на добром основании, не касается ничто непостоянное» 89 А чтоб утвердиться на таком «добром основании», святой отец убеждает: «Делая хорошо, стараться и стоять в этом, потому что к худому переход скор» 90.
«За хорошим началом, – говорит он в другом гноме, – следует и прекрасный конец; справедливость этого показывают самые последствия дел» 91. Далее опытный христианский поэт обращает внимание в рассматриваемых гномах на тесное внутреннее взаимоотношение и связь психических деятельностей как между собою, так и с физическим благосостоянием внешнего организма. В силу этого нравственно понимаемого закона он говорит, например: «Для меня равно худы – и негодная жизнь, и негодное слово. Если имеешь одно, будешь иметь и другое» 92. Или еще нагляднее и изобразительнее: «Чувственная любовь, пьянство, ревность и бес – равны между собою. К кому пришли они, у того погублен ум» 93. Внушая «залеплять воском уши от гнилого слова», святой Григорий говорит: «Между словом, слышанием и делом расстояния невелики»( μικρόν με᾿ σον) 94. В силу того же совершенно верно подмеченного психофизиологического закона поэт называет чересчур озабоченное сердце «молью( ση᾿ ς), которая точит кости; тело цветет, когда избегает забот» 95. «Скорби, – говорит он в другом гноме, – преждевременно рождают седины; чего лишил нас образ жизни, того не восстановит время» 96.
В противодействие развитию порочных наклонностей и страстей, которые, имея основание в самолюбии и чувственности, всего более препятствуют достижению духовной свободы и нравственному совершенству, святой отец убедительно советует возможно шире и глубже развивать и образовывать ум. Гномические советы его в этом отношении так же высокоинтересны по своему общечеловеческому значению и симпатичны, как интересны, правдивы и симпатичны самые воззрения его на ум, умственное образование и высшие умственные интересы. Советы эти проникнуты искренним уважением и вполне сознательным доверием к благороднейшей способности человека – уму, в обширном смысле этого слова.
«Большая наковальня, – прекрасно выражается в гноме святой отец, – не боится ударов; так и мудрый ум отражает от себя все вредное» 97.
«Сведущий кормчий избежит опасных волн; а умственно образованный человек спасется от всякой беды» 98.
«Из разумных уст истекают приятнейшие речи; а горькая гортань только способна изрыгать брани» 99.
«Слова неразумного человека – шумный плеск моря, который бьет в берега, но не напояет береговых растений» 100.
Вообще святой Григорий Богослов внушает здесь читателю «признавать разум светильником( λύχνος) всей своей жизни» 101.
При этом он строго разграничивает сферу теоретического знания и разумения от нравственно-практической сферы поступков и поведения человека, расширяя горизонт первой до возможных, в условиях здешней жизни, пределов и ограничивая вторую кругом действий, дозволительных с точки зрения морали, порядка и закона.
«Все разумей, – назидает он в гноме, – но делай, что позволительно делать» 102.
«Смотри, чтобы из-за видимости не ускользнула у тебя действительность» 103.
«Окрыляемый учением, не летай без действительных крыльев, потому что без крыльев и птица не летает» 104.
«Уважай порядок и предпочитай могуществу, потому что сам он есть могущество и всегдашний охранитель могущества» 105.
«Соблюдая закон, изгонишь вон страх; потому что всякий исполнитель законов – вне страха» 106.
Общим заключением к этой категории гномических изречений могут служить следующие два гнома:
«Красотою почитай благолепие души, – не то, что могут написать руки, а время разрушить, но то, что усматривается взором целомудренного ума. А подобно этому и безобразием признавай душевную гнусность»107.
«Верь, что благоразумие надежнее счастья. Одно есть быстрое течение обстоятельств, а другое – кормило. Ничего не предпочитай учености; она одна составляет собственность приобретших ее»108
б) Гномические изречения относительно тела
Число таких изречений у святого Григория Богослова сравнительно невелико. В своих гномических наставлениях, относящихся к этому предмету, святой отец стоит на общецерковной и святоотеческой точке зрения на тело как на ближайший и необходимейший орган109 души. На тесную внутреннюю связь между душой и телом, обусловливающую их взаимное благосостояние, поэт указывает в гномах, уже приведенных нами выше. Но чтобы этот необходимый орган души, тело, вполне гармонировал с тем, что святой отец прекрасно называет ευκοσμια 110 души и что довольно трудно передать на русском языке вполне соответственным словом, – орган этот, во-первых, должен быть в подчинении духа, во-вторых, должен быть хорошо настроен, по возможности, свободен от недостатков, недугов – должен быть здоров. Имея в виду то и другое, святой отец и рекомендует в нижеследующих гномах, с одной стороны, нравственно-дисциплинарные правила по отношению к телу, с другой – общегигиенические средства для него.
«Владей плотию, – внушает он христианину, – и смиряй ее как можно лучше» 111.
«Чрево говорит: дай. Охотно дам, если, получив просимое, сохранишь целомудрие. А если жертвуешь этим дольнему, то получи от меня грязь ( κάπρον), да и ту не в избытке. Когда же сделаешься воздержным, тогда дам и в избытке» 112.
«Ум легок и не терпит обремененного чрева, потому что у противоположного с противоположным всегда борьба» 113.
«Никакое пресыщение не бывает целомудренно, потому что огню свойственно сожигать вещество» 114.
«Вода – прекрасный напиток; она не нарушает ясности мыслей; а выпитая чаша вина мутит ум» 115.
«Вино – по природе своей не знакомо с целомудрием; тем и производит оно удовольствие, что раздражает» 116.
«Вино – это поджога остывшей страсти; а всякое подложенное в огонь вещество усиливает пламень» 117.
«Для больного никакое богатство не предпочтительнее здоровья, и природа поступает премудро в том, что всегда желает здоровья» 118.
в) Гномические наставления в отношении к внешнему благополучию
Под этим названием мы объединяем в особую группу довольно значительное число строф из анализируемых гномических стихотворений святого Григория Богослова, в которых он преподает советы христианину относительно внешних благ и удовольствий, относительно различных общественных выгод и преимуществ – земной славы и почестей, богатства и бедности и вообще относительно счастья или несчастья. Подобные предметы христианского нравоучения имели ближайшее, непосредственное отношение к характерным явлениям современной святому отцу действительности, обусловливались духом его времени и отвечали нуждам последнего.
С этой стороны гномические изречения Григория на темы о нравственно-христианском отношении к различным видам внешнего благополучия не лишены в известной степени исторического интереса.
Пока христиане в первые века составляли гонимое меньшинство, их вера и мировоззрение были, естественно, цельней и чище от примесей; в четвертом же веке, особенно к концу его, когда христианство проникло в массу, последняя неизбежно привнесла с собою много элементов из языческого мировоззрения и жизни. Следы традиционных форм языческой жизни, под совокупным влиянием языческой религии и национальных особенностей, с особенной силой и живучестью должны были обнаружиться в области чисто практической – в сфере житейских отношений к разнообразным внешним благам, к материальным интересам и целям земного благополучия. В этой именно практической сфере уже во времена Григория Назианзина резко отпечатлелся нравственный упадок христианского общества. Над чистыми, истинно христианскими началами жизни получили перевес в его время эпикурейские наклонности: чувственность под видом различных материальных привязанностей и эгоистических целей приняла в то время весьма широкие размеры. Лучшую характеристику этого нравственного упадка христианского общества в четвертом веке дает сам же святой отец.
«Мы не знаем предела в стяжании, – между прочим говорит он по поводу современного ему общественного бедствия (опустошения полей градом), – поклоняемся золоту и серебру, как древние Ваалу, Астарте и Хамосу, ставим в великое драгоценные и блестящие каменья, мягкие и пышные одежды; гордимся множеством рабов и скотов, расширяемся по равнинам и горам, одним уже владеем, другое приобретаем, а иное намереваемся приобщить к своему владению, – желаем другой вселенной для удовлетворения своей любостяжательности и не довольствуемся пределами, какие положены Богом, потому что они тесны для наших пожеланий и алчности» 119.
Страсть к деньгам, к наживе, к богатству, служившему, в свою очередь, источником непомерной роскоши и противохристианского культа мамоны, сделалась господствующим недугом времени, характерным признаком его. «Ныне, – пишет Григорий в письме своему брату в Кесарию, – все воспламенено страстью к деньгам, и для них не щадят люди души своей, а нимало не поставляют для себя и единственной славы, и безопасности, и обогащения в том, чтобы мужественно противоборствовать времени и поставить себя как можно дальше от всякой нечистоты и скверны» 120. В стихотворении «О жизни своей» святой Григорий Богослов пишет: «Некто на пиру сказал, что всеми владеет вино, другой утверждал, что всеми владеют женщины, а мудрец заметил, что владеет истина. Но я назвал бы державной силой золото: им без труда приводится у нас все в движение» 121.
Страсть к золоту породила и до чудовищных размеров развила среди современников Григория особый, в высшей степени характерный для своего времени род религиозно-гражданского преступления – гроборасхищение, разорение гробниц и могил с целью ограбления мертвецов. О размерах этого преступления можно судить уже по тому, что святой отец написал против гроборасхитителей более полсотни обличительных стихотворений. Охватив все слои современного святому Григорию общества, страсть к золоту, к деньгам разрешалась, таким образом, в высших классах – роскошью и изнеженностью – разрешалась пороками; в низших – воровством, святотатственным грабительством – разрешалась преступлениями. Как сильно развилась и разветвилась вширь и глубь в христианском обществе уже второй половины IV века нравственная зараза в виде роскоши худших времен язычества и какой резкий контраст и несообразность представляют нравы и обычаи христианских современников святого Григория Богослова с простотой и чистотой жизни первенствующих христиан, особенно хорошо видно из следующего замечательного места сочинений святого Григория.
«Нам нужно, – рисует нам святой Григорий картину домашней обстановки жизни своих современников, – чтобы пол у нас усыпаем был часто, и даже безвременно, благоухающими цветами, а стол орошен был самым дорогим и благовонным миром, для большего раздражения нашей неги; нужно, чтобы юные слуги предстояли пред нами – одни в красивом порядке и строю, с распущенными, как у женщин, волосами, искусно подстриженными, так чтобы на лице не видно было ни одного волоска, – в таком убранстве, какого не потребовали бы и самые прихотливые глаза; другие – со стаканами в руках, едва дотрагиваясь до них концами пальцев и поднося их как можно ловчее и осторожнее; третьи, держа веера над нашими лицами, производили бы искусственный ветерок и этим зефиром, навеваемым руками, прохлаждали бы жар нашего утучненного тела. Нужно, кроме того, чтобы все стихии – и воздух, и земля, и вода – в обилии доставляли нам дары свои и стол наш весь был уставлен и обременен мясными яствами и прочими хитрыми выдумками поваров и пекарей; чтобы все они наперерыв старались о том, как бы больше угодить жадному и неблагодарному нашему чреву… У нас ценится в чашах вино: пей до упоения, даже до бесчувствия, если хватит сил! Да еще одно из вин отошлем назад, другое похвалим за его запах и цвет, о третьем начнем с важностью рассуждать, и беда, если кроме своего отечественного не будет у нас какого-нибудь иностранного вина».
Эта нравоописательня картина, изображаемая святым Григорием в одной из проповедей его122 вполне достойна сближения с параллельным местом из одного прекрасного обличительного стихотворения его «На богатолюбцев».
«Жадность везде отвратительна. Но не так представляется это тебе, – обращается святой отец к богатолюбцу, – у которого разум подавлен. Одним ты уже владеешь, другого желаешь, третьего надеешься; а для иного есть у тебя сводчики и подговорщики ( προμνη᾿ στορες και᾿ μαστροποί) вроде тех, которые услуживают по части сладострастных наслаждений. Ты поклоняешься золоту, скопляешь одежды в сундуках своих, всегда окружен ты скупщиками хлеба, торгуешь самым безвременьем( άκαιρίας). Одни плачут, другие питаются надеждой, потому что надежда – легкая греза наяву. А ты на одни житницы кладешь печать, а другие предусмотрительно открываешь, соображаясь, как думаю, с течением обстоятельств. Увы! увы! Ты берешь подать с несчастья бедных, собираешь плоды с чужого невзгодия; затруднительное положение для тебя своего рода жатва. Что же приобретаешь? Какие страшные сокровища? У тебя на столе груды всякой съедобной всячины; это отрада узкой гортани, о которой – все твои заботы; у тебя вздутость живота, болезнь пресыщения; у тебя огромные дома, с золотыми потолками и блещущие картинами; и в них большая часть стоит пустою; у тебя слуги, наряженные наподобие женщин; у тебя тенистые и прохладные убежища; у тебя пьянство, вокальные оргии, дружные рукоплескания, при которых растлевается красота образа Божия. Ты надмеваешься своим блеском, перед всеми в городе высоко носишь свою голову, хвастаешься высокостью своего чина и заносишься пред другими больше, чем у змеи один ряд чешуи надвинут на другой» 123.
В этой характеристике нравственно-бытового состояния своих современников, обусловливающего – при тесной аналогии с историческими обстоятельствами времен Соломона – близкую параллель гномов нашего поэта с изречениями Екклезиаста, Григорий указывает на все те главнейшие элементы общего нравственного недуга своего времени – чувственности, против которых направлен нижеследующий отдел гномической поэзии его. Это – поклонение золоту, страсть к богатству, к роскоши, к низменным материальным наслаждениям и чувственным удовольствиям, к гордости неблагородной пробы и тщеславию.
«Не будь привязан к счастью( ολβον)124 – убеждает святой отец, – которое разрушается временем; а что время строит, время и разрушает» 125.
«Богатство – самый проворный приспешник( τάχιστος υπηρέτης) в худом; потому что при могуществе( κράτος) всего сподручнее сделать зло» 126.
«Стыдись наименования порочным, а не низким по происхождению. Знатность рода есть давнишняя гнилость. Лучше начать, нежели заключить собою род, равно как лучше самому быть красивым, нежели родиться от красивых» 127.
«Не обольщайся чрез меру приятностями запахов, мягкостью осязания и вкусом. Уступив им над собою верх, произведешь ли что мужественное? Различны между собою услаждения, приличные женам и мужам» 128.
«Удовольствие для наслаждающегося им кратковременно; едва наступит, как и улетает, подобно камню» 129.
«Лучше вести счет делам своим, нежели деньгам; последние текут, а первые постоянны»130.
«Кто полагается на преходящее и приходящее, тот вверяется потоку, который не стоит на одном месте»131.
«Все с себя сбрось и тогда рассекай житейское море; но не пускайся в плавание, как грузный корабль, который готов тотчас потонуть» 132.
«Не хвались добрым плаванием, пока корабль твой не привязан к берегу. У многих счастливо плывшая ладья разбивалась у пристани. Многие погибали среди самых треволнений. Одно безопасно – не слагать вины на счастье» 133.
«Золото испытывается в горниле, а добродетельный – в скорбях. Часто скорбь легче состояния невредимости» 134.
«Моль все истребляет; не заботься о богатстве и для погребения своего; лучшая погребальная почесть – доброе имя» 135.
В исторических явлениях рассматриваемого времени, помимо вышеупомянутого общественного зла – гроборасхищения, были, как видно из стихов 76–78 и 116 вышеприведенного стихотворения поэта, и другие причины еще, которыми мотивированы следующие гномы Григория.
«Тяжело жить в бедности, но еще хуже разбогатеть неправедно»( εύπορεΐς κακώς) 136.
«Нищета лучше неправедного приобретения, как и болезнь лучше худого здоровья» 137.
"Подарок( δώρα) заставляет и мудрецов видя не видеть: золото – такая же ловушка для людей, как сеть для птиц» 138.
«Когда говорит золото, тогда все другие слова не действительны. Оно умеет убеждать, хотя и не имеет языка» 139.
Заключительным наставлением ко всей этой группе гномических нравоучений, резюмирующих общее содержание ее, может служить следующее хорошо выраженное гномическое изречение:
«Настоящую жизнь почитай торжищем. Если пустишься в торговлю, то останешься с прибылью: потому что за малое получишь в обмен великое и за скоропреходящее – вечное. А если пропустишь случай, другого времени для такого обмена уже не будет» 140.
В форме изложения гномических стихотворений можно различать две стороны: внутреннюю и внешнюю. Первая относится к изобразительности слога и вообще к поэзии языка; вторая – к грамматике и метрике.
Изобразительность речи, характеризующая поэтический стиль святого Григория Богослова, во многих гномических строфах его достигает высокой степени художественности, возможной, конечно, для подобного рода словесных произведений. Гномы святого отца естественно обилуют всеми теми формами языка поэзии, которые служат для выражения особенной силы и картинности, – которые воплощают и олицетворяют отвлеченные мысли, придавая им краски, жизнь, одушевление. Примеры такой поэтической образности в стиле гномических стихотворений святого Григория читатель мог видеть, отчасти, на многих из приведенных нами гномов. Говорим – отчасти, потому что по этим вышеприведенным образцам нельзя, строго говоря, составить себе точное представление о силе и изяществе языка гномов святого отца. Внутренняя художественная сторона поэтического слога – это такая стихия, изучать и ясно воспринимать которую можно только непосредственно, на родном ее языке, в самом оригинале. Если и вообще в переводе всякого более или менее оригинального писателя трудно вполне передать те особенные формы выражения и обороты речи, в которых отпечатлеваются отличительные свойства его, то переводчику талантливого поэта, особенно в переводе заурядной прозаической речью, нечего и задаваться произвести на читателя впечатление, равносильное наслаждению оригиналом. При всем том, однако ж, одна общая черта художественности гномического изложения, именно эта отличающая стиль святого Григория Богослова образность и картинность языка, довольно рельефно выступает и в русском прозаическом и вдобавок значительно устарелом переводе гномов. Желая, например, внушить своему читателю мысль, что внешнее богатство, привязывая человека к земле и чувственным удовольствиям, делает его неспособным держаться на высоте стремлений, сообразных с истинно христианским его достоинством и назначением, поэт рисует пред его глазами картину нагруженного корабля, который, пустившись в плавание по обширному морю, вот-вот готов потонуть под тяжестью своего груза. Показывая христианину, что внешние блага находятся не во власти человека, а зависят от Бога, располагающего судьбами и обстоятельствами человеческой жизни, – мысль, которая в ветхозаветной дидактической литературе иллюстрирована на высоко драматическом примере Иова, а в греческой поэзии послужила основной идеей одного из совершеннейших произведений драматического гения (Эдипацаря у Софокла), – наш христианский поэт представляет эту мысль под видом целой аллегории, заимствованной от тех же образов моря и плавания по нему корабля. Поэт советует своему пловцу не хвалиться «добрым» плаванием, пока корабль его не привязан к берегу, а помнить больше всего и во время благополучного плавания о буре, потому что часто и счастливо плывшая ладья разбивалась уже у самой пристани. Человека, не замечающего в себе развития порочной наклонности, поэт изображает под видом «зрячего слепца, не умеющего открывать следов зверя и потому лишенного верного признака острого зрения», и т. п. Вообще в гномических стихотворениях Григория Богослова можно находить все виды и формы изобразительной речи. Покажем это на примерах.
Примеры метафоры: «Светильником всей своей жизни признавай разум»;
«Оскорбительно для веры – не в сердце ее иметь, а поставлять в каком-нибудь цвете. Краску нетрудно смыть, а я люблю то, что проникло в глубину»;
"Огонь (порочную страсть) зажигаем мы сами, а злой дух раздувает пламень».
Метонимии: «Золото – такая же ловушка для людей, как сеть для птиц».
«Никакое пресыщение не бывает целомудренно; потому что огню свойственно сожигать вещество»;
»Из мудрых уст каплют самые сладкие слова, а горькая гортань изрыгает брани».
Синекдохи: «Желаю, чтобы ты богател одним Богом, а целый мир почитал всегда наравне с паутинными тканями»;
«Лучше иметь должником Христа, нежели всем обладать. Христос за один кусок хлеба дарует царство; а питая нищего, ты питаешь и одеваешь Христа».
Гиперболы: «Если хочешь быть богом (θεός), показывай свою деятельность не в том, чтобы делать зло, но в том, чтоб делать добро»;
"Потоки (ρείθρα) сладости льются с языка доброречивого, а в нескромных устах рождаются гнилые речи»;
«Для всякого умершего человека целая земля есть гроб».
Иронии: «Лучше слегка принять пищи, нежели быть за богатым ужином, но только во сне»;
«Что пользы обезьяне (в отношении к человеку, старающемуся казаться знатным), если примут ее за льва?»;
«Если молодой рак ходит не прямо, то берет для этого пример с походки матери».
Олицетворения: «Когда говорит золото, тогда все другие слова недействительны. Оно умеет убеждать, хотя и не имеет языка»;
«Большая наковальня не боится стука, и мудрый ум отражает от себя все вредное».
Наконец, нередко встречается в гномах форма, напоминающая параллелизм еврейской поззии. Этой формой отличаются в особенности гномические строфы стихотворения № 32 [ «Двустишия»]. Например: «Слова неразумного человека – шумный плеск моря.»; «Зайца приводит в страх шум листьев, а человека трусливого пугает и одна тень»; «От ударов железа воспламеняются и камни, – плотно свитый бич образует сердце»; «Злонамеренный оратор извращает законы, а благонамеренный оратор – самая стройная гармония»141
В отношении грамматическом гномы святого Григория Богослова представляют такое обильное разнообразие, что исчерпывают все наличное богатство форм и видов синтаксических конструкций греческого языка. Одни гномические нравоучения излагаются в форме личных советов (с обращением ко второму лицу):
а) положительных:
30. «Мысли, писанные одностишиями», ст. 1, 3, 6–15, 18, 20–21, 23;
31. «Мысли, писанные двустишиями», ст. 4–5, 33–36, 57–62;
32. «Двустишия», ст. 11–16, 71–72, 79–80, 99–100, 113–114, 125–126;
33. «Мысли, писанные четверостишиями», ст. 33–36, 53–54, 65–67, 81–84, 89–92, 97–100, 113–116, 141, 169–172, 197–200
или б) отрицательных:
31. «Мысли, писанные двустишиями», ст. 17–18, 55;
32. «Двустишия», ст. 5–6, 19–20, 52–56, 81–82, 98;
33. «Мысли, писанные четверостишиями», ст. 9–10, 29–32, 4144, 45, 69, 93, 105, 149, 177, 209.
Другие – и таких больше всего – в форме простого, безотносительного (безличного) и часто пословичного изречения (правила или положения): № 30, ст. 2, 4, 16, 19, 22; № 31, ст. 29–30, 45–46, 5152; № 32: 1–2, 31–38, 45–48, 57–58, 63–64, 73–74, 85–96, 101–112, 115–118, 127–128, 131–132, 135–136, 141–142; № 33, ст. 21–24, 7780, 129–132 и др. Сюда же можно отнести почти все «Определения, слегка начертанные» в 34-м стихотворении. Иные – в форме антитезы: № 30, ст. 4, 13, 18, 22; № 31, ст. 43; № 33, ст. 47–48, 177–180, 221–222, 225–226. Некоторые гномы встречаются в вопросительной форме: № 33, ст. 1, 12, 20, 30, 96, 133, 172, 215; другие – в форме условного предложения с союзом ή ν или ει; таковы: № 31, ст. 21–22; № 32, ст. 121–122; № 33, ст. 6–7, 20, 34, 36, 74, 115–116, 157, 159, 185, 201, 222. Но самым излюбленным и преобладающе употребительным грамматическим оборотом в гномах святого отца, как наиболее подходящим для простого, краткого и сжатого, но точного, сильного и меткого выражения, является форма наречного предложения, выражающего сравнение. Примеры: «Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного» (№ 30, ст. 17); «Лучше быть бездетным, нежели иметь глупых детей» (№ 32, ст. 41); «Лучше вести счет делам своим, нежели деньгам» (№ 33, ст. 55); «Лучше быть, нежели считаться добрым» (там же, ст. 94); «Лучше о себе слышать худое, нежели говорить худо о другом» (там же, ст. 101); «Лучше начать, нежели заключить собою род, равно как лучше самому быть пригожим, нежели родиться от пригожих» (там же, ст. 143) и др. Влияние слога классических греческих поэтов, и в частности Софокла, на Григория Богослова замечается, между прочим, в стремлении – и часто вполне удачном – последнего подражать в грамматической конструкции своих гномических строф той стилистической особенности античной поэзии, которая заключается в сопоставлении в одном предложении различных форм (падежей) одного и того же слова или одного и того же корня слова. Лучшими образцами этой стилистической особенности в языке гномической поэзии святого Григория Богослова могут служить следующие примеры:
" Φίλοι φιλοΰσι και α τοΐς φιλοις φίλα« (№ 32. «Двустишия», ст. 27: «Друзья любят и любимое друзьями»);
" Τάναντία γαρ τοΐς εναντίοις μάχψ« (там же, ст. 36: «У противоположного с противоположным всегда борьба»)142 "Παν γαρ το εκ γης, γη και εις γην πάλιν« (там же, ст. 44: «Все, что из земли, – земля и в землю обращается»);
" Ο)"κτω γαρ οίκτος και Θεώ σταθμίζεται« (№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями», ст. 160: «У Бога милость взвешивается милостью»; ср. № 30, ст. 6) и др.143
В других же случаях, допускаемых гномическими строфами, эта стилистическая особенность очень близко граничит просто с игрою слов. Так, например: «Νόμο ς περιδραμεΐται προς ολεθρίαν, Ό μή νόμου φύλαξ ν εννάμως φερον» (№ 32. «Двустишия», ст. 67–68: «На собственную пагубу хвалитсязаконами кто незаконно требует соблюдениязаконов»);
" Ἐργον παρεργον ουδαμώς έργον λεγω» (там же, ст. 139: «Бездельного дела никогда не называй делом»);
" Τομι᾿ κρον ου μικρόν, οταν εκφερη μέγα« (№ 30. «Мысли, писанные одностишиями», ст. 19: «Маловажное не маловажно, когда производит великое»).
Из пяти гномических стихотворений святого Григория, составляющих в общей сложности 735 стихов, четыре, а именно: «Мысли, писанные одностишиями» (в 24 стихах); «Двустишия» (в 146 стихах); «Мысли, писанные четверостишиями» (в 236 стихах) и «Определения, слегка начертанные» (в 267-ми) – написаны размером правильного ямбического триметра (шестистопного ямба), представляющего следующую схему:
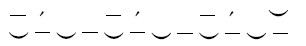
А стихотворение «Мысли, писанные двустишиями» (в 62 стихах) написано размером элегического двустишия, состоящего из соединения дактилического гекзаметра (1-й стих) с пентаметром (2-й стих); схема его следующая:
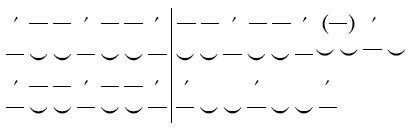
В отношении строфического строя (системы стихов) гномические стихотворения святого отца представляют три вида: а) стихотворения" κατά στίχον« [букв.: «по стиху«], то есть состоящие из отдельных самостоятельных стихов, так что, по выражению автора, » εκάστου ι᾿ άμβον τέλος παραινεσεως έχοντος» 144 (№ 30 и № 34); б) стихотворения, написанные строфами из двух стихов, двустишиями (№ 31 и № 32), и в) стихотворение в строфах из четырех стихов, четверостишное (№ 33). Кроме того, стихотворение № 30 отличается тем, что стихи его расположены по своим начальным буквам, следующим порядку греческого алфавита, и таким образом всех стихов в стихотворении, составляющем род акростиха, по числу букв этого алфавита, 24.
Общий анализ гномов святого Григория Богослова приводит нас к следующим выводам. Со стороны художественно-литературной многие гномические строфы, несомненно, имеют такие достоинства, по которым они заслуженно могут быть отнесены к лучшим поэтическим произведениям его, хотя и не самым лучшим, как это не совсем верно, на наш взгляд, высказал Ульман. В своей мимоходом брошенной и ничем не обоснованной заметке о поэзии святого отца крайне строгий к ней немецкий профессор в виде уступки удостаивает своим лестным отзывом 145 почему-то именно гномы святого Григория Богослова, оставляя без внимания целый отдел тех высокопоэтических произведений его, которые составляют, на самый взыскательный художественный вкус, образец искусства христианско-религиозной поэзии, – разумеем чисто лирические произведения его – элегии и гимны. Нужно заметить к тому же, что при суждении о поэтических достоинствах гномических стихотворений Григория Богослова и оценке их необходимо делать различие в этом отношении между самыми гномическими произведениями святого отца, потому что различие это между некоторыми из них, например стихотворениями № 33 и № 34, простирается до полярной противоположности. Стихотворение № 33 по всей справедливости может быть названо истинно классическим произведением. Элементы, составляющие понятие классически изящного произведения, соединились в этом стихотворении в замечательной полноте и гармонии. Богатство внутреннего содержания заключающихся в нем гномических строф тонко образованный художественный вкус поэта вылил в соответственно достойной форме, представляющей прекраснейший образец благозвучия речи и метрического совершенства. Живой, общечеловеческий интерес гномических советов, поражающих глубиной и разнообразием житейского опыта, соединился в этом стихотворении с изящностью изложения, достойной пера Архилоха Паросского 146, сила и энергия мысли сочетались со звучностью, стройностью и подвижностью ритма. Этим последним рассматриваемое стихотворение выигрывает очень много в своем впечатлении на читателя, так как метр его не остается без влияния на самые внутренние достоинства стихотворения. Состоя из четырех сенариев 147, строфический размер стихотворения сообщает ему особенную эллиптическую сжатость выражения, которая, не допуская ни плеоназмов, ни растянутости периодов, дает возможность ярче блистать лучам прирожденного остроумия поэта в каждом отдельном тетрастихе и потом, как в фокусе, сосредоточивает их в общем, цельном впечатлении. К этому стихотворению всего больше идут собственные слова святого отца, которыми он характеризует достоинства своей поэзии вообще: «Стихи мои вмещают в себе по большей части дельное и нечто игривое, но нет в них ни растянутости, ни излишества»( μακρόν δ᾿ ουδέν ουδ᾿ υπέρ κόρον) 148. Словом, стихотворение № 33 в своих прекрасных " γνωμαι᾿ ς πνευματι᾿ καΐς« [ «кратких духовных высказываниях«] не только» μνημόσυνον σοφη φυλάττει«» [ «хранит память о мудрости»], как оно само, олицетворенно рекомендуясь трудом святого Григория, говорит о себе в своем надписании, но и служит, несомненно, «памятником» необыкновенного поэтического таланта.
Затем, по степени художественно-литературных достоинств, остальные гномические стихотворения следует, кажется, разместить в таком порядке: № 31, № 32, № 30 и, наконец, бесспорно ниже всех стихотворение № 34. Сфера «определений»( όρων), составляющих содержание этого стихотворения, очень обширна; определения по предметам своим обнимают весь круг человеческого миросозерцания: космологию, пневматологию, антропологию, эсхатологию и пр., захватывая, следовательно, в частности, науки: физику с астрономией, соматологию и психологию с эстетикой, религию с этикой, христологию с сотериологией и т. д. Но все или почти все определения в этом стихотворении, в существе дела, суть номинальные определения. Например: «Огонь есть естество горящее и стремящееся вверх» (ст. 17); »Вода – естество текучее и падающее книзу» (ст. 18); "Воздух – наполнение пустоты и вдыхаемый поток» (ст. 19); «Тело – вещество и протяженная дебелость» ( δι᾿ αστατον πάχος; ст. 21); "Жизнь есть сопряжение души и тела; равно как смерть – разлучение души с телом» (ст. 25–26); «Ненависть есть какое-то отвращение, порождающее вражду» (ст. 162).
2. Исторические поэмы
Под этим заглавием, как предполагается отчасти уже самым понятием его, мы разумеем пьесы, которые по природе своей слагаются главным образом из двух элементов, более или менее свободно сливающихся под музыку стиха в цельную композицию: исторического (содержания) и поэтического (изложения). Широкий простор, какой дается и в этих стихотворениях, как и во всех других, выражению личных ощущений и мыслей поэта сообщает историческим поэмам характер субъективно-объективных лироэпических произведений. В зависимости от такого характера самое изложение поэм ведется скорее в тоне элегии, а местами – сатиры, чем повествования в строгом смысле слова. И в этом элегическом тоне их, в живописи скорбно-меланхолических мыслей и чувств поэта, проникающих стихотворения, поэтический элемент их, не в ущерб историческому содержанию поэм, достигает местами высокого совершенства.
Отдел исторических поэм, чтобы не смешивать его с другими родами поэзии, следует нам, кажется, ограничить только следующими стихотворениями. «Περί τον εαυτου βίον» [№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою«] и, как продолжение этой поэмы или, скорее, приложение к ней, составляющее с ней почти одно целое,» Εις εαυτόν και περί επισκόπων« [№ 12. «О себе самом и о епископах"]; затем – «Περί των καθ εαυτόν» [№ 1. «Стихи о самом себе, в которых св. Григорий Богослов скрытным образом поощряет и нас к жизни во Христе"] и «Ἐνύπνιον περί της ᾿Αναστασίας εκκλησίαν ην επήξατο εν Κωνσταντίνου πόλει» [№ 16. «Сон о храме Анастасии, который св. Григорием устроен был в Константинополе"]. Сюда же, как произведения, помогающие ближайшему знакомству с жизнью святого отца и с нравами века его, можно отнести еще, из того же первого раздела книги II цитируемого издания, стихотворения: «Προς τους της Κωνσταντίνου πόλεως ιερέας, και αυτήν τήν πόλιν» [№ 10. «К Константинопольским иереям и к самому Константинополю"]; «Ει᾿ ς εαυτόν, και προς τους φθονοΰντας» [№ 14. «О себе самом и на завистников"]; «Ει᾿ ς εαυτόν μετατην απάτης Κωνσταντίνου πόλεως επάνοδον» [№ 15. «На возвращение свое из Константинова града"];
" Εις εαυτόν« [№ 30. «К себе самому"].
Едва ли не самой большой известностью из всех этих стихотворений, благодаря своей исторической важности и своим высоким литературным достоинствам, пользуется в церковно-отеческой литературе самая обширная и по внешнему своему объему (в 19 149 стихов) поэма: «Περί τον εαυτου βίον» – «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». Собственно говоря, она составляет нечто вроде мемуаров или, скорее, новеллы чисто христианского характера. Она задумана и написана в условиях, когда пресвитер или епископ, принимаясь за летопись своей внутренней или внешней жизни с какой бы то ни было целью, сам становился для себя собственным историком. Весьма вероятно, что рассматриваемая поэма далеко не единственный опыт в своем роде из современной ее автору эпохи. Но отчасти, быть может, сравнительная малозначимость в историческом отношении авторов подобных произведений, отчасти же маловажность последних собственно в литературном отношении послужили причиной, что из всех произведений подобного рода до нас дошли от золотого века христианской литературы только «Περί τον εαυτου βιον» святого Григория Богослова да «Confessiones» [ «Исповедь"] блаженного Августина, заимствовавшего, как позволительно думать, идею для них из превосходной поэмы Григория Назианзина.
И нет ничего удивительного в том, что эта поэма святого Григория, как лица столь интересного по своему глубокому и многостороннему образованию и столь важного по своему общественному положению среди современников своих, лица, так сказать, самой судьбой возведенного в герои своей жизни, во многих отношениях необыкновенной и всецело поучительной, – что названная поэма его легла в основу всех позднейших исторических и библиографических о нем исследований, начиная с жизнеописания его одноименным с ним пресвитером и кончая самоновейшим историческим исследованием о нем современного французского аббата Людовика Монто.
С точки зрения побуждений и цели, которыми мотивировано происхождение этой поэмы, она является апологией, вызванной клеветами и злословиями против святого Григория недостойных завистников его, по крайней мере оправдываемой изумительными фактами, которые должны были волновать Восточную Церковь; цель написания апологии автор указывает сам, говоря в начале ее, что он приступил к рассказу об обстоятельствах жизни своей «чтобы не дать укрепиться лживым о нем речам; потому что злые люди любят на пострадавших слагать вину в том, что сами сделали им худого, чтоб этой ложью еще более причинить им зла, а себя избавить от обвинений»149. В этой необходимости защиты святой Григорий пишет стихотворение о жизни своей, начиная с самого детства своего. Содержание поэмы дает возможность разделить ее всю на две не равные по своему внешнему объему, как и по своему апологетическому значению, части, между которыми граничным пунктом может удобно служить момент вступления святого Григория в Константинополь (ст. 697).
В первой части, составляющей около трети всей поэмы, после вступления, указывающего на предмет и цель стихотворения, поэт кратко, но связно и последовательно рассказывает все обстоятельства своей предшествовавшей жизни, доходя в своем повествовании до времени вступления своего в Константинополь (ст. 1–606). Во второй части, составляющей, по намерению автора, центр тяжести всего повествования и обнимающей более двух третей его, он с большой подробностью описывает свою жизнь в Константинополе, рассказывает как о своих достойных удивления и уважения делах, так и своих достойных сочувствия несчастиях и страданиях, со всей искренностью благоговейного христианина высказывая все цели и побуждения всех своих действий. Таким образом, поэма, во всей сложности своего содержания, представляет не только историю внешних обстоятельств жизни святого Григория, но и историю его сердца. Если мы прибавим к этому простоту и естественность изложения ее, в самой безыскусственности своей отражающего чистоту души автора, и ее тон, дышащий искренностью и силой внутреннего убеждения, нетрудно будет понять, какой успех она должна была иметь по своей апологетической цели. Нельзя было выставить более сильной и победоносной аргументации для разоблачения всей несостоятельности и злонамеренности нареканий и клевет, возведенных на святого отца, как изобразив из цельного и последовательного изложения фактов своей жизни полную внушительного величия и внутренней правды картину ее. В самом деле, еще до рождения своего посвященный на служение Господу, от пелен младенческих воспитанный под влиянием совершеннейших образцов благочестия, в правилах религии и религиозной жизни, не той, которая дорожит внешним блеском общественного положения и славой наружных почестей, которая преследует выгоды материального обеспечения и дорогие связи по службе, а той, которая высшие интересы служения Богу и спасения предпочитает всем низменным побуждениям, которая ум и сердце, всю душу располагает к любви одиночества и пустыни, к удовольствиям в неизвестности, унижении и бесславии, – святой Григорий и в жизни общественной, на поприще служения Церкви, к которому призывали его интересы самой Церкви, настолько руководился страхом Божиим, в такой степени отличался христианским смирением, что состояние простого иерея казалось ему уже превышающим его силы и его заслуги. Сказывается ли тут честолюбец, который хотел навязать себя Церкви, добиться высших прав путем искательств, стать епископом наперекор императору и соборам, похитить престол, предназначенный для другого? Чем же объяснить эти оскорбительные нападки и злословия, на которые вынужден был отвечать святой отец? Чем недовольны были враги его и против чего, собственно, вооружались недостойные его сослужители Церкви? «Несносно им было, – отвечает нам сам автор поэмы, – что человек самый бедный, сгорбленный, поникший в землю, одетый худо, обуздавший чрево слезами, страхом будущего и другими злостраданиями, странник, скиталец, не имеющий ничего привлекательного для взоров, сокрытый в тьме земной, берет преимущество пред людьми, отличающимися силою и красотою. От них слышны были такие почти слова: «Мы льстим, а ты нет; мы чтим высокие седалища, а ты чтишь богобоязненность; мы любим дорогие блюда, а ты любишь дешевую пищу, в которой вся приправа – соль, и презираешь соленую горечь высокомерия. Мы рабы времени и народных прихотей, отдаем ладью свою всякому подувшему ветру, у нас учение, наподобие хамелеонов или полипов, принимает непрестанно новый цвет, а ты – неподвижная наковальня. Какая надменность! Как будто всегда одна вера, что так слишком стесняешь догмат истины, ступая все по одной скучной стезе слова» 150.
Мы не сомневаемся ни в реальности выставляемого поэтом мотива обвинений его врагами, ни в искренней правдивости изложенного им образа мыслей и образа действий своих, ни в его невинности. «Подобные нападки, направленные против такого мужа, подобные неистовые усилия – очернить такую чистую добродетель – сущий позор эпохи, – говорит Гренье. – Опровергать их, вооружаться против них – значило бы снова начинать после святого отца бесполезную для него апологию и опять возвращаться к анализу его чувств и его характера» 151.
Перед нами открывается другая сторона дела, и на очереди иной анализ – взгляд на поэму как на поэтическое произведение.
Выше мы уже определили обще род и характер ее в этом отношении. Поэма эта, по своему лиро-эпическому характеру, не может служить выражением цельного и чистого типа известного рода поэзии. В общем проникнутая тоном элегии, она далеко не свободна в частностях ни от элементов эпической поэзии, ни от неотъемлемых свойств и особенностей драмы. Она представляет в целом постоянное соединение эпического рассказа с драматическими монологами, живописных картин с разнообразными сердечными думами, общеназидательных размышлений, богатых пословичными изречениями, с личными и глубокими чувствами. Эти разнообразные элементы поэзии, из которых трудно отдать в художественном отношении преимущество одному перед другими, украшают поэму чудными эпизодами. В них, в этих дивных эпизодах, «Dichterader» святого отца, как называет, по силе неотразимой правды, Ульман поэтическую способность (собственно – «поэтический родник») его, изливается обильными и свежими струями классического гения поэзии. Читателю, знакомому с античными образцами художественной литературы, живо припоминаются сцены и описания, имеющие близкое сходство с эпизодическими картинами поэмы святого Григория Назианзина. Так, например, картина шторма, застигнувшего поэта на пути из Александрии в Афины, куда, как в центр просвещения тогдашнего времени, влекла его «страсть к наукам»152 невольно вызывает на сближение с местом из «Одиссеи», где также описываются несчастные приключения на море с героем ее.
«Совсем неблаговременно, – начинает свое описание святой отец, – когда еще не утихло море, когда, по словам знающих дело, грозил опасностью какой-то хвост тельца153 и плыть было делом дерзости, а не благоразумия, оставил я Александрию, где пожал уже несколько познаний, и рассекал море, несясь прямо в Элладу. Когда огибали мы Кипр, бунтующие ветры всколебали корабль. Земля, море, эфир, омраченное небо – все слилось в одну ночь. На удары молнии отзывались громы, плескались канаты у надутых ветрил, мачта гнулась, кормило потеряло всю силу, и ручку руля насильно вырывало из рук, вода стеною стояла над кораблем и наполняла собою подводную его часть. Смешались плачевные крики корабельных служителей, начальников, хозяев корабля, путешественников, которые все, даже и не знавшие прежде Бога, единогласно призывали
Христа, потому что страх – самый вразумительный урок. Но ужаснейшим из всех бедствий было безводие на корабле, который от сильных потрясений расселся, и сквозь дно пролились в глубину все, какие были на нем, сокровища сладкой влаги. Надобно было умереть, борясь с голодом, бурей и ветрами. Правда, Бог посылает скорое от этого избавление. Вдруг появились финикийские купцы, и хотя сами в страхе, но по нашим мольбам, узнав о крайности бедствия, с помощью багров и при могучих ударах руками, как люди сильные, вскочили они на корабль и спасают нас, почти уже мертвых плавателей, походивших на рыб, которые оставлены морем на суше, или на умирающий светильник, которому недостает питания. Но между тем ревущее море в продолжение многих дней непрестанно больше против нас свирепело. После многих поворотов не знали мы, куда плывем, и не видели себе никакого спасения от Бога» 154.
«Когда же все боялись смерти обыкновенной, для меня, – продолжает поэт-богослов, – еще ужаснее была смерть внутренняя. Негостеприимно убийственные воды лишали меня вод очистительных, которые соединили бы меня с Богом. Об этом проливал я слезы; в этом состояло мое несчастье; об этом я, несчастный, простирая руки, возносил вопли, которые заглушали сильный шум волн, терзал свою одежду и, ниц распростершись, лежал подавленный горестью. Все плывшие на корабле, забыв о собственном бедствии и в общем несчастии став благочестивыми, со мной соединяли молитвенные вопли. Столько были они сострадательны к моим мучениям!»155
Чисто христианский элемент, осложняющий коллизию описываемого момента у нашего поэта, ставит неизмеримо выше драматический монолог его пред монологом гомеровского героя в подобном же случае. «Когда не представлялось никакой доброй надежды, ни острова, ни твердой земли, ни вершины гор, ни горящего светильника, ни звезд – путеуказателей мореходцам, ничего – ни большого, ни малого не было в виду, что тогда предпринимаю? Отчаявшись во всем дольнем, обращаю взор к Тебе, моя жизнь, мое дыхание, мой свет, моя сила, мое спасение, к Тебе, Который устрашаешь, поражаешь, милуешь, врачуешь и к горестному всегда присоединяешь полезное»156
Здесь, в этом монологе, поэт воспроизводит, разумеется, собственные мысли и чувства, наполнявшие душу его в описываемый момент его жизни. Послушаем теперь поэта в другом месте, где говорит он от имени, хотя и близкого к нему, но все же не своего лица. Способность живо и естественно проникаться чужими мыслями и чувствами принадлежит, бесспорно, к наиболее отличительным особенностям истинного поэтического дарования157
Мы имеем в виду трогательную сцену, в которой престарелый отец поэта, простирая к нему, знаменитейшему поборнику Православия, руки и нежно отечески обнимая его, умоляет его принять участие в управлении Назианзской церковью, быть помощником ему в руководительстве и назидании его паствы, облегчить ему труды, становившиеся, по глубокой преклонности лет его, уже не под силу ему. Поэт влагает следующую речь в уста своего родителя.
«Тебя, любезнейший из сыновей, умоляет отец, юного молит отец-старец, служителя молит тот, кто и по естеству, и по двоякому закону твой владыка. Не золота, не серебра, не дорогих камней, не участков возделанной земли, не потребностей роскоши прошу у тебя, дорогой сын мой, но домогаюсь того, чтобы соделать тебя другим Аароном и Самуилом, досточестным предстателем Богу. Вспомни, любезное чадо мое, что ты принадлежишь Даровавшему тебя. Не обесчести меня, чтоб и к тебе был милосерд единый Отец наш. Сжалься над моей старческой дряхлостью, уступи отеческой просьбе. Ты не живешь еще столько на свете, сколько прошло уже времени, как я приношу жертву Богу. Сделай мне эту милость; сделай, умоляю тебя, или другой предаст меня гробу. Подари немногие дни остатку моих дней, а прочей своей жизнью располагай, как тебе любо»158.
Сколько кроткой задушевности в тоне этой речи – речи простой, но чрез эту-то простоту и неподражаемо поэтической, благородной, возвышенной! Здесь говорит одно чувство, которое так полно, что не требует поэтических образов для своего выражения; ему не нужно убранства, не нужно украшений, оно говорит само за себя.
Иной характер имеет знаменитая речь поэта пред собором; сильная, мужественная и авторитетная, но в то же время сдержанная, спокойная и плавная, она близко напоминает в бессмертной поэме Гомера речь также старца, но старца другого типа, «сладкоречивые речи которого лилися как мед благовонный» (Илиада I, 249).
Речь святого Григория, произнесенная им в собрании ста пятидесяти епископов, имела целью прекратить распрю159 волновавшую, к великой скорби православных христиан, тогдашнюю Церковь, и содействовать утверждению мира в ней. Несогласие, существовавшее между Церквами Восточной и Западной или, лучше сказать, между предстоятелями той и другой, вызвано было совместным пребыванием в Антиохии двух архиепископов, Мелетия и Павлина. Мелетий, при содействии епископов Восточной Церкви, занимая кафедру Антиохийской Церкви, пользовался всеми правами, принадлежащими кафедре. Павлин же, утвержденный в архиепископском сане епископами Западной Церкви, оставался без кафедры. Предстоятели Западной Церкви, давно уже стремившиеся к преобладанию в управлении делами Церкви, недовольны были предпочтением Мелетия Павлину и решились лучше нарушить союз мира с Восточной Церковью, нежели допустить неисполнение их определений. Но через несколько дней по утверждении святого Григория в звании архиепископа Константинопольского умирает Мелетий, председательствовавший на соборе. Казалось бы, что смерть его представляла удобный случай к водворению мира в Церкви возведением на упразднившийся Антиохийский престол Павлина. Но многие из Восточных епископов, особенно младшие из них, водясь более чувствами неприязни к западным епископам за их стремление к преобладанию, воспротивились избранию Павлина на место Мелетия и хотели противопоставить ему кого-нибудь другого. Таким образом, со смертью одного из виновников несогласий между епископами неприязненные отношения между ними не только не прекратились, а, напротив, еще более обострились, разделив епископов на две враждебные партии – мелетианцев и павлиниан. Святой Григорий, понимавший, как важен и нужен для блага Церкви мир, произносит пред собором речь, в которой он сильно настаивает на утверждении Павлина архиепископом Антиохийским.
«Примите мое предложение. Предложение благоразумное, превышающее мудрость юных; потому что нам, старикам, не убедить их кипучести, которая всегда уступает верх желанию суетной славы. Престол пусть будет предоставлен во власть тому, кто владеет им доселе. Что худого, если этого мужа (Мелетия) оплакивать будем долее, нежели сколько времени назначает на это Ветхий Закон? Потом дело решит старость и общий для всего нашего рода необходимый и прекрасный предел. Он (Павлин) преселится, куда давно желает, предав дух свой даровавшему его Богу, а мы, по единодушному согласию всего народа и мудрых епископов, при содействии Духа дадим тогда престолу кого-либо другого. И это пусть будет единственным прекращением неустройств!.. Да утихнет, наконец, да утихнет, говорю, эта буря, волнующая мир! Сжалимся над теми, которые впали теперь в раскол (разделение в Церкви), или близки к нему, или могут впасть впоследствии. Никто из нас да не пожелает изведать на опыте, чем это кончится, если превозможет надолго. Настала решительная минута или сохраниться на будущее время нашему досточтимому и священному догмату, или от раздоров пасть невозвратно. Как непрочность красок, хотя и не совсем справедливо, ставят в вину живописцу или нравы учеников – в вину учителям, так тайноводствуемый, а тем паче тайноводитель, если он худ, не поругание ли таинству? Пусть победят (то есть епископы Западные, поставившие Павлина епископом Антиохии) нас в малом, чтоб самим нам одержать важнейшую победу, быть спасенными для Бога и спасти мир, ко вреду нашему погубленный. Не всякая победа приносит славу. Доброе лишение лучше худого обладания…
Так сказал я; а они кричали каждый свое; это было то же, что стадо галок, собравшееся в одну кучу, буйная толпа молодых людей, общая рабочая (мастерская), вихрь, клубом поднимающий пыль, бушевание ветров. Вступать в совещание с такими людьми не пожелал бы никто из имеющих страх Божий и уважение к епископскому престолу. Они походили на ос, которые мечутся туда и сюда и вдруг всякому бросаются прямо в лицо. Но и степенное собрание старцев, вместо того чтоб уцеломудрить их, юных, им же последовало»160.
Подобных картин и живописных сцен много в поэме святого Григория. Таково, например, описание впечатления на константинопольскую паству намерения святого Григория, вследствие многих огорчений его, оставить Константинополь.
«Никто бы, может быть, и не догадался, – говорит поэт, – но у меня вырвалось как-то прощальное слово, которое изрек я в скорби отеческого сердца.
«Блюдите, – сказал я, – Всецелую Троицу, как предал вам, возлюбленным чадам, самый щедрый Отец; помните, любезнейшие, и мои труды».
Едва народ услышал это слово, один нетерпеливый громко вскричал, и, как рой пчел, выгнанный дымом из улья, вдруг поднимаются и оглушают криками и мужчины, и женщины, девы, юноши, дети, старики, благородные и неблагородные, начальники, воины, живущие на покое; все равно кипят гневом и любовию, гневом на врагов, любовию к Пастырю… А я посреди их безгласный в каком-то омрачении, не в состоянии был ни остановить шума, ни обещать того, о чем просили. Одно было невозможно; от другого удерживал страх. Задыхались от жара, все обливались потом. Женщины, особливо ставшие уже матерями, в страхе напрягали свой голос, дети плакали, а день клонился к вечеру. Всякий клялся, что не отступится от своих домогательств, хотя бы храм сделался для него прекрасным гробом, пока не исторгнет у меня одного желанного слова. Некто, как бы вынужденный скорбию, сказал: «Ты вместе с собою изводишь и Троицу». Тогда, убоявшись, чтоб не случилось какой беды, не клятвою обязался я, но дал слово, за которое ручался мой нрав, что останусь у них, пока не явятся некоторые епископы, которых тогда ожидали. Тогда и я надеялся получить избавление от чуждых для меня забот. Так с трудом мы разошлись, для той и другой стороны приобретя тень надежды. Они воображали, что теперь я уже их; а я рассуждал, что остаюсь у них не на долгое только время» 161.
Такова же картина, изображающая торжественный момент вступления святого Григория в сопровождении императора Феодосия и православного духовенства среди вооруженных войск в храм святой Софии, который давно уже находился в распоряжении ариан и который император решил сам лично передать святому Григорию в управление и назначил день для сдачи его православным.
«Наступило назначенное время. Храм окружен был воинами, которые в вооружении, в великом числе, стояли рядами. Туда же, как морской песок, или туча, или ряд катящихся волн, стремился, непрестанно прибывая, весь народ – с гневом и мольбами, с гневом на меня, с мольбами к Державному. Улицы, ристалища, площади, всякое даже место, домы двухи трехэтажные наполнены были снизу зрителями, мужчинами, женщинами, детьми, старцами. Везде суеты, рыдания, слезы, вопли – точное подобие города, взятого приступом. А я, доблестный воитель и воевода, с этим немощным и расслабленным телом, едва переводя дыхание, шел среди войска и императора, возводя взор горе и ища себе помощи в одних надеждах; наконец, не знаю, как вступил в храм… Было утро, но над целым городом лежала еще ночь, потому что тучи закрывали собою солнечный круг. Это всего менее прилично было тогдашнему времени, потому что при торжествах всего приятнее ясная погода. В этом и враги находили для себя удовольствие; они толковали, что совершаемое неугодно Богу. И мне причиняло это тайную в сердце печаль. Но как скоро я и порфироносец были уже внутри священной решетки, вознеслась от всех общая хвала призываемому Богу, раздались восклицания, простерлись вверх руки; вдруг, по Божию велению, сквозь расторгшиеся тучи воссияло солнце, так что все здание, дотоле омраченное, мгновенно сделалось молниевидным, и в храме все приняло вид древней скинии, которую покрывала Божия светлость. У всех прояснились и лица, и сердца»162
Хорошо и полно драматизма описание поэтом знаменательного в жизни его момента, когда он избирал себе путь и образ жизни.
«Нужна была, наконец, мужественная решимость. Во внутреннее судилище собираю друзей, то есть помыслы свои – этих искренних советников. И когда искал я лучшего из лучшего, страшный круговорот объял мой ум… Если состояние мое изобразить каким-нибудь сравнением, то я походил на человека, который задумывает отдаленное какое-то странствование, но, избегая плавания по морю и трудов мореходных, отыскивает путь, на котором было бы больше удобств. Приходили мне на мысль Илия Фесвитянин, великий Кармил, необычайная пища, достояние Предтечи – пустыня, нищетолюбивая жизнь сынов Ионадавовых. С другой стороны, пересиливали любовь к Божественным книгам и свет Духа, почерпаемый при углублении в Божие слово, а такое занятие – не дело пустыни и безмолвия. Много раз колебался я туда и сюда и наконец умирил свои желания и скитающийся ум установил на средине, а именно следующим образом.
Я примечал, что люди, которым нравится деятельная жизнь, полезны в обществе, но бесполезны себе; видел также, что живущие вне мира почему-то гораздо благоустроеннее и безмолвным умом взирают к Богу; но они полезны только себе, любовь их заключена в тесный круг, а жизнь, какую проводят, необычайна и сурова. Поэтому вступил я на какой-то средний путь между отрешившимися и живущими в обществе, заняв у одних сосредоточенность ума, а у других – старание быть полезным для общества» 163.
Вообще эпический элемент поэмы, вводящий в нее много прекрасных образов, картин, описаний и живых, верных изображений характеров, составляет ее выдающееся поэтическое достоинство. Образчиками меткого и точного очертания характеров и типов могут служить в поэме характеристики родителей поэта, друга его, императора Феодосия и особенно циника Максима. Кроме того, в эпизодических картинах поэт представляет живописное изображение современного ему состояния церквей, особенно со стороны возмущавших тогда ересей и деяний Второго Вселенского Собора.
По всему этому рассматриваемое стихотворение святого Григория № 11 «О своей жизни» как в общей полноте или целости, так и в частях представляется истинно-поэтическим произведением.
Анализируя его как именно художественно-литературное произведение, мы обозначили его лирический характер с преобладающим элегическим тоном, отметили его эпический элемент в описательно-повествовательных эпизодах, указали отчасти драматические места его. В последнем отношении, именно с драматическим анализом, нам, быть может, следовало бы внимательнее и глубже отнестись к поэме. Автор ее, психолог настолько наблюдательный, чтобы изучить людские типы и характеры, обладатель фантазии настолько живой, гибкой и зоркой, чтобы переселяться в душу и в отдельное положение каждого, настолько сильный памятью, чтобы удержать в ней результаты всех своих наблюдений, обладавший, благодаря всем этим совместно качествам, даром, говоря уму, оживлять воображение и трогать сердце, – располагал, очевидно, богатыми средствами для драматического творчества. Драматическая поэзия развивается, как известно, из эпоса, но по своему характеру она совмещает в себе существенные свойства столько же эпической поэзии, как и лирической; будучи объективно-субъективной, она есть, так сказать, наглядное представление внутренней жизни человека, отражающейся во внешних действиях. Для того же, чтобы это представление произвело впечатление, жизнь эта должна быть не только глубоко осознана, но искренне прочувствована поэтом настолько, чтобы возбудить глубокое и искреннее сочувствие, как учит Гораций: «Если хочешь, чтобы я плакал, надо, чтобы ты сам прежде плакал, и тогда твоя печаль меня растрогает». Эти основные элементы драматической поэзии живыми струями пробиваются в поэме святого Григория Назианзина, не изменяя, однако ж, как ни сильны и натуральны они, широкого, общего лиро-эпического течения ее, отлагающегося именно в историческую поэму, а не в драму. Нам представляется поэтому натяжкой видеть и доказывать в этой поэме просто-напросто драму или трагедию, как это делает, касаясь этой поэмы, почтенный автор статьи «О стихотворениях святого Григория Богослова» в одном из наших духовных журналов. Мы соглашаемся с нашим уважаемым ученым, что самый сюжет рассматриваемого стихотворения заключает в себе много драматического, что «собственная жизнь Григория, по его представлению, была как бы трагической борьбой первоначально сердечного давнего его желания с требованиями друга и духовных его чад, а потом – пастырской ревности о Православии с коварством неправославных». Но едва ли можно уступить, без некоторых ограничений, следующим соображениям автора.
«При обычных требованиях от трагедий ужасных и потрясающих душу коллизий несчастья Григория, конечно, могут показаться слишком малыми и неважными для того, чтобы из взаимного соединения их можно было составить трагическую картину. Самую скорбь Григория, которой пропитано его стихотворение, иные, пожалуй, назовут следствием излишней чувствительности. Правда, кто привык уважать коллизии только в делах рыцарской чести или внешней привязанности, тот здесь не найдет для себя ничего сродного и даже, пожалуй, будет скучать при чтении этого стихотворения. Но тот, кто смирение не считает слабостью, кто не решается посвящать себя высокому церковному служению прежде строгого предварительного самоиспытания, кто убежден в высокой важности иерархического сана и кто, наконец, ясно представляет себе высокое значение в деле оправдания пред Богом святой и правой веры, тот легко поймет, как естественна и справедлива эта глубокая скорбь, которую приписывает себе святой Григорий Богослов, при возложении на него пастырских обязанностей и при враждебных действиях против него со стороны неправославных, а следовательно, тот не может не сострадать ему от глубины своего сердца. Давно бы, кажется, пора понять, что те ужасные коллизии, в каких поэтическое изображение представляет нам, например, Макбетов, Ричардов, Отелло, возбуждают в нас отвращение только к тяжким и громким преступлениям, раскрываемым во всей крайности их развития, но в то же время делают слишком снисходительными к ежедневным нашим нравственным проступкам и неблагородным своекорыстным желаниям; между тем, кто не знает, что по непременному требованию религии и эти последние мы не должны считать маловажными и не должны быть к ним равнодушными. Следовательно, поэтическое изображение и такой строгой нравственной бдительности, по которой страшатся высоких степеней общественного служения, как самых тяжких несчастий, глубоко сокрушаются о самых мгновенных внутренних преткновениях и падениях, должно иметь для всех существенную важность.
В драматических произведениях ищут особенно живого очертания характеров как главного действующего лица, так и соприкосновенных к нему лиц. Этому требованию как нельзя более удовлетворяет стихотворение Григория «О своей жизни». Передавая свою собственную более духовную внутреннюю жизнь, те скорбные мысли и чувствования, какие порождены неожиданным возведением на высшие церковные степени, святой Григорий как хорошо знакомит читателей с самим собой, так в то же время сообщает живую, верную характеристику своих родителей, друзей и недругов…
В частности, постепенное развитие коварного замысла лжеепископа Максима раскрыто совершенно верно в отношении психологическом, а также живо и осязательно и для чувства; здесь можно встретить и резкое сатирическое изображение лицемерия Максима, а вместе с сим и добродушное снисхождение к его слабостям, и воодушевленное негодование на бесчестное его домогательство архиепископского престола. Посему, хотя в этой характеристике нет упоминания ни о трупах, ни о крови, ни о кинжалах, ни о яде, почти всегдашних атрибутах трагедии, но тем не менее покушение – сделать предметом своей корысти и честолюбия самое высокое и священное звание – это покушение представлено очень возмутительным и оскорбительным для сердца, проникнутого должным благоговением к святыне.
Речь, влагаемая поэтом в уста его родителя, при своей краткости поражает особенной естественностью и способностью поэта проникаться чужими мыслями и чувствами. А собственно его молитва на корабле, речь его пред собором – это поток слов, прямо и искренне льющихся от сердца. Самое размышление, направленное против господствующих арианских мнений, и общее суждение о заблуждениях других еретиков, против которых он ратовал всей силой своей благочестивой ревности и благопокорного терпения, и это суждение, при всей отвлеченности некоторых мыслей, так же пригодно и уместно, как, например, рассуждения английских правителей о политическом состоянии европейских государств и о современных войнах в исторических драмах Шекспира»164
Об одной упоминаемой здесь и в самом деле очень характерной стороне поэмы Григория «О жизни своей», как и стихотворения «О себе самом и о епископах», именно – их сатирическом элементе, мы умалчиваем здесь затем, чтобы сказать об этом в своем месте.
Смешанному поэтическому характеру этой поэмы вполне соответствует ее стихотворная форма: поэма написана гибким, живым, энергичным размером ямбического триметра.
Стихотворения «К константинопольским иереям и к самому городу» (№ 10), «О себе самом и на завистников» (№ 14), «На возвращение свое из Константинополя» (№ 15), «К себе самому» (№ 30), в которых святой Григорий также выражает жалобы на своих врагов и завистников, не безынтересны, быть может, в историческом отношении, но поэтических достоинств не имеют. Как произведения поэтические они не выдерживают сравнения не только с рассмотренной нами поэмой «О жизни своей», но и со «Стихотворением, в котором святой Григорий скрытным образом поощряет и нас к жизни во Христе». Это стихотворение (№ 1) и при своей несколько излишней пространности, при некоторых погрешностях против единства основной идеи пьесы и определенности плана все же достойно имени своего автора как поэта. «Истинная поэтическая образность, повсюду заметная в этом стихотворении, – справедливо замечает о нем выше цитированный автор, – можно сказать, есть лучшее нагляднейшее доказательство того, как поэтические образы при собственной своей живости гораздо более говорят за скрытно изображаемую идею, гораздо более удовлетворяют эстетическому чувству, чем точное и прямое обозначение идеи, как будто какой-нибудь темы в ораторских произведениях» 165.
Общее содержание этого стихотворения, проникнутого скорбно-меланхолическим тоном элегии, сходно с содержанием вышепоименованных исторических стихотворений – плач и жалобы автора на свои многоразличные бедствия и страдания, преимущественно от врагов, которые сравниваются святым отцом то со зверями, то со свирепой волной моря, то с плачевной бранью, то со стремлением палящего огня 166. Но есть много частностей, которые проливают большой свет на уяснение нравственного существа поэта, на направление и характер истинных склонностей души и сердца его, на его дорогие, нежно воспоминаемые привязанности, его глубоко задушевные идеалы.
«Меня не связало супружество – этот поток жизни, эти узы, тягчайшие из всех, какие налагает на людей вещество, как начало трудов. Меня не пленили прекрасные волны шелковых одежд; не любил я продолжительных трапез, не любил пресыщать прожорливое чрево – эту погибельную мать плотоугодия; не любил я жить в огромных и великолепных домах; не расслаблял я сердца музыкальными звуками, нежно потрясающими слух; меня не упоевало негою роскошное испарение благовонных мазей. И серебро, и золото предоставлял я другим, которые, сидя над несметным богатством, любят предаваться заботам и не много находят для себя услаждения, но много труда. Мое лучшее богатство – Христос, Который непрестанно возносит ум мой горе, а не поля, засеянные пшеницею, не прекрасные рощи, не стада волов или тучных овец, не дорогие служители. Никогда не обольщало меня желание судейского места, на котором, заседая величаво, мог бы я высоко поднять вверх брови; неважно для меня иметь могущество в городах или между гражданами – увеселяться самыми лживыми и ничтожными грезами, которые как приходят одна за другою, так и улетают, или хватать руками мимо текущий поток, как нечто твердое ловить тень и сжимать ее руками, простирать длани к туману и осязать его. Одна слава была для меня приятна – отличаться познаниями, какие собрали Восток и Запад и краса Эллады – Афины; над сим я трудился много и долгое время. Но все эти познания, повергнув долу, положил я к стопам Христовым, чтобы они уступили Слову великого Бога.
Мне надлежало бы прежде всего укрыть плоть свою в пропастях, горах и утесах; там, бегая от всего, от самой сей жизни, от всех житейских и плотских забот, живя один вдали от людей, носил бы я в сердце всецелого Христа, к единому Богу вознося чистый ум, пока не облегчила бы меня смерть, наступив вместе с исполнением надежд. Так надлежало бы! Но меня удержала любовь к милым родителям; она, как груз, влекла меня к земле; даже не столько любовь, сколько жалость – эта приятнейшая из всех страстей, проникающая всю внутренность и все составы костей, жалость к богоподобной седине, жалость к скорби, жалость к бесчадию, жалость к заботливости о сыне, с какою, непрестанно предаваясь сладостным трудам, трепещут за него, как за глаз своей жизни» 167.
Эти слова напечатлевают в душе читателя высокий образец монаха по убеждению, но вместе с тем и человека с сердцем. Читая и вчитываясь в вышеприведенные слова, раздельно и в согласии с другими параллельными местами того же стихотворения и других произведений его, веришь в искренность его признаний, понимаешь и чувствуешь его энтузиазм.
Свои страдания святой Григорий Богослов считает до такой степени сильными, бремя креста своего столь тяжелым, что понять эти страдания, по его мнению, способен только тот, кто сам испытал подобное, кто ощущал одинаковую с ним «любовь, одинаковое страдание и подобную скорбь» 168. К тому только он и обращается в поэме с доверием к своим душевным страданиям, «как уязвенный зубами ехидны только тому охотно пересказывает об этом в кого безжалостная ехидна со своим палящим ядом влила ту же пагубу; потому что такой только человек знает нестерпимость боли» 169.
Вообще это стихотворение может служить превосходным источником внутренне биографических данных для характеристики святого поэта. И в этом отношении оно составляет необходимое дополнение к поэме его «О жизни своей», занимающейся изложением больше внешних обстоятельств жизни поэта. Но с этой поэмой оно, при разности своего стихотворного, гекзаметрического размера, имеет много общего в художественном отношении – по изобразительности языка, исполненного метафор, аллегорий и сравнений, изяществу картин, силе и искренности одушевления, достигающего местами высокого лиризма, напоминающего возвышенный тон псалмов Давида: «Кто дает главе моей или веждам текущий источник, чтобы потоками слез очистить мне всякую скверну, сколько должно оплакивать грехи?.. Пусть всякий, взирая на меня, приходит в трепет, приобретает новые силы бежать от черной Египетской земли и горьких тамошних дел и царя Фараона, шествует же в Божественное отечество! Пусть не остается он пленником на бесплодных равнинах Вавилона сидеть на берегах реки, отложив в сторону все песненные органы и заливаясь слезами, но спешит в пределы святой земли, избежав ассирийского рабского ига, которое обременяло его доселе, и положит своими руками основание великого храма! С тех пор как я, злосчастный, оставил эту священную землю, не прекращалось во мне желание возвратиться туда; мучительное страдание повергло меня в старость, потуплены в землю мои глаза, скорбь растет в сердце, стыжусь смертных и бессмертного Царя; такова моя одежда и таково мое сердце, что не смею ни возвести взоров, ни отверзть уст…»170
Самое вступление в поэму, состоящее из молитвенного воззвания к Господу Спасителю, представляет замечательный образец вдохновенной поэзии.
Отдельные эпизодические изображения и сравнения, особенно заимствуемые поэтом из внешней природы, поражают красками жизни и действительности. Укажем хоть на образное сравнение поэтом пагубных нападений врага на душу его с разрушительным действием стремительного потока на величественное дерево. «Так на берегах осенней реки гордящуюся сосну или вечнозеленый чинар, подрывшись под корни, погубил соседний ручей. Сначала поколебал он все опоры и на стремнине поставил высокое дерево, а потом наклонил к реке держащееся еще на тонких корнях и, сорвав с стремнины, бросил в средину водоворота, повлек с великим шумом и отдал камням, где бьет непрестанно дождь, и вот от сырости согнивший, ничего не стоящий пень лежит у берегов. И на мою душу, цветущую для Христа Царя, напал жадный, неукротимый враг, низложил ее на землю и большую часть погубил; а то немногое, что осталось еще, блуждает там и здесь»171.
Касаясь и в этом стихотворении случая с ним при отправлении из Фаросской земли в Ахайю, поэт дополняет картину шторма и своего положения в данный момент следующими чертами.
«Двадцать дней и ночей лежал я на корме корабельной, призывая в молитвах царствующего в горних Бога; пенистая волна, подобная горам и утесам, то с той, то с другой стороны ударяла в корабль и нередко низвергалась в него; от порывистого ветра, свистящего в канатах, потрясались все паруса; эфир в облаках почернел, озарялся молниями и повсюду колебался от сильных ударов грома. Тогда предал я себя Богу и избавился от ярого моря, усмиренного святыми обетами» 172.
К одному же типу с перечисленными историческими поэмами принадлежит прекраснейшее поэтическое произведение под заглавием «Сон о храме Анастасии». По внешнему объему своему это стихотворение гораздо меньше каждой из поэм его о жизни своей (оно состоит всего из 104 стихов, или 52 элегических двустиший); но в эстетическо-литературном отношении оно несравненно выше всех исторических поэм, да и вообще из всего собрания стихотворений святого Григория Назианзина немного найдется поэтических произведений, достойных занять место рядом с этим стихотворением. Поэт берет в нем лишь один, но самый важный и дорогой момент из константинопольской жизни своей – свои отношения к храму Анастасии – предмету самых нежных и ревностных забот его, самой глубокой, пламенно-восторженной любви его. Как плод этой искренней, трогательной любви, как невольное, естественное излияние одних чистых ощущений и чувствований, свободных от всяких сторонних импульсов, это прекрасное стихотворение, одно и само по себе, может составить главу из истории сердца святого отца. А как художественно сконцентрированное, так сказать resume самого блестящего периода в истории пастырско-учительной деятельности святого Григория, оно в высшей степени любопытно и поучительно для всякого интересующегося церковной проповедью в первые века христианства.
Преобладающим мотивом этого стихотворения служит тот же скорбно-элегический тон, который характеризует и прочие исторические поэмы. Но значительная примесь в этих последних сатирического элемента оттеняет их тоном раздражения, негодования, сказывающегося по местам в не совсем сдержанных выражениях и производящего более или менее резкие диссонансы. Здесь же, в этом превосходном стихотворении, поэт переливает в сердце читателя свою задушевную скорбь, в разлуке со своей любимой паствой и особенно дорогим для него храмом святой Анастасии, в звуках тихой, спокойной, трогательно-нежной элегической лиры. По содержанию стихотворение это можно разделить на две части. В первой (ст. 1–65), под видом сновидения об Анастасии, и днем и ночью занимавшей мысли и чувства святого Григория и на родине его, он с одушевленной живописностью воспроизводит один из счастливейших моментов проповедания им в этом незабвенном храме слова Божия.
«Сладким покоился я сном, и ночное видение представило мне Анастасию, к которой в продолжение дня неслись мои мысли. Мне представлялось, что сижу на высоком престоле. По обе стороны ниже меня сидели старцы (пресвитеры), вожди стада, отличающиеся возрастом. В пресветлых одеждах предстояли служители (диаконы), как образы ангельской светозарности. Из народа же, одни, как пчелы, жались к решетке, и каждый усиливался подойти ближе; другие теснились в священных преддвериях, равно поспешая и слухом, и ногами, а иных препровождали еще к слышанию слов моих пестрые торжища и звучащие под ногами улицы. Чистые девы, вместе с благонравными женами, с высоких крыш преклоняли благочинный слух» 173.
Такова обстановка сладкого сновидения. В массе слушателей великого проповедника Анастасии безразлично смешались и христиане и язычники, и православные и еретики. И с каким вниманием слушала оратора эта многотысячная и разноверная масса! С какой жаждой ловила она каждое слово его и с какими порывами энтузиазма, «как волны моря, воздвигаемые ветрами» (ст. 36), выражала она свои впечатления! Могучее животворное действие пламенной христианской речи оратора чувствовали на себе и язычники; его слово побеждало их гордое прекословие, его убеждение с успехом торжествовало над их предубеждением. Отрадно было и ему видеть, как под обаятельным неотразимым впечатлением его" πνεύματος αθομενοιο οιδμάτι» 174 толпа его слушателей постепенно росла в массу верующих; дикая, невозделанная почва мало-помалу обращалась в обильную пажить. Приятно было видеть ему, как его" εύεπίη« [ «доброречие"] «услаждало всех, и красноречивых, и сведущих в священном слове благочестия, и наших и пришлых, и даже тех, которые весьма далеки от нашего двора, будучи жалкими чтителями бессильных идолов. Как теплыми лучами очерненная виноградина не совсем уже незрела, но начинает понемногу умягчаться, и не совсем зрела, но отчасти черна, отчасти румяна, по местам уже зарделась, а по местам наполнена кислым соком, так и они различались зрелостью повреждения, и я восхищался уже необходимостью обширнейших точил.
Таково было мое видение; но голос петухов похитил у меня с веждей сон, а с ним – и Анастасию. Несколько времени носился еще предо мною призрак призрака, но и тот, постепенно бледнея, скрывался в сердце; оставались же при мне одна скорбь и бездейственная старость. О тебе скорблю, моя Троица! О вас сокрушаюсь, дети мои! Что ты сделала со мною, зависть?»175
Трогательные выражения этой непритворной скорби, этих сокрушений святого Григория о разлуке его со своей любимой паствой и столь близким его сердцу храмом святой Анастасии составляют вторую часть стихотворения (ст. 65–105).
«Много, правда, потерпел я напастей на море и на суше от врагов и от друзей. От пастырей и от волков, от мучительной болезни и от старости, которая делает меня согбенным; но никогда прежде этого не постигала меня такая скорбь. Не плакал так о великом храме порабощенный ассириянами народ, когда веден был далеко от отечества; не плакали так израильтяне о Кивоте, который взят был иноплеменниками; не рыдал так и прежде них Иаков о похищении любимого сына; не сокрушается так и косматый лев об убитых ловцами детищах, и пастух о потерянном стаде, и птица о невольно покинутом гнезде на гостеприимном дереве, и полип об оставляемом им ложе – как я доныне сетую о новоустроенном храме, об этом плоде моих трудов, которым пользуется другой» 176.
Дальше, под наплывом ощущений растроганной души, язык поэта достигает высшей силы энергии и патетизма, сообщающего стихотворению глубоко трогательный тон вопля пленных евреев в тоске по своем дорогом Сионе.
«Если когда-нибудь сердце мое забудет о тебе, Анастасия, или язык мой произнесет что-нибудь прежде твоего имени, то да забудет меня Христос! Как часто, и без великих жертв, и без трапезы, очищал я людей, собранных у Анастасии, сам пребывая вдали, внутрь сердца создав невещественный храм и возлияв слезы на божественные видения! Никогда не забуду, если бы и захотел, не могу забыть вашей любви, девственники, песнопевцы, лики своих и пришлых, восхищающие попеременным пением, вдовицы, сироты, не имеющие пристанища, немощные, взирающие на мои руки, как на руки Божии, и сладостные обители, препитывающие в себе старость!»177
Прекрасный размер этого стихотворения элегическим двустишием как нельзя более отвечает характеру поэмы, отличающейся такой задушевностью тона, такой силой и искренностью чувства, такой чарующей нежностью души автора ее.
3. Дидактические поэмы178
Если не самый многочисленный, то самый объемистый класс стихотворений, по количеству стихов захватывающий более трети всего числа строф в поэтических произведениях святого Григория (именно 6 600 строф из всех 17 531, не считая трагедии), составляют у него стихотворения, прототипом которых в древнегреческой поэзии могли служить поэту дидактические поэмы Гесиода. Сюда мы относим следующие стихотворения: из книги I (раздел I) под номерами 1–16; 18–28; раздел IÏ № 1–7, 9–11, 20–24, 35–40; из книги II (раздел I): № 1–7. Стихотворения эти, весьма разнообразные по предметам содержания своего, по форме изложения, по характеру и литературным достоинствам, можно рассматривать как особый, сравнительно совершеннейший вид гномической, рефлективной поэзии. С этой последней дидактические поэмы святого Григория Богослова тесно граничат своей, так сказать, мозаичностью, своим пословичным характером и своими нравственно-практическими, или прагматическими, целями назидания. Но между стихотворениями гномическими и стихотворениями рассматриваемого отдела есть и большие различия. Между тем как в гномических стихотворениях, как видели мы, что ни стих или строфа – то отдельная мысль, особое наставление, часто, кроме метрической связи, не имеющее никакого внутреннего отношения к своему предыдущему стиху, каждая из дидактических поэм в общем проникнута, до известной степени, одной какой-либо идеей, отличается, в большей или меньшей мере, сложностью композиции, причем лучшим стихотворениям поэт сообщает занимательность посредством различных эпизодов, поэтических отступлений, живописных описаний и т. п. При той свободе, с какой поэт пользуется всеми средствами языка для украшения своих поэтических произведений, он и в изложении этих стихотворений допускает безразлично все формы: монологическую, диалогическую и эпистолярную. В художественно-литературном отношении стихотворения этого отдела не все одинакового достоинства. Это замечание относится к дидактическим поэмам святого Григория гораздо в большей мере, чем ко всем прочим разрядам его стихотворений.
Многие стихотворения из отдела дидактических мотивировались причинами, можно сказать, сторонними в отношении к поэзии. Впрочем, по своему времени, по требованиям современности поэта они могли иметь и, надо полагать, имели свой raison d'etre [смысл бытия], свое значение и свой интерес, вовсе не чуждый живого, сердечного, до известной степени поэтического элемента. Мы не станем останавливаться с разбором, хотя бы и кратким, на каждом из стихотворений подлежащего отдела. Наша задача – иметь дело только с поэтическими произведениями святого Григория. А таких и в настоящем дидактическом отделе так много, и настолько хороших, что уже их только одних было бы, кажется, достаточно для того, чтобы упрочить место и значение святого отца в ряду классических поэтов греческой литературы.
Анализ дидактических поэм
С внутренней стороны – по роду и характеру предметов содержания – все дидактические поэмы Григория Богослова можно подвести под два общих отдела: 1) стихотворения богословские и 2) стихотворения моральные. Первый из этих отделов сам собой распадается, в свою очередь, на две части: а) на стихотворения догматические и б) стихотворения церковно-исторические.
Догматическую часть составляют, собственно, следующие девять стихотворений: «Об Отце», «О Сыне», «О Святом Духе», «О мире»; два стихотворения «О Провидении» 179 [в наст. издании: № 5. «О промысле«], «Об умных субстанциях» [№ 7. «Об умных сущностях»] и «О душе». К этой же группе догматических поэм следует отнести еще два стихотворения «О вочеловечении» (против Аполлинария) и апологетическое стихотворение «К Немесию».
В своих догматических стихотворениях святой отец сжато, сильно и с большим одушевлением излагает чистое христианское учение об Отце, о Сыне, о Святом Духе, учение о мире, о Провидении, о добрых и злых ангелах и наконец – о душе человеческой. Первое из этих стихотворений составляет род величественного введения по отношению к следующему ряду догматических поэм. Приступая к «таинственным и недоступным даже для небесных сил» предметам «таинственных песнопений», поэт сравнивает себя с человеком, на непрочной ладье пускающимся в дальнее плавание, или с птицей, на малых крыльях уносящейся к звездному небу. Но он находит для себя достаточно ободрения и утешения в мысли, что «Божеству часто бывает приятен дар не столько полной, сколько угодной Ему, хотя и скудной руки». В общем, как и в деталях своих, своим содержанием и тоном, как и своим объемом и расположением частей к целому, это первое стихотворение наводит на мысль, что в подлинном тексте «таинственные песнопения» поэта не были разрозненными между собою, отдельными пьесами, каждая со своим особым счетом и самостоятельным значением, а составляли одно общее связное целое, одну сложную поэтическую композицию, к которой это начальное стихотворение служило вступлением (интродукцией), а заглавия отдельных стихотворений могли служить только названиями отдельных глав одной поэмы. К этой мысли дает повод склоняться и то обстоятельство, что самое заглавие начального стихотворения, как в различных кодексах, так и у разных издателей, неодинаково. По одним кодексам и сделанным по ним изданиям стихотворение это надписывается «Περί του Πατρός» [ «Об Отце"]; по другим и очень многим – «Τοί αύτοΰ». По Ватиканской же, например, рукописи стихотворение это озаглавливается «Περί άρχων, ήτοι περί Τριάδος» [ «О началах, то есть о Святой Троице"]. Биллий, по которому, как сказано уже, сделано и русское издание, берет из последней формулы только одну первую половину. Надписание «Περί του Πατρός», разделяемое, между прочим, и цитируемым нами Бенедиктинским изданием, действительно, мало отвечает содержанию стихотворения. Об Отце в стихотворении говорится не больше, чем о Сыне, как равно и о Святом Духе; а о всех трех лицах вместе (то есть по заглавию «Περί άρχων, ήτοι περί Τριάδος») – меньше, чем наполовину всего стихотворения. Несоразмерность, довольно резко бросающаяся в глаза, если не объяснять ее тем соображением, что все догматические стихотворения в подлиннике составляли одно поэтическое целое, к которому начальное служило как бы общим введением. С точки зрения этого соображения получают свое полное освещение и следующие возвышенные слова из начального стихотворения: «А я положу на страницы предисловием как бы то же, что древние богомудрые мужи – Моисей и Исаия, когда один давал новописанный закон, а другой напоминал о законе нарушенном. Вонми, небо… и да слышит земля глаголы уст моих (Втор. 32:1; см. также: Ис. 1:2)! Дух Божий! Ты возбуди во мне ум и язык, соделай их громозвучной трубой истины, чтобы усладились все, прилепившиеся сердцем ко всецелому Божеству!»180
Поэтическую ценность и значение из всей группы догматических стихотворений, строго говоря, имеют только следующие пять стихотворений: первые три – «Об Отце», «Сыне» и «Святом Духе», седьмое – «Об умных сущностях» и восьмое – «О душе». Стихотворения эти служат достойным имени автора памятником живейшего участия его в делах веры, какое принимал он не только как глубоко ученый епископ, но и как призванный свыше поэт-пророк, не только по долгу пастыря Церкви, но и по внутреннему влечению своего пламенного поэтического сердца, горячо веровавшего во Святую Троицу. Стихотворения эти являются вполне естественным плодом глубокого сочувствия и интереса поэта к догматическим вопросам, волновавшим современное ему общество сверху донизу, и потому естественно получили они под пером христианского поэта истинно поэтическое выражение. Сила чувства, преобладающая над спокойным размышлением, обращения к самому себе, к своему сердцу, живость и по местам драматизм изображений ярко отличают эти богословские стихотворения от богословских проповедей того же автора, хотя предметом тех и других служат одни и те же отвлеченно-догматические вопросы. При сличении «Таинственных песнопений» Григория с его пятью «Словами о богословии» оказывается разница настолько же в самых произведениях, насколько и в психических средствах, имевшихся в распоряжении автора в том и другом случае. В догматических проповедях его читателя поражает гибкий и проницательный ум; в догматических стихотворениях нас трогает своей непосредственностью и теплотой глубокая душа; там царство богословской мысли поделено между неумолимой логикой и ее неизменной спутницей – диалектикой; здесь в области тайн веры простая истина является об руку со своей родной сестрой – красотой. Проповеди служат типическим произведением чисто греческого, национального ума, призванием которого всегда было разложить идеи на составные их части, отметить их взаимную связь, поставить как можно эффектнее тезисы в параллель с антитезисами, образовать из тех и других цепь таким образом, чтобы в ней не было пропущено ни одного звена и вся она примыкала к какой-нибудь бесспорной аксиоме или группе частных положений, находить наслаждение в выковывании, связывании, соединении и таком искусном применении, в споре или апологии, каждой из этих цепей, чтобы с помощью ее довести [аргументы] своего противника, по возможности, ad absurdum [к абсурду] и тут же посмеяться над ним. Стихотворения догматические являются плодом сознания, прошедшего чрез горнило любвеобильного, согретого чувством сердца, – являются, следовательно, из источника, родственного и понятного всем людям вообще, а благочестивым христианам в особенности. Проникнутый благоговейным чувством, поэт старается здесь не доказывать, а показывать Божество(" άναφαίνειν Θεότητα«), как выражается он в начале первого стихотворения; рассудочные доводы и логические формы мышления здесь заменяются конкретными образами и формами метафорическими; и благодаря этим, сколько живым и выразительным, столько же общедоступным и общезанимательным аналогическим объяснениям и формам изложения, высочайшие догматические истины легко воспринимаются чувственным представлением, скоро переходят в сердечное убеждение и здесь обращаются в животворную силу. Впрочем, различие в тоне, характере и стиле догматических проповедей от догматических стихотворений святого Григория Богослова обусловливалось до известной степени различием самых задач и целей тех и других. Догматические проповеди святого отца направлены прямо против еретиков; оратор с первого же слова говорит там, что «слово его – к хитрым в слове, к людям, у которых чешутся и слух, и язык, и, как видит он, даже руки», и потому там он прямо, с оружием диалектики в руках, начинает грозными словами пророка се, аз на тя, горде (Иер. 50:31). Здесь же, в своих Таинственных песнопениях», он в самом предисловии уже объявляет, что «слово его к очищенным( καθαροΐσιν), или к трудящимся над очищением. А кто злочестив – беги прочь!». Там проповедник ставит себе целью если не убедить своих врагов, то, по крайней мере, доказать им, что не всякий и не всегда может и должен богословствовать, рассуждать о высоких догматах веры. Здесь же христианский поэт ставит целью своих песнопений просто, «чтобы усладились все, прилепившиеся сердцем к всецелому Божеству». Самые стихотворения эти относятся к догматическим проповедям как сжатые выводы к сложным логическим приемам доказательств, не совсем лишенным характера софистического красноречия, – как положительные, ясные и плодотворные истины к частным проблематическим положениям, отрицаниям и противоположениям, как синтез к анализу. Так что своими догматическими стихотворениями поэт вполне оправдывает свои слова, сказанные им в стихотворении «К Немесию»: «У меня обычай – говорить кратко, в немногие стихи заключая обширное слово» 181. В этих стихотворениях, чуждых отвлеченности и научного логического или систематического порядка в изложении мыслей, – разумеем именно лучшие пять вышепоименованных нами стихотворений – святой отец тем более является поэтом, чем менее стремится к этой цели. Стихотворения эти полны внутренней жизни уже в силу полноты искренности собственного убеждения и одушевления поэта; они дышат тем простосердечием, которое невольно действует на наше сердце и так же много заключает в себе поэзии, как наставительные беседы пламенной отеческой любви или задушевные советы верного и любимого друга.
Что касается собственно до художественности изображений, то этим отличается в особенности стихотворение «Об умных сущностях» – произведение, не лишенное «аттического вкуса», то есть понимания оттенков, легкой грации, неуловимой иронии, простоты стиля, изящества сравнений. И близость Ангелов, по природе своей, к высочайшему Свету, и отношение их к людям, миру и человеку, и падение «самого первого светоносца», который «хотя и легок по природе, однако ж низринулся до самой преисподней и, захотев быть Богом, весь стал тьмою», и, наконец, зло, привнесенное в мир отпадшими ангелами, при поэтическом воззрении нашли для себя весьма соответственные картины в видимой природе. Поэтическая образность объяснения взаимоотношения разумных существ основана в стихотворении на сравнениях Бога с солнцем, Ангелов с эфиром, людей с воздухом. «Как солнечный луч из безоблачного неба, встретившись с отражающими его облаками, из которых идет дождь, распростирает многоцветную радугу и весь окружающий эфир блещет непрерывными и постепенно слабеющими кругами, так и природа светов поддерживается в бытии тем, что высочайший Свет лучами своими непрестанно осиявает умы низшие. А светы вторичные после Троицы, имеющей царственную славу, суть светозарные Ангелы, столь же близкие к Источнику светов, сколько эфир к солнцу. За ними следуем мы – воздух» 182 Стоит отметить с поэтической точки зрения и следующее место из этой поэмы, в котором поэт не без драматизма изображает свое внутреннее смущение при взгляде на природу ангельскую в отношении доступности ее греху. «На что решишься, дух мой? В трепет приходит ум, приступая к небесным красотам; стало предо мною темное облако, и недоумеваю – простирать ли вперед или остановить мне слово. Вот путник пришел к крутобереговой реке и хочет перейти ее; но вдруг… поколебалась мысль; он медлит со своей переправой; он долго борется в сердце, стоя на берегу; то необходимость внушает ему смелость, то страх связывает решимость. Не раз заносил он ногу свою в воду и не раз отступал назад; нужда, однако ж, берет, наконец, верх: страх побежден. Так и я, приближаясь к тем, которые предстоят чистому Всецарю и преисполнены светом, с одной стороны, боюсь сказать, что и они доступны греху, чтобы чрез это и многим не проложить пути к пороку, а с другой стороны, опасаюсь изобразить в песне моей неизменяемую доброту, так как вижу и совратившегося князя злобы» 183.
Из прочих дидактических поэм догматического содержания заслуживает внимания стихотворение «К Немесию», одному «из превосходнейших друзей» 184 поэта. Дидактический тон этого стихотворения обусловливается апологетическим характером его; цель его – убедить своего друга перейти из язычества в христианство. Замечательно это стихотворение, во-первых, тем, что в нем поэт, признаваясь в своей любви к эллинским наукам и к эллинскому образованию, «над которыми он трудился много и долго» 185, на самом деле обнаруживает такое обширное и основательное знакомство с древнегреческой литературой, а равно и с египетской мифологией и религиозно-мифической обрядностью, какое сделало бы завидную честь даже и любому языческому поэту классической Греции. Во-вторых, любопытно в этом стихотворении одно место, из которого видно, что святой Григорий Богослов, как будто под влиянием Оригеновского метода изъяснения Священного Писания, допускает двоякий смысл в нем: «Один внутренний – досточтимого духа, а другой – внешний. И один внятен немногим, а другой многим, на тот, – полагает он, – конец, чтобы преимущество имели мудрые или чтобы с трудом приобретаемое тверже соблюдалось, потому что то, что скоро приобретается, непрочно. Впрочем, в наших Писаниях, – продолжает святой отец, – тело и само светло и облекает собою боговидную душу; это двойная одежда – багряница, просвечивающая нежной сребровидностью» 186.
Наконец, было бы несправедливо отказать этому стихотворению и в поэтических достоинствах. Несмотря на свою апологетическую задачу, оно чуждо отвлеченности, систематического порядка и логической сухости. Касаясь различных обрядных форм и верований язычества, слишком живых еще в сознании и памяти даже христианских современников своих, не говоря уже о самих язычниках, поэт разоблачает их внутреннюю пустоту языком образным, обильным меткими эпитетами, точными и близкими подобиями, живыми картинами и изображениями; в тонкой, едва уловимой иронии своей над языческими нелепостями он пользуется народными присловиями и пословицами и противопоставляет античным мифам живые олицетворения библейских сказаний. Местами эти олицетворения, сопровождающиеся неожиданными переходами тона и формы речи, достигают высокого поэтического пафоса. Вот, для примера, строфы, в которых поэт влагает речь в уста Самого Спасителя. «Теперь вещает мой Христос. «Настала весна, а зима миновала, и наступило ясное благоведрие. Приступите же и насытьтесь от Меня безмерным светом. Долго ли быть вам связанными в темных пещерах? Наступило уже время, о котором издавна дал нам обетование светлый Дух. Приступите, вкусите жизни, но примите и новое очищение"» 187Можно указать также в этом стихотворении на примеры любимого поэтом оборота – фигуры отрицания, живо напоминающего стиль нашей русской народной поэзии. Положим, в следующих стихах: «Это не песнь сладкопевного лебедя. это не жалобное пение соловья. но сладкопение христоносных уст» 188; «Он (Немесий) пошел от нас не с обманчивым серебром и золотом, не с благородными крылатыми конями. но приобрел он вместо этого великую и светлую жемчужину – Христа» 189.
Из группы церковно-исторических дидактических стихотворений, к которым нужно отнести, например, «О подлинных книгах Богодухновенного Писания», «Двенадцать патриархов», «Моисеево десятословие», «Египетские язвы», «Чудеса пророка Илии и Елисея», «Родословие Христово», «Воплощение», «Чудеса Христовы по Евангелиям: от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна», «Утишение бури», «Притчи Христовы по четырем евангелистам», «Двенадцать Апостолов», – нет, строго говоря, ни одного, которое можно бы было назвать истинно поэтическим произведением. Не представляют они чего-либо особенного и по внутреннему содержанию своему, за исключением разве стихотворения «О подлинных книгах Богодухновенного Писания». Это стихотворение можно отметить потому, что оно, не ограничиваясь простым перечислением книг Нового Завета, определяет цель написания Евангелий, исключая Евангелие от Иоанна, известным для каждого Евангелия, особым обществом или кругом читателей: «Матфей описывал чудеса Христовы, – говорит святой Григорий, – для евреев, Марк – для Италии, Лука – для Ахаии, а великий и небошественный проповедник Иоанн – для всех» 190.
Гораздо содержательнее, разнообразнее и интереснее стихотворения моральные [нравственные], составляющие, в сложности, более двух третей дидактического отдела. Мы разумеем под ними именно стихотворения, заключающиеся в книге I разделе II под № 1–7, 9–11, 20–24, 35–40, и в книге II разделе II под № 1–6.
Этот обширный и выдающийся отдел стихотворений богат, нам кажется, примерами, представляющими по своим литературным приемам, формам, манере, тону и, наконец, по своим достоинствам весьма близкую параллель с лучшими типами древнегреческой лиро-эпической поэзии. Наиболее характерные черты аналогического сближения мы постараемся отметить при самом разборе произведений дидактической музы поэта. Чтобы легче ориентироваться в массе моральных дидактических поэм и сообщить изложению наиболее типичных из них некоторый порядок и систематичность, мы подразделим и этот отдел, с точки зрения точнейшего внутреннего содержания составляющих его стихотворений, на две категории. К первой мы отнесем стихотворения, в которых поэт, воодушевляясь чистыми идеалами высшей христианской жизни и добродетели, дает советы, касающиеся, собственно, аскетическо христианской жизни, и потому обращается с ними, собственно, к девственникам. Ко второй категории – стихотворения, излагающие правила практической жизни и деятельности в духе безотносительно-христианской добродетели и потому относящиеся к каждому христианину вообще.
Серия моральных дидактических поэм первой категории открывается большим, состоящим из 732 гекзаметров, стихотворением под заглавием «Похвала девству» [№ 1]. В этом надписании" Παρθενίης έπαινος« [ «Похвала девству«] Бенедиктинское издание следовало лучшим спискам. По другим, менее авторитетным, кодексам вместо » έπαινος« [ «похвала«], оно надписывается» εγκωμιον« [ «похвальная речь» «энкомий«], или «έπος» [ «речь»], или" λόγος« [ «слово, речь«]. В некоторых же рукописях формула заглавия:» Παρθενίης έπαινος« дополнена прибавкой" και γάμου» [ «и браку"]. Можно, однако, не без основания думать, что в самом подлиннике стихотворения этой прибавки не существовало. Она не гармонирует ни с задачей стихотворения, ни с ясно обнаруженными в нем симпатиями поэта, ни с самым намерением его, точно сформулированным в начальных, вступительных словах к стихотворению. Если в стихотворении, в параллель с девством, и восхваляется супружество, то из внимания читателя едва ли может ускользнуть, что восхваление супружества вытекает здесь не из существа самой задачи стихотворения, а только из приема, из способа выполнения ее, из того любимого поэтом сравнительного метода, посредством которого он так мастерски умеет как в прозаическом, так и в поэтическом изображении распоряжаться светом и тенью двух противопоставляемых предметов. Но перейдем к самому анализу стихотворения.
Его можно разделить по содержанию на три части, из которых первые две обнимают приблизительно одну первую половину всего стихотворения (в объеме именно 341 строфу, с отнесением 214 ст. к первой и 127 – ко второй части), третья же часть, вдвое большая каждой из первых двух, составляет одна вторую половину всего стихотворения, обнимая остальные 391 строфу его. Каждая из трех частей предваряется небольшим вступлением, заключающимся в метафорическом обращении и воззвании поэта, во имя высших религиозно-нравственных побуждений, в первой и третьей части – к девству, во второй – к супружеству. В воззвании, предваряющем первую часть стихотворения, поэт высказывается и о своем намерении «воспеть девство от чистого сердца в чистых песнях». А в патетическом обращении к нему, составляющем переход к третьей части, он объявляет, что «сам он будет защитником девства».
Превосходные гимнологические строфы, которыми начинается поэма и в которых, прежде всего, изливается восторженно-поэтическое чувство любви христианского автора к высокому предмету песни своей, должны быть отнесены к лучшим лирическим местам его стихотворений.
«Увенчаем девство нашими венцами, от чистого сердца воспев его в чистых песнях!
Это – прекрасный дар нашей жизни, дар блистательнейший золота, илектра и слоновой кости.
Дар тем, в ком огнь любви к девству поверг долу перстную жизнь, подъемля отселе крыла их ума к превыспреннему Богу.
Хранители чистоты да внимают с радостию песне моей; потому что она есть общая награда всем целомудренным; а завистливые да заградят двери слуха! Если же кто хочет отверсть, то очисти сердце учением!
Приветствую тебя, великое, богодарованное девство – подательница благ, матерь безбедной жизни, Христов жребий, сожительница небесных красот, которым неизвестны супружеские узы!» (ст. 1–10).
Вслед за приветствием девства во вступлении к первой части поэмы, автор, описывая «Источник Светов» – Бога, повторяет с буквальной точностью шесть строф (14–19), составляющих 7–12-й гекзаметры стихотворения «Об умных сущностях». Первая часть стихотворения, следующая непосредственно за вступлением, в отношении к главному предмету содержания, излагаемому собственно в третьей части, составляет нечто вроде общего введения, своим планом, композицией и языком довольно живо напоминающего пролог к дидактической поэме Гесиода «Труды и дни». Поэт начинает прославление девства словами богопочтения: «Первая Дева есть чистая Троица». Затем он переходит к светозарным представителям девственности – Ангелам, которые «не ищут увеселений ни в супругах, ни в детях, ни в сладких трудах и заботах о тех и других». Здесь опять поэт буквально повторяет семь строф (31–34, 48–50) из того же стихотворения «Об умных сущностях» (13–16, 17–19). Дальше, связывая явления девства с тайнами Божественного Домостроительства, поэт в сжатых, общих чертах воспроизводит историю этого последнего, начиная с первобытного хаоса, когда «все покрывала черная беспросветная ночь, когда солнце не пролагало с востока огнистой стези, не являлась рогоносная луна – это украшение ночи, но все, смешанное одно с другим и связанное мрачными узами первобытного хаоса, блуждало без цели», и кончая воплощением Христа от «чистой, девственной Матери» и явлением со Христом благодати Его, когда «воссияло для людей совершеннейшее девство, отрешенное от мира и отрешающее от себя мир, настолько высшее супружества и житейских уз, насколько душа выше плоти, широкое небо – земли, неизменяемая жизнь блаженных лучше жизни скоротечной, Бог совершеннее человека».
Во второй части стихотворения (с 221-й ст.) поэт, аллегоризируя мысль, предоставляет Супружеству держать речь самому от себя и за себя. Цель автора – чрез такое живое сопоставление супружества с девством выставить в более ярком и привлекательном свете достоинства и преимущества последнего. Супружество начинает с положения, что оно явилось на земле в силу закона, установленного Самим Богом. «Бог – родитель всего, – говорит оно. – И прости мне, Христос! Прежде всего – место Твоим чистым законам, а потом – узы любви»191. Эти «узы любви» Супружество находит в многоразличнейших явлениях даже внешней природы, и на основании этих явлений оно устанавливает факт всеобщности закона любви, выражением которого служит супружество со своими плодами – чадородием. «И земля, и эфир, и море цветут чадородием – дарами супружества. Если же правда, что и для высокорастущих пальм есть закон любви, мужская и женская ветвь, соединенные руками вертоградаря в весеннее время, приносят обильные плоды; если, как говорят испытывавшие природу камней, из четы двух камней, сошедшихся вместе, рождается новый камень, то и у неодушевленных тварей есть супружество и узы любви» 192. Дальше Супружество выставляет на вид важность свою в культурно-историческом и социальном отношениях. «Кто открыл глубины, какие замыкали в себе и земля, и море, и небо? – спрашивает оно. – Кто дал законы городам, и еще прежде этого, кто воздвиг самые города и изобрел искусства? Кто наполнил торжища, дома и ристалища? Кто на войнах строит воинство и на пирах столы? Кто в благоухающем храме собрал песнословящий лик? Кто истребил зверонравную жизнь, научил возделывать землю и насаждать деревья? Кто пустил по морям гонимый ветрами черный корабль? Кто одной стезею связал и сушу, и влажный понт? Кто, как не супружество?» 193 Затем Супружество развивает свою мысль о преимуществах брачной жизни с точки зрения практических удобств жизни, проистекающих от взаимопомощи супругов: «Соединенные узами супружества, мы заменяем друг другу и руки, и слух, и ноги. Супружество и малосильного делает вдвое сильным. Общие заботы супругов облегчают для них скорби; и общие радости для обоих восхитительнее» 194. Потом переходит от внешней жизни к внутренней, от обыденной, домашней – к высшей, нравственно-религиозной, причем высказывает чрезвычайно светлую мысль, что «супружество не только не удаляет от Бога, а, напротив, – более привязывает, потому что больше имеет побуждений» 195, – и иллюстрирует эту мысль великолепным сравнением: «Как малый корабль и при слабом ветре движется вперед, быстро носимый по водам распростертыми парусами, даже и руки без труда принуждают его к бегу ударами весел; большего же корабля не сдвинет легкое дыхание, напротив того, когда он с грузом выходит на море, только крепкий и попутный ветр может придать ему хода, так и не вступившие в супружество, как необремененные житейскими заботами, имеют нужду в меньшей помощи великого Бога, а кто обязан быть попечителем милой супруги, имения и чад, кто рассекает обширнейшее море жизни, тому нужна большая помощь Божия, тот взаимно и сам более любит Бога» 196. Дальше, оставляя ненадолго свою положительную точку зрения, бросает взгляд на жизнь с противоположной, отрицательной стороны. «Жизнь без любви не полна, сурова, не видна, бездомовна… она не спасает от страданий. Не врачует дряхлой старости, не доставляет высочайших наслаждений, какие испытывают родители, снова оживая в своих детях; она не скрепляет жизни приятными связями. Не обязавшиеся супружеством не находят себе утешения ни в народных собраниях, ни на пиршествах, но угрюмы, чужды для мира; родившись для жизни, не любят самого корня жизни, и в сердце у них нет единодушия с людьми» 197. Замечая потом об отношении супружеской любви собственно к добродетели, Супружество высказывает сначала общее положение, что «добродетель не чуждается этой любви» 198. Затем это общее положение подкрепляет и оправдывает вескими доводами знаменитых исторических примеров: «Плодом нежной супружеской любви были тайнозрители Христовых страданий – пророки, патриархи, иереи, победоносные цари, украшенные всякими добродетелями; потому что добрых не земля из себя породила, как это говорят о чудовищном племени исполинов, но все они – и продолжение, и слава супружества» 199. И вслед за этим перечисляет, в частности, «превосходных мужей» добродетели и благочестия через всю ветхозаветную историю, начиная с Еноха и кончая апостолом Павлом. Сильнейшим же доказательством в пользу супружеской любви выставляется то, что «Христос воплотился хотя в чистой, однако же в человеческой утробе, и родился от Жены обрученной, половину человеческого супружества приняв в единение с Богом» 200. Заканчивает свою речь Супружество советом девственникам прекратить спор, «потому что и вы, – говорит оно им, – мой род: если вы не отцы, то от отцов получили жизнь» 201.
Третья, и по намерению автора главная, часть стихотворения открывается речью главной героини его, Девства – лица, стоящего к Супружеству в ближайшем родственном отношении дочери к матери, но с противоположным мировоззрением, с противоположным характером, симпатиями и точкой зрения на предмет рассуждения. Девство выступает со смиренным видом, с потупленными в землю глазами, со стыдливостью в лице и начинает свою речь с выражения признания, что неохотно спускается оно с высоты своих «горних» сверхчувственных интересов и стремлений в суетную среду, против воли и характера своего решается занять кресло самозащиты. Но его побуждает к этому опасение, «чтобы кто из воспаривших и носящихся по эфирным пространствам на новооперившихся крылах девства, услышав рассуждения Супружества, не ринулся тотчас на землю» 202.
Соглашаясь с тем, что «супружество есть корень девственников», Девство возражает, что «человек бывает отцом не целого человека, а только плоти и крови – того, что в человеке худшего»; оно ссылается при этом на любовь самой матери своей – Супружества к своим детям, находя эту любовь неполной. «Ты любишь в детях не душу, – говорит оно матери, – а одно тело; сокрушаешься, когда тело изнемогает, и радуешься, когда оно цветет. Отец и досточтимая матерь больше болезнуют сердцем о неважных телесных недостатках в детях, чем о важных пороках и великих недостатках душевных, ибо телу они родители, а душе – нет. Если я и называю тебя матерью, то относительно только худшей части» 203. Относительно искусств, ремесел и «тщеславной мудрости, которая состоит в ловкости рук или в паутинных словах и тканях, сплетенных из рвущихся нитей и распадающихся в воздухе», Девство говорит, что «всему этому не супружество научило, но это малая часть первоначального наказания, какое постигло Адама; в этом прокрадывается злобный змий, стрегущий мою пяту» 204. В противовес знаменитым историческим примерам великих мужей добродетели, Девство выставляет на вид отрицательные примеры порочных и негодных людей, «для которых, – замечает оно Супружеству, – ты также составляешь корень» 205. Оно напоминает ему, в частности, о Каине, Фараоне, Ахаве, Ироде, Юлиане, вообще же – «о всех лжецах, человекоубийцах, коварных, клятвопреступниках, похитителях собственности ближнего, осквернителях чужого ложа, которых производило или производит еще на свет супружество» 206. Сознавая, однако ж, что такие отрицательные примеры – явления, во всяком случае, исключительные, от подобных которым не совсем может считать себя свободным и само Девство, оно старается дальше в самом принципе ниспровергнуть аргумент в пользу супружества, опирающийся на значении и важности деторождения. Оно находит, что искусство зачать и родить сына ниже всякого другого художества – живописи, например, ваяния и проч., и достойно сравнения разве с игрою в кости. «Кто из людей, – спрашивает оно, – прилагал свое старание о том, чтобы зачать наилучшего сына? И что за искусство – дать начало негодному сыну? Живописец с картины пишет другого не хуже подлинника; ваятель режет изваяния, подобные образцу; золотых дел мастер выделывает из золота, что ему угодно; земледелец от доброго семени пожинает добрый колос, и труд его достигает своей желанной цели. А родитель, ни худой, ни добрый, не знает свойств своего порождения, что из него выйдет. И добрый не поручится в том, что произведет лучшего. Иной, будучи Павлом, произведет на свет сына-христоубийцу – Анну или Каиафу, или даже какого-нибудь Иуду. А иной, сам весь во грехе, как Иуда, становится родителем божественного Павла или Петра. Отец и того не знает даже, родит ли он сына или дочь» 207 и пр. Дальше идут общие рассуждения о преимуществах девства пред брачной жизнью в отношении, например, чистой, всецелой, безраздельной любви к Богу, какой не знает и неспособно знать супружество, питающее низменные интересы и потребности. «Человек или, обладая всецело Христом, нерадит о жене, или, дав в себе место любви земной, забывает о Христе. Случалось видеть, – поясняет Девство, – как каменотесец или выделывающий что-нибудь из дерева, если он человек умный и рассудительный, когда надобно обсечь по прямой линии, закрывает один глаз ресницами, а другим напрягает все зрение, сосредоточенное в одном направлении, и верно определяет, где погрешило орудие. Так и любовь, безраздельно сосредоточенная, гораздо ближе поставляет нас ко Христу, Который любит любящего, видит обращающего к Нему взоры, видит и выходит в сретение приближающемуся. Чем более кто любит, тем чаще смотрит на любимого, и чем чаще смотрит, тем крепче любит» 208. Дальше о преимуществах в отношении независимости от чувственных страстей и простоты образа жизни: «У тебя, – говорит Девство, – стол обременен яствами, а меня насыщает небольшой кусок хлеба, каким великий Христос питал и тысячи в пустынях. У тебя искусством приготовленное питье, а мой напиток всегда обильно источают родники, реки и глубокие колодцы. У тебя лицо полное и одежды светлы, а мое убранство – нечесаные волосы и темная риза. Зато имею одежду, у которой бряцают золотые рясны, – это Христос, лучшее внутреннее украшение души моей. У тебя мягкое ложе, а мне постелью служат вретище, древесные ветви и земля, смоченная слезами. Ты неукротимее тельца, я потупляю в землю стыдливый взор. Ты надрываешься от смеха, у меня и улыбка никогда не являлась на щеках» 209. Наконец, Девство говорит о своих преимуществах в отношении свободы от различного рода домашних неприятностей и огорчений, трудностей и лишений, неизбежных в супружеской жизни. Но, отстаивая свои преимущества и защищая свои высшие интересы в духе чисто христианского воззрения на девственность, Девство в выводе своем приходит к заключению, что нельзя, безусловно, ни девство оправдывать, ни супружество обвинять. «Снег, – говорит оно, – приличен зиме, а цветы – весенней поре, седина – морщинам, а сила – юношеским летам. Однако же и цветы бывают зимой, и снег показывается в весенние дни, и юность производит седины, а случалось видеть и бодрую старость, и старика гораздо с большими силами, нежели едва расцветающего юношу. Так, хотя супружество имеет земное начало, а безбрачная жизнь уневещивает Всецарю Христу, однако же бывает, что и девство низлагает на тяжелую землю, и супружеская жизнь приводит к небу. А потому, если бы стали винить один – супружество, а другой – девство, то оба сказали бы неправду» (ст. 700–710).
Заканчивает свою речь Девство воззванием к родителям, к безбрачным юношам и девам, «отринув красоту, славу, богатство, род, счастие и все обольстительные порождения гибельного греха, воздвигнуться отселе, взойти в легкую жизнь, очиститься, стать единодушными с чистыми небесными силами, чтобы, вступив в сонм предстоящих великому Богу, с веселием воспеть праздничный гимн Богу!»210
«Судьи, – говорит поэт, – хотя и привязаны были больше к супружеской жизни, однако ж венчают главу Девства» 211.
Мы изложили содержание этой поэмы, быть может, с большей последовательностью и подробностью, чем какой заслуживает она по своим литературным достоинствам. Но мы руководились при этом не новейшими взглядами на достоинства поэтического произведения, а литературными вкусами современников поэта. Страсть к риторике, какой заражено было время поэта, нашла себе довольно типическое выражение в этом произведении, написанном, к тому же, на живую, крайне современную в IV христианском веке, проникнутом аскетическими идеалами, и увлекательную тему о превосходстве девства пред супружеством. По словам Гренье, «эта поэма составляла в глазах современников главное имя святого Григория»212. Хотя клермонский профессор риторики и не сопровождает этого замечания в своей монографии какими-нибудь документальными историческими данными, кроме своих похвальных предиктов: «C'est une belle oeuvre… la plus importante et la plus célebre» 213, тем не менее в вышеприведенных словах его, нам думается, мало невероятного. Стоит только припомнить, как падки всегда были греки ко всяким спорам и диспутам, какой популярной и излюбленной формой в греческой литературе была занимательная форма параболического диалога вообще и какое сочувствие, похвалы и широкое подражание, как у языческих, так и христианских писателей вызвала, в частности, известная аллегория «Выбора Геракла» между «Добродетелью» и «Порочностью», сочиненная софистом Продиком и сохранившаяся в «Достопамятностях» (" Απομνημονεύματα«) Ксенофонта. Привлекательная и общедоступная форма аллегорического изображения, подобная этому рассказу Продика о Геракле на распутье, как нельзя более подходила к нравственно-дидактическим целям христианской литературы первых веков, имевшей дело с жизнью «на распутье» между язычеством и христианством. В этом обстоятельстве, нам кажется, и нужно искать объяснения сочувствия христианских писателей названному сочинению Продика о пороке и добродетели и тем более – успеха в среде христианских читателей IV века рассматриваемой поэмы святого отца о превосходстве девства пред супружеством. Эта поэма в своем изложении обнаруживает весьма заметное влияние аллегорического рассказа Продика, как и различных вариаций его вроде, например, знаменитого прения между «Речью Правой» и «Речью Неправой» в «Облаках» Аристофана, где поэт восторженно описывает старинное воспитание и величие древней аттической жизни, протекавшей посреди нравственной чистоты и красоты.
Нельзя сказать, чтобы рассматриваемая поэма совсем не имела ценности в поэтическом отношении. В местах наибольшего подъема воодушевления из глубины души поэта выливаются звуки чистой, истинной поэзии.
«Сними с глаз твоих этот нечистый гной, окутывающий их непроницаемым туманом, дай свободу доступа им к свету, подними открытый взор свой к радиусам нашего солнца, созерцай все чистой душой, и ты увидишь его – это девство, это приношение наше Богу, которое ярче золота, блистательнее илектра, чище и светлее слоновой кости» 214.
В этих строфах нельзя не видеть искренности поэтического вдохновения, возвышающегося над холодной изобретательностью ученого ритора. В характеристике привычек, склонностей и привязанностей каждой из двух героинь стихотворения, в описании их образа жизни есть немало трогательных и сильно набросанных картин. Например, изображение превратностей судьбы и непостоянства счастья в супружеской жизни, неожиданных, но тем более убийственных для взаимного благополучия супругов потерь и связанных с ними скорбей и страданий. «Тяжкая доля не щадит иногда и самых счастливых моментов в супружестве – моментов новобрачных. Ныне жених, а завтра мертвец ныне брачное ложе, а завтра гроб: скорби перемешаны с радостями; веселая песнь неожиданно оказывается. лебединой песнью. Одним воспламенен брачный светильник, а другим уже погашен. Одного малютка стал называть отцом, а другой – осиротел внезапно, как ветвь, обитая ветром. Сперва девица, потом супруга, а потом вдова; и все это – иногда в одну ночь и в один день. Срывает с себя локоны( πλοκάμους), отбрасывает далеко невестин наряд, нежными руками терзает свои щеки, в горьких страданиях забывает девический стыд, зовет несчастного супруга, оплакивает опустевший дом и жребий вдовства и безвременное горе» 215.
Стихотворения под заглавием «Советы девственникам» («"Yπο θήκαι παρθενοις») и «К девам» (« Προ ς παρθένους παραινετικός»), состоящие – первое из 689, а второе из 100 стихов и следующие непосредственно за поэмой «Похвала девству», можно рассматривать как продолжение этой последней. Они относятся к этой поэме как подробный, покоящийся на долголетнем жизненном опыте христианско-этический комментарий к общим теоретическим рассуждениям по вопросам христианской аскетики и морали. Связью между названными стихотворениями и вышеизложенной поэмой служат первые пять стихов стихотворения «Советы девственникам». В этих стихах поэт, объявляя результатом прения, составляющего предмет содержания предыдущей поэмы, победу Девства над Супружеством и выражая свое полное сочувствие воззрениям первого, тем не менее находит не лишним предложить в руководство Девству и со своей стороны несколько житейских советов. «Самый лучший совет, – говорит он, – тот, который подает седина» 216. Эти советы «седины» по своей общей нравственно-дидактической цели направлены к трезвому и зрелому практическому разъяснению условий, при которых на самом деле могут оправдываться те соображения о высокой важности и преимуществах девственной жизни пред супружеской, какие устами олицетворения той и другой высказаны в поэме «Похвала девству» далеко не беспристрастно с каждой стороны. На самом деле – «сколько девство предпочтительнее супружества, столько непорочный брак предпочтительнее сомнительного девства» 217. Отсюда вытекает у поэта частная задача: «Держа ровно весы, произнести равный суд над девственниками и над живущими в супружестве» 218. По самому существу этой задачи поэт вынуждается опять к тому же приему изложения мысли путем параллели между девством и супружеством, какой в аллегорической форме проведен в вышеизложенной поэме. Таким образом, и в этом стихотворении поэт дает в своих советах больше, чем сколько обещает заглавие стихотворения.
Не ограничивая своих внушений и «добрых» советов лицами только девственников и супругов, поэт обращается с ними и «к родителям, родственникам и целомудренным попечительницам, в руках у которых жизнь, позор и добрая слава девиц» 219. Он старается провести в сознание этих лиц идею святости и неприкосновенности права человеческого сердца, права девственной чистоты и равно личной, свободной любви как основания и залога семейного благополучия и счастия. Он убеждает родителей стараться хорошенько узнать стремления, наклонности и волю дочери, прежде чем решать и предрешать судьбу ее. «Когда девица достигла совершенных лет, чтобы вступить в брак или исполнить целомудренное намерение, – внушает поэт родителям, – не удаляйте от замужества вашу дочь, желающую иметь мужа, и не вводите насильно в дом к мужу стремящуюся к Богу» 220. «Никто не должен против воли вести девицу к брачному ложу, когда она отдала свое сердце Небесному Жениху, как не должно полипа совлекать с его каменного ложа или певчую птицу выгонять из устроенного ею гнезда» 221. Советы девственникам даются в тоне теплых, искренних и любвеобильных отеческих наставлений.
«Я заповедую девству, – говорит поэт, – как кротко советующий( ήπιόμητις) и сердечно любящий (εχ θνμοΰ φιλέων) отец; а вы, чада – и дщери и сыны, послушайте любимого отца. И если я что- нибудь значу у Бога, то не презрите (άτ ι"σητε) советов отца, подобно детям Илиевым. Не делайте этого, чада, чтобы и вас не постигло одинаковое с ними наказание» 222. Источниками этих советов, касающихся подробнейших правил христианско-аскетического поведения девственников как в отношении к себе самим, так и к другим людям, служат поэту: а) личный житейский опыт (приблизительно – для двух третей всех советов стихотворения); б) ветхозаветная история (ст. 152–207); в) природа (ст. 534–618) и г) искусство человека (ст. 619–541). В опыте жизни своей, на котором основана большая часть «Советов девственникам», святой наставник выказывает такую глубокую, многостороннюю наблюдательность, что с позволения ее может судить, например, о легкомыслии и ветренности человека даже по характеру движения его ног и «в самой походке усматривать нечто блудническое ( πορνον)» 223 Некоторые из советов святого отца касаются современной ему практики в среде девственников, против которой он со всей силой своего природного обличительного дарования вооружается в своих эпиграммах. Он убеждает девственницу «не принимать в сотрудники домашней жизни мужчину, хотя бы он был чище золота и тверже адаманта, но все же он – горькая вода из Мерры»224.
По композиции и форме изложения «Советы девственникам» представляют довольно близкое сходство с советами Гесиода своему Персию. Подобно этим, советы Григория имеют в общем гномический характер и в изобразительности своего языка и стиля они разделяют достоинства и недостатки гномических стихотворений. Есть много отдельных выражений и изображений, которые своей естественностью и живостью возвышаются до силы и простоты пословичных изречений. Есть очень удачные метафоры, сравнения и противоположения. «Очи твои, – обращается, например, поэт к деве, – храни целомудренными в брачных чертогах, то есть в веждях твоих»; «Уста держи заключенными, подобно нераскрывшимся чашечкам цветка, чтобы слово твое оставалось предметом желаний» 225; «Добродетель всегда окружена бедствиями, как роза ненавистными и колючими шипами» 226. Внушая девственнику избегать злонамеренного советника, поэт говорит: «Ныне он свет, а после окажется тьмою. Снаружи медь, а внутри смерть. Привлекает сладостью и губит скрытым ядом»227. Местами, однако ж, увлекаясь своим любимым оборотом сравнения, поэт забывает, по-видимому, свои же собственные слова 228, в которых он признается в своем обычае – соразмерять объем стихов с потребностью выражаемой в них мысли и таким образом подчинять форму выражения внутреннему содержанию ее. Давая, например, простой совет – хранить сердце чистым от чувственных пожеланий, обставляет одну эту мысль целой коллекцией сравнений. «А не сохраняет его тот, кто дал в себе место хоть тонкому корню порока; от этого корня раскинется туда и сюда множество ветвистых стеблей. От нескольких капель кровавой влаги сседается молоко в большом сосуде. Один камень, упав на поверхность стоячей воды, мутит вдруг прекрасный источник; множество кругов, непрестанно образуясь в одной точке, рассеваются по воде и исчезают на окружности. От удара в одном месте все тело вокруг пухнет и чувствует боль. Немного вкушено, и стал я мертв, потому что за вкушением последовали грехи, как за одним храбрецом чрез неприятельскую стену идет все войско. Невелика рана, наносимая аспидом, но она мгновенно погружает в предсмертный сон, и самая гибель бывает приятна для умирающих»229. Гораздо больше жизни, искренности вдохновения и поэзии в заключительных советах и благожеланиях святого Григория Богослова девству, где поэт внушает ему, чтобы оно, «отовсюду оградившись и хорошо утвердившись в Боге, стало совершенной жемчужиной между камнями, зарницей между звездами, голубицей между пернатыми, маслиной между деревьями, лилией в полях, благоотишием в море. Возвысившись над чувственным миром, ты стань, дева, – с возрастающим одушевлением обращается к ней поэт, – подле светозарного Христа и, взявшись рука в руку, введи Его в свой брачный чертог, исполненный утех, веющий сладостями и благоуханиями; к небесным мирам примешай твое собственное миро, с невыразимой любовью слей свою любовь, к светозарной красоте присоедини свою красоту, чтобы Христос обратился со своей нежной любовью к твоему славному образу, чтобы Христос стал женихом твоим, чтобы Христос, открыв покрывало, с радостью увидел достойную по красоте невесту, которая украшена драгоценнейшими жемчужинами, сидит на богато убранном троне, с внушительной, благородной осанкой, – чтобы столь прекрасную и величественную Он сделал еще более привлекательной, чтобы Христос ввел тебя в Свои обители исполненной радости, предложил тебе брачный пир среди величественных хоров, при небесных песнопениях, увенчал твою главу живыми, вечно неувядающими цветами радости, поставил пред тобою чашу ароматического напитка, показал тебе тайны премудрости, отражающиеся здесь только как в зеркале, и открыл истинный свет твоему чистому уму» 230.
С поэмой «Похвала девству» весьма сходна и по сюжету, и по основному мотиву, и по плану, и отчасти по форме изложения поэма под заглавием «Спор жизни духовной с жизнью мирской» [№ 8. «Сравнение жизни духовной и жизни мирской"] ( Σύγκρισις Βι᾿ ων). И здесь, как и там, в изложении предмета поэт употребляет те же приемы и тот же вид драматизации, выводя на сцену трех действующих лиц: две спорящие стороны и посредника, решающего их спор. Все содержание пьесы можно разделить на три части: а) вступление (ст. 1–5), в котором спорящие лица обращаются к стороннему человеку с просьбой «рассудить» (κρι᾿ νειν) их; б) самое прение (ст. 6–244) и в) объявление приговора судьею (ст. 245–255). Начинает речь и здесь, как и в поэме «Похвала девству», лицо, представляющее в олицетворении идею, противоположную симпатиям и идеалу поэта, а оканчивает с торжеством победы так же, как и там, просопопея собственных чувств и стремлений его. При сходстве идей сближаемых пьес одинаковы и приемы для выражения их. Каждая из героинь поэмы, стараясь расположить мнение судьи в свою пользу, выставляет на вид, в качестве аргументов, преимущества и выгоды свои в противовес подобным же осязательным доводам противной стороны. Характерно при этом по отношению к времени поэта то обстоятельство, что он выводит в поэме «Мирскую жизнь» под видом личности знатного, аристократического происхождения (ст. 41), наделяет ее огромным богатством (ст. 46–48), дозволяющим ей роскошные лакомства (ст. 96), дорогие духи, вокально-инструментальные наслаждения, танцы и рукоплескания (ст. 99–101). Нельзя допустить в данном случае фальши художнической кисти поэта, изобразившей олицетворение мирской жизни в чертах, по-видимому, не в меру рельефно сгруппированных и не в меру ярко отцвеченных. Слова нет, что тут – не без преувеличения, но – преувеличения не только уместного, но и вполне, можно сказать, естественного, допускаемого и оправдываемого законами художественно-поэтического творчества. «Poёtis omnia licet» – позволительно и брать часть вместо целого, когда эта часть, относительно идеи поэта, представляется наиболее характерной, типической. Поэт не выдумывает здесь чего-либо из фантазии и не противоречит здесь ни себе самому, ни современной ему действительности. И в гномических стихотворениях своих, как уже видели мы, и в сатирических поэмах, о которых речь будет ниже, и в проповедях он изображает мирскую жизнь в замечательном разладе с христианскими началами и добродетелью. Та же страсть к богатству, к аристократизму, те же изысканные формы роскоши, те же утонченные виды наслаждений. Эти рельефные черты поэмы, следовательно, напрашивались сами собой на внимание поэта из окружающей его обстановки, как самые выразительные приметы физиономии ее; эти густые краски брались из живой, наличной действительности, отображали преобладающие элементы ее, характеризовали дух и направление времени.
Роскошь – всегда и везде обычная сфера богатых; но элементы ее, но проявления и формы ее, в связи с социально-историческими условиями жизни и степенью интеллектуальной культуры, неодинаковы не только у разных народов, но и в различные моменты исторической жизни одного и того же народа. В рассматриваемой поэме поэт и сконцентрировал именно эти элементы богатства и роскоши в одну картину, представляющую мирскую жизнь в следующем виде. «Золото, дорогие камни, всевозможные украшения, разноцветные одежды, блистающие пурпуром, живописные изображения на стенах, на потолках и на камнях, которыми выстланы полы; серебро, частью скрытое в недрах земли – справедливо заключенное в тех же гробах, откуда оно взято, а частью выставленное напоказ и блистающее на пирах; кони, ковры, колесницы, колесничники, псы, ловчие, отыскиватели звериных следов; все наслаждения для злого господина – чрева, все угодное для гортани, со всего собирающей дань; постельники, придверники, докладчики, усыпители, цветоносцы, окропляющие ароматами, вытирающие тарелки, отведывающие кушанье, производящие тень, наблюдающие мановения( νευμάτων επίσκοποι); банщики, пробующие горячую воду концами перстов, остриженные по-женски, – эта услада глаз – вот принадлежности, вот обстановка и сфера богача» 231.
Таким образом, хотя на сцену выводятся в поэме типы двух жизней – «мирской» и «духовной», но, в сущности, дело сводится опять, собственно, к спору между «Пороком» и «Добродетелью». По крайней мере, в том впечатлении, какое выносишь из чтения поэмы, как-то невольно смешиваются одно с другим или, вернее, одно вместо другого, как синонимы, понятия «жизнь порочная» вместо «жизнь мирская» и «жизнь добродетельная» вместо «жизнь духовная». Сам поэт положительно дает повод к такому смешению, влагая в уста «Духовной жизни» следующие, например, слова, обращенные к «Мирской жизни»: «Ничто не кажется тебе страшным; ты не боишься и самых великих пороков, потому что роскошная жизнь препятствует тебе судить здраво» 232. С литературной, собственно, точки зрения поэма эта несомненно принадлежит к числу весьма колоритных произведений. Искреннее воодушевление поэта идеей пьесы весьма заметно и выгодно отобразилось и в самом стиле ее. Интерес и занимательность ее поддерживаются еще сатирическим элементом, тонким, чисто национальным греческим юмором, проникающим по местам в речь «Духовной жизни»; развивая, например, замечательную мысль, что бедность предпочтительнее богатства в гигиеническом отношении, «Духовная жизнь» иронизирует: «И Бог, уравнивая дары Свои, бедным дал крепость сил, а богатым – лекарства. Богатые не находят удовольствия и в том, чем обладают; часто ищут, кому бы передать по наследству свое бремя, завидуют здоровым, которые беднее их. Чем же, собственно, богаты эти злополучные счастливцы? Опухоли, простуды, подагры, ревматизмы, отяжеление, бледность, расслабление – вот достояние богатых, вот выгодная нажива их!»233
Язык поэмы сжат, силен, точен, ровен и близок к простоте и красоте безыскусственной народной поэзии; вместо ловко подобранных риторических орнаментов, чем порой погрешает поэт в дидактических стихотворениях, он употребляет здесь простые, но меткие и характерные народные присловия и поговорки, выражающие практические истины житейского опыта. К таким выражениям и оборотам, сильным, в особенности, в подлинном языке, относятся, например, следующие: «Волос и изблизи пересечь стрелой нелегко» (ст. 87); «Ночь полагает конец дню, а день – ночи: радость сменяется скорбью, а бедствие оканчивается чем-нибудь приятным» (ст. 178–179); «Одна ласточка не приносит прекрасной весны, а один седой волос – старости» (ст. 242–243) и т. п. Наконец, самая форма изложения поэмы – поэтический диалог, показывающая необыкновенную гибкость таланта поэта, живо напоминает композицию одного из совершеннейших произведений классической греческой поэзии – драматической пьесы Эсхила «Скованный Прометей». « Κόσμος» [ «Мир»] "Πνευ᾿ μα«[ «Дух«], олицетворяющие олицетворяющие отвлеченные понятия и являющиеся в качестве действующих лиц на сцене в» Σύγκρισις Βίων« Григория, представляют близкую аналогию с" Βία» и «Κράτος» Эсхилова Прометея.
К одной же категории с рассмотренными образцами, но только скорее по предметам содержания, чем по художественно-литературным достоинствам следует отнести и следующие мелкие стихотворения: «К деве» (№ 4); «К монахам» (№ 5); два стихотворения «На целомудрие» [и «О чистоте»] (№ 6 и 7) и «Увещевательное послание к Геллению о монахах» (№ 1; кн. II, разд. II).
Переходя затем к морально-дидактическим стихотворениям второй категории, мы встречаемся здесь с превосходным поэтическим произведением под заглавием « Περί Αρετής» [№ 10. «О добродетели«]. По содержанию своему оно распадается на две неравные части; в первой (ст. 1–107), обнимающей две трети стихотворения, поэт старается выяснить понятие добродетели, определить или скорее изобразить природу ее, показать ее сущность, уловить, так сказать, жизненный нерв ее, указать ее глубочайшие мотивы и ее сферу. Поэт достигает этой цели путем беспристрастного и откровенного психологического анализа своего сердца в его самых глубоких и далеко не всякому самонаблюдению доступных движениях и побуждениях. Во второй половине (ст. 108–156) он, сообразно своим выводам о существе и условиях добродетели, дает христианину гномические советы и наставления. В частности, прямо с первых стихов поэмы автор старается определить «αρετή» [ «добродетель»]; побуждения к этому у него так же сильны, как сильны мучения неудовлетворенного желания: горячо любя добродетель, он не знает – что она такое? Он сравнил бы ее с «чистым потоком», но в таком разе остается безответным вопрос – «Кто же когда видал и находил ее на земле?» Никто ведь не может похвалиться сердечной чистотой. Если же она «не совершенно сребристый поток», а допускает в себя и мутные элементы, представляя собой нестройную смесь, – то что же она за добродетель?» «Снег по природе холоден и бел, а огонь – красноват и тепел. И они несоединимы между собой, а соединенные насильно, скорее разрушаются, нежели входят в соединение». Как же с добродетелью вяжется позор, с чистотою – грязь, с лучшим – худшее? Поэту известно о прекрасной реке Алфее, что она протекает чрез горькое море, а сладкие воды ее между тем нимало не терпят от этого вреда. «Но как для воздуха порча – туман, для организма – болезнь, так для добродетели – наш греховный мрак» (ст. 1–25). Однако, как ни трудно воспринять умом добродетель в соединении с грехом, – действительность тем не менее не представляет добродетели в чистом виде, без примеси «мутных элементов». Собственный личный опыт жизни поэта – самое лучшее и убедительнейшее доказательство, что на земле роковым образом неразлучны добро со злом, добродетель с препятствиями к добродетели. «Часто заносил я ногу, – признается поэт, – чтобы идти к небу, но какой-то гнет, сдавливающий сердце, тянул меня книзу. Нередко озарял меня пречистый свет Божества, но вдруг становилось предо мною угрюмое облако, закрывало великое сияние и снова омрачало дух мой, потерявший блеснувшие лучи отрадной надежды. Напрасно я томился во мраке и тоскливо порывался к свету: в какой мере я стремился к нему, в такой же он убегал от меня. Что значит эта постоянная неудача лучших стремлений человека, эта неосуществимость жгучих желаний его чистого сердца, эта неисповедимость путей Провидения?» (ст. 26–32). Почти полторы тысячи лет спустя эти тревожные вопросы с буквальной точностью выражения воскресли под пером двух новейших поэтических гениев: Байрона – в его глубокой мистерии «Каин», и друга его Шелли – в его увлекательной драматической поэме «Освобожденный Прометей». Последняя, в особенности, невольно напрашивается на аналогическое сближение с рассматриваемой поэмой святого отца. В лице Прометея Шелли человечество представлено постоянно встречающим преграды и помехи всем своим желаниям и добрым стремлениям со стороны какой-то тиранически жестокой высшей силы. Поэт-богослов только смотрит на эту высшую силу с чисто христианской точки зрения и этим бесконечно возвышается как над мрачным скептицизмом Байрона, так и над пантеизмом Шелли. Он олицетворяет эту силу в вечном враге человеческом рода – владыке ада. «Как хитрый зверь, – говорит он дальше, – закрывает одни следы другими, так часто враг затмевал во мне способность различать доброе и злое, чтобы этой хитростью ввести в заблуждение ловца добродетели» (ст. 35–36). С этой точки зрения нам понятна следующая душевная исповедь поэта, в горячем лирическом стихе изображающая этот мучительный и непрепобедимый дуализм во внутренней личности поэта. «Бог и страсти, время и вечность разделяют мою душу меж собою. Одно предписывает мне плоть, другое – заповедь; одно – Бог, другое – завистник; одно время, другое вечность. А я делаю, что ненавижу, услаждаюсь злом и злорадным смехом смеюсь ужасной участи: для меня и гибель приятна. То я низок, то опять превыспрен. Сегодня я возмущаюсь дерзостью, а завтра я сам нагл. Как непостоянно время, так меняюсь и я, и подобно полипу, принимаю на себя цвет камней. Горячие проливаю слезы, но слезы эти – сами по себе, а грех – своим чередом. По плоти я девственник, но не знаю ясно, девственник ли я в сердце. Стыд потупляет глаза, а ум бесстыдно поднимает их вверх. Зорок я на чужие грехи, но близорук к своим. На словах я небесен, а сердцем родной сын земли. Спокоен я и тих; но едва подует хоть легкий ветер, вздымаюсь бурными волнами, которые не прекращаются, пока не наступит опять тишина» (ст. 37–45, 48–55). Этот высокий лирический порыв самосознания разрешается у поэта не в какое-либо пессимистическое отвращение к миру, разочарование жизнью и отчаяние в себе, а в тихое, спокойное сознание человеческой слабости пред Богом и благоговейное чувство преданности Его Провидению, Его воле, Его милосердию. «Долга моя жизнь, – тут же признается поэт, – а не хотелось бы расстаться с нею» (ст. 6465). Человек бессилен пред Всевышним, но от человека и не требуется в деле спасения непосильного для него; к «величественной, но трудно достигаемой ( ίπίμοχθον) цели», предназначенной ему Создателем, он может и должен стремиться по мере своих человеческих сил и возможности. «И тот из нас совершеннейший, кто среди многих зол носит в себе немногие кумиры греха, кто, при помощи великого Бога, храня в сердце пламенную любовь к добродетели, поспешает на высоту, а грех гонит от себя прочь, подобно тому как ток реки, влившейся в другую быструю и мутную и неукротимую реку, хотя и смешивается с нею, однако же превосходством своей чистоты закрывает грязный ее ток» (ст. 74–80).
Таким образом, поэт самим ходом поэмы, простым, естественным и последовательным, подошел к определению добродетели.
«Добродетель – ή μούνη καθαρω καθαρόν θϋος [ «чистому – чистая жертва"] – не дар только великого Бога, потому что нужно и стремление человека. Она не плод только человеческого сердца, потому что потребна превосходнейшая сила» (ст. 87, 90–92). В добродетели, следовательно, участвуют, по христианскому поэту, три фактора: а) предрасположение, или восприимчивость человека к добру ( δεκτός καλού), с какой сотворен он Своим Создателем; б) собственное активное побуждение, или стремление( μενοινη), к ней человека, и в) высшая Божественная сила или содействие( αλκή, κάρτος) для нее. В живом сознании необходимости для добродетели этой последней силы поэт находит лично для себя глубокий источник отраднейшего утешения, энергии и вдохновения. «Я не очень легок на ногу, но не без надежды на награду( ουκ αγέραστος) напрягаю свои мышцы по пути добродетели, потому что Христос – мое дыхание, моя сила, мое чудное богатство. А без Него все мы – жалкие игралища суеты, живые мертвецы, смердящие грехами. Ты не видывал, чтобы птица летала, где нет воздуха, чтобы дельфин плавал, где нет воды; так и человек без Христа не заносит вверх ноги» (ст. 99–107).
Дальше следует собственно прагматическо-дидактическая часть стихотворения, излагающая в гномической форме наставления в духе тех воззрений на добродетель, какие изложены в предыдущей части поэмы. Поэт предостерегает христианина от гордости и самонадеянности, причем высказывает мысль, на которой основана мораль гениальнейшего литературного произведения классической Греции – трагедии Софокла «Эдип-царь». «Никто не может считать себя счастливым, прежде чем не перешел он границы жизни» (заключительные слова хора в трагедии «Эдип-царь»). «Тот не достиг еще цели, – слова поэта-богослова, – кто не увидел предела своего пути» (ст. 112). С особенной настойчивостью поэт внушает христианину правило, которое он чаще всего рекомендует и в других дидактических стихотворениях своих, а именно: жить умеренно 234 «Знать меру своей жизни» ( μετρ Ιδμεναι ης βιοτήτος) он считает «признаком целомудрия» (ст. 117). «Равно для тебя худо, – убеждает поэт, – и отложить благую надежду, и возыметь слишком смелую мысль, что нетрудно быть совершенным. В том и другом случае твой ум стоит на худой дороге. Всегда старайся, чтобы стрела твоя попадала в самую цель, смотри, чтобы не залететь тебе дальше заповеди великого Христа; остерегайся и не вполне исполнить заповедь; в обоих случаях цель не достигнута» (ст. 118–123).
Подробным анализом этого стихотворения мы старались познакомить читателя, разумеется, только с содержанием его, но мы не могли показать из него высоких литературных достоинств этой поэмы как произведения истинно поэтического. Впечатление это может быть только плодом цельного и непосредственного чтения самой пьесы. Предметом ее служит вопрос, сам по себе по видимому отвлеченный, сухой и холодный, именно нравственно-богословский вопрос о добродетели; но, несмотря на это, поэт сумел сообщить своему изложению этого предмета жизнь, силу и поэтическую образность. Этой силой и жизнью проникнут в особенности субъективный элемент поэмы, раскрывающий душу поэта и необыкновенно наглядно и живописно изображающий, так сказать, приливы и отливы в сфере ее внутренних религиозных ощущений. С внутренними достоинствами поэмы прекрасно гармонируют и художественность внешней обработки его, гибкость и музыка языка, звучность и плавность стиха, строгая выдержанность гекзаметрического ритма.
К группе однородных с рассмотренной поэмой морально-дидактических стихотворений, в которых поэт дает или друзьям своим, или другим людям в различных родах жизни различные нравственные наставления и полезные советы, нужно отнести следующие: «Разговор с миром» ( Προ ς κόσμον διαλογισμός)235 «Блаженство и определения духовной жизни»( Διαφόρων βίων μακαρισμοί) 236; «Пристрастие» ( Περί πόθου)237; «Смерть любезных» (Περί θανάτου φιλουμένων) 238; «На тех, которые часто клянутся» (Προς πολυόρκους διάλογος) 239; два стихотворения под заглавием «Недобрые друзья» (Περί φίλων των μή καλών) 240; два стихотворения под заглавием «На любо мудрую нищету»( Εις πζν᾿ιαν φιλοσοφον) 241; стихотворения под заглавием «На терпение»( Εις την υπομονην)242; четырехстишие с надписью: «Счастие и благоразумие»( Εις τύχην και φρόνησιν) 243; «К Юлиану» (Προς " Ιουλιανον) 244; «К Виталиану от сыновей» (Προς Βιταλιανον παρά τών υιών) 245 «От Никовула-сына к отцу»( Παρά Νικοβούλου προς τον πατέρα) 246;"От Никовула-отца к сыну»( Νικοβούλου προς τον υιον) 247 и «Советы Олимпиаде»( Παρα ινετικον προς ᾿Ολυμπιάδα) 248.
Эти стихотворения могут быть оцениваемы с различных точек зрения, но меньше всего – с практической. Объединяющим признаком служит их практическо-дидактический элемент. Но как по содержанию, так и по своим литературным формам они очень разнообразны. Первое, то есть содержание, определяется более или менее их заглавиями. В последнем же отношении стихотворения эти довольно замечательны. Здесь мы встречаемся не только со всеми тремя формами стилистического изложения: монологической, диалогической и эпистолярной, но и с различными вариациями их. Так, в диалогическом изложении мы встречаемся и с сократическим методом диалогов Платона (в стихотворении «На тех, которые часто клянутся»), и с формой Эзоповой басни. Желая, например, внушить читателю предпочитать благоразумие счастью (в стихотворении «Счастие и благоразумие») поэт говорит: «Один златолюбец где-то сказал: «Желаю тебе лучше каплю счастия, нежели бочку ума». Но мудрец возразил ему: «Для меня лучше капля ума, нежели море счастья"». Монологические стихотворения этой серии отличаются краткостью и сжатостью, достигающими иногда степени силы, простоты и ясности выражения классического лаконизма. Например, стихотворение под заглавием «Недобрые друзья»: «Тяжело сносить огорчение. А если оскорбляет друг – это низко. Если он угрызает тайно – это звероподобно. А если это жена с длинным языком – то живешь в одном доме с бесом. Если судья – то нужны гром и молния. А ежели – священнослужитель, тогда Ты, о Христе, выслушай и разсуди прю (Пс. 42:1)» 249. Или другое, под заглавием «Пристрастие»: «Всякое пристрастие опасно. Пристрастие к любимому – двойная опасность. Пристрастие к молодой девице – тройное жало. Если же она красива – это еще большее зло. А если представляется возможность жениться на ней – то самая внутренность сердца стала пищею огня». В одном из своих писем к ближайшему другу и родственнику своему, Никовулу, святой отец объясняет ему, что значит писать лаконически. «Это значит, – говорит он, – не просто написать немного слогов, но в немногих словах заключить многое. В этом смысле Гомера я называю самым кратким писателем, а Антимаха – многословным. А почему? Потому что о длине речи сужу по содержанию, а не по числу букв» 250. К этим словам хорошо идут, как примеры к правилам, только что приведенные нами собственные стихотворения поэта. В эпистолярной форме изложены последние пять дидактических поэм в порядке вышепоименованных нами стихотворений рассматриваемой группы. Из этих поэм заметнее других по своим внутренним достоинствам выделяются последние три: «От Никовула-сына к отцу», «От Никовула-отца к сыну» и «Советы Олимпиаде». Стоит поговорить о каждом из этих стихотворений отдельно.
Никовул старший, к которому поэт от имени сына его адресует это довольно длинное (в 208 гекзаметров) стихотворение, приходился племянником святому Григорию Богослову, именно был женат на Алипиане, дочери сестры святого Григория, Горгонии251. Как видно из обширной переписки Григория как с ним самим, Никовулом, так и со многими друзьями своими о нем или по поводу его 252, это был человек превосходных качеств. По крайней мере, святой Григорий ревностно старался защитить его, когда он замешан был в деле возмутившихся рабов, и написал поэтому целый ряд рекомендательных писем о нем к разным более или менее влиятельным лицам 253. В сыне его, даровитом 254 юноше Никовуле, Григорий принимал участие, по собственному признанию его, «преимущественно пред всеми своими родными» 255. Больше всего, разумеется, интересовался он и был озабочен умственным образованием «прекрасного»256 Никовула. Об этом искреннем, дружески заботливом участии святой отец засвидетельствовал в своих рекомендательных письмах к различным наставникам и воспитателям младшего Никовула; этому же теплому участию мы обязаны и остановившим наше внимание стихотворением поэта. Оно написано им от имени юноши с целью исходатайствовать ему от родителей дозволение отправиться в Грецию для поступления в одно из высших учебных заведений. Стихотворение начинается несколько неожиданно (ex abrupto) ничем не вызванным и незаслуженным со стороны родителей оскорблением их попреком юноши, который можно формулировать в следующем кратком положении: актом рождения и даже воспитания родители как родители, не приобретают еще себе права на особенную сравнительно с животными любовь и уважение к себе; рождение – невеликое благодеяние (χάρις) для детей, которых отец с матерью, рождая, не спрашивают, желают ли они этого или нет. Не выделяя себя, таким образом, по связям кровного родства и близости к родителям из общего закона «сладостной необходимости» ( γλυκερής ανάγκης), безразлично и безысключительно обязательного для всех животных, Никовул, «как человек, желал бы иметь что-нибудь лишнее( τι περισσον) перед ними» (ст. 37–38). Он не желает ни золота, ни серебра, ни шелковых тканей, ни блеска драгоценных камней, ни большого участка плодородной земли, волнующейся нивами подобно равнинам Египта, ни множества рабов, ни четвероногих. Взамен всего этого он желает одного, именно " μΰθων κράτος« – быть сильным в слове. В этих двух словах Никовул, можно сказать, резюмировал задачи и цель современной ему системы образования, коренившиеся, очевидно, в живых еще традициях, унаследованных от лучших времен из истории языческой Греции. В цикле наук тогдашнего высшего образования, о котором мечтал и к которому стремился подобно Никовулу всякий способный юноша, желавший играть видную роль в обществе, центральным предметом изучения было красноречие, вокруг которого группировались прочие дисциплины, имевшие в отношении к нему более или менее служебное, вспомогательное значение. Этот цикл наук, соответствовавший, в известной мере, нашему словесному или историко-филологическому факультету, и излагает здесь Никовул с пристрастным увлечением, начиная с царицы наук – красноречия. Он восхваляет «пламенную силу( πυρόεν μένος) красноречия» в трех его видах: в речах народных, судебных и похвальных. За красноречием он ставит историю, «потому что история – складчина мудрости( συμφερτή σοφ᾿ιη), ум многих»( πολλών νοος, ст. 62). Дальше – грамматику( γραμματική), «которая превосходно споспешествует благородному языку Эллады, сглаживая слово и умягчая варварские звуки» (ст. 63–64). Затем – " λογικής τέχνης τάπαλαίσματα«, приемы логического искусства, «которые закрывают сперва истину, пока чрез возможное превращение понятия не поставят ее в полном свете» (ст. 65–66). Потом – этику, «посредством которой усовершившиеся мужи образуют в человеке добрые нравы, как творог, который принимает вид плетеного сосуда» (ст. 67–68). Наконец – физику и метафизику. Однако любознательный юноша, при всем своем неравнодушии к этим наукам, в зависимость от которых он ставит самое счастье человека (ст. 170), придает изучению их только пропедевтическое значение. «Но изучив эти предметы в юности, – говорит Никовул, – я предам мысль свою Божественному Духу, буду изыскивать следы сокровенных красот, непрестанно восходить к свету и Божественные внушения приму мерилом жизни» etc. (ст. 77). С сознанием действительных прав и достоинств своих – и по многолетнему опыту, и по прекрасному, всестороннему и основательному образованию – поэт позволяет себе при этом указать юноше как на пример, достойный подражания, на себя самого. «Посмотри на великого деда моего по матери, – говорит устами самого этого деда юноша, – украшенный всевозможными сведениями, собранными со всех концов земли во время пребывания у многих народов, последним ключом своего учения соделал он Христа и высокую жизнь, к которой и я, родитель, простираю взоры» (ст. 89–93). Дальше начинаются трогательные выражения самой просьбы. Мысленно обнимая своего родителя и касаясь рукой бороды его, по обычаю, обнаруживающему восточный 257 характер поэмы, сын умоляет его «воспользоваться временем, которое можно ловить, пока приближается, и которого напрасно станешь искать, когда оно пройдет. Свое есть время, – убеждает юноша, – садить сад; время – возделывать землю; время – отрешать вервь кораблей мореходных; время – звероловам ловить зверей на горах; время – и для войны. Цветы родятся весенней порой. Так и для ученья бывает своя весенняя пора в жизни человека, когда пламенная любовь согревает душу, когда тайников сердца не избороздили еще многоразличные житейские следы. Юноша сам для себя полагает в землю и добрый и худой корень жизни» (ст. 100–112). Упрашивая уважить его «невинное желание» (ст. 132), юноша обращает внимание родителя на бесчисленные примеры снисхождения и уступчивости родителей даже худым желаниям своих детей. А он, юноша, призывая во свидетели Бога, обещает отцу, со своей стороны, дарования, нравственность, неутомимый труд и постоянное соединение в одно дней и ночей (ст. 181–184). Он убеждает отца не бояться ни моря, ни дальнего пути; не жалеть ни имущества, ни всякого другого средства для достижения его благородной цели. «Ведь я могу похвалиться, – не без гордости замечает сын, – что я для тебя дороже большого имения, потому что я у тебя первородный и первый назван отцовым именем, если это, как полагаю, что-нибудь значит для родителей» (ст. 188–193). «Итак, отец мой, будь для своего сына не человеком, но Богом. Не заграждай источника, который готов произвести из себя большую реку; не дай померкнуть в светильнике свету от недостатка елея; не дай засохнуть растению оттого, что не напояется росоносными влагами. Открой родник, поддержи свет, ороси дающее побеги растение.» (ст. 199 и далее).
Стихотворение «От Никовула-отца к сыну» представляет по содержанию своему ответ на предыдущую поэму и в этом отношении составляет с ней, можно сказать, одно целое. Но при единстве содержания обоих стихотворений нельзя не видеть между ними существенной разницы в тоне, слоге и композиции. Эта разность, обусловливающаяся различием возрастов и характеров лиц, от имени которых пишется то и другое стихотворение, в весьма выгодном для поэта свете обнаруживает опять уже отмеченную выше нами сторону таланта его – уменье обрисовывать характер личности в самом слоге ее. Описывать индивидуальные свойства лица, говоря о нем, как о внешнем, стороннем объекте, доступно в большей или меньшей степени каждому писателю. Но изображать те же личные свойства, говоря непосредственно за самое лицо, как за субъекта, – это, без сомнения, признак таланта, развившегося под влиянием известной степени наблюдения и изучения внутренней человеческой природы. Оба анализируемых стихотворения могут служить в данном случае выдающимся примером, в котором неподдельное знание сердца и характера человека в различные периоды жизни его соединилось с искусством талантливого выражения знания в слове. Впечатление этой жизненно-реальной правды, этой непринужденной простоты и естественности, с какой обрисованы в стихотворениях отец с сыном, так полно, свежо и сильно, что почти несовместно с представлением об одном и том же авторе обеих поэм. По крайней мере, образы лиц, которые видишь и слышишь в этих стихотворениях, различая как будто даже оттенки в интонации живой речи каждого из них, совсем заслоняют собой личность поэта. Что поэт на самом деле прекрасно знал обоих лиц, которых он со столькими признаками индивидуальности выводит в стихотворениях, это несомненно из сохранившихся писем его к ним, и, по довольно близкому родству его с ними, вовсе не удивительно. Заслуга его в этом скорее историческая, чем, собственно, литературная. Но что он изобразил эти индивидуальные признаки в условиях художественно-литературного творчества, изобразил с такою художественно-психологической правдой и рельефностью, что герои его стихотворения являются не просто историческими лицами – двумя Никовулами IV века, а литературными типами старца и юноши, отца и сына, – это делает честь собственно поэтическому таланту автора. Обрисовка характеров обоих лиц, от начала до конца каждого из стихотворений, проведена чрезвычайно тонко. Речь их обоих – речь одного и того же автора-поэта. Но как непохожи они один на другого в речах своих! С первых же слов того и другого открывается прямая противоположность их характеров. В одном говорят кипучая юношеская порывистость и горячка, в другом – степенная мужественная сдержанность и хладнокровие; в одном – самонадеянность и заносчивость, в другом – житейская опытность и осторожность; в одном – смелость, граничащая с дерзостью, и увлечение, не желающее знать ограничения, в другом – благоразумие, ценящее не меньше идеальных и бесспорно благородных стремлений юношеских священные мотивы естественной любви детей к своим родителям. Один опрометчиво, не осмысливая и не взвешивая слов своих, начинает с оскорбления отца как родителя и не совсем последовательно оканчивает мольбою к нему; другой необыкновенно тактично, тоном любящего отца, мягко и спокойно начинает с выражения одобрения предмета желаний и просьбы своего сына, потом незаметно переходит к отеческим внушениям и оканчивает благопожеланиями ему. Словом, оба лица, отец с сыном, стоят и говорят перед нами как живые. Мы уже слышали сына; послушаем теперь отца в ответе сыну.
«Желая быть сильным в слове, желаешь ты, сын мой, прекрасного. И сам я услаждаюсь словом, какое Царь-Христос дал людям, как свет жизни, как преимущественный из даров, ниспосланных нам с небесного круга; потому что и Сам Он, превозносимый многими именованиями, ни одним не благоугождается столько, как наименованием Слово. Но выслушай речь мою. Совет отеческий – самый лучший совет, и седина имеет преимущество пред юностью. Время родило историю, а история родила высоко парящую мудрость. Поэтому уважь слова мои, это для тебя же лучше. Во всем прочем, сын мой, будь превосходнее отца. Отец радуется, когда добрый сын берет над ним преимущество, и радуется больше, нежели когда сам превосходит всех других. Это согласно с Божескими законами, которыми великий Отец связал вселенную, и, из любви к Своему достоянию, незыблемо утвердил Словом. Но желаю, сын, чтобы ты удерживал в себе отцово свойство – имел больше стыдливости, нежели сколько теперь обнаруживаешь ее пред родителями. И я был сын доброго отца; но из моих уст никогда не выходило такого слова; даже и на языке не держал я чего-либо подобного, потому что и Богу не угодны такие речи» (ст. 1–20). Дальше отец подлинно цитирует «неблагодарные» слова сына, какими юноша с первых же стихов своего стихотворного послания оскорбляет родительское сердце, отважно заявляя, что не только в рождении и воспитании детей, но даже и в любви к ним родителей он не видит ничего, кроме выражения общего закона физиологической необходимости, одинаково разделяемого с людьми осами, рысями, волами, вепрями, рыбами и птицами. «Но кто же, – возражает он тоном скорее теплой отеческой любви, чем упрека, – кто же обнимет сына, кто порадеет ему лучшего, кто даст свое согласие, когда он хочет учиться или желает чего-либо другого, кто отделит ему надлежащую часть имущества, если все, что сын получает от отца, есть долг, а не милость, и если сын, не получив ничего, может нарушить закон стыда, а получив, вправе иметь и язык, и ум неблагодарный?» (ст. 33–38). «Нет, сын мой, не этим, не отважностью должен ты отплачивать своему родителю, потому что отважность, преступив меру, делается дерзостью. Иначе какой-нибудь более раздражительный отец от моего лица скажет тебе подобное следующему слово: «Если природа позаботилась о детях, вложив родителям любовь к ним, то природа же возбранила любить не любящих"» (ст. 75–80).
Заканчивая первую половину своего послания, отец обращается к своему сыну со следующим нравоучением. «Все это говорил я тебе, любезнейший сын, чтобы научить покорности твой ум, заставить тебя на весах взвешивать слова свои и не давать им свободы, отсекать все лишнее, ограничиваться же достаточным, не предаваться потоку молодости, но удерживать его стремительность. Когда говоришь, гораздо лучше многое затаить в себе, нежели пустить на воздух какое-нибудь неприличное слово» (ст. 105–110). К главному предмету желаний своего сына старший Никовул переходит во второй половине своего послания и останавливается на нем с такой подробностью и таким наслаждением, из которых ясно видно, что сердечное расположение к этому предмету сына вполне совпадает с задушевным сочувствием к нему отца. Здесь поэт наш пользуется новым случаем заявить себя со стороны своей особенной любви к красноречию, о котором он не может говорить, не вдаваясь в панегиризм. Красноречие восхваляется здесь в нравственном, умственном, политическом и общественном отношениях. «Дар слова и царей руководит, и народ привлекает, процветает в народных собраниях, царствует на пирах, утишает брани, делает человека кротким, нежными и ласковыми речами умягчая всякого, сколько бы кто ни был упорен, подобно тому как сила огня смягчает железо» (ст. 188–192). Одушевленный восторженной любовью к красноречию, Никовул, или, лучше сказать, поэт устами Никовула, остроумно допускает аллегорическое истолкование посредством дара красноречия известного мифа об Орфее с его чудной кифарой, разумея под волшебной песнью его именно чарующую силу красноречия. Равным образом и другие аналогичные с этим мифом предания и саги древнегреческой поэзии, отчасти легшие в основу различных эпизодов Гомеровых поэм, наш поэт объясняет в том же смысле. «Думаю, – говорит он, – что Орфеева кифара была не иное что, как дар слова, приятностью звуков увлекавший всех, и добрых, и худых, а также и Амфионова лира делала покорными камни, то есть упорные и каменные сердца. Дар же слова разумею и под тем врачевством, которое дал Лаэртову сыну, когда шел он к Цирцее, спутник его, чтобы мог он (Одиссей) оказать помощь своим товарищам, обращенным в свиней, и сам не дошел до необходимости есть свиной корм. Дар слова вижу и в том, что растворила Фаонова супруга, египтянка Полидамна, и подала
Елене, как добрый гостинец, – беспечальность, негневливость и забвение всех бедствий. Несомненно, что дар слова делает человека почтенным в кругу людей, как можешь заключить из примера Одиссея. Без одежды, измученным и бедственным скитальцем спасся он из моря, но как скоро в умной речи изложил свою просьбу, уважила его царевна и дева и представила феакиянам и царю Алкиною, как чужеземца, претерпевшего кораблекрушение, заслуживающего предпочтение пред всеми другими. О дар слова, чтобы восхвалить тебя, нужен особенный дар!» (ст. 199–217). Итак, сам, так сказать, идя навстречу внутреннему влечению своего сына и уступая одинаково желанию собственного сердца, отец не только соглашается на просьбу сына, но и искренне радуется его стремлению и желает ему полного успеха и счастья на избираемом им поприще. И благопожелания эти, вылившиеся из теплого любящего сердца в прекрасные гекзаметрические стихи, составляют одну из лучших поэтических страниц в дидактических стихотворениях поэта. В переводе на русский язык страница эта представляется в следующем виде. «Положившись на свои собственные и родительские молитвы, усердно, неуклонно и с лучшими надеждами стремись, сын, куда желаешь; да будет у тебя тот же добрый спутник, который был у твоего отца. Восхитил ли тебя аттический соловей, или знаменитый город приятной Финикии – обитель авзонских законов, или великий град Александров, откуда иной, нагрузив корабли великим богатством, поспешает в свое отечество, всякая страна да протекает быстро под твоими поспешающими стопами и произращает под ними прекрасные цветы; да шумят пред тобой приветливо реки, и всякое море легкими дыханиями ветров да приносит корабль твой в пристань; дельфин, в светлых волнах едва зыблющейся морской поверхности извивая хребет змеящимися кругами, да скачет по водам, став путеводителем твоей жизни, как некогда на хребте своем носил он знаменитого певца. Для самых наставников да будешь ты оком красноречия, да считают они сына моего между первыми и любят его наравне со своими детьми. А сладкую чашу наук жадный ум твой да исчерпает до самого дна. Рука твоя да пишет золотые письмена на гибких дощечках, и соты да каплют с твоего свитка. А если весенней порой, когда дыхания ветерков так усладительны для человека или когда солнце бросает сверху огнистые лучи, сидя под древесными ветвями и углубившись мыслью, будешь трудиться над сочинением, то стрегущие кузнечики и поющие птицы да сообщают бодрость твоим телесным силам своими сладкозвучными песнями, вызывая на состязание в песнопении. А что до меня, то, как приказываешь, ничего не пощажу – ни имущества, ни труда, к какому обязаны родители, ни всего прочего, что способствует смертным к приобретению великих доблестей, потому что благоразумная бедность лучше порочного богатства» 258.
Преподав затем несколько нравоучительных наставлений своему сыну в духе поучения Владимира Мономаха своим детям, Никовул призывает на него благословение Бога и пожеланием ему счастливого достижения цели заканчивает поэму.
Стихотворение «Советы Олимпиаде»( Παραινετικον προς Όλυμπιάδα) замечательно как один из наиболее выразительных образчиков взгляда святого отца на женщину и в частности – на обязанности и поведение ее как супруги.
Женщины вообще занимают большое место в моральных произведениях святого Григория. Он при разнообразных условиях своих домашних и общественных отношений к ним и по различным мотивам и писал много о них, и переписывался с некоторыми из них. Эта сторона литературной деятельности его уже сама по себе настолько интересна и любопытна, что французский ученый Даба (Dabas) взял ее сюжетом для своей специальной монографии, напечатанной им под заглавием «La femme au quatrieme siecle dans les poesies de Greg. De Naz.» 259 (Bordeaux, 1868). И интерес, какой представляют с этой стороны произведения святого отца, нам кажется, вполне равносилен научной важности их в этом отношении для исследователя, который, без всякой предвзятой мысли, поставил бы себе задачей выяснить миросозерцание христианского писателя. При соображении такой колоритной черты в характере миросозерцания святого Григория, как взгляд его на женщину, едва ли можно склониться на сторону довольно распространенного в научной литературе мнения о нем как о суровом аскете, ригоризм которого доходил до мизогамии 260.
Как ни сильно расположение его к религиозно-созерцательной жизни, как ни глубоко и искренне его сочувствие девственной жизни, эти внутренние влечения, правда, сообщившие характеру святого отца преобладающее направление, не привели его, однако ж, к крайностям аскетического ригоризма, разобщающего человека с миром и сердце человеческое с мирскими мотивами и интересами. Под совместным влиянием счастливого семейного воспитания – особливо золотой поры детских впечатлений, – многостороннего и многолетнего опыта жизни в центрах высших и разнообразных культурных проявлений ее, редких интеллектуальных способностей, в которых необыкновенная сила ума гармонировала с чисто гуманитарной способностью – нравственно-поэтической нежностью сердца, в душе Григория рано пробудились и развились, в противовес аскетическим стремлениям, чувства и симпатии общечеловеческие. «Если бы кто спросил меня, – пишет он уже в старости в одном из своих писем, – что всего лучше в жизни? Я ответил бы: друзья» 261А в другом письме, по поводу удаления своего из Константинополя, признается: «У всякого своя слабость, а я слаб в отношении к дружбе и к друзьям» 262. И слова эти, насколько можно судить по драгоценной для биографа Григория переписке его с друзьями, не были только словами. В письме его к Амфилохию, между прочим, читаем: «И ты стал для меня добрым смычком и стройной лирою, поселившись в душе моей, после того как, пиша ко мне тысячи писем, усовершился ты в познании души моей» 263.
Если с одним только лицом дружба святого отца рекомендует себя «тысячами писем», которые, как видно отсюда же, не оставались с его стороны безответными, то каким красноречивым свидетельством в пользу общительности его, в силу прекрасных качеств души и сердца его, должна служить дружественная переписка его с целыми сотнями разнохарактерных лиц, к которым вообще он расположен был не менее, чем к Амфилохию, а к некоторым – и до степени «слияния сердец», как называет он свою дружбу с Василием Великим. Следующая, например, выдержка из письма Григория к Софронию Ипарху вовсе не позволяет ограничивать это «слияние сердец» лицом только Василия Великого. «Другие наслаждаются твоими совершенствами, – пишет святой Григорий Софронию, – а для меня и то велико, если буду иметь и тень беседы с тобою чрез письма. Увижу ли тебя опять? Обниму ли когда тебя, мое украшение? Дано ли это будет остатку моей жизни? Если будет дано – благодарение Богу! А если нет, то я умер уже большей своей частью» 264. Григорий называет свою склонность к дружбе «слабостью». Но эта слабость коренилась в силе и глубине любви его к человеку и людям, в теплых симпатиях его всему, что так дорого в жизни человека. Этой любовью и этими симпатиями согреты лучшие места моральных поэтических произведений его. Эти же глубочайшие симпатии, развитые под неизглаживающимся влиянием трогательных впечатлений семейного очага, любви и дружбы, согревали его сердце, когда он писал о женщинах. Можно решительно сказать, что Григорий аскет не был никогда мизогинистом265. Христианская пустыня была дорогим и близким его сердцу идеалом; к ней всегда неслись его заветные думы и желания. Но вместе с ней он носил в душе своей идеал христианской женщины, как супруги и матери, скопированный с живых и не менее близких его сердцу образов Нонны и Горгонии, Емилии, Макрины и Феодосии. В поэзии его наряду с восторженными гимнами пустыне и девству есть много трогательно-патетических мест, которые оказываются излияниями сыновними или братскими. Избрав себе совершеннейший путь жизни, святой отец никогда не считал его обязательным для спасения каждого христианина. Он и не рекомендует в своих произведениях одинаково всем этой возвышенной жизни, которая, посвящая себя пустыне и девству, делает людей ангелами на земле. Глубокий знаток человеческого сердца, он умел согласоваться с нашими слабостями и нуждами жизни. Сколько души и любящего участия заключается, например, в следующих ответных словах его своему другу Евсевию, который приглашал его на бракосочетание свое с Евопией. Извиняясь, что по болезни своей он не мог быть на свадьбе, Григорий пишет: «Итак, пусть другие призывают к вам Эротов, – потому что на свадьбе в обычае и пошутить; другие пусть изображают красоту девы, величают любезность жениха и брачное ложе вместе с цветами осыпают и словами привета. А я пропою вам брачную песнь: благословит вас Господь от Сиона, Сам сочетает ваше супружество, и узриши сыны сынов твоих…» 266 Или в следующих словах его из поэмы «К Виталиану от сыновей»: «Был брак и брачная вечеря; все было полно веселия; там были брачные дары, приветственные речи, приятные забавы. Много было родных, немало соседей; люди высших чинов при царском дворе украшали собою брачную трапезу; были досточестные иереи, которые соединяли чету молитвами своими и венцами. Вокруг прекрасного юноши толпились товарищи и величали жениха, уподобляя его красивой леторосли, а жены наряжали черноокую деву к священному браку; отец восхищался детьми. А нас, как будто мы походили на диких зверей или на вепрей или по действию жестокого демона погубили человеческий вид, – нас заперли в доме вдали от сестры. Всего же более огорчило меня одно. Я, искусный певец, желал воспеть брак и брачное ложе родной сестры и своими брачными песнями утолить гнев отца; но, всегубительный демон! И это не было мне дозволено, как человеку ни к чему не годному. Другой воспевал мою красу, эту черную ночь, из-под золотистых кудрей восходящую на серебряных ланитах, другой славил мою вечернюю звезду, другой величал мою зарницу, и еще какой-то вовсе не мастер-певец. А я лежал безмолвный, презренный, покрытый облаком сетования; не мог быть и эхом, которое последние слоги разносит по высоким утесам, когда Пан поет на горах пастушеские песни. Оплачу кончину моих первородных песнопений и не буду больше петь. Прощайте, многозвучные книги! Прощайте, музы! Что за радость, если песнь моя не касается родительского слуха, если и Орфеево какое-нибудь песнопение не привлекает к себе издали ни камней, ни зверей, ни птиц на Одризских утесах!..» 267 В этих прочувствованных лирических словах, сочетавших внутренний христианский элемент с образностью античной поэзии, меньше всего сказывается сердце сурового, одностороннего аскета, расположенного к мизогамии и мизогинии.
Григорий видит женщин вне монастыря и не презирает их, не отворачивается от них, а наставляет, руководит их в жизни с тем же уважением и той же любовью. Трудно найти автора, который бы писал страницы более деликатные и трогательные, более чистые и гуманные об обязанностях брака и условиях супружеского благополучия, чем этот христианский поэт-богослов. Читая эту пьесу, адресованную вышеназванной молодой девице при ее замужестве, удивляешься, что вдохновенный певец пустыни обнаруживает такое верное понимание житейских отношений, такое предупредительное знание действительности. Многие из его тонких замечаний сделали бы честь моралисту, который главное старание свое полагает в наблюдении и изображении людей.
Поэма начинается следующими словами нежно-серьезной отеческой любви:
«Посылаю тебе, дочь моя, от себя – Григория – свадебный подарок; в нем предлагаю тебе то, что всего дороже – отеческие советы.
Во-первых, почитай Бога, а потом супруга – светоч твоей жизни, руководителя твоих намерений. Его одного люби, ему одному весели сердце, и тем больше, чем нежнейшую к тебе питает любовь; под узами единодушия сохраняй неразрывную привязанность.
Родившись женщиной, не присвояй себе важности, свойственной мужчине, и не величайся родом, не надмевайся ни одеждами, ни мудростью. Твоя мудрость – покоряться законам супружества, потому что узел брака все делает общим у жены с мужем.
Когда муж раздражен, уступи ему, а когда утомлен, помоги нежными словами и добрыми советами.
И укротитель львов не силою усмиряет разъяренного зверя, у которого в бешенстве прерывается дыхание, но укрощает его, гладя рукою и приговаривая ласковые слова.
Кого не любит муж твой, того не хвали с хитрым намерением неприметно уязвить мужа словом. Если кому прилична простота сердца, то женщинам прежде всего.
Радости и все скорби мужа и для себя почитай общими. Пусть и заботы будут у вас общие; потому что чрез это возрастает дом.
И твой совет может иметь место, но верх должен быть мужнин.
Когда муж скорбит, поскорби с ним и ты несколько, но вскоре потом, приняв светлое лицо, рассей грустные его мысли; потому что сетующему мужу самая надежная пристань – жена.
Твоим занятием пусть будут прялка, шерсть и поучение в Божием слове, попечение же о внешних делах предоставь мужу.
Не выходи часто за двери дома, в места народных увеселений и неприличных собраний; там и у стыдливых похищается стыд, там взоры смешиваются со взорами, а потеря стыда – начало всех пороков.
Дом твой – для тебя и город и рощи. Не позволяй себя видеть посторонним, кроме родственников; не кажись и добропорядочным мужчинам, даже многоуважаемым тобою, как скоро супруг твой не хочет иметь их в своем доме.
Ибо кто доставит тебе столько пользы, как добрый супруг, если ты его одного любишь?
Уши свои украшай не жемчугом, но привычкой внимать добрым речам, а для худых речей замыкать их ключом ума.
Пусть девственная стыдливость в присутствии супруга разливает у тебя под веждами чистый румянец. Покрывайся румянцем, когда смотрят на тебя другие, а сама старайся ни на кого не смотреть и к земле опускай брови.
Если у тебя необуздан язык – всегда будешь ненавистна мужу. Продерзливый язык причинял часто зло и невинным. Лучше молчать, когда и самое дело вызывает на слово, нежели говорить, когда и время не дает места нескромному слову.
Ноги, идущие борзо, ненадежные свидетели целомудрия; и в самой походке бывает нечто наглое.
Выслушай и это: не предавайся неукротимой плотской любви, не во всякое время ищи удовольствий супружеского ложа; убеди супруга оказывать уважение к святым дням.
Но для чего мне говорить подробно обо всем?
Могу дать тебе, дорогая моя, совет, но и его гораздо лучше есть у тебя Феодосия – этот Хирон между замужними женщинами. Она для тебя – живой образец всякого слова и дела…»268
4. Обличительные (сатирические) стихотворения
Ни в чем не претыкаться свойственно одному Богу. Но падать намеренно, хвалиться худым делом, падать многократно, падать в пороки важные и не стыдиться этого, а находить удовольствие в этом, не хотеть уцеломудриться и наказаниями, какими вразумляются люди самые жалкие, но с открытою головою кидаться в опасность, – это самая ужасная и злокачественная болезнь.
[№ 28. «На богатолюбцев», ст. 250–260]
В числе памятников литературных дарований святого Григория Богослова сохранились три цельных и довольно значительных по объему произведения, отмеченные печатью сильного сатирического таланта. Это именно стихотворения: 1) «Κατά γυναικών καλλωπιζομένων» [№ 29. «На женщин, которые любят наряды"]; 2) «Προς Μάξιμον» [№ 41. «Максиму«] и 3)» Εις επισκόπους« [№ 13. «К епископам"].
На произведения эти нельзя смотреть как на явления, в своем роде случайные, исключительные, не имеющие ни естественного основания своего в личных духовных свойствах поэта, ни внутреннего органического родства с прочими литературными произведениями его, ни, наконец, действительного и ближайшего отношения их к духу времени поэта или, по крайней мере, к частным, но исторически важным обстоятельствам его современности.
Прежде всего, эти три поименованные стихотворения святого отца обязаны своим происхождением врожденному индивидуальному свойству его поэтического таланта, составлявшему в складе и характере этого последнего одну из весьма выдающихся черт.
Об этом с несомненностью можно заключать не только выходя из литературного анализа подлежащего разряда стихотворений, но и просто на основании невольного и непосредственного признания в этом самого автора их. В стихотворениях своих, как и в своих прозаических сочинениях, святой Григорий Богослов неоднократно и неприкровенно сознается, что наклонность его изобличать пороки и предрассудки человеческие путем сатиры, к собственному личному прискорбию его, постоянно брала перевес над всей силой его же собственного, сознательного и намеренного противодействия ее развитию и ее проявлениям в нем. Сюда относятся именно те любопытные места в его сочинениях, в которых он с непритворным чувством своего душевного негодования вооружается против естественного врага своего – «многозвучного» 269 языка, с которым ему не раз доводилось считаться. «Язык, – как это вынес поэт из своего личного опыта, – всего пагубнее для людей». «Это – самое острое, самое решительное оружие»; «Он мал ( βαίη), но ничто не имеет такого могущества» 270. По отношению к себе собственно поэт в одной из своих автобиографических эпитафий прямо говорит, что «Слово даровало ему обоюдоострое ( αμφήκη) слово» 271. Этот «обоюдоострый» дар, по собственному признанию поэта, «всегда подвергал его множеству неприятностей» 272. И замечательно, что он редко называет свой язык без оскорбительного эпитета. Во избежание именно неприятностей из-за «неукротимого» 273 языка своего с его «дерзким»274 словом, святой отец подчас прибегал, как известно, к весьма решительным дисциплинарным мерам в отношении к нему.
«Заметив, что необузданность языка моего выходит из границ и меры, – говорит поэт в своем элегическом стихотворении »Ε ί ς την… σιωπήν« [ «На безмолвие во время поста"], – я придумал против него отличное средство – подвергнуть слово полному заключению в высокоумном сердце, чтоб язык мой научился наблюдать, что ему можно говорить и чего нельзя» 275. В стихотворении «О жизни своей» поэт в одном месте совсем в тон с содержанием предыдущих стихов и потому несколько неожиданно для читателя обращается к нему со следующим воззванием, ясно отражающим в звуках своих взволнованное состояние поэта: «Вот вам мой говорливый ( λάλον), не умеющий соображаться со временем ( άκαιρον) язык! Отдаю его; кто хочет, отсеки его без милосердия ( ανηλεώς). И что ж? Разве он не отсечен уже? Если угодно, то действительно так. По крайней мере, давно он молчит, и долее еще будет молчать, может быть, в наказание за неблаговременность и в научение, что не всем он приятен» \ Само собою разумеется, что подобная мера, то есть " ολη σιγή« [ «полное молчание«], хотя и признается поэтом отличным средством (» άριστον φάρμακον«), на самом деле была и не могла не быть только средством паллиативным. Цель достигалась ею ровно настолько, насколько поэт обладал терпением и решимостью воздерживаться от всяких поводов выступать против тех или других современных ему недостатков с сильным и смелым обличительным словом сатиры. Но так как подвергать себя искусу" ολης σιγής» подолгу и почасту уже по самому положению епископа в центре высшей духовнообщественной деятельности было делом физически невозможным, то и причин негодовать на свой язык у святого отца было гораздо больше, чем он сам бы того желал. Ясно, что дело тут было, собственно, не в языке, как языке, если меткое «обоюдоострое» слово поэта подвергало его «множеству неприятностей». Причина этого лежала гораздо глубже, именно в сильном сатирическом даровании поэта, которое яркими лучами остроумия, в большей или меньшей мере, блестит почти во всех произведениях его, не только стихотворных, но и прозаических. И все эти разнообразные эпитеты – «неукротимый», «дерзкий», «многозвучный», «необузданный», какими поэт называет язык свой, нам кажется, следует понимать в смысле выражений, в каких мягкий, любвеобильный христианский епископ, больше всего страдавший, по собственным словам его, слабостью в отношении к дружбе и друзьям, с прискорбием изобличает в себе выдающийся талант сатирического писателя. Между прозаическими сочинениями святого отца мы не найдем, конечно, цельного образца сатиры в ее чистом типическом виде. Но по частям, эскизно, примеров сатирического направления и доказательств врожденной способности автора к этому роду литературной деятельности представляют немало и проповеди, и письма его. Из проповедей обличительного направления нужно отметить в особенности оба Слова на Юлиана и Слова против еретиков – евномиан и ариан. Кроме того, сатирическим характером, в большей или меньшей степени, отличаются Слова «О любви к бедным», «О мире», «Слово в похвалу философа Ирона, возвратившегося из изгнания», «Слово о соблюдении доброго порядка в собеседовании и о том, что не всякий человек и не во всякое время может рассуждать о Боге», «Слово (42-е) прощальное, произнесенное во время прибытия в Константинополь ста пятидесяти епископов» и др. На выдержку возьмем хоть следующее место из Слова против евномиан (первого или предварительного Слова «О богословии»); в нем, как известно, автор вооружается против современного ему эпидемического недуга – говорливости, страсти к богословствованию, которую он называет «болезнью языка» (« γλωσσαλγία»). «Философствовать о Боге можно, только не всякому; это приобретается не дешево. Да и не всегда можно философствовать и не перед всяким, и не всего касаясь, но должно знать – когда, перед кем и сколько. А у нас наряду с прочим с удовольствием толкуют и о богословии после конских ристаний, театральных представлений и песней, по удовлетворении чреву и тому, что ниже чрева( και τα υπό γαστέρα), потому что для последнего сорта людей к числу удовольствий относится и то, чтобы поспорить о таких предметах и отличиться тонкостью возражений. Я не о том говорю, что не всегда должно памятовать о Боге. Памятовать о Боге необходимее, нежели дышать. И я первый из одобряющих слово, которое повелевает поучаться день и ночь (Пс. 1:2). Но богословствовать непрестанно, богословствовать безвременно и неумеренно – вот что я осуждаю. Мед, несмотря на то, что он мед, если принять в излишестве и до пресыщения, производит рвоту. Даже прекрасное не прекрасно, если оно не вовремя и не у места, как, например, мужской наряд на женщине и женский на мужчине, геометрия во время плача и слезы на пиру.
Положим, что ты высок, выше самых высоких, а если угодно – выше и облаков; положим, что ты – зритель незримого, слышатель неизреченного, восхищен, как Илия, удостоен богоявления, как Моисей, небесен, как Павел. Зачем же и других не больше как в один день делаешь святыми, производишь в богословы и как бы вдыхаешь в них ученость и составляешь многие сонмища не учившихся книжников? Для чего опутываешь паутинными тканями тех, которые наиболее слабосильны, как будто это дело мудрое и великое? Для чего против веры возбуждаешь шершней? Для чего распложаешь против нас состязателей, как древняя мифология – гигантов? Для чего, сколько только есть между мужами легкомысленных и недостойных имени мужа, собрав всех, как сор( ωσπερ τινά συρφετόν), в одну яму и своим ласкательством сделав их еще женоподобнее, построил ты у себя новую мастерскую и не без ловкости эксплуатируешь глупость их?.. Если у тебя чешется язык, если ты не можешь остановить болезней рождения и не разродиться словом, то для тебя есть много других благодарных предметов. На них и обрати с пользою недуг свой. Рази Пифагорово молчание, Орфеевы бобы и эту пресловутую поговорку новых времен: сам сказал! Рази Платоновы идеи переселения и круговращения наших душ. Рази эпикуров атеизм, его атомы и нефилософское удовольствие; рази Аристотелев немногообъемлющий промысл, смертные суждения о душе и естественный человеческий взгляд на сверхъестественные учения; рази надменность стоиков, прожорство и шутовство циников» etc.276
Или раскроем превосходное «Прощальное слово», произнесенное в присутствии собравшихся в Константинополе ста пятидесяти епископов, проникнутое тонким художественно-сатирическим юмором лучших речей Демосфена.
«Как мне вынести эту священную войну? – между прочим говорит здесь оратор. – Ибо пусть эта война называется и священною, хотя она – война варварская. Как соединю и приведу к единству этих один против другого восседающих и пастырствующих, а с ними и народ, расторгнутый и приведенный в противоборство. Несносны мне конеристатели, зрелища и те издержки и заботы, которым предаетесь с равным неистовством. И мы то впрягаем, то перепрягаем коней, предаемся восторгам, едва не бьем воздуха, как они, бросаем пыл к небу, как исступленные, споря за других, удовлетворяем собственной страсти спорить, бываем худыми оценщиками соревнования, несправедливыми судьями дел. Ныне у нас один престол и одна вера, если так внушают нам наши вожди: завтра подует противный ветер, и престолы и вера будут у нас разные. Вместе с враждою и приязнью меняются имена, а что всего хуже, не стыдимся говорить противное при тех же слушателях и сами не стоим в одном, потому что любовь к спорам делает нас то такими, то иными и в нас бывают такие же перемены, отливы и приливы, как в Еврипе. Когда дети играют и служат игрушкой для других на площади, стыдно и несвойственно было бы нам, оставив собственные дела, вмешаться в их игры, потому что детские забавы неприличны старости. Так, когда другие увлекают и увлекаются, я, который знаю иное лучше многих, не соглашусь стать лучше одним из них, нежели быть тем, что я теперь, то есть свободным, хотя и не знатным. Ибо, кроме прочего, есть во мне и то, что не во многом соглашаюсь со многими и не люблю идти одним с ними путем. Может быть, это дерзко и невежественно, однако ж я подвержен этому. На меня неприятно действует приятное для других, я увеселяюсь тем, что для иных огорчительно. Поэтому не удивился бы я, если бы меня, как человека беспокойного, связали и многие признали сумасбродным. Может быть, и за то будут порицать меня (как и порицали уже), что нет у меня ни богатого стола, ни соответственной сану одежды, ни торжественных выходов, ни величавости в обхождении. Не знал я, что мне должно входить в состязания с консулами, правителями областей, знатнейшими из военачальников, которые не знают, куда расточить свое богатство, – что и мне, роскошествуя из достояния бедных, надобно обременять свое чрево, необходимое употреблять на излишества, изрыгать на алтари. Не знал, что и мне надобно ездить на отличных конях, блистательно выситься на колеснице, что и мне должны быть встречи, приемы с подобострастием, что все должны давать мне дорогу и расступаться предо мною, как перед диким зверем, как скоро даже издали увидят идущего.
Если это было для вас тяжело, то оно прошло. Простите мне эту обиду. Поставьте над собою другого, который будет угоден народу, а мне отдайте пустыню, сельскую жизнь и Бога. Тяжело, если буду лишен бесед, собраний, торжеств и этих окрыляющих рукоплесканий, лишен ближних и друзей, почестей, красоты города, величия, блеска, повсюду поражающего тех, которые смотрят на это и не проникают внутрь. Но не так тяжело, как возмущаться и очерняться мятежами и волнениями, какие в обществе, и приноровлениями к обычаям народа. Они ищут не иереев, но риторов; не строителей душ, но хранителей имуществ; не жрецов чистых, но сильных предстателей. Скажу нечто и в их оправдание: я обучил их этому, я, который всем бых вся, не знаю только, да спасу ли всех или да погублю (1Кор. 9:22)»277
Даже и в том особенном виде духовного красноречия, который ни по предмету своему, ни по своим задачам и целям, ни по условиям места, времени и обстановки своего произнесения не имеет ничего общего с элементами сатиры – разумеем надгробные слова, – даже и здесь святой отец не изменяет своему обычному характеристическому складу речи, и здесь примешивается к общему элегическому тону та же сатирическая черта, которая отличает все лучшие, оригинальные произведения его. Примером может служить, положим, следующее место из надгробного слова Василию Великому. Предметом сатиры здесь послужила страсть афинских юношей к софистам.
«С каким участием охотники до рысаков и любители сильных ощущений смотрят на состязующихся на конском ристалище? Они подпрыгивают, восклицают, бросают вверх землю, сидя на месте, как будто правят конями, бьют по воздуху пальцами, как бичами, запрягают и перепрягают коней, хотя все это нимало от них не зависит. Они охотно меняются между собою ездоками, конями, конюшнями, распорядителями зрелищ; и кто же это? Часто бедняки и нищие, у которых нет и на день достаточного пропитания. Совершенно такую же страсть питают в себе афинские юноши к своим учителям и к соискателям их славы. Они заботятся, чтобы и у них было больше товарищей и учители чрез них обогащались. И что весьма странно и жалко, наперед уже захвачены города, пути, пристани, вершины гор, равнины, пустыни, каждый уголок Аттики и прочей Греции, даже большая часть самых жителей, потому что и их считают поделенными по своим скопищам»278
В письмах Григория, из которых более двух третей написаны в духе его же собственных теоретических правил или требований для письма 279, сатирическое направление сказывается чаще всего в оттенке легкого юмора и блеске остроумия, без заметных следов третьего существенного элемента сатиры – негодования. Если там, в проповедях, под влиянием «волнений своего отеческого сердца и терзания чувств своих» 280, под влиянием" γέλωτα έν δακρύοις« («смеха сквозь слезы») 281, Григорий приглашает «разделить с ним негодование» 282, то здесь, в письмах, он требует как одного из существенных качеств письма«приятности» ( ή χάρις). «А требованию этому удовлетворим, если будем писать не вовсе сухо и жестко, не без украшений, не без искусства и, как говорится, не дочиста обстриженно, то есть когда письмо не лишено поговорок, пословиц, изречений, также острот и замысловатых выражений, потому что всем этим сообщается речи усладительность»283.
К таким же «не дочиста обстриженным» образцам, богатым и пословицами, и остротами, и замысловатыми выражениями, блещущими местами неподражаемой игрой мыслей, то есть искусством автора совмещать в одном образе, в одном выражении два-три смысла, но так, что каждый из них ясен сам по себе и переливается своим особливым светом, – следует отнести в особенности письма под № 2, 4, 5, 10, 11, 12, 51, 114, 178, 190, 191, 233.
Гораздо больше простора и свободы, а вместе с этим и больше естественности сатирический талант поэта нашел для себя в стихотворениях.
В собственном смысле сатирическими произведениями (а не произведениями только сатирического направления) из всего обширного отдела дидактической поэзии святого Григория могут быть названы только три в самом начале этого отдела упомянутые стихотворения: 1) «На женщин-модниц» [№ 29. «На женщин, которые любят наряды"]; 2) «Максиму» [№ 41] и 3) «К епископам» [№ 13]. Но кроме этих трех, бесспорно, лучших опытов сатиры есть у святого отца несколько стихотворений, которые по своим характерным свойствам, определяющим видовые отличия поэтического произведения, принадлежат также к разряду сатирических произведений, хотя по объему и степени выражения этих свойств и не представляют цельного типического характера своего вида – цельной чистой формы сатиры. К таким, с точки зрения теории поэзии, смешанным, но со значительным преобладанием сатирического элемента произведениям мы относим следующие стихотворения: «На гневливость» 284 [№ 25]; два стихотворения под заглавием «На человека, высокого родом и худого по нравственности» 285 [№ 26 и № 27]; «На богатолюбцев» 286 [№ 28]; «О различиях в жизни и против лжеиереев» 287 [№ 17]; «На лицемерных монахов» 288 [№ 44].
По роду и характеру самых пороков, странностей житейских и заблуждений человеческих, являющихся предметом содержания сатирических стихотворений святого Григория Богослова, последние могут быть разделены на два разряда. Стихотворения, в которых изображаются и осмеиваются странности и пороки более или менее повторяющиеся в целом человечестве и в известной мере относящиеся к каждой эпохе, можно подвести под категорию сатиры общей. Другие, в которых осмеиваются и изобличаются пороки и заблуждения только современников поэта, и которые, следовательно, более или менее характеризуют именно его эпоху, его век, мы отнесем к сатире частной. Вместе с содержанием, а отчасти и в зависимости от него, сатирические стихотворения того и другого рода различаются между собой и по тону изложения. В стихотворениях, приближающихся к типу общей сатиры, – к ним мы относим: «На гневливость», «На человека, высокого родом и худого по нравственности» (оба стихотворения), «На богатолюбцев» и сатиру «На женщин-модниц» – преобладает шутливо-юмористический тон. Напротив, стихотворения, относящиеся к сатире другого рода, частной, – под ними разумеем: «О различиях в жизни и против лжеиереев», «На лицемерных монахов», «К епископам», «Максиму» – носят на себе резко обличительный характер. Источником сатирических стихотворений первой группы служит простое, полное столько же остроумия, подчас довольно колкого, сколько и спокойного добродушия, осмеяние общественных странностей и пороков, предосудительных с нравственной точки зрения вообще. Сатиры второй группы изливаются прямо из пламенного и грозного негодования на лиц, презирающих самую святыню, попирающих одинаково законы религии, постановления Церкви, как и требования внутреннего нравственного чувства, возмущающегося злонамеренным нарушением и оскорблением прав ближнего. Во всей своей неумолимой едкости они являются настоящим бичом пороков и зла, не преследуемого правосудием, но заслуживающего этого преследования. Беспощадно обнажая утонченные сети коварства, своеволие, властолюбие и невежество лиц, стоящих во главе общества или Церкви, святотатственно стремящихся к захвату этого высокого положения, вскрывая их внутренне-душевные язвы, глубокие и отвратительные, но не совсем заметные для стороннего наблюдателя, в ярких красках изображая всю низость их нравственного падения, святой отец выводит оскорбителей религии и добродетели на суд всех современников и потомства. Не одинаково отсюда и впечатление на читателя тех и других обличительных стихотворений. Сатиры первой группы производят впечатление веселой, приятной, остроумной и шутливой беседы человека, отличающегося неистощимым запасом наблюдательности, глубоким знанием жизни, света и в особенности сердца человеческого, и вместе с тем обладающего редким искусством представлять в смешном виде все то, что несогласно с правилами и понятиями чистой нравственности. Простосердечие, которым дышит эта беседа, легко примиряет читателя с колкостью остроумия и местами резкостью выражения сатирика; чувствуешь, что автор говорит от сердца, по опыту, и, обличая людские слабости, предлагает нравоучение. Сатиры частные можно назвать негодованием пламенной души, исполненной необыкновенной любви к правде и добродетели, но преследующей во имя этой высшей правды только пороки и порочных без всякого отрадно-успокоительного просвета на хорошие стороны изображаемых лиц. Сатирик видит и бичует здесь одно безобразие, выражает и поселяет в душе читателя одно презрение. Стиль этих сатир, дышащий пламенем чувства, поднимается до высоких нот истинно трагического тона. Обратимся к содержанию.
Содержание стихотворения «На гневливость» довольно точно соответствует вопросам, которыми задается поэт в 32-й строфе его: «Что такое недуг этот (гневливость)? От чего бывает он? И как от него оберегаться?»
Но, как видит читатель, поэт не сразу, не прямо с первых строф приступает к предмету своей речи. Он предпосылает ему некоторое вступление, в котором уже наперед дает понять читателю стиль и тон стихотворения, заявляя здесь, между прочим, что оружием против изобличаемого в нем недуга он избирает острие слова; по поводу этого обстоятельства поэт просит читателя «не гневаться на слово» и считает нужным тут же в оправдание свое заметить, почему ему необходимо будет, говоря о таком сильном зле, употребить «немягкие слова». «Когда огонь клокочет, клубясь ярым пламенем, перекидывается с места на место, после многократных приражений зажигает, течет вверх с живым стремлением и что ни встречает на пути, все с жадностью пожирает, тогда надобно угашать его силою, бросая в него воду и пыль. Или когда нужно истребить зверя – страшилище темных лесов, который ревет, мечет огонь из глаз, обливается пеной, любит битвы, убийства, поражения, – тогда окружают его псарями, поражают копьями и из пращей. Так, может быть, и я, при помощи Божией, одолею этот недуг или, по крайней мере, сделаю его менее жестоким…» 289.
Все стихотворение, таким образом, можно разделить по содержанию на три части: вступление (ст. 1–34), рассуждение на первые два вопроса: «Что такое гнев и от чего происходит он» (ст. 35–183) и нравственно-дидактические советы по вопросу «как оберегаться от гнева» (ст. 184–515). Изложение соображений на первые два вопроса имеет характер историко-психологический, хотя нравственно-назидательный элемент и здесь тесно переплетается с историческими примерами и психологическими изображениями. В самом начале этой средней части поэт приглашает читателя «заглянуть в рассуждения древних мужей, которые углублялись в природу вещей». Он сводит эти рассуждения к трем общим направлениям – материалистическому, сенсуалистическому и к воззрениям, занимающим середину между тем и другим. «Иные называют исступление, – говорит автор, – воскипением крови около сердца 290. Это те, которые болезнь эту приписывают телу, как от тела же производят другие и большую часть страстей. А иные называли гневливость желанием мщения, приписывая порок этот душе, а не телу… Признававшие же болезнь эту чем-то сложным и потому слагавшие и самое понятие оной говорили, что она есть воскипение крови, но имеет причину в пожелании» 291. Поэт не считает здесь уместным входить в рассуждение о том, какое из этих воззрений справедливо, но со своим личным мнением он склоняется к той точке зрения, в которой ум представляется властелином во всем ( νους απάντων ήγεμων). «Его и Господь дал нам поборником против страстей. Как дом, – поясняет поэт, – укрывает от града, как в стенах находят убежище спасающиеся с битвы и кустарник служит опорою на крутизнах и над пропастями, так рассудок спасает нас во время раздражения» 292. С этой же точки зрения поэт предлагает и самое первое средство против раздражительности в состоянии гнева на той степени, какая доступна еще убеждениям рассудка. «Как скоро покажется только дым того, что разжигает твои мысли, то, прежде нежели возгорится огонь и раздуется пламень, едва почувствуешь в себе движение духа, привергнись немедленно к Богу и, помыслив, что Он – твой покровитель и свидетель твоих движений, стыдом и страхом сдерживай стремительность недуга, пока болезнь внимает еще увещаниям» 293. Переходя затем к психологической стороне дела, к изображению чувства гнева во внешних его проявлениях, святой Григорий Богослов как поэт-психолог оказывается неизмеримо выше ученого – теоретика-психолога, выступающего со своими «определениями» в безжизненном гномическом стихотворении под тем же заглавием. Живое и точное воспроизведение в картинах и тонко подмеченных опытно-психологических данных дает поэту резонное основание высказать при этом замечательно верные и меткие суждения. Характеристической особенностью чувства гнева, в отличие от других душевных аффектов, поэт отмечает непреодолимую способность или стремление его проявляться вовне – в специфически безобразном выражении лица и в напряжении всех мускулов. «Болезни другого рода таинственны; таковы: любовь, зависть, скорбь, злая ненависть. Некоторые из этих недугов или вовсе не обнаруживаются, или обнаруживаются мало, и болезнь остается скрытой внутри. Иногда сама скорее изноет в глубине сердца, нежели сделается заметной для посторонних. Но гневливость – явное и совершенно обнаженное зло, это вывеска, которая, против воли тела, сама себя показывает» 294.
Применительно к этой отличительной особенности изобличаемой страсти поэт считал бы полезным ставить перед рассерженными зеркало, «чтобы, смотрясь в него и смиряясь мыслью пред безмолвным обвинителем их страсти, сколько-нибудь сокращали чрез это свою наглость» 295. Нельзя не согласиться в пользе рекомендуемого поэтом средства против гнева, если взглянуть вслед за этим на портрет субъекта в состоянии гнева, изображаемый кистью самого поэта: «ʼʼΩσπερ γραφεύς ειτοΰ πάγους«(«Ты, как живописец, изображаешь эту страсть»), – говорит устами поэта, обращаясь к собеседнику своему, одно из лиц, выводимых святым отцом в диалоге другого стихотворения 296 Но слова эти были бы уместнее в данном случае в отношении к самому поэту. Его портрет рассерженного изображен с такой глубокой наблюдательностью над человеческой природой, с таким уменьем не только подметить, но и оттенить надлежащим колоритом самые тонкие и от обыкновенного взора ускользающие физиономические детали, во всем их сложном разнообразии, соответственно разнообразию проявлений психических моментов в припадке гнева, – до такой степени, словом, живо и типично, что перенесенный на полотно, с соблюдением всей данной обстановки, обрисованной в тексте сатиры, портрет этот мог бы сделать честь лучшему жанристу.
«Глаза налиты кровью и искошены, волосы ощетинились, борода мокра, щеки у одного бледны, как у мертвого, у другого багровы, а у иного как свинцовые – так бывает угодно расписывать человека этому неистовому и злому живописцу; шея напружена, жилы напряжены, речь прерывистая и вместе скорая, дыхание, как у беснующегося, скрежет зубов отвратителен, нос расширен и выражает совершенное презорство, всплескивания рук, топот ног, наклонения головы, быстрые повороты тела, смех, пот, утомление, киванья вверх и вниз не сопровождаются словом, скулы раздуты и издают какой-то звук, как гумно, рука, стуча пальцами, грозит. И это только начало тревоги. Какое же слово изобразить, что бывает после того? Оскорбления, толчки, неблагоприличия, лживые клятвы, щедрые излияния языка, клокочущего, подобно морю, когда оно покрывает пеною утесы. Одно называет худым, другое желает, иным обременяется, и все это тотчас забывает. Негодует на присутствующих, если они спокойны; требует, чтобы все с ним было в волнении. Просит себе громов, бросает молнии, недоволен самым небом за то, что оно неподвижно» 297.
Сравнивая раздражительность в гневе с другими несчастиями и недугами в человеческой природе с точки зрения вреда и гибельных последствий их, святой отец не находит ничего хуже и ужаснее гнева. Даже такое очевидное зло, как пьянство, уступает гневу. «Там самое тяжкое последствие, – говорит он, – это то, что сделаешься смешным; и один сон может вскоре поправить дело. Но скажите – есть ли какое средство против преступившей меру гневливости? В иных болезнях прекрасное врачевство – мысль о Боге. А гневливость, как только перешла за границу, прежде всего заграждает двери Богу. Самое воспоминание о Боге увеличивает зло, потому что разгневанный готов оскорбить и Бога. Приводилось видать иногда, что и камни, и прах, и укоризненное слово летели в Того, Которого нигде, никто и никак не может уловить; законы отлагались в сторону, друг становился недругом; и враг, и отец, и жена, и сродники – все уравнено одним стремлением и одного потока» 298Однако со второй половины стихотворения поэт переходит к довольно подробному изложению тех, так сказать, морально-дисциплинарных средств, к которым, по мнению его, с успехом можно прибегать для предотвращения в себе гневного раздражения. Он обращается за этими средствами и к священно-ветхозаветной истории евреев, и к языческо-классической истории эллинов, отчасти к современной ему политической истории, а больше всего к непосредственному благоразумию и христианскому чувству. Он рекомендует оживлять в душе высокие образцы великодушия Моисея, Аарона, Давида, Самуила, апостола Петра, наконец – высочайший Образец кротости и терпения «Того, Кто, будучи Бог и Владыка молний, как агнец безгласный веден был на заклание, потерпел столько заплеваний и заушений, когда милосердие Его испытал Малх даже на своем язвленном ухе»299. Приводит, с другой стороны, на память пример Стагирского философа [Аристотеля] как он однажды «хотел ударить одного человека, которого он застал в постыдном деле; но как скоро почувствовал, что в него самого вступил гнев, борясь со страстью, как со врагом, остановился и, помолчав недолго, сказал: «Необыкновенное твое счастье, что защищает тебя мой гнев. А если бы не он – ты пошел бы от меня битым»300. Обращает внимание на подвиг великодушия Перикла, проводившего со светильником в руках, до самых дверей дома, своего ругателя, целый день язвительно злословившего его и преследовавшего укоризнами. Восстановляет в памяти, наконец, образ благочестивого государя Констанция с его умным ответом одному сановнику, который, пытаясь раздражить царя против православных, между прочим, както заметил ему: «Какое животное так кротко, как пчела, но и она не щадит тех, которые собирают ее соты». «Ужели же не знаешь, превосходный мой, – ответил ему царь, выслушав слова его, – что жало не безвредно и для самой пчелы? Она жалит, но в то же время и сама погибает» 301. В отношении «второй заботы», именно по вопросу: «Как удержаться, чтобы не воспламениться гневом от чужого гнева, как воспламеняется огонь от огня?» – святой Григорий Богослов, в числе других действительных средств, предлагает смотреть на разгневанного, который «горячится и дышит дерзостью», как на сумасшедшего. «Неужели и на укоризны больных станем отвечать укоризнами? Не равнодушно ли переносишь ты исступление беснующихся, разумею таких, которые невольно изрыгают злословие? Почему же не перенести сего от безумного и пришедшего в сильную ярость?.. Что, если мимо тебя пробежит бешеная собака? Что, если верблюд, по естественной своей наглости, закричит во все горло и протянет к тебе шею? Пойдешь ли с ними в драку или, по благоразумию, побежишь прочь? Что, если непотребная женщина будет стыдить тебя своими срамными делами?..»302
А уж если вооружаться против рассерженного, то лучше всего – шутками. «Смех – самое сильное оружие к препобеждению гнева. Как в кулачных боях, кто в сильной запальчивости попусту сыплет удары, тот скорее утомляется, нежели принимающий на себя эти удары, истощение же сил – неискусный в бою прием; так и тому, кто оскорбляет человека, который не сердится на его нападение, но смеется над ним, всего более бывает это огорчительно; напротив того, если встречает он себе сопротивление, это, доставляя новую пищу гнева, приносит ему некоторое удовольствие» 303.
Предметом сатирических стихотворений «На человека, высокого родом и худого по нравственности» служит осмеяние одного из тех странных заблуждений, которые, питаясь самолюбием человеческим, не менее распространены и в наше время, как в современное поэту, и развиты до страсти преимущественно в высших классах общества, среди так называемого аристократизма. Но во времена святого Григория, когда тщеславие знатностью происхождения и привилегированным благородством крови поддерживалось в самом христианском обществе силою и обаянием древних языческих традиций, оно было не просто морально-уродливым предрассудком, но и, до известной степени, социально-христианским злом, если не оправдывавшим разделение человеческого общества на рабов и господ, то, во всяком случае, противодействовавшим проведению в сознание и жизнь евангельской идеи равенства и братства. Уже в самом принципе своем, следовательно, гордое самомнение и самовозвышение, основанное на родословной или сословной знаменитости, достойно обличения с нравственно-христианской точки зрения. Но когда этот предрассудок проявляется в таких уродливых формах, что кичится и превозносится величием предков человек, который лично, сам по себе, представляет только разве отрицательную величину или который, по выражению святого отца, «будучи ослом, ходящим в колесе, думает носить голову наравне с конем» 304, то, в таком случае, к нему применимы стихи нашего Державина, в сущности близкие к рассматриваемым двум сатирам святого отца:
Осел всегда останется ослом,
Хотя осыпь его звездами;
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
<…>
И впрямь, коль самолюбья лесть
Не обуяла б ум надменный,
Что наше благородство, честь,
Коль не изящности душевны?
Я князь – коль мой сияет дух;
Владелец – коль страстьми владею;
Болярин – коль за всех болею,
Царю, закону, Церкви друг.
Понятно, во всяком случае, чувство благородного негодования поэта-богослова, с которым он ямбическими стихами осмеивает в двух сатирических произведениях «человека, высокого родом и низкого по нравственности». Общее содержание их сконцентрировано в форме краткой басни в начальных стихах первой сатиры.
Первая сатира
«Некто, человек крайне худой, но происшедший от добрых родителей, хвалился своими предками пред другим, который незнатен был родом, но внушал удивление делами. Этот, с большой приятностью улыбнувшись, дал следующий замечательный ответ: «Мне укоризна – род, а ты – укоризна роду» 305.
В дальнейших стихах поэт только развивает этот «замечательный» ответ и иллюстрирует его на целом ряде сравнений и образов, отличающихся столько же выразительностью, сколько и остроумием, приправленным подчас умеренной дозой сатирической соли. «Если кто укорит тебя за то, что ты дурен лицом или что имеешь неприятный запах, ужели скажешь на это: у меня отец был пригож или всегда умащался благовониями? Если кто назовет тебя трусом и не имеющим мужества, неужели возразишь: у меня предки приобретали много победных венков в Олимпии? Равным образом, когда уличают тебя в том, что ты порочен и неразумен, не говори мне о своих родителях и не указывай на мертвых. У иного гусли вызолочены, а он играет на них – только уши режет; другой же берет какие ни попадутся ему гусли и выигрывает на них благозвучную песнь. Кого же из них, дорогой мой, признаешь ты гуслистом? Конечно, того, кто в мастерской игре своей соблюдает гармонию? Но ты родился, как говоришь, от золотых родителей, а сам не хорош. Ужели же поэтому удумаешь о себе высоко? И знаменитость рода поставляешь в этом одном – в давних мертвецах, в рассказах старух?.. Полно, друг мой, ты шутишь!.. Не природою, а насилием разделены смертные на два разряда. По-моему, тот и раб, кто негоден, тот и свободен, кто совершен. А если в тебе есть гордость, какое тут отношение к роду? По отце ли славен лошак, и укоришь ли его за то, что произошел от осла? Нимало. Но какая слава и ослам от лошаков?.. Лучше быть добродетельным, происходя от худого рода, нежели благородному быть человеком самым порочным. И роза выросла на грубом растении, хотя она и роза. Если же ты на нежной земле вышел терном, то годишься только в огонь» 306.
Вторая сатира
«Если бы привел я к тебе обезьяну, постаравшись нарядить ее львом, пришел ли бы ты в страх при виде ее? Как это возможно? А что? Не смешнее ли еще была бы для тебя ворона – эта самая неуклюжая из птиц, – если бы она, окрасившись чем-нибудь белым, стала изображать из себя лебедя? По-моему, это было бы смешно. А если человек, низкий в нравственном отношении, величается благородством, – не презреннее ли он ряженой вороны?.. Смотря на быка, кто скажет, что это дельфин? Каждая вещь за то и признается, что она в действительности. Но вот два забавных явления на поприще нашей жизни – живая тварь, пресмыкающаяся по земле, превозносится до звезд и грамота делает худонравного благородным! Какого ты предпочтешь купить себе коня – сильного и рысистого или ни к чему не годного, но зато известного породой? Я думаю, – первого. «Не проворных ли выбираешь и псов?» – «Да.» – «Что ж? Не то же ли наблюдаешь и во всем?» – «Конечно, то же». А себя, когда ты всех порочнее, называешь благородным? Напрасно так шутишь. Может быть, тех, от кого происходишь, признали благородными за богатство, а не за нравы» 307.
Стихотворение «На богатолюбцев» направлено против порока, который сам по себе, как страсть, в смысле именно общественного недуга, также не может иметь значения характеристической черты какой-либо отдельной нации, какого-либо исключительного места и времени. Страсть к богатству и роскоши, а неразлучно с этим и насилие, гнет бедных людей, притеснение высшими низших братий глубокой межой оттеняют в истории каждого цивилизованного народа по преимуществу особые периоды, обыкновенно совпадающие с эпохами подъема или же упадка его политического роста и его исторической роли. Хотя, разумеется, степень проявления «богатолюбия» не одинакова у каждого народа; еще более может относиться это замечание к формам его проявления, которая у каждого цивилизованного народа, сообразно господствующим эстетическим вкусам его, отчасти же и в зависимости от географического положения и климатических условий страны, а вообще, под влиянием всей совокупности характеристических отличий известного народа, может окрашиваться в своеобразный национально-характеристический колорит. В этом отношении и литературные произведения народа, особенно произведения сатирического рода, более или менее верно и живо отображающие внутреннюю бытовую сторону его, всегда могут иметь свой исторический интерес. С этой же точки зрения имеет свой относительный интерес и стихотворение святого Григория «На богатолюбцев». И интерес его в этом отношении упредил уже наше слово о нем в подлежащем месте его разбора. Выше, в отделе гномических стихотворений, когда речь у нас шла о той стороне современной Григорию жизни, к которой именно имеет непосредственное отношение сатира «На богатолюбцев», мы не поскупились на большую выдержку из него. Сильно и картинно изображает она изысканно-богатую роскошь современников поэта, раскрывая пред нами с оборотной стороны жизнь золотого христианского века. Не менее ярко и образно поэт разоблачает в этом стихотворении софистику богачей, которые притесняли бедных, но которые между тем оправдывают себя странным указанием на то, что есть люди и похуже их. «Что ни есть у твоего ближнего, – пишет святой отец богачу, – все гвоздь тебе в глазу. На помощь рукам у тебя готова и клевета. Ты заимодавец бедного и вскоре потом и истязатель его. Ему грозят пытки и оковы. Ты называешь его и другом морскому разбойнику и жалуешься на него в том, будто вол его сделал когда-то обиду твоим волам. Что же это за обида, скажи мне? Вол такого бедняка, а мычал громче и как будто еще вызывал на драку твоего вола, даже как будто уже одолел его. И тень от его дерев, падая на твои дерева, причиняет им вред. И мальчик его ходил по твоему полю. И ты представляешь свидетелей, а если по случаю сам умен, – тебе верят и без свидетелей, и у бедняка пропадают и вол, и мальчик, и сад. Дальше, оправдываясь, ты говоришь: «Положим, я нагл. Что ж, разве не найдутся мне подобные и из древних, и из новых?» Выставляешь примеры: «Допустим, что я обогащаюсь неправедно, но иной захватывал во власть свою и целые народы и города», – и опять тотчас же прибегаешь к примерам. На это хочу сказать тебе одну басню, басню очень приличную твоим лжеумствованиям. Смеялся некто над совою. И сова от каждой насмешки увертывалась ловким ответом. «Какая у тебя голова!» – говорили ей. – «А какая у Дия?» – отвечала она. – «Какие светлые глаза!» – «Точно как у светлоокой». – «Голос неблагозвучен!» – «А у сороки еще неблагозвучнее». – «И ноги тонки!» – «А каковы тебе кажутся у скворца?» Но без труда отразив все это, как ни умна была сова, она уступает в одном. Ей говорят: посуди же ты, умная, у каждого есть что-нибудь одно, а у тебя все вместе и все чрез меру – и глаза навыкате, и голос отвратителен, и ноги тонки, и голова велика. И дорогая сова, выслушав это, пошла со стыдом. А от тебя не дождешься и этого; напротив того, птица в басне гораздо умнее тебя. Все есть в одном, – в том и беда твоя…»308
Лучшим из всех стихотворений в сатирическом роде следует отметить сатиру «На женщин, которые любят наряды». Она любопытна не в одном только историко-литературном отношении, в каком нередко и классические по своему времени произведения бывают непонятны впоследствии без исторических нравоописательных комментариев на век, которого автор их был выразителем. Она весьма интересна и в живом, непосредственном, современном значении своем и притом интересна и безусловно понятна именно как сатира. Четырнадцать ровно столетий прошло со времени появления этой сатиры, а между тем в верном зеркале ее современные модницы могут так же нечаянно хорошо узнать себя, как изумленно узнала себя в зеркале некая особа у нашего дедушки Крылова. Странно даже, тот род мнимо-изящных вкусов и обычаев женских, на какой нападает в своей сатире святой отец, относится к такой области, где непостоянство, разнообразие до безобразия и чисто женски-капризная изменчивость признаются и первым достоинством, и непременным правилом. И однако ж, моды, манеры, утонченные приемы и формы кокетства знатных гречанок IV века с большим успехом могли бы украшать ревностных поклонниц «последней моды» нашего XIX столетия. Поэт как будто изображает нам в своей сатире будуары современных нам представительниц модного света, говоря о щеголихах своего времени, что «у них не было покоя ни дверям, ни ключам, ни зеркалам, ни притираньям, ни парикмахерам, так что весь дом приходил в содрогание»309 Тут, в сатире его, находят свое осуждение и так недавно еще безобразившие головы женщин шиньоны, и игриво рассыпающиеся локоны, и всевозможные нынешние косметические средства: различных родов и назначений помады (для головных волос, ресниц, бровей, губ), духи, румяна, белила. Прихотливые моды, вздорные туалеты, изысканные условности и претензии позы, выдержки манер образуют под духовно-сатирическим пером автора смешные, но живые картины. По обычаю своему он простирает далеко свой анализ: комичные явления, уродливые фигуры, забавные сцены и сценки женского легкомыслия следуют друг за другом, с ярким разнообразием возобновляясь из источника, который кажется исчерпанным. В этом колоритнейшем образчике произведения истинно греческого сатирического таланта с особенной рельефностью выразились и необычайная сила остроумия, и гибкость, и легкость, и яркость, и тонкая насмешливость, и скорбные ноты чувства разлада наличной действительности с нравственным идеалом.
«Не стройте, женщины, на головах у себя башен из накладных волос, не выставляйте напоказ нежной шеи. Неприлично женщине показывать мужчинам открытую голову, хотя бы и кудри, переплетенные в золото, обрамляли обнаженную шею ее или несвязанные волосы, как у скачущей менады, развевались туда и сюда нескромными ветерками; неприлично ей носить гребень наверху, наподобие шлема, или видную издали мужчинам и блестящую башню; неприличен ей и такого рода головной убор, что сквозь него просвечивают твои волосы, вместе покрытые и открытые, и, сияя как золото, где сбежало покрывало, выказывают мастерство твоей трудившейся руки, когда, поставив пред собою слепого наставника – свой истукан в зеркале, с его помощью писала ты свою красоту…
Если природа дала вам красоту, не закрывайте ее притираниями, но чистую храните для одних супругов своих и не обращайте на постороннего жадных очей: вслед за очами неблагочинно ходит и сердце. А если не получили вы в дар красоты при рождении, то не покупайте ее, подобно распутным женщинам, за несколько оболов; непрочна ведь эта красота: она легко стирается и стекает на землю; она не может удержаться на тебе даже во время смеха, а тем более – во время слез, ручьи которых тотчас же изобличают ее в подлоге. Блестящие и полные прелестей ланиты твои вдруг, к великому смеху, являются разноцветными: там выходит черная полоса, тут выступает красная, рядом показалась какого-то двусмысленного цвета с крапинами – точно луг, на котором растут попеременно цветы двух родов, и приятные и неприятные. Поэтому или не расписывай своего тела, или, расписав, постарайся сберечь.
Походя на галку, описанную в басне, и зная, что эта птица, гордившаяся чужими перьями, вскоре ощипана и предана осмеянию, как и ты не подумаешь о последнем позоре, о пагубной красоте?
Да и что пользы в накладной красоте, когда старость покроет морщинами лицо, дотоле цветущее, когда дряхлость членов нельзя закрыть никакими прикрасами и остаток плоти походит на что-то обожженное огнем и вынутое из пепла?..»310
Но что же и вредного, может спросить читатель стихотворения, во всех этих косметических и мнимо-эстетических средствах с точки зрения собственно христианской морали? Не сводится ли тут все дело к одной только наружности, недостойной не только негодования и скорби великого отца Церкви, но и просто – внимания святого мужа?
Кто внимательнее прочитает сатиру, тот не может не заметить, что и в этом полушутливом произведении, разоблачая смешную сторону неразумных поступков, поэт не скользит только по одной комической наружности их, но и с оружием смеха, как опытный врач духовных недугов, он проникает в самую сокровенную глубь мотивов, целей и следствий изобличаемых поступков, рассматривает, обсуждает и осуждает их как страсть, как порок, как грех, сколько смешной, столько же и пагубный по своим последствиям. Почитаем дальше святого отца. «Рассказывают о гордом павлине, что, когда изогнув шею в виде круга, поднимает он свои золотистые и звездами усеянные перья, тогда начинает приветливо окликать своих жен: для меня удивительно будет, если и женщина подкрашивает лицо свое не для похотливых очей. И ведь смеха достойно то, что, стараясь утаить свою живопись от мужчин, мужчин же вводишь в секрет своей красоты, потому что те составы, которыми ты восхищаешься, приготовляли мужчины – строители безумной своей страсти. Это изобретения не целомудрия, но распутства; и распутство видно во всем том, на что ты ухищряешься для мужчин.
Если ты к супругу своему питаешь такую же любовь, какую и он к тебе с тех пор, как цветущею девой ввел тебя в брачный чертог, – это приятно ему. Но если стараешься понравиться взорам других, – это ненавистно твоему супругу. Лучше тебе внутри дома своего скрывать прелести, данные природой, нежели неблагочинно выставлять напоказ прелести поддельные» 311.
К чему ведут «выставляемые напоказ женские прелести», поэт изображает дальше с тонким пониманием оттенков женского характера и со сжатой пластической образностью чисто античной художественной кисти. В немногих штрихах, едва достаточных для общего контура небольшой картинки с натуры, для абриса простой житейской сцены, он передает, в сущности, содержание целого психологического романа женщины, начиная со случайной завязки или тайной интриги и кончая обыкновенной развязкой.
«Выставив напоказ свои соблазнительные прелести как сеть для стада пернатых, сперва станешь любоваться тем, кто тобою любуется, и меняться взорами; затем начнутся усмешки и обмен словами, сначала незаметно, украдкой, потом все смелее, свободнее. Дальше. но лучше не говорить, что обыкновенно следует дальше за этим. Самая невинная шутка женщины с молодым человеком уязвляет, как острое жало. Тут все неразрывно идет одно за другим, подобно тому как железо, притянутое магнитом, само притягивает другое железо» 312.
Поэт изливает свое негодование на мужчин, которые, потворствуя беспорядочности жен своих, «срамными делами своими уподобляются свиньям. Они не только не гнушаются женскими прикрасами, но сами же подкладывают в огонь сухие дрова, когда надлежало бы их убавлять, а не прибавлять. И есть мужья, которые стараются еще превзойти друг друга в нарядах жен, чтобы одному перед другим иметь преимущество в безрассудстве. Часто и при недостаточных средствах употребляют они все усилия, чтобы возбудить наглость жен своих» 313. Все это было бы непонятно поэту, если бы не было известно, как необузданно сильна и слепа любовь как страсть. «Рассказывают, – говорит он, – что некто скитался по утесам, влюбившись в пустой и не имеющий вида отголосок, называемый эхом. А другой воспылал любовью к собственному своему изображению и бросился в источник, чтобы обнять подобие гибельной красоты своей. И еще одна узявилась любовью к прекрасным струям реки, в безумной страсти не могла отойти от милых берегов, лобзала воду, черпала ее руками и ловила пену, но и водами не могла угасить в себе пламенеющей любви. Так слепа и непреклонна любовь!..
Нимало не удивительно, если и ты, расцвеченная, розоперстая, одетая в роскошные ткани и откидывающая назад голову, сведешь с ума молодого человека, и даже не одного, но всякого, для кого расписываешь себе лицо. Известно, что один искусный художник своей живописью ввел в обман быка, изобразив красками на доске корову. Необычайна такая любовь – живые звери стремятся к бездушным изображениям! Подобно им и ты влечешь мужчин, у которых зверонравен ум и женонеистова жизнь»314.
Дальше поэт сообщает любопытные сведения для характеристики современной ему великосветской модной женщины, противопоставляя ей образ скромной целомудренной женщины. «Не нужно ей (целомудренной) это золото, перемешанное с драгоценными камнями и сквозящим своим блеском поражающее взоры, – золото, в виде цепи разложенное на груди, жемчужным бременем отягчающее и обезображивающее уши или увенчивающее голову. Не дороги для нее эти золотые одежды, эти хитрые произведения из тонких нитей, то багряные, то золотистые, то прозрачные, то блестящие. Не губительные для кожи составы, не подрумяненные губы украшают женщину. Ее красота не в том, чтобы поверх расписанных веждей носить черную бровь, заворачивать внутрь увлажненные зрачки, изнеженным голосом привлекать к себе благосклонный слух, руки и ноги стянув золотыми, вожделенными и приятными для тебя узами, представлять из себя что-то рабское, тело и голову умащать роскошно-ароматическими духами, жевать во рту что-нибудь неупотребительное в пищу 315, держать в непрестанном движении подбородок и, как бы из презрения к целомудренным, из зубов и из увлажненных уст точить пену. Не восхищайся роскошью седалищ, не старайся выказывать себя сквозь искусно сделанные и сквозящие створки, высматривая тех, которые на тебя смотрят. Не гордись ни множеством слуг, ни служанками – этой угодливой свитой твоего сердца. Вестники весны – ласточки, плодов – цветы; по служанкам можно заключать о госпоже. Подумай-ка обо всем этом. Хотя не важно неприличие чего-нибудь одного, однако же все вместе и одно при другом – несомненная пагуба» 316. «Если ты и не покоряешься плотской похоти, а служишь только похоти очей, то и эта воздушная любовь есть уже болезнь» 317. «Один цвет приятен в женщинах – это добрый румянец стыдливости. Его живописует наш живописец. А красильные вещества лучше побережем для стен и для таких женщин, в которых производит бешенство и помет молодых людей» 318.
Следует ряд положительных наставлений и советов; поэт спешит оплодотворить сатиру спасительными назиданиями и очистить выставленные им печальные картины порока, вызывая образцы добродетели и целомудрия; во взгляде на добродетели и обязанности женщины поэт сходится отчасти с воззрением на тот же предмет древнеклассических поэтов. «Лучшая драгоценность для женщин, – внушает он, – добрые нравы, то есть сидеть больше дома, беседовать о Божием слове, заниматься тканьем и пряжей (это обязанность женщин), распределять работы служанкам 319 и избегать с ними разговоров, на устах, на глазах и на ланитах носить узы; нечасто переступать за порог своего дома, искать себе увеселений только в обществе целомудренных женщин и в одном своем муже, для которого ты, с Божия благословения, разрешила девственный пояс» 320. Кротким, любвеобильным, отеческим увещанием и убеждением следовать его советам поэт и заканчивает свое стихотворение. «Послушайся моих советов, женщина, и не поддавайся мысли – накладывать руку на лицо свое. С такими женщинами, дочь моя, не плавай на одном корабле, не ходи на общий совет, не живи под одной кровлей. Другим предоставь излишества; а ты бойся и похвалу выслушивать из уст мужчин – в этом доброе имя женщин…»321
Прежде чем перейти к изложению содержания стихотворения «Προς Μάξιμον» [ «Максиму"], лучшего из произведений частной сатиры святого Григория, нам кажется уместно сказать сначала несколько слов о самой личности Максима, против которого направлена сатира. Довольно подробные биографические сведения о нем сообщает сам же поэт в историческом стихотворении своем «О жизни своей».
Максим, родом из Александрии, был христианин, но, получив образование в школе циников, он усвоил себе как внешние знаки воспитанников этой школы, так и их дурные нравы, их порочные наклонности. Он ходил всегда не иначе, как с палкой в руках и с распущенными по плечам волосами, окрашенными в модный золотисторусый цвет и старательно подвитыми в локоны, но при этом носил грубый философский плащ, в какой одевались и древнехристианские аскеты 322. Чувственность, гордость, корыстолюбие и честолюбие были отличительными чертами его характера. Принадлежа к классу искателей приключений, которых (искателей) было тогда немало, он не имел определенного местопребывания, а постоянно переходил из одного места в другое, из одной страны в другую. К причинам этой скитальческой жизни нужно отнести и то еще, что он в каждом месте своего пребывания или предавался открытому разврату, или попадался в каком-либо важном преступлении, вследствие чего, по определению суда, изгоняем был вон. В Египте он даже был жестоко высечен за разные преступления; следы этого наказания долго оставались на нем и после и пригодились ему для успеха одного из самых «циничных» его замыслов. По прошествии многих лет скитальческой жизни по разным местам, он прибыл, наконец, в Константинополь с намерением овладеть епископской кафедрой, на которую незадолго пред этим возведен был святитель Григорий. С этого момента святой отец и описывает его в упомянутом стихотворении. «У нас в городе был человек женоподобный, какое-то египетское привидение, злое до бешенства, пес, и пес из мелких, уличный прислужник, безгласное зло, китовидное чудовище, красный, курчавый, косматый. Курчавым был он издавна, а космы изобретены вновь: искусство – второй творец. Всего чаще это бывает делом жен, а иногда и мужчины золотят и завивают волосы, остриженные по-философски. Употребите же в дело, мудрецы, и те притиранья, которые на лицах у женщин. Почему же, в самом деле, одним женщинам пользоваться этой привилегией, которая служит безмолвной вывеской нравов? Что Максим не принадлежит уже к числу мужчин, это таилось до времени, а теперь показала его прическа. Для нас удивительно в нынешних мудрецах, что природа и наружность у них двойственны и жалким образом принадлежат они обоим полам: по волосам походят на женщин, а по жезлу на мужчин. Этим хвастался и Максим, как человек, значащий что-то в городе; у него плечи всегда осенялись золотыми кудрями; с волос, как из пращей, летали умствования, и всю ученость носил он на теле. Он, как слышно, прошел по многим лукавым путям. Наконец он появляется в Константинополе» 323 Здесь не были известны ни его имя, ни его прежняя жизнь; поэтому ему легко было обмануть православных и расположить их в свою пользу. Он старался показывать себя ревностным защитником Православия, строгим блюстителем всех установлений Церкви, восхищался проповедями святого Григория Богослова и пред всеми выражал свое удивление его высокой образованностью, чистотой и силой его учения о Святой Троице; к еретикам выражал презрение и ненависть как за их нечестивое учение, так и за те страдания, которым он будто бы подвергался за ревность к Православию. Он показывал при этом рубцы на теле, которые на самом деле были вышеупомянутыми следами наказания, заслуженного им разными преступлениями. Лицемерной святостью своей и безукоризненным выполнением роли ханжи он успел не только подкупить и привлечь к себе расположение народа, но и вкрасться в доверие и дружбу самого святого Григория Богослова. «Кто из добрых, – писал после святой отец, – в состоянии приметить, как человек злонравный хитрит, завязывает, приводит в исполнение свои козни, всегда умея закрыть себя тысячами уверток? И кто готов на негодный поступок, тот за всем наблюдает и высматривает удобное время. А кто расположен к доброму, тот по природе мешковат и не склонен к подозрению чего-либо худого; от чего добродушие и уловляется удобно» 324 Жертвой этого добродушия сделался и святой Григорий; он настолько проникся уважением к Максиму и к мнимым достоинствам его как доблестного исповедника веры, что часто принимал его у себя, приглашал нередко к своему столу, читал вместе с ним, рассуждал о разных предметах веры и о средствах ослабления еретиков. Мало того, в похвалу его он произнес в церкви слово, известное в творениях святого Григория под заглавием «Слово в похвалу философа Ирона, возвратившегося из изгнания». Хотя и здесь, в этом похвальном слове, он, обращаясь к Максиму, называет его псом (приноравливаясь к тому, что он был циник, от слова κΰων,– пес), но называет его так совсем в ином тоне и ином смысле, чем в сатире. «Приступи, пес, – обращается он к Максиму в похвальном слове ему, – назову тебя так не за бесстыдство, но за дерзновение, не за прожорство, но за то, что ограничиваешься насущным, не за лаяние, но за обережение доброго, за неусыпность в охранении душ, за то, что ласкаешься ко всем, которые тебе – свои по добродетели, а лаешь на всех чужих» 325.
И вот, в то время, когда святой муж осыпал его похвалами, ласками, знаками самого искреннего доверия и высокого отличия, этот «ласкавшийся ко всем своим» пес готовился исподтишка укусить своего благодетеля – замышлял захватить его место, а самого святого Григория изгнать вон из Константинополя. Это обстоятельство, характеризующее личность Максима, нет никакого основания ставить в причинную связь с происхождением самой сатиры на него, написанной по другому случаю. Grenier, находя этот частный случай слишком мелочным и маловажным, считает его недостойным пера великого епископа. По этому поводу он говорит: «В данном случае выступает опять старый человек (le vieil homme), так сказать, прекрасный греческий ум. Христианин выдержал побитие камнями, прекрасный греческий ум раздражился эпиграммой. Максим поддразнил (harcelait) его плохими стихами и даже вызвал на род поэтической дуэли. Григорий не мог удержаться от принятия вызова: представлялся прекрасный случай проучить невежду. Но для епископа – какая победа! Не лучше ли было бы противопоставить этой бездарности (a ce miserable) молчаливое терпение презрения (la muette patience du mepris)?»326
Если нужно говорить об уместности возражения святого Григория, хотя бы и в форме сатиры, именно в данном случае, то разве только по поводу рассуждения на этот счет Гренье. Если в сфере пастырско-христианских отношений своих святой Григорий, по духу Христова учения и сообразно заповеди евангельской, в борьбе со врагами противопоставлял при случае смирение, простиравшееся до самоотвержения, то в области интеллектуальной жизни и интеллектуальных интересов, в области литературного образования и на почве литературной борьбы те же качества, смирение и «молчаливое терпение презрения», едва ли могли иметь значение для него подвигов добродетели. Этот образ поведения не мог украшать его не только как «прекрасный греческий ум», но и как просвещенного представителя христианства среди общества, состоявшего из тех же «старых греческих умов». Это последнее обстоятельство, упускаемое из вида Гренье, очень важно, по нашему мнению, при суждении по затрагиваемому им вопросу. Греки, аплодировавшие художественно-поэтическим проповедям Григория и сопровождавшие свои рукоплескания пронзительным криком, поднимавшие вверх витию 327, «жавшиеся, как пчелы» к церковно-ораторской кафедре его и даже на кровлях домов явно и скрытно записывавшие за ним увлекательные слова и речи его, – греки эти были христианами, но прежде всего – «старыми» эллинами. Гордые своим национальным образованием, избалованные своими классическими авторами, они со своей эллинской художественно-литературной жилкой и в самом христианстве искали элементов, сродных с унаследованными ими литературно-эстетическими традициями и отвечавших их природным склонностям, и в лице представителя христианства не различали, как французский профессор XIX столетия, епископа от «прекрасного греческого ума». Даже больше того, последний они и понимали лучше и увлекались им прежде всего. Святой Григорий и сам хорошо понимал импонирующее влияние своего прекрасного греческого образования на христиан из греков и ясно видел благие результаты этого влияния; он знал, что по тому времени всякая «победа» его, как «прекрасного греческого ума», была с тем вместе и «победой» его как «епископа». Он и старался поэтому не о том, чтобы устранить или ограничить свое литературно-просвещенное влияние на общество, а только о том, чтобы обратить это влияние с пользой для христианской Церкви. «Церковь находилась тогда, – говорил сам он, – в таком еще тесном положении, что немало для меня значило собирать и солому. Для меня очень было важно, если и пес ходит на моем дворе и чтит Христа, а не Геракла» 328.
В силу изложенных соображений мы не удивляемся тому обстоятельству, что когда высокоавторитетного представителя греческо-христианской Церкви, который так горячо защищал для христиан классическое образование и так искренне поощрял христианских юношей читать древних авторов и изучать античную поэзию, упрекают в том, что он и сам-то мало понимает в этих классических авторах и настолько плох как поэт, что может позволить себе вызвать на литературное состязание с ним любого проходимца, – не удивляемся, что он не прибегает в данном случае к приему, какой он находил достойным себя, как ревностный служитель Божий, при побитии его камнями у алтаря Господня. Терпеливое перенесение им «угощения с камнями» в храме Божием, как выражается сам он 329, не сопровождалось и не могло сопровождаться ничем, что бы давало, так или иначе, повод к унижению его и ко вреду самому делу его служения Церкви. Смиренное же и молчаливое перенесение позора в рассматриваемом случае могло быть истолковано в неблагоприятном для него смысле, могло компрометировать его в глазах просвещенных и словолюбивых его соотечественников, могло поселить в них если не недоверие, то недоразумение. Наоборот, блистательный отпор цинику самым приличным и уместным в данном разе оружием – бичом сатиры, был торжеством не только для «прекрасного греческого ума» – Григория, но и для Григория как умного и верного пастыря словесного стада Божия, потому что несомненно усиливал обаяние его величавой личности, которое, в свою очередь, немало способствовало уже одному количественному приросту христианства и таким образом содействовало успехам христианской Церкви в деле внешнего ее распространения.
Вообще, вопрос о том, в какой мере чисто литературный авторитет и слава святого Григория содействовали высокому обаянию среди современников личности его как представителя христианства и в какой степени служили чрез это самое успехам самой религии, хотя бы в указанном отношении, вовсе не так прост и малозначителен, чтобы можно было отделаться от него шутками даже и с остроумием французского профессора риторики.
Со стороны внутреннего содержания своего сатирическое стихотворение «Максиму» интересно для нас по характеристике взгляда святого Григория на поэтическое творчество и вдвойне интереснее еще в этом отношении потому, что автор иллюстрирует этот взгляд свой живым, наглядным, в высокой степени выразительным и типичным изображением современных ему поэтов в лице циника Максима. Не желая портить колорита этого изображения, передадим его подлинными словами.
«Что это? И ты, Максим, смеешь писать? Писать смеешь ты? Какое бесстыдство! В этом уже превзошел ты и псов.
Вот дух времени – всякий смел на все! Подобно грибам, вдруг выбегают из земли и мудрецы, и благородные, и епископы, и художники. И дерзость эта пользуется полной безнаказанностью! Откуда вдруг получил ты вдохновение? Или нечаянно напился ты прорицательных вод и начал потом источать стихи, не соблюдая даже и стихотворного размера? Какие невероятные и неслыханные доселе новости! Саул во пророках; Максим в числе писателей! Кто же после этого не пророк? Кто сдержит свою руку? У всякого есть бумага и трость; и старухи могут и болтать, и писать. Писать смеешь ты? Скажи же: чьей руки дело этот дар – писать? Не далее ведь как вчера для тебя речи были то же, что для осла лира, для быка – морская волна. Теперь же ты у нас Орфей, своими перстями все приводящий в движение, или Амфион, своими бряцаниями созидающий стены. Таковы-то ныне псы, если захотят позабавиться! Верно, смелость эту вдохнули в тебя старые няньки, твои сотрудницы, заодно с тобою слагающие речи; для них, конечно, ты лебедь; для них, без сомнения, музыкальны издаваемые тобою звуки» 330.
Читатель видит, что в этой шуточно-насмешливой форме святой Григорий предъявляет, в сущности, весьма серьезные требования к поэтическому искусству, выходя из совершенно правильной точки зрения на поэтическую способность как на врожденный дар поэта, а не как на внешнее только приобретение путем навыка руки («Кто сдержит свою руку? У всякого есть бумага и трость…»), и еще менее – как на прихоть, доступную всякому, кому придет «охота позабавиться». Имея в виду такой серьезный и правильный взгляд святого отца на поэтическую деятельность, весьма интересно сопоставить дальнейшие в этом стихотворении слова его о себе, что «писать было так же в природе его, как в природе воды – течение, как в природе огня – жжение» 331, с другими местами из сочинений его, свидетельствующими о том, что поэт-богослов ясно чувствовал в себе для поэтического вдохновения и деятельности «присутствие Духа Божия» 332, что он был «органом Божиим, органом словесным, который настроил и в который ударил добрый художник – Дух» 333. Непосредственное впечатление на читателя самих стихотворений святого Григория Богослова, совершенно гармонирующее с его теоретическим воззрением на поэтическое призвание и вполне оправдывающее его собственное признание в своей внутренней способности к поэтической деятельности, не только не позволяет нам сомневаться в том, что великий христианский писатель ничуть не ошибался, противопоставляя себя как поэта, как художника слова античным классикам, но и убеждает нас в том, что он далек был от самообольщения, требуя, чтобы ему на поприще поэтической деятельности оказана была" χάρις λίοντιος» 334, «львиная милость». Уступая силе столь осязательных и решительных доказательств поэтической способности святого Григория, как непосредственному впечатлению самых творений его и его собственному искреннему и вполне сознательному признанию в этом, мы сочли себя вправе опустить без внимания в своем сочинении различные сторонние соображения и догадки ученых критиков в отношении поэтической деятельности святого отца, какими они, прямо или косвенно рассуждая об этой деятельности, старались по-своему мотивировать ее и объяснить происхождение стихотворений Григория Богослова. Исключение в этом отношении мы сделали только для одного из самых распространенных мнений, развиваемого и доказываемого некоторыми критиками в связи с соображением о периоде жизни святого отца, к какому относится его поэтическая деятельность.
Выходя из точки зрения на стихотворения Григория как на плод не столько гения, сколько изумительного терпения, некоторые ученые (например, Флёри) полагают, что святой отец подчинял себя нелегким трудам стопосложения и размера, как одному из видов аскетических упражнений, имевших целью моральное самоумерщвление. Основанием или точкой опоры для такого странного взгляда могло служить следующее уклончивое объяснение самого поэта. «Во-первых, я желал, трудясь для других, связать таким образом свою греховность и при самом писании писать немного, вырабатывая стих»335. Догадка критиков, основанная на этих прикровенных словах, едва ли состоятельна как в исходной точке своей, так и в самом выводе. Степень легкости или трудности для поэта стихосложения не может быть безусловным критериумом ни художественной ценности поэтических произведений, ни внутреннего наслаждения самого поэта своим занятием. Кто хоть сколько-нибудь знаком с общей историей литературы, тот не нуждается в указаниях на примеры гениальных поэтов, которым трудно давалась обработка стиха. Невольно здесь припоминается нам рассказ о Софокле, который однажды сказал, что три стиха стоили ему трех дней. «Трех дней! – воскликнул посредственный поэт, услыхавший эти слова. – Я бы в это время написал их триста!» – «Может быть, – отвечал Софокл, – но они существовали бы только три дня». Пушкин пользуется вполне заслуженной известностью поэта, характеристическое отличие стиха которого – грация, при необыкновенной простоте и естественности. Владея стихом совершенно свободно, он безразлично относится к разным его размерам. «Но из того, что Пушкин совершенно свободно владел языком вообще, стихом в частности, не следует заключать, что стихотворения не стоили ему никакого труда. Черновые рукописи, сохранившиеся после его смерти, показывают, с какой тщательностью отделывал он свою работу, как, не довольствуясь каким-нибудь словом или рифмой, он заменял их другими, другие третьими. и не успокаивался до тех пор, пока не находил самых соответственных, необходимо принадлежащих предмету»336. Даже прозаические классики, отличающиеся чистотой и художественностью стиля, прилагали большое старание к обработке языка и слога. Сочинения Платона, которые кажутся нам написанными так легко и бегло, были сильно проработаны в своей кажущейся простоте, и анекдот о тринадцати различных изложениях начальной мысли «Республики», найденных в рукописях автора, вероятно, основан на факте. Из наших отечественных прозаических писателей можно указать, как на пример в том же отношении, на Тургенева. Пушкин, как и Тургенев, как и всякий другой классический поэт, без сомнения, и знал хорошо, и помнил твердо изречение Горация, обращенное к пизонам: «Вы, о кровь Помпилия, не давайте одобрения тому стихотворному произведению, которое не подвергалось продолжительной обработке и не получило совершенной формы»337. И это не личное мнение Горация, а мнение всей классической древности. Но в самом ли деле еще стихотворная техника так трудно давалась святому Григорию, что занятие этим предметом могло иметь значение для него морального подвига? Позволительно сомневаться, если святой Григорий мог в одну ночь, с вечера к утру, написать прекрасное стихотворение в размере 400 стихов 338.
В связи с этим объяснением выставляется на вид и то соображение, что святой Григорий посвятил себя поэзии уже на старости лет. «Уже то обстоятельство, – говорит Ульман, – что Григорий только в глубокой старости и в аскетическом уединении от мира посвятил себя поэзии, доказывает, что в нем не было таланта и силы поэтического духа; иначе поэтический талант его, без сомнения, сказался бы раньше» 339. По нашему мнению, то обстоятельство, что поэтическое поприще в жизни известного автора следовало за какою бы то ни было другою, положим, проповеднической, деятельностью его, еще не может служить доказательством того, чтобы автор этот не был поэтом по призванию. Это замечание тем более заслуживает внимания, когда, как в книге Ульмана, выставляемое им обстоятельство берется само по себе, как голый факт или априорное положение, без всякой связи с историческими причинами и требованиями такого именно проявления во времени двух периодов общественной деятельности нашего автора, а не другого, обратного. Мы уже не принимаем в соображение тех вовсе не исключительных случаев в жизни знаменитых поэтов, истинное призвание которых указывало им настоящую дорогу далеко не в самой ранней молодости их. А что касается мнения, ограничивающего «полноту и силу духа поэтического» только полнотой и силой физической молодости, то этому мнению нельзя отводить места в серьезной книге хотя бы ввиду следующей серии примеров из одной только греческой литературы. При полной творческой силе и деятельности поэтического таланта из греческих писателей дожили: Солон – до 80 лет, Стезихор и Анакреон – до 85; Ксенофан прожил более 100 лет и на 92-м году жизни он, по собственным словам, еще писал элегии; Симонид, Эпихарм и Софокл жили и писали до 90 лет; предание называет последним трудом старца Софокла одну из лучших пьес его, трагедию «Эдип в Колонне»; трагик Аристарх не прекращал своей литературной деятельности до 100 лет; комик Филемон, достигший 96-летнего возраста и написавший 90 пьес, работал до последнего дня своей жизни340. Почему же отказывать в поэтической силе святому Григорию Назианзину, который, прожив до 90–92 лет, уже на 40-м году своей жизни, по собственным словам Ульмана 341, написал пьесу «De rebus suis»? Сорокалетний возраст при такой продолжительной жизни должен быть, напротив, временем самого высшего расцвета творческих сил и духа поэта. Ульман старается усилить свой довод указанием на то обстоятельство, что Григорий занимался поэзией «в аскетическом удалении от мира». Но кто же из двух справедливее – он ли, со своей точки зрения отрицательно истолковывающий это обстоятельство, или Штрек (Strocklh), по которому уединение святого Григория от мира представляло, напротив, самое благоприятное условие для сосредоточения духовного поэта в себе самом и для беспрепятственного выражения в стихотворениях высокопоэтического настроения души его, по которому потомуто именно в этот период жизни своей святой Григорий и предался исключительно поэтической деятельности, что период этот, сменивший полную трудов и тяжких испытаний эпоху практического общественного служения предстоятеля Церкви, представлял полную свободу, ширь и простор для полета его поэтической способности, для которой «durch die Einsamkeit selbst erst auf allen Seiten Wege geoffnet wurden» [ «через одиночество были впервые открыты все дороги«] 342. Думаем, что объяснение Шрека ближе к делу. А что поэтическая способность родилась у Григория не вместе только со старческими годами его, а с самой жизнью его, Шрек не только не отказывается от этого мнения, а тут же, объясняя вышеприведенным соображением позднее обнаружение этой способности, прямо называет ее «die lange genahrte und verschossene dichterishe Fahigkeit» [ «долгое время сокрытую и лелеемую способность, талант»]. Это последнее замечание немецкого церковного историка очень важно в сопоставлении со свидетельством о том же других ученых. Монто, полагая, что Григорий посвятил себя поэзии для публики с 57-летнего возраста, замечает: «Без сомнения (курсив – А. Говорова), он и прежде писал время от времени стихотворения, но эта отрывочная поэзия его имела характер совершенно частного занятия и не предлагалась публике в каком-нибудь более или менее значительном сборнике»343. Монто, следовательно, разграничивает публичную поэтическую деятельность святого Григория Богослова и частную, внося, таким образом, новую любопытную сторону в затрагиваемом Ульманом вопросе. Еще серьезнее замечание Муратори, высказанное им в предисловии к своему изданию эпиграмм и эпитафий Григория. На основании самого характера некоторых из этих стихотворений, отображающих следы юношеского увлечения автора языческой словесностью, Муратори считает вероятнейшим происхождение их в самой ранней молодости поэта 344 К мнению Муратори очень близко подходит научная догадка Magnin`a, автора одной из популярнейших теорий в истории критики трагедии " Χριστος Πάσχων«, приписываемой святому Григорию Богослову. Время написания ее Григорием (в каком объеме и виде – другой вопрос) он отодвигает гораздо ранее эпохи возвращения Григория из Константинополя в свое отечество (381–390), к какой обыкновенно приурочиваются все стихотворения его. «Строго ученая, грамматически правильная форма трагедии побуждает, – говорит Магнин, – относить происхождение ее к ранней юности поэта, примерно – ко времени пребывания его в Афинах, где он по окончании своих студий с Василием был оставлен в университете для занятия высшей кафедры словесности. На этот-то малоизвестный период его жизни, непосредственно предшествовавший посвящению его в сан пресвитера, то есть до конца 362 года, вероятнее всего, и падает время написания им трагедии»345. Этой догадкой, по мнению Магнина, можно было бы объяснить и вместе оправдать и показание древнего биографа святого отца, что даровитый профессор – так как эдикт от июня 362 года возбранял христианским наставникам пользоваться в чтениях своих текстом Гомера, Эсхила или Еврипида – сумел отлично замаскировать этих классиков в своих чтениях, облачив их, так сказать, в христианское одеяние. Это объяснило бы, думает Магнин, и то, почему в трагедии более, чем в каком-нибудь из других стихотворений своих, святой Григорий Назианзин черпал из источников языческой мудрости.
Но для доказательства несостоятельности гипотезы, допускающей занятие святого Григория Богослова поэзией, как одним из тяжких подвигов с целью морального самоумерщвления, нам кажется, нет надобности даже выходить из пределов текста самих творений святого отца. Мы видим и непосредственно убеждаемся из них, что поэзия, напротив, служила святому Григорию великим утешением в скорбях и страданиях. «Поэзия – врачевство от скорби» – это обычное у него выражение, и силу этого врачевства он не раз испытывал в трудные минуты жизни своей346. А эта благодатная сила, разрешающая печаль, не может быть делом случайности, а тем более – плодом, так сказать, дисциплинарно-морального, механического упражнения в стихослагательстве. Она бывает обыкновенно естественным плодом естественного поэтического дара, каким в высшей степени и обладал святой Григорий Богослов. И подобно тому как Гете говорил о себе:
Ich singe, wie der Vogel singt,
Der in den Zweigen wohnet.
(«Песнь моя – как песнь свободной птицы»), – подобно тому как наш отечественный поэт находил, что призванные поэты
…рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв, –
подобно им и святой Григорий лично сам находил в поэзии чистое наслаждение:
Как престарелый лебедь,
Я пою в своих стихотворениях о себе самом
И нахожу в них утешение;
Я засыпаю под счастливые звуки своих крыльев
И слагаю песнь об освобождении 347.
Поэзия была, можно сказать, инстинктивным языком его. Он «не мог удержать в себе удовольствия и делался вдохновенным», по собственному признанию его348, даже и в проповедях своих, и большая часть их – поэмы, которым недостает только ритма. Существенное же – сила и теплота чувства, живость, игривость, блеск и одушевленная образность – здесь налицо. А что касается до степени художественности самой формы его стихотворений, гармонии ритма, изящества вкуса в выборе метров и чисто поэтического чутья к специфическому значению каждого размера, в этом напрасно завистливые соперники поэта старались найти какой-либо предлог к упрекам ему, и не напрасно за подобные упреки получали они в ответ от него такие возражения: «Вы осуждаете размер моих стихов, но это потому, что сами вы не соблюдаете размера, пиша ямбами и производя на свет какие-то выродки стихов: какой слепец узнавал видящего?.. Не сходятся между собой пределы мидян и фригиян; не одинаков полет у галок и орлов»349.
В обличительном стихотворении «К епископам» и сходных с ним по содержанию стихотворениях «О различиях в жизни и против лжеиереев» и «На лицемерных монахов» поэт восстает против злоупотреблений и тяжких пороков в среде самих предстоятелей и служителей современной ему христианской Церкви. Нападки его на виновников этих злоупотреблений, недостойных «христоносцев» 350, весьма любопытны по самому предмету своему, но отличаются такой беспощадной смелостью и горечью тона, которые, до известной степени, приближают эти пьесы к типу сатирических произведений Аристофана; таково, по крайней мере, впечатление их на читателя. Жалобы святого Григория на властолюбие, коварство, интриганство и произвол епископов высказываются здесь в самых резких выражениях; испорченность современного ему духовенства изображается здесь в самых ярких и живых красках. Но вынося подобное впечатление из чтения помянутых стихотворений, мы и в данном случае не решаемся произнести над ними безусловного приговора новейшего французского критика. Едва ли было бы справедливо, нам думается, в критическом разборе сатирических произведений IV века применить точку зрения на дело XIX столетия, как это допускает в своем сочинении Гренье. Громадная разница между этими двумя эпохами заключается в данном случае, разумеется, не в одних только литературно-эстетических вкусах и понятиях, а главным образом в самом состоянии и положении христианской Церкви как с внутренней, морально-дисциплинарной стороны ее, так и со стороны ее внешнего положения в государстве в отношении к инославным и языческим народам. Нужно слишком хорошо, со всей осторожностью и вниманием, обследовать и изучить условия и характер церковно-исторического момента, вызвавшего сильную энергичную сатиру, прежде чем брать на себя смелость называть ее несправедливой и осуждать ее автора. «Пусть эта сатира, – говорит Ульман, – вызвана раздражением (gereizte Stimmung) Григория поведением епископов собственно против него, в целом она содержит столь индивидуальные и взятые из жизни черты, что она вполне носит на себе печать истины и представляет нам печальный результат того, что высшие церковные должности, именно епископские, замещались в то время лицами, большей частью не только весьма невежественными, но и нравственно в высшей степени недостойными» 351.
В другом месте тот же ученый и, как известно, очень сдержанный в своих выводах и беспристрастный исследователь эпохи Григория объясняет подробнее, каким недостойным путем приобретались тогда духовные должности (die unwurdige Art, wie man zu geistlichen Stellen gelangte; с. 511). «Решительное влияние на выбор епископов, – между прочим говорит он здесь, – одерживали попеременно власть двора, лицеприятие духовных и монахов и воля народа, который свои притязания на право избрания, раньше предоставленное ему, а потом постепенно отнимаемое, часто отстаивал довольно бурно. И почти невероятно, через какие происки, с каким произволом, с каким даже неистовым насилием многие епископы достигали своего почетного места. Примеры сами собой представляются в памяти каждого знакомого с историей». При таком порядке или, вернее, беспорядке вещей, совсем игнорировали, очевидно, два главных при избрании на высшие церковные должности условия или требования: основательную подготовку к ним и правильное передвижение от одной духовной должности и ступени к следующей, высшей. И святой Григорий не в одних только стихотворениях своих, но и в проповедях с особенной силой настаивает на соблюдении этих важных правил и с особенной строгостью восстает против нарушения их. Известно, как горько сожалеет он в надгробном слове своем на Василия Великого, что, между тем как при каждом искусстве и науке употребляют все средства, чтобы усовершенствоваться в них, тут, при этом высшем и священнейшем призвании совсем, не считают этого нужным. «Нет ни врача, ни живописца, – говорит он, – который бы прежде не вникал в свойства недугов, или не смешивал разных красок, или не рисовал. А председатель в Церкви удобно выискивается; не трудившись, не готовившись к сану, едва посеян, как уже и вырос, подобно исполинам в басне. В один день производим мы в святые и велим быть мудрыми тем, которые ничему не учились и, кроме одного произволения, ничего у себя не имеют, восходя на степень. Низкое место любит и смиренно стоит кто достоин высокой степени, много занимался Божиим словом и многими законами подчинил плоть духу. А надменный председательствует, поднимает бровь против лучших себя, без трепета восходит на престол, не ужасается, видя воздержного внизу. Напротив того, думает, что, получив могущество, стал он и премудрее, – так мало знает он себя, до того власть лишила его способности рассуждать» 352.
Или в другом «Слове», в котором Григорий оправдывает удаление свое в понт по рукоположении в пресвитера, в этом истинно классическом произведении по христианско-пастырскому богословию, полно, глубоко и всесторонне раскрывающем идеал истинного пастыря и архипастыря. «Мне стыдно за других, – между прочим говорит он здесь, – которые с неумытыми, что называется, руками, с нечистыми душами берутся за святейшее дело и прежде, нежели сделались достойными приступить к священству, врываются в святилище, теснятся и толкаются вокруг святой трапезы, как бы почитая сей сан не образцом добродетели, а средством к пропитанию, не служением, подлежащим ответственности, но начальством, не дающим отчета. И такие люди, скудные благочестием, жалкие в самом блеске своем, едва ли не многочисленнее тех, над кем они начальствуют; так что, с течением времени и с продолжением этого зла, не останется, как думаю, над кем им и начальствовать, – когда все будут учить, вместо того чтобы, как говорит Божие обетование, быть научеными Богом (Ис. 54:13); все станут пророчествовать, и, по древнему сказанию, по древней притче, будет и Саул во пророцех (1Цар. 10:11). Иные пороки по временам то усиливались, то прекращались: но ничего никогда, и ныне и прежде, не бывало в таком множестве, в каком ныне у христиан эти постыдные дела и грехи. Но ежели не в наших силах остановить стремление зла, то, по крайней мере, ненавидеть и стыдиться его есть не последняя степень благочестия…
Я никогда не думал, чтобы одно и то же значило – водить стадо овец или волов и управлять человеческими душами. Там достаточно и того, чтобы волы или овцы сделались самыми откормленными и тучными. А на сей конец пасущий их будет выбирать места, обильные водою и злачные, перегонять стада с одного пастбища на другое, давать им отдых, поднимать с места и собирать, иных кнутом, а большую часть свирелью. У пастыря овец и волов нет другого дела, разве иногда придется ему повоевать немного с волками и присмотреть за больным скотом. Всего же больше озабочивают его дуб, тень, звуки рожка и то, чтобы полежать на прекрасной траве, у студеной воды, под ветерком, устроить на время из зелени ложе, иногда со стаканом в руке пропеть любовную песнь, поговорить с волами или овцами и из них же, что пожирнее, съесть или продать. А о добродетели овец или волов никому и в голову не придет никогда позаботиться… Но человеку, который с трудом умеет быть под начальством, еще гораздо труднее уметь начальствовать над людьми, особенно иметь такое начальство, которое основывается на Божием законе и возводит к Богу, – в котором чем больше высоты и достоинства, тем больше опасности даже для имеющего ум.
Ныне же изгнан из сердца всякий страх и его место заступило бесстыдство; кто бы ни пожелал, для всякого отверсты и знание, и глубины Духа. Моавитяне и аммонитяне, которым не дозволено входить в церковь Господню, у нас свободно ходят в самом святилище. Для всех отверзли мы не врата правды, но двери злословия и наглости друг против друга. У нас признаком добрых и злых – не жизнь, но дружба и несогласие с нами. Что ныне хвалим, то завтра осуждаем; что другие порицают, тому дивимся; охотно поблажаем во всем нечестию, – столько мы великодушны к пороку! Все стало, как в начале, во времена беспорядочного хаоса, или, если угодно, другое сравнение: как во время ночной битвы, при тусклом свете луны, не различая в лице врагов и своих, или как на морском сражении и во время бури, оглушаемые порывами ветров, кипением моря, напором волн, столкновением кораблей, ударами весел, криками начальников, стонами пораженных, в недоумении, не имея времени собраться с мужеством, мы нападаем друг на друга и друг от друга гибнем. От сего, как и естественно, мы ненавидимы язычниками и, что всего несноснее, не можем даже сказать, что ненавидимы несправедливо. Горько и стыдно сказать – мы выведены даже и на зрелища народные, нас осмеивают наряду с самыми развратными людьми, и ничто так не усладительно для слуха и зрения, как христианин, поруганный на зрелище. До этого довели нас наши междоусобия; до этого довели нас те, которые чрез меру подвизаются за Благого и Кроткого, которые любят Бога больше, нежели сколько требуется» 353.
И между самыми стихотворениями Григория вышеозаглавленная сатира, направленная против нравственной распущенности большей части современного ему высшего духовенства и в особенности против крайней совестливой бесцеремонности его по вопросу о правоспособности и подготовленности к духовным должностям, стоит далеко не одинокой. В стихотворении " Εις εαυτόν και περί επισκόπων« [ «О себе самом и о епископах"] мы встречаемся, например, со следующей картиной «собора» епископов. «Одни пришли от меняльного стола, другие, с загорелыми на солнце лицами, из-за плуга, третьи – от заступа или мотыги, с которой провели они весь день, иные – прямо от весел или войска, не освободившись еще от запаха морской воды или от рубцов на теле, иные же – с сажей на голове от пиротехнических упражнений» 354. И дальше в том же стихотворении: «Как легко ныне отыскиваются предстоятели общества, которые, еще ничего не сделав, идут прямо к достоинствам! О, скоропостижное превращение!.. Вчера еще ты был на театральных подмостках в числе актеров (и что ты делал после спектакля – пусть разведает другой кто-нибудь), а ныне ты сам представляешь нам новое зрелище. Недавно еще ты был завзятым лошадником и поднимал пыль к небу, как иной возносит туда молитвы и благочестивые мысли, теперь же ты – так благонравен и смотришь так застенчиво, хотя тишком, быть может, и прибегаешь к старым привычкам. Вчера продавал ты, как ритор, право, вертел и так и сяк законы, теперь ты сделался вдруг судьей, новым Даниилом. Вчера сидел ты с обнаженным мечом на суде и воровством и насилием, и прежде всего над самыми законами, обращал трибунал в настоящий вертеп разбойников, – и как кроток ты сегодня! Трудно бы было даже поверить, чтобы кто мог так легко менять свое платье, как ты свой образ жизни»355. Осуждая обычай определять на епископские должности без строго испытания соискателей их, поэт говорит здесь: «Рассказывают об орле, что он весьма умно( πανσοφως) испытывает и распознает на солнечных лучах законное или незаконное происхождение (νόθον μεν και το μη) птенцов своих; а мы, не мудрствуя лукаво, легко производим в предстоятели народа( λαοΰ προστάτος) всякого, кто только пожелает, не соображаясь ни с годами его, ни со словами и делами, хорошенько не опробовав даже звука монеты. Мы избираем на епископские кафедры не тех лиц, которых способность к этому испытана уже в горниле времени, а тех, которые сами себя считают достойными епископской кафедры» 356.
(" Ουδέ χρόνον πύρωσιν ενδεδειγμένους,
" Αλλ᾿ αυτοθεν φανεντας άξιους θρόνων».)
Насколько и к чему на самом деле были" άξιοι« [ «достойны"] подобные епископы, мы уже видели из цитируемого стихотворения, в самом начале которого поэт полагает, что лев, пантера и аспид всетаки великодушнее и мягче в сравнении с дурными( κακοίς) епископами, которые все полны неизмеримой гордости, а не любви, которые – волки в овечьей шкуре; «убеждай меня не словами, а делами; я ненавижу учения, которым противоречит жизнь; выбеленные гробы красивы снаружи; но отвратительный запах из них от разложившихся частей удаляет от них» 357. А к чему были способны низшие члены клира, можно видеть из того же стихотворения, которое вообще очень любопытно по своей характеристике нравов современного поэту духовенства. Изображаемый здесь священник весьма развязно предается всем удовольствиям светской молодежи, играет, поет, угождает мамоне, считает для себя открытыми все роды жизненных наслаждений, несется по широкому пути жизни подобно разнузданному коню. «Для таких людей, – говорит поэт, – невежество – хотя и зло, но все же – меньшее зло. двуязычные в своей вере, они служат не закону Божию, а духу времени, непостоянны в своих учениях, как волнующийся Эврип, как гибкая лоза; будучи льстецами и сладким ядом для женщин, они с низшими – как львы, с сильными же как собаки, после каждого стола вынюхивающие тонким носом своим богатую поживу; гораздо более трут пороги они влиятельных, чем умных людей; стремясь более к приятному, чем к полезному. Они вводят чрез это в пагубу еще и ближних своих. Если хотите, отмечу и доказательства мудрости их: один хвалится своим благородством, другой – своим красноречием, третий – своим богатством, четвертый – своим родством; те же, которым совсем нечем похвалиться, превосходят всех своим непотребством» 358. Но больше всего возмущается здесь святой Григорий пороком, который и Спаситель порицал со всем пламенем Божественного негодования и против которого «гораздо позднее святого Григория выступил с резким словом сатиры, растворенной горьким юмором, митрополит Солунский Евстафий; порок этот – лицемерие. Тон, слог и характер изобличения святым Григорием в цитируемом стихотворении этого порока, который он называет " Αισχρών. αίσχιστον» [ «постыднейшим из постыдных] 359, представляют столь замечательную параллель со специальным сочинением Евстафия »Περί ΰποκρίσεως« [ «О лицемерии"] 360, что нельзя не предполагать непосредственного влияния на это последнее сильного, тонко-насмешливого, но смело откровенного и картинного сатирического стихотворения святого Григория Богослова. Осмеивая лицемерие, поэт с большим остроумием и иронией изображает художников его в лице иереев, которые «и бородой своей, и опущенным взором, и согбенным станом, и мягким голосом, и рассчитанной походкой, и всем на свете старались показать вид благочестия, которого и тени не было у них ни в душе, ни в сердце» 361.
Таким образом, представляется достаточно оснований полагать, что острие жала сатиры «Είς επισκόπους» [ «К епископам"] вполне соответствовало острому характеру современных поэту моральных недугов, против которых направлена она. Этого вовсе не отрицает и сам Гренье. «Зло было весьма велико, – говорит он, – и нам нет нужды умалять его. Большинство людей IV века обогатилось чрез религию (prenaient pour religion leur fortune а faire). В стремлениях к наживе, путем захвата лучших мест и беспрестанной перемены и промены их на более выгодные, не было различия между светскими и духовными лицами, все домогались их с одинаковым нетерпением. Не видано было, кажется, никогда более бесстыдных искателей приключений (d'aventuriers plus effronté's).
Усугубляя дерзость развращенностью, всякий считал себя достойным епископского сана. Где останавливались Василий и Григорий, там не колебались невежество и порок; солнце епископата потеряло уже тот блеск свой (cette vertu éblouissante), о котором говорят отцы; первый пришедший с удивлением раскрыл бы глаза. Знали один стыд – молчать; избегали одного срама – не иметь успеха. Неудачные, неблагоразумные, неожиданные выборы, где, как оказывалось, для похищения одобрений не нужно было ни усердия (de Zele), ни знания, ни искуса, были такой соблазнительной приманкой (appat), пред которой не могла устоять слабость человеческая. Примеры, рождая надежду и в то же время оправдывая ее, доказывали, что смелость и шансы ведут к самой завидной фортуне и что испытание – если испытывали – заключалось, самое большое, в нескольких днях притворства и принуждения (de dissimulation et de contrainte). Священники стали как чернь (factus est sacerdos sicut populus).
Соборы установили мудрые и драгоценные правила, но кто заботился о них? Какая власть наблюдала за выполнением их? Еретические епископы, наперекор осуждениям и анафемам, свободно разъезжали по стране, проповедовали из деревни в деревню свои заблуждения, посвящали во священники. Если государственные люди вмешивались в церковные споры, они истолковывали или решали их по обетам интриги, в ущерб права»362.
В этой характеристике эпохи Григория не воспроизводятся ли в сущности черты из той же сатиры поэта «К епископам», в которой, например, читаем:
«Смешно смотреть, что делается ныне. Всем отверст вход в незапертую дверь, и кажется мне, что слышу провозвестника, который стоит посреди и возглашает: «Приходите сюда, все служители греха, ставшие поношением для людей, чревоугодники, утучневшие, бесстыдные, высокомерные, винопийцы, бродяги, злоречивые, щеголи, лжецы, обидчики, скорые на лживые клятвы, снедающие народ, ненаказанно полагающие руки на чужое достояние, убийцы, обманщики, неверные, льстецы пред сильными, низкие львы над низкими, двоедушные рабы переменчивого времени, полипы, принимающие, как говорят о них, цвет камня, ими занимаемого, недавно оженившиеся, кипучие люди с едва пробивающимся пушком на бороде или умеющие скрывать естественный огонь, питающие в глазах воздушную любовь, потому что избегаете явной, невежды в небесном, – приходите смело: для всех готов широкий престол; приходите и преклоняйте юные выи под простертые десницы: они усердно простираются ко всем, даже и не желающим!.. Никто не останавливайся вдали, земледелец ли ты, или плотник, или кожевник, или охотник на зверей, или кузнец, всякий иди: лучше самому властвовать, нежели покоряться властвующему. Брось из рук кто большую секиру, кто рукоять плуга, кто мехи, кто дрова, кто щипцы и всякий иди сюда; все толпитесь около Божественной трапезы и теснясь, и тесня других. Если ты силен, гони другого, несмотря на то, что он совершен, много трудился на престоле, престарел, изможден плотью, мертвец между живыми и добрый священник Царя…»
Я пла́чу и припадаю к стопам Твоим, Царь мой Христос; да не сретит меня какая-либо скорбь по удалении отсюда! Изнемог пастырь, долгое время боровшийся с губительными волками и препиравшийся с пастырями; нет уже бодрости в моих согбенных членах; едва перевожу дыхание, подавленный трудами и общим нашим безгласием. Одни из нас состязуются за священные престолы, восстают друг против друга, поражаются и поражают бесчисленными бедствиями. Другие, разделясь на части, возмущают Восток и Запад; начав Богом, оканчивают плотью. От противных сторон и прочие заимствуют себе имя и мятежный дух. У меня стал Богом Павел, у тебя – Петр, а у него – Аполлос. Христос же напрасно пронзен гвоздями. Предлогом споров у нас Троица, а истинной причиной – невероятная вражда. Всякий двоедушен – это овца, закрывающая собою волка, это уда, коварно предлагающая рыбе горькую снедь. Таковы вожди, а недалеко отстал и народ» 363.
Если, таким образом, в существе дела французский ученый соглашается с этой характеристикой Григорием своего времени, то едва ли справедлив он сам, называя вслед за этим сатиру «несправедливой («injuste»; с. 198) критикой» и, в противоречие с самим собой, предпосылая извлечению из сатиры только что приведенного нами места следующую оговорку: «Nous traduisons ces eclats d'impredente passion sans les excuser, encore moins y souscrire» («передаем эти взрывы неблагоразумной страсти, не извиняя их, еще менее соглашаясь с ними»; ibid.). Ученому XIX столетия, когда он сидит в кабинетной тишине и имеет дело с послушными книгами, удобно, разумеется, распоряжаться по произволу душевными движениями и аффектами героев отдаленной поры христианства, ободряя и рекомендуя одни из чувствований их, порицая и вычеркивая другие. Но не так-то легко было справиться с этими «взрывами» душевными самим борцам христианства, жившим и действовавшим в эпоху, которая, по словам соотечественного же цитируемому критику ученого, была «epoque de passions theologiques, d'enthousiasme religieux, d'ardeur litteraire» [ «эпохой богословской страсти, религиозного энтузиазма, литературного пыла"] 364, – эпохой, стало быть, во многих отношениях исключительной в истории христианства. Знаменитые представители этой эпохи, наверное, не менее ученого XIX столетия понимали то зло, о котором красноречиво говорит Гренье, но, несомненно, гораздо живее и непосредственнее чувствовали его, гораздо сильнее и глубже скорбели и болели из-за него. И можно ли назвать последовательным себе критика, который, не без справедливого сожаления замечая в объяснение широкого развития изобличаемого сатирой зла, что в то печальное время некому было заботиться о мудрых и драгоценных правилах соборных и с авторитетом власти наблюдать за выполнением их, тут же называет «взрывами неблагоразумной страсти» горячие, самоотверженные и благороднейшие порывы мужественно-христианского сердца, направленные именно в сторону этих мудрых и драгоценных правил Вселенских Соборов. А что касается, собственно, до тона, до образа выражения или изложения стихотворения, то здесь-то и имеют свое полное значение слова, высказанные Гренье по поводу стиля сатиры Григория «На женщин-модниц» [№ 29. «На женщин, которые любят наряды"], в отношении которого он замечает: «Тут не спрашивается о том – благородна или неблагородна экспрессия сатирика, мягка или сурова она; тут предоставляется полная свобода истине, которая ставится выше всех лицемерных приличий мира. Истина – это была единственная политика и единственная поэтика этих бесстрашных моралистов» 365. С этой правильной точки зрения, нам кажется, можно «извинить» тон и экспрессию сатиры, которой сам поэт предпосылает следующие слова: «Хотя все вы (епископы) единодушно почитаете меня человеком худым и несносным, далеко гоните от своего сонма, поражая тучами стрел и явно, и тайно (последнее более вам нравится), а я скажу, что побуждает меня и что внушает мне сказать сердце. Хотя не охотно, однако же изрину из сердца слово, как струю, которая, будучи гонима вон сильным ветром и пробегая по подземным расселинам, производит глухой шум, и где только может прорваться из земли, расторгнув узы, выливается из жерла. То же теперь со мною: не могу удержать в себе желчи. Но снесите великодушно, если скажу какое и колкое слово – плод моей горести» 366.
Колким действительно, но воистину справедливым словом заключает он и свою сатиру «На лицемерных монахов», говоря им, что
Τάς παχεας σάρκας, και γαστέρα ογκον εχουσαν
Ή λεπτή χορεΐν είσοδος ου δύναται».
(«Утучненная плоть и расширевшее чрево не могут пройти сквозь узкие врата».)367
* * *
Изд. по: Святой Григорий Богослов как христианский поэт / Сочинение А. Говорова // Отдельный оттиск из приложения к журналу «Православный собеседник» за 1886 г. – Казань: Тип. Имп. Университета. – 1886. – 319 с. Говоров Алексей Васильевич – писатель, профессор Казанской Духовной Академии но кафедре гомилетики и истории проповедничества. Главные труды: магистерская диссертация «Святой Григорий Богослов как христианский поэт» (Казань, 1886); «Основной принцип церковной проповеди и вытекающие из него предметы и задачи церковного красноречия» (Казань, 1895); «Ораторское искусство в древнее и новое время» (Казань, 1897). Для разбора стихотворений святителя Григория Богослова А. В. Говоров делал переводы но изданию французского аббата Кайльо (Cailau), выпущенному в Париже в 1840 году. В 1862-м это издание, с сохранением всех его отличительных особенностей, нумерации, предисловия Кайльо и примечаний, было перепечатано Минем в «Cursus compeltus». Поскольку последовательность произведений в настоящем издании соответствует нумерации Патрологии Миня (и, следовательно, изданию Кайльо), мы позволили себе переработать некоторые сноски А. В. Говорова, касающиеся корпуса стихотворений святителя. В частности: римские цифры при нумерации стихотворений заменены на арабские, удалены отсылки на русский перевод Московской Духовной Академии 1843–1848 годов, а также указаны название произведения, номер страницы и строф (сокращение – ст.) – по настоящему изданию. При отсылке на стихотворные произведения номер тома не указывается, т. к. все стихотворения святителя вошли во 2-й том настоящего издания. Сноски на другие произведения свт. Григория выверены но 1-му и 2-му томам настоящего издания; а на произведения других авторов даны без изменений, с пояснениями издателей в квадратных скобках. Квадратные скобки в тексте указывают на пояснения редакции. – Ред.
Каллин – греческий поэт 1-й половины VII в. до н. э. Основоположник жанра элегии. Тиртей – древнегреческий поэт 2-й половины VII в. до н. э. В элегиях, написанных на ионийском диалекте, осуждал корыстолюбие, раздоры, призывал к единству, восхваляя спартанскую старину и воспевая храбрость спартанских воинов. – Ред.
Фокилид, Солон, Феогнид – греческие поэты VI в. до н. э., выдающиеся представители гномической литературы. – Ред.
Апофтегма, или гнома, афоризм, максима, сентенция, – малая форма дидактической и философской поэзии. – Ред.
Стобей Иоанн – византийский компилятор; жил, вероятно, в первые десятилетия VI в. до н. э. Плодом его занятий был объемистый сборник поучений и изречений разных авторов преимущественно нравственного содержания. – Ред.
С именем Фокилида (см.: Bergk. Poetae Lyrici Graeci. С. 455–75) до нас дошло большое (приблизительно из 250 гекзаметров) нравоучительное стихотворение » ΙΙοι᾿ ημα νουθετικο᾿ ν«, соединяющее орфическо-гесиодические сентенции с местами из позднейших гномических поэтов и с правилами ветхозаветных дидактических книг; по своему происхождению стихотворение это одними из ученых относится к александрийскому периоду (Иосиф Скалигер, Роде, Берней и др.), другими – к одному из первых четырех веков христианской эры (Брунк, Гайсфорд, Эвальд и др.). Первые под псевдо-Фокилидом разумеют какого-либо просвещенного иудейского автора, который, несмотря на разобщающие отличия национальности, в дидактическом тоне, но мягко и без всякой полемической примеси рекомендовал грекам моральные предписания Ветхого Завета. Последние усматривают в нем какого-либо христианина из образованных греков, жившего к концу IV века и сделавшего попытку, под именем Фокилида, согласить в названной поэме новое учение с изречениями древнегреческих поэтов. (См.: Bode. Geschicte d. Lir. Dichtk. Erst. Th. С. 247.) Гораздо ближе по композиции, тону и языку к гномам св. Григория Богослова прекрасное гномическое стихотворение " Γαμικά παραγγέλματα», дошедшее до нас в неполном виде (из 73 гекзаметров) под именем неизвестного поэта Навмахия. В нем автор – по всей вероятности, христианин (см.: Grasse. Gesch. D. Liter. Aegypt. Assyr / Juden, etc. sect. 2, p. 758) – с большим поэтическим искусством выставляет правила для брачных супругов обоего пола; в особенности же подробно останавливается на отношениях жены к мужу.
Развивая в одной из своих проповедей это высшее христианское начало, Григорий Богослов говорит: «Если бы у нас кто спросил, что мы чествуем и чему поклоняемся, ответ готов: мы чтим любовь. Ибо, по изречению Святого Духа, Бог наш любовь есть (см.: 1Ин. 4:8) и наименование сие благоугоднее Богу всякого другого имени» [Слово 23, т. 1. С. 286. Ст. 4].
№ 34. «Определения, слегка начертанные». С. 171. Ст. 1.
№ 32. «Двустишия». С. 162. Ст. 15. Ср.: Начало премудрости – страх Господень (Притч. 1:7). Внутренний процесс благотворности страха Божия, как христианского расположения духа, св. Григорий изображает следующим образом в одной из проповедей своих: «Где страх, там соблюдение заповедей; где соблюдение заповедей, там очищение плоти; где очищение плоти, там озарение; озарение же есть исполнение желания для стремящихся к предметам высочайшим, или к Предмету Высочайшему, или к Тому, что выше высокого» [Слово 39. Т. 1. С. 454. Ст. 8].
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 162. Ст. 60.
Там же. С. 161. Ст. 25.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 169. Ст. 145.
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 159. Ст. 159. Ср. русскую пословицу: «С Бога начинай и Господом кончай» или «Без Бога – не до порога» (Даль В. И. Пословицы русского народа, 1862. С. 6).
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 161. Ст. 39–40. Ср. у Гомера: (Илиада IX, 312). Εχθρός γάρ μοι κείνος όμως Aι᾿ δαο πύλησιν " Ος χʼ ε᾿ τερον με᾿ ν κε᾿ υ θ η ε᾿ νι᾿ φρεσίν ᾿άλλο δε᾿ ε᾿ ίπη. (Для меня ненавистен тот, как врата ада, Кто одно скрывает в сердце, а другое говорит).
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 160. Ст. 23.
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 160. Ст. 5–6.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 166. Ст. 11–12.
Там же. С. 168. Ст. 89–90.
Там же. С. 166. Ст. 24.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 167. Ст. 57–60.
Там же. С. 170. Ст. 169–172.
№ 32. «Двустишия». С. 164. Ст. 77–78; ср. русскую пословицу: «Где клятва, тут и преступление».
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 159. Ст. 6.
Там же. С. 160. Ст. 21.
Там же. Ст. 22.
№ 32. «Двустишия». С. 162. Ст. 19–20.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 167. Ст. 53.
Там же. С. 168. Ст. 97–100.
Там же. Ст. 101–104.
Там же. С. 169. Ст. 149–152.
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 159. Ст. 3.
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 161. Ст. 49–50.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 170. Ст. 189–192.
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 160. Ст. 17; ср. русскую пословицу: «Увечье – не бесчестье. За увечье берут бесчестье», еще: «Хоть плетьми высеки, только чести не лишай».
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 162. Ст. 53–54.
№ 32. «Двустишия». С. 162. Ст. 17–18.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 166. Ст. 13–16.
Там же. Ст. 17–20.
№ 32. «Двустишия». С. 167. Ст. 71–72.
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 160. Ст. 18.
№ 32. «Двустишия». С. 163. Ст. 61–62.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 169. Ст. 133–136.
Там же. С. 170. Ст. 177–180. Ср. русские пословицы: «Кто друг прямой, тот брат родной»; «Доброе братство милее богатства» (Даль. С. 860).
Там же. Ст. 177–180.
Там же. Ст. 181–184.
Ср. у Григория Богослова: " Μίτρον άριστον άπαν« [ «Мера – лучше всего"] в том же 31-м стихотворении, ст. 42.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 170. Ст. 205–208.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 167. Ст. 49–52. Внушая христианину быть постоянно чутким и внимательным к движениям своего сердца, чтобы предотвратить и предохранить себя от всякой порочной наклонности или страсти в самом начале ее развития, Григорий Богослов в одном из слов своих пишет: «Легче – не поддаться пороку в начале и избежать его, когда он только к нам близок, нежели пресечь и стать выше его, когда он уже сделал в нас успехи: как и камень легче подпереть и удержать в начале, нежели поднять вверх во время его падения» [Слово 32. Т. 1. С. 404. Ст. 28].
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 159–160. Ст. 8; и № 32. «Двустишия». С. 162. Ст. 13–14.
№ 32. «Двустишия». С. 165. Ст. 115–116.
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 159. Ст. 9.
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 161. Ст. 43.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 167. Ст. 41–42.
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 161. С. 41–42; ср. совет его своему другу Тимофею в одном из писем к нему: «Не хвалю ни крайней бесчувственности, ни сильной чувствительности к страданиям; первое бесчеловечно, последнее неразумно. Но должно идти срединой» [Письмо 165. Т. 2. С. 516].
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 168. Ст. 93–96.
№ 32. «Двустишия». С. 162. Ст. 10.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 168. Ст. 85–88.
№ 32. «Двустишия». С. 162. Ст. 11–12.
Там же. Ст. 1–2; к этому пословичному изречению Назианзина:" Αρχής καλής κάλλιστον είναι και τέλος и грамматически и логически очень близка русская пословица: «Путному началу благой конец».
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 160. Ст. 13–14.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 169–170. Ст. 165–166.
Там же. С. 167. Ст. 65–68.
№ 32. «Двустишия». С. 164. Ст. 101–102.
Там же. Ст. 93–94.
№ 32. «Двустишия». С. 163. Ст. 57–58.
Там же. Ст. 53–54.
Там же. С. 162. Ст. 23–24.
Там же. С. 164. Ст. 89–90.
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 159. Ст. 11.
"Νόει τά πάντα, πράσσε δ᾿ ά πράσσειν θε᾿ μις«. Там же. Ст. 13.
№ 32. «Двустишия». С. 162. Ст. 12.
Там же. Ст. 5–6.
Там же. С. 164. Ст. 99–100.
Там же. С. 163. Ст. 51–52.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 167–168. Ст. 81–84.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 171. Ст. 217–220. «Полагаю, – говорит св. Григорий в другом месте, – что всякий имеющий ум признает первым для нас благом ученость» [Слово 43. Т. 1. С. 515. Ст. 11].
Сравни следующее место из 14 слова Григория, где он говорит о теле: «Я люблю его, как сослужителя и сонаследника души. Решусь ли истомить его? Но тогда некого мне будет употребить в сотрудника в добрых делах; а я знаю, для чего я приведен в бытие. Знаю, что мне должно восходить к Богу посредством дел» [Слово 14. Т. 1. С. 178. Ст. 6–7]; «Должно сказать вам, братия, что мы обязаны заботиться и о теле – об этом сроднике и сослужителе души; ибо хотя я и виню его, как врага, за то, что терплю от него, но я же и люблю его, как друга, ради Того, Кто соединил меня с ним» [Там же. Ст. 8].
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 167–168. Ст. 81.
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 159. Ст. 7.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 167. Ст. 73–76.
№ 32. «Двустишия». С. 163. Ст. 35–26.
№ 32. «Двустишия». С. 163. Ст. 103–104. Ср. гномическое изречение в стихотворении № 31, (ст. 25–26, с. 161).
Там же. С. 163. Ст. 31–32. Ср. с русскими пословицами: «Пей воду, вода не смутит ума»; «Дали вина, так и стал без ума»; «Вино уму не товарищ».
Там же. С. 163. Ст. 33–34.
Там же. С. 164. Ст. 105–106.
Там же. Ст. 87–88.
Слово 15. Т. 1. С. 206. Ст. 19.
Письмо 7. Т. 2. С. 421–422.
№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». С. 213. Ст. 865–877.
Слово 14. Т. 1. С. 183. Ст. 17.
№ 28. «На богатолюбцев». С. 146. Ст. 60, 66–78, 85–101.
Со словом "ο᾿ λβος« – по ближайшему этимологическому производству от »ο᾿ ϕε᾿ λλω« – умножаю, увеличиваю, »ο᾿ ϕελος« – польза, корысть, прибыль или от »α᾿ λϕο, α᾿ λϕαι᾿ νω« – промышляю, наживаю, приобретаю etc., в древнегреческой классической литературе чаще всего соединялось понятие о счастье, основанном именно на внешнем, материальном благополучии, на богатстве; поэтому »ο᾿ λϕος» и "πλου᾿ τος«, выражая как бы одно цельное, нераздельное понятие, употреблялись вместе, в тесной связи одно с другим, например, в Илиаде XVI, 596; XXIV, 536; Одиссее XIV, 26; ср. III, 208, IV, 208, VI, 166, XVIII, 19 etc. Между тем как для выражения счастья в смысле внутренней, нравственной гармонии человеческого духа с внешними условиями жизни, которая (гармония) зависит не от слепого случая, а от степени развития и усовершенствования самых нравственных качеств, в классическом греческом языке существовало другое слово: »ευ᾿ δαιμονι᾿ α«, например у Платона в «Федре» (ср. 115 и др).
№ 32. «Двустишия». С. 164. Ст. 80.
Там же. Ст. 95–96.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 169. Ст. 141–144.
Там же. С. 167. Ст. 69–72.
№ 32. «Двустишия». С. 164. Ст. 85–86.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 167. Ст. 55–56.
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 160. Ст. 11–12.
Там же. Ст. 1–2.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 168. Ст. 105–108.
№ 31. «Мысли, писанные двустишиями». С. 161. Ст. 51–52.
Там же. Ст. 55–56.
№ 30. «Мысли, писанные одностишиями». С. 159. Ст. 4.
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 169. Ст. 129–130.
№ 32. «Двустишия». С. 164. Ст. 92.
Там же. С. 165. Ст. 143–144. Ср. русские пословицы: «Золото не говорит, да много творит»; «Богатый хоть врет, и то впрок идет».
№ 33. «Мысли, писанные четверостишиями». С. 166–167. Ст. 33–36.
В русском переводе параллелизм этих примеров не так хорошо выдержан, как в подлинном греческом тексте гномов: Φύλλων λαγωύς ε᾿ κφοβοΰσιν οι ψόφοι, ʼʼ Ανδρας δ᾿ άνανδρους άι σκιαι των πραγμάτων. Πλήττων σίδηρος εκπυροΐ και τους λιθυς Σκληρά δε᾿ μάστιξ παιδαγωγέι» καρδίαν. Ρήτωρ πονηρός τους νόμους λυμαίνεται ʼ Αγνός δε᾿ ρη᾿ τωρ εύκρατος άρμονία.
То есть в отношении к первой половине гнома: «Ум легок и не терпит обремененного чрева».
Из классических греческих поэтов сопоставлением в одном предложении разных форм (падежей) одного и того же слова отличается в особенности Софокл. Припомним у него следующие места. В «Антигоне», ст. 13:" δυοΐν αδελφόιν εστερηθημεν δύο«, то есть «обе (Антигона и Исмена) лишились мы обоих (Этеокла и Полинника) братьев»; ibid., ст. 73:" φίλη μετ αύτοΰ κείσομαι, φίλου μέτα«, то есть «любезная (ему) я лягу (в могиле) с ним, любезным». Также и ниже, ст. 141:" επτά λοχαγοί γαρ εφ επτά πύλαις« [ «семь военачальников у семи врат«]. В «Эдипе-царе», ст. 222:» άστος εις άστούς« [ «гражданин меж граждан«]. В «Аяксе», ст. 267:» κοινός εν κοινοΐσι« [ «простой среди простых«]; там же, ст. 467:» μόνοςμόνοις« [ «одинокий средь одиноких«]; ст. 620: » άφιλα παρ᾿ άφιλοις« [ «недружественная у недружественных«]. В «Трахеянках», ст. 613:» θυτηρα καινφ καινον εν πεπλώματι« [ «нового жреца в новом одеянии"], и др.
«Каждый стих представляет вполне законченное назидание». – Ред.
В следующих подлинных словах: «Uorztiglich gut gelingen ihm (Григорию) Gnomen, moralische Spru che, kurz und inhaltreiche «Lehrgedichte», то есть: «В особенности хороши (удачны) у него гномы, моральные изречения, краткие и полновесные дидактические стихотворения». Gr. v. Naz. C. Ulmann, 1825. S. 292.
Архилох Паросский – древнегреческий поэт-лирик (2-я пол. VII в. до н. э.), в древности считался основоположником ямбической поэзии, характерными чертами которой были простота языка и стиля, экспрессия. – Ред.
Сенарий – стих античной метрики; шесть ямбических стоп, последняя стопа могла быть не ямбом. – Ред.
№ 39. «О стихах своих». С. 290. Ст. 60–91.
№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». С. 197. Ст. 45–50.
№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». С. 209–210. Ст. 695–715.
«De pareilles attaques dirigées contre un tel homme, res efforts furieux pour noircir une aussi pure vertu sent la honte d'une epoque. Les refuter, plaider cette cause, ce serait refaire apres le saint lui-meme une apologie superflue et rentrer dans analyse de ses sentiments et de son caractére» (La vie et les poesies de S. Gr. De Nas. P. 205).
Ср.: Слово 18. Т. 1. С. 238. Ст. 31.
В ноябре месяце, когда в Средиземноморских широтах при захождении солнца восходит созвездие Тельца.
№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». С. 198–199. Ст. 120–160.
Там же.
Там же.
Известно, какой популярной и вполне заслуженной известностью в «Илиаде» Гомера пользуется у всех литературно образованных людей знаменитая речь престарелого Троянского царя Приама к Ахиллесу, в которой несчастный отец Гектора, стоя на коленях перед грозным воином, умоляет его, во имя его собственного отца, ожидающего его возвращения, пожалеть удрученного старца, сын которого никогда не возвратится к нему живым, и возвратить ему, по крайней мере труп его. Или, например, прекраснейшая сцена прощальной встречи Гектора со своей супругой у Скейской башни, когда Андромаха, в слезах обнимая супруга, трогательно умоляет его не слишком пренебрегать жизнью, столь дорогой его жене и ребенку. Подобное встречаем и в поэме св. Григория.
№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». С. 205–206. Ст. 500–515.
Ср. у Гомера речь Нестора, вызванную «горькой распрей» Агамемнона с Ахиллесом, в которой мудрый старец видел «горе и посрамление для греков, торжество для врагов» и убеждал ахеян принять его благоразумный совет о примирении (Илиада I, 254–261, 273–274).
№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». С. 227–228. Ст. 1620, 1680–1690.
№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». С. 216–217. Ст. 1055–1070, 1090–1115 и далее.
№ 11. «Стихотворение, в котором святой Григорий пересказывает жизнь свою». С. 221–222. Ст. 1325–1340, 1355–1370.
Там же. С. 201–202. Ст. 275–310.
Труды Киевской Духовной Академии. 1863. Т. 1. С. 425–428.
Труды Киевской Духовной Академии. 1863. Т. 1. С. 422.
№ 1. «Стихи о самом себе». С. 179. Ст. 20–25.
№ 1. «Стихи о самом себе». С. 180–181, 84–185. Ст. 60–100, 260–275.
Там же. С. 184. Ст. 240–245.
№ 1. «Стихи о самом себе». C. 184. Ст. 235.
Там же. С. 186–187. Ст. 345–365.
№ 1. «Стихи о самом себе». С. 190. Ст. 530–545.
Там же. С. 186. Ст. 310–320.
№ 16. «Сон о храме Анастасии». С. 267. Ст. 1–20.
«Потоков пламенеющего духа» (ст. 31).
№ 16. «Сон о храме Анастасии». С. 268. Ст. 35–55.
Там же. С. 269. Ст. 65–75.
№ 16. «Сон о храме Анастасии». С. 269. Ст. 70–90.
В настоящем издании «Стихотворения богословские». С. 11. – Ред.
У Биллия группа догматических стихотворений, надписывающихся общим именем «τά απόρρητα» («Стихотворения таинственные»), состоит не из девяти, а из восьми стихотворений. Из двух догматических стихотворений под одним и тем же заглавием «О Провидении» Биллий помещает здесь только одно (по Бенедиктинскому изданию под № V; lib. I, s. 1), а другое (по Бенедиктинскому изданию следующее за ним, под № VI) он неосновательно причисляет к смешанному отделу стихотворений, ни по содержанию, ни по характеру своему не имеющих с ним ничего общего.
№ 1. «Об Отце». С. 11. Ст. 15–25.
№ 7. «К Немесию». С. 361. Ст. 300–305.
№ 7. «Об умных сущностях». С. 23–24. Ст. 1–10, 50–55.
№ 7. «Об умных сущностях». С. 23. Ст. 25–43.
№ 7. «К Немесию». С. 361. Ст. 306.
Там же. С. 356. Ст. 45.
Там же. С. 358. Ст. 135–145. В другом стихотворении своем. (№ 12. «О подлинных книгах Богодухновенного Писания») Григорий называет внутренний смысл Писания «сокровенным»( κρυπτον), см.: с. 32, ст. 1–3.
№ 7. «К Немесию». С. 358. Ст. 135–235.
Там же. С. 362. Ст. 310–315.
Там же. Ст. 325–330.
№ 12. «О подлинных книгах Богодухновенного Писания». С. 33. Ст. 30–33.
№ 1. «Похвала девству». С. 54. Ст. 235–240.
Там же. Ст. 240–245.
№ 1. «Похвала девству». С. 54. Ст. 250–260.
Там же. С. 55. Ст. 260–265.
Там же. Ст. 275.
Там же. Ст. 275–280.
№ 1. «Похвала девству». С. 55. Ст. 285–295.
Там же. Ст. 297.
Там же. Ст. 299–304.
Там же. С. 56. Ст. 334–335.
Там же. Ст. 340–341.
Там же. С. 57. Ст. 377–379.
№ 1. «Похвала девству». С. 57. Ст. 398–404.
Там же. С. 58. Ст. 438–440.
Там же. Ст. 447.
Там же. С. 59. Ст. 461–464.
№ 1. «Похвала девству». С. 59–60. Ст. 476–491; ср.: № 8. «Сравнение жизни духовной и жизни мирской». С. 86. Ст. 30–35.
Там же. С. 61. Ст. 552–563.
Там же. С. 62. Ст. 609–621.
№ 1. «Похвала девству». С. 64. Ст. 718–723.
Там же. С. 65. Ст. 728–730.
«Ce poéme formait aux yex des contermporains le principal titre de saint Grégoire» (La vie et les poesies de Saint Gr» egoire de Nazianze, par. A. Grenier. С. 179).
Ibid. P. 178.
№ 1. «Похвала девству». C. 60. Ст. 523–528.
№ 1. «Похвала девству». С. 62–63. Ст. 631–644.
№ 2. «Советы девственникам». С. 72. Ст. 340.
Там же. С. 74. Ст. 411–412.
Там же. Ст. 410.
№ 2. «Советы девственникам». С. 75. Ст. 446–449.
Там же. Ст. 475, 478–479.
Там же. Ст. 457–461.
Там же. С. 74. Ст. 402–407.
№ 2. «Советы девственникам». С. 67. Ст. 81–82.
Там же. Ст. 96–98; ср.: № 3. «Увещевание к девам». Ст. 67 и № 4. «К деве». Ст. 2–3.
Там же. С. 66. Ст. 80.
Там же. С. 69. Ст. 208–209.
Там же. С. 67. Ст. 115–116; ср.: № 3. «Увещание к девам». Ст. 91–92.
№ 7. «К Немесию». С. 361. Ст. 304–305.
№ 2. «Советы девственникам». С. 71. Ст. 278–292.
Там же. С. 79–80. Ст. 653–677.
№ 8. «Сравнение жизни духовной и жизни мирской». С. 87–88. Ст. 117–118, 127–133.
Там же. С. 89. Ст. 181–182.
№ 8. «Сравнение жизни духовной и жизни мирской». С. 87–88. Ст. 117–118, 127–133.
Кроме гномического стихотворения (№ 31. «Мысли, писанные двустишиями», ст. 40) правило это встречается и в поэме: «Περί αρετές» – «О добродетели». С. 103. Ст. 488.
№ 11. С. 113.
№ 17. С. 121.
№ 20. С. 123.
№ 21. С. 124.
№ 24. С. 124.
№ 22 и 23. С. 124.
№ 35 и 36. С. 177.
№ 37 и 38. С. 178
№ 39. С. 178.
№ 2. С. 332.
№ 3. С. 333.
№ 4. С. 341.
№ 5. С. 346.
№ 6. С. 352.
№ 22. «Недобрые друзья». С. 124.
Письмо 54. Т. 2. С. 453
Письмо 12. Т. 2. С. 427.
Письма 51, 55, 21, 174, 127, 126 и др.
Письма 13, 146, 147, 148.
Письма 175, 187.
Письмо 167. С. 518.
Там же.
Ср.: 2Цар. 20:9. Илиада I, 1, 501.
№ 5. «От Никовула-отца к сыну». С. 350–351. Ст. 222–260.
[ «Женщина в IV веке по материалам поэзии Григория Назианзина"] При всем желании прочитать это сочинение, нам, к сожалению, не удалось достать его из-за границы. Оказалось, что оно печаталось только для автора и тесного кружка друзей его и в продажу не поступало.
Мизогамия – патологическое отвращение к браку. – Ред.
Письмо 103. Т. 2. С. 489.
Письмо 94. Т. 2. С. 476.
Письмо 171. Т. 2. С. 519.
Письмо 93. Т. 2. С. 476.
Т. е. ненавистником женщин. – Ред.
Письмо 231. Т. 2. С. 554.
№ 3. «К Виталиану от сыновей». С. 337–338. Ст. 179–215.
№ 6. «Советы Олимпиаде». С. 352–354. Ст. 1, 10, 25, 35, 50, 75–100.
" Πολυηχίος« [см.: № 34. «На безмолвие во время поста». С. 285. Ст. 117].
№ 34. «На безмолвие во время поста». С. 283–284. Ст. 25–26, 65.
№ 93. «Другое к себе самому». С. 323. Ст. 4.
№ 34. «На безмолвие во время поста». С. 286. Ст. 177–178.
" Αδάμαστον γλώσσαν». Там же.
"ʼΑτ ά σθαλος λο᾿ γος«. Там же. Ст. 187.
Там же. Ст. 122–127.
Слово 27. Т. 1. С. 328. Ст. 3–4.
Слово 42. Т. 1. С. 507–508. Ст. 24.
Слово 43. Т. 1. С. 518. Ст. 15.
Письмо 51, к Никовулу, о том, как писать письма. Т. 2. С. 451.
Слово 27. Т. 1. Ст. 2.
Слово 4, первое обличительное на царя Юлиана. Т. 1. С. 75. Ст. 49.
Там же. С. 95. Ст. 100.
Письмо 51, к Никовулу. С. 451.
"ΚατάΒυμοΰ»; С. 132.
"Εις ευγενή δύστροπον». С. 143
" Κατά πλουτούντων». С. 145.
"Περί των του βιοΰ διαφορών και κατά ψευδιερεων» С. 269.
"Περί των του βιοΰ διαφορών και κατά ψευδιερεων» С. 269.
№ 25. «На гневливость». С. 132. Ст. 16–28.
αίματος ζεσιν του γειτονοΰντος καρδίφ. Там же. С. 133. Ст. 35–36.
Там же. Ст. 37–45.
№ 25. «На гневливость». С. 133. Ст. 46–53.
Там же. Ст. 54–60.
Там же. Ст. 76–84.
Там же. С. 134. Ст. 87–90.
№ 24. «На тех, которые часто клянутся». С. 128. Ст. 164.
№ 25. «На гневливость». С. 134. Ст. 94–120.
№. 25. «На гневливость». С. 135. Ст. 164–177.
Там же. С. 136. Ст. 237–243.
Там же. С. 137. Ст. 261–267.
Там же. С. 138. Ст. 295–300.
№ 25. «На гневливость». С. 141. Ст. 479–490.
Там же. С. 142. Ст. 506–513.
"ʼʼ Ω κάνθων μυλικε, ι᾿ ππιον υε᾿ χων«. № 26. «На человека, высокого родом и худого по нравственности». С. 144. Ст. 40.
Там же. С. 143. Ст. 1–5.
№ 26. «На человека, высокого родом и худого по нравственности». С. 143–144. Ст. 7–38.
№ 27. «О том же». С. 144. Ст. 1–39.
№ 28. «На богатолюбцев». С. 145, 149. Ст. 25, 32–49; 224–249.
№ 29. «На женщин, которые любят наряды». С. 158. Ст. 285–286.
№ 29. «На женщин, которые любят наряды». С. 152–154. Ст. 1–39, 56–64
Там же. С. 153–154. Ст. 78, 73, 85–90.
№ 29. «На женщин, которые любят наряды». С. 154. Ст. 90–95.
Там же. Ст. 104–112.
№ 29. «На женщин, которые любят наряды». С. 155. Ст. 153–170.
Указывается на обычай щеголих жевать дерево или другое что-нибудь твердое, чтобы, непрестанно возбуждая во рту слюну, поддерживать свежесть рта и не давать губам пересыхать.
№ 29. С. 157. Ст. 230–250.
Там же. С. 155. Ст. 171–172.
" οποσαις λύσση βορβορός Ιστι νεων«. Там же. С. 157–158. Ст.
Вспомним слова Гектора жене своей Андромахе в «Илиаде» Гомера: «Шествуй, любезная, в дом; озаботься своими делами; Тканием, пряжей займися, приказывай женам домашним Дело свое исправлять…» (VI, 490–493).
№ 29. «На женщин, которые любят наряды». С. 158. Ст. 265–272.
Там же. С. 159. Ст. 307–312.
Gregorius von Nazianz der Theologe, v. C. Ullmann. S. 200.
№ 11. «Стихотворение, в котором св. Григорий пересказывает жизнь свою». С. 210–211. Ст. 750–777.
№ 11. «Стихотворение, в котором св. Григорий пересказывает жизнь свою». С. 211. Ст. 799–806.
Слово 25. Т. 1. С. 305. Ст. 2.
Grenier. La vie et les poé'sies de saint Gregoire de Nazianze. P. 200–201.
См.: Слово 42. Т. 1. С. 509. Ср.: № 16. «Сон о храме Анастасии». С. 268.
№ 11. «Стихотворение, в котором св. Григорий пересказывает жизнь свою». С. 215. Ст. 970–975.
Там же. С. 228. Ст. 1655.
№ 41. «Максиму». С. 291–292. Ст. 1–5 и далее.
№ 41. «Максиму».С. 292. Ст. 55–56. «Γράψεις, κατ ανδρός φ γράφειν εστί φύσις Ως υρεΐν, και το θερμαίνειν πυρ». («Scribis contra virum, cui schribere dedit natura,aquae dedit fluere, et igni calefacere».)
«И я вмещаю в себе. Духа Святого». Письмо 101. К пресвитеру Кледонию. Т. 2. С. 482.
Слово 43. Т. 1. С. 546. Ст. 67. Ср. также № 7. «К Немесию». С. 362. Ст. 310.
№ 39. «О стихах своих». С. 290. Ст. 50.
Ср.: № 39. «О стихах своих». С. 289. Ст. 35.
Галахов А. История русской словесности. СПб., 1879. С. 204–205.
Ars poёtica. V. 291 sqq.
La vie et les po esies de Saint Grégoire de Nazianze par A. Grenier. ClermontFerrand. 1858. P. 122.
Gregorius von Nazianz, der Theologe… von C. Ullmann. Darmstadt, 1825. P. 291.
Всеобщая история литературы. Под ред. Корша. Вып. IV. С. 632.
Там же. С. 556.
Christliche Kirchengeschichte von Johann Matthias Schrocokh. S. 437.
Revue critique, etc. P. 167–168.
Monitum in epitaph. v. epigr. S. Gr. PG. T. IV. с. 9–19.
Journal des Savants. 1849. P. 286–287.
См. например: № 14. «О человеческой природе». С. 116–117. Ст. 125.
№ 39. «О стихах своих». С. 290. Ст. 55–60. См. перев. Гренье: La vie et les poesies d. S. G. de Naz. С. 125.
Слово 4. Т. 1. С. 66. Ст. 17.
№ 39. «О стихах своих». С. 290–291. Ст. 70 и 100.
№ 13. «К епископам». С. 260. Ст. 5–10.
Gregorius von Nazianz der Theologe, v. Ullmann. S. 266.
Слово 43. Т. 1. С. 525. Ст. 26.
Слово 3. Т. 1. С. 29–31, 51–52. Ст. 8–10 и 79–85.
№ 12. «О себе самом и о епископах». С. 238–239. Ст. 156–165. Как и во многих других местах своего исследования, А. В. Говоров цитирует здесь произведение свт. Григория Богослова в собственном переводе. – Ред.
№ 12. «О себе самом и о епископах». С. 246, 247. Ст. 393–395, 402–406, 411–412, 415–416, 419–424.
Там же. С. 245. Ст. 371–381.
Там же. С. 235. Ст. 39–42.
№ 12. «О себе самом и о епископах». С. 244. Ст. 330–348.
Там же. С. 255. Ст. 696.
Eustathii metropolitae Thessalonicensis opuscula. Ed. Fridr. Tafel, 4°, 1832. Francofurti ad Moenum. См. в особенности: гл. 27, с. 94.
№ 12. С. 253–254. Ст. 648–651.
La vie et les po!esies de S. Gregoire de Nazianze. P. 197–198.
№ 13. «К епископам». С. 261–263. Ст. 73–110, 139–165.
Etude historique et litteraire sur saint Basile… par E. Fialon, Paris, 1865. P. 1.
Il ne se demande point si l'expression sont il use est noble ou non, polie ou grossiere, il lache la verite а toute bride par dessus toutes les bienséances hupocrites du monde, la verite, c'etait la seule politique et la seule poétique de ces intrepides moralistes». La vie et les poé'sies de S. Grégoire de Nazianze, par A. Grenier. P. 195 sat. Contre des femmes-coquettes.
№ 13. «К епископам». С. 260. Ст. 14–26.
№ 44. «На лицемерных монахов». С. 295. Ст. 45–50.
