Глава первая
Предметные клады русских древностей домонгольского периода и их значение для русской археологии. Необходимость исследования древностей этого периода, на основании господствовавших в пределах России художественных стилей. «Арабский стиль». Орнаментика турьих рогов Черниговского кургана. Вопрос об источниках «звериного стиля». Связи древней Руси с культурою переднеазиатского Востока. Арабский стиль в древностях скандинавских и отношение их к русским. Греко-восточный стиль IX – X стол., известный издревле под именем Корсунского. Памятники Корсунского дела в южной России. Русско-византийские древности XI–XII столетия. Техника древнерусской перегородчатой эмали. Сканное дело в XI–-XII веках. Сканное мастерство Мономаховой шапки и вопрос о её древности и происхождения. Необходимость изучения русско-византийских древностей на основе древностей Византии, как источника важнейших форм личного церемониального убора н связанных с ним общественных отношений.
Под именем кладов издавна принято разуметь те предметы материальной ценности, которые, будучи некогда сокрыты в недрах земли, наскоро сложенными, или тщательно спрятанными, ради сохранности, и в надежде собственника ими воспользоваться, по миновании опасности, уцелели равно от расхищения и своевременного вскрытия, для того, чтобы составить историческую или археологическую находку. Клад всегда, но для определённого времени и места, составляет своего рода сокровище в собственном и переносном смысле, но его ценность может или быть исключительно материальною, если клад заключается в слитках и массе одинаковых монет, или составить важный памятник древности. Именно, в сфере русской древности домонгольского периода клады, состоящие почти исключительно из предметов бытовых и художественных уборов и украшений всякого рода, являются с таким особо важным значением. И если известная исключительность такого рода находок, или даже единичность по местам (один клад Орловской губ., один – Курской, один – Владимирской, один – Смоленской и т. д.) останавливала доселе исследователей русской археологии от всякой попытки общего обозрения вещевых кладов, то замечательные трактаты, посвященные знатоками археологии: В. В. Стасовым, Д. И. Прозоровским, графом А. С. Уваровым отдельным кладам, казалось, достаточно обрисовали историческое значение каждого клада в отдельности. Однако, и теперь изучение русских кладов не может еще считаться начатым, и доселе держится отрицательный взгляд на самостоятельное значение всей группы кладов по отношению к так называемой доисторической древности, или, как в русской археологии уже установилось, к древностям курганным, точнее – погребальным. В самом лучшем случае, исследователи курганных древностей сторонятся от кладов, отказываясь даже понимать их отдельные предметы, относя их безусловно к позднейшей эпохе, почти отрицая связь вещей и форм в кладах и курганных древностях. Главный недостаток кладов, как памятника, полагают в случайности их состава и подбора предметов: клады зарываются наскоро, в суете, в страхе перед нашествием, пожаром, истреблением дома и семьи, состоят из вещей, случайно попавших под руку, разрозненных, разбросанных, нередко лишних вещей и уборов, не бывших в обиходе, не на себе бывших, а хранившихся в ларце, часто из лому и браку, лежавшего там в куче. Многие отказываются понимать неполный подбор предметов, оторванных от их назначения, насильственно разнятых, лишённых пар, крючков, прикреплений, иногда прямо брошенных в клад частями. Находят мало интереса в предметах кладов по их большей или меньшей (что, однако, не было установлено точно) одновременности – предполагается, что клады в большинстве (особенно киевские) зарыты накануне монгольского разорения. Наконец обычно жалуются на дурное состояние предметов, вследствие самих условий сокрытия вещей в грубом горшке, ящике, в мусоре двора, среди развалин и пр., и на дурные условия случайной находки, при землекопных и пахотных работах, и т. д.
Но все эти детальные возражения против исторической важности кладов, как бы ни были сами по себе верны и точны, уступают место тому общепризнанному факту, что клады образуют в России как бы продолжение курганных древностей, точнее говоря, являются со времени распространения христианства и исчезновения языческих погребальных обычаев, оставивших нам курганы, единственными (впредь до исследования христианских могильников) вещественными древностями, местами уже в эпоху XI столетия, местами для XII и XIII веков.
Но так как курганная археология, выросшая лишь в самое последнее время, восприняла свой предмет и приёмы от так называемой «доисторической археологии» или громко именуемой «науки первобытной древности», то и естественно, что, с трудом одолевая массу прихлынувшего сырого материала в виде результатов повсеместных курганных раскопок, в большинстве не научных, а беспорядочных, эта наука с некоторым, упорством останавливается на курганном материале и не ищет даже в кладах пособия к его изучению. Тому препятствуют и всесильные, теоретические взгляды. Исследователь курганов, исходя из основного принципа первобытной археологии, ищет однородного, или хотя бы племенного материала и стремится работать на пользу этнографии, антропологии. Единственный и слепо принятый статистический метод понуждает исследователя сосредоточивать свое внимание прежде всего на погребальных обрядах, хотя бы и отличающихся однообразием, далее, на находках предметов домашнего производства (ткацкого, горшечного и т. д.) и изделиях ремесла, и только после них на предметах художественной индустрии, и то, главным образом, со стороны их типов, распространения, местных групп и пр. Как было некогда заведено в первобытной археологии, каждая область исследуется сама по себе, по руководству одних и тех же теоретических и предвзятых взглядов: всюду предполагается натуральный последовательный рост культуры, собственный ход совершенствования и размножения изделий, и доселе, видимо, еще господствует заблуждение, основанное на понимании варварского мира, как первобытной среды. Исследователь не самостоятелен, работает или для историка, которому чаще всего нет возможности воспользоваться археологическим материалом, или для этнографа, который является и сам пока беспомощным в деле разбора нагромождённых им наблюдений.
Главным последствием принятого этим отделом положения является то, что древностями вещественными занимаются естествоиспытатели, этнографы, антропологи, историки, словом, все те, кто наименее приготовлен к их изучению, и наоборот, благодаря установившимся отношениям, курганных древностей чуждается историк искусства. Иначе говоря, когда производится раскопка кургана, исследователь обязан наблюдать все могущие оказаться свойства и особенности: геологические в насыпи, антропологические в костяках, этнографические – в обстановке могилы и пр., и обо всем этом составляются подробнейшие дневники, но когда добытъ уже самый материал, т. е. вещественныя древности, он перестаёт сам по себе занимать кого бы то ни было, кроме составителя каталога или, наконец, единичного исследователя, заинтересовавшегося формами фибуль, браслетов и пр. В противном случае эти вещи существуют, как номера дневников, их наглядное подтверждение. Наоборот, всякий раз, как эта же археология выставить вопрос о форме, о типах, словом, обратится к истории искусства и перейдёт к историческому исследованию форм, стиля, бытового назначения, торговых отношений, религиозных связей, когда появляются группировки предметов древности или со стороны бытовой, напр. формы уборов, или техники – напр. филиграни, эмали, инкрустаций, или же стиля, – напр. по вопросу об орнаменте геометрическом, растительном и зверином, оказывается, что вся эта масса доселе мертвого материала оживает, освещается внутренним светом. Видимо, история искусства есть общая наука древности и для этого отдела, и только её принципы и методы могут ему придать научный характер, а следовательно сделать из этого предмета любопытства – предмет знания.
С другой стороны, какие непреодолимые трудности встают перед исследователем, если он пытается поставить весь материал местного археологического отдела на почву исследования художественно-исторического. Здесь, прежде всего, почувствуется полная рознь во мнениях, толчея взглядов и враждебность, стремящаяся к первенству, одиночеству И преобладанию; здесь доселе полная невозможность выработать себе общий взгляд, руководящие методы и найти точки опоры.
Сколько толкуют о прогрессе, но как только надо его понять по существу, как непрерывную историческую связь явлений, его нить разом перерывается во всех тех пунктах, где есть нация, на памяти истории выработавшаяся из варварского племени, а раз нить эта порвана, каждый уже тянет свой конец в свою сторону. Ученые при этом процессе следуют, конечно, внушениям неодолимого еще для науки узкого патриотизма, которым они пытаются сдабривать свои обзоры национальных древностей, взамен научного анализа, но источник этого непонимания кроется, отчасти, в том мраке, который окутывает еще древности Византии и Востока. Действительно, когда скандинавский археолог дробит историю европейской орнаментики на исторические отделы, он следует, необходимо, руководству того круга фактов, который ему наиболее доступен. На первом месте он ставит, понятно, не римский мир, с необъятным разнообразием его художественных форм, как известно, отовсюду унаследованных, но узкую среду германо-римской орнаментики, т. е. того художественного рынка или базара, какой был открыт римскими фабриками и мастерскими в разных пунктах Германии для её варваров. Если и можно толковать здесь о художественном «направлении», которое во время Империи будто-бы потянулось на север, то разве о Галлии, никак не о Германии или Британии, а масса распространившихся всюду римских изделий свидетельствует всего мене в пользу существования самостоятельной Германо-римской орнаментики. Тем менее, стало быть, можно принимать в серьезную сторону подобный заголовок «германо-римской» орнаментики, что те же исследователи ищут с особенным вниманием фактов самостоятельного творчества на севере Европы, или даже и находят их то в филиграни, то в звериных формах орнамента, в отличие от римского образца.
С той поры, как стала известна масса оригинальных древностей северного Кавказа, берегов Дона и Венгрии, в которых столь же поразительны, как сторона техническая в гранатовых инкрустациях, так и художественные формы в виде птичьих и лошадиных голов, уже невозможно стало поддерживать скороспелое заключение скандинавских археологов, пытавшихся в скудном подражании этим формам на севере видеть совершенно новые, еще несовершенные создания скандинавского народного воображения. Извинением в этой прежней ошибке может еще служить относительная неизвестность до семидесятых годов древностей Кавказа и Венгрии, но ныне подобные заблуждения казались бы неуместными в науке. Великое переселение народов было окончательным перенесением этого нового «готского» стиля, вернее восточно-варварского, на римский запад, и одною из интереснейших задач будущего археологического исследования со временем явится вопрос об источниках этого стиля, охватившего индустрию Европы от Кавказа до Испании и Англии включительно. Прежняя форма рассматривания готского стиля, начинавшая с его форм в древностях Англо-саксов, и от них переходившая к Франкам, Алеманнам, Бургундам, Лонгобардам (в северной и средней Италии), опять таки стала ныне невозможна, уже по самой силе вещей, не потому, чтобы ученые Швеции, Дании, Германии и Англии убедились доводами своих противников, а по той простой причине, что масса вещей, добытая раскопками и находками 70-х и 80-х годов в Южной России и Венгрии, сама более или менее убедила иных в необходимости признать за югом Европы первенство владения этим орнаментальным стилем. Отсюда все попытки досужего остроумия археологов, объяснявшего формы звериного орнамента последовательною выработкой из линейного, или напр. путём сокращения будто бы целой лошадиной фигуры в одну голову, стали теперь излишни, как и всякого рода рассудочные объяснения мифов, языка и художественных форм, тогда как истинно научный метод заключается в анализе исторического развития звериной формы, от целой фигуры до позднейшего вырождения в бессмысленный орнаментальный придаток.
Но в последнее время замечается уже коренной поворот в приёмах исследования варварских древностей: признано, что переселение народов было переносом с одного конца Европы на другой своеобразной культуры, а потому наступило время и для исторического, сравнительного изучения варварских древностей, начиная с источников в искусстве восточном и греко-римском, идя затем по пути самых народов через южную Россию и по течению Дуная до краёв Европы и кончая изучением всех встреченных на этом пути влияний, перемен и исторического развития в период с III по VI столетие включительно. Очевидно, при такой постановке, на первый план выступают отношения стиля, формы предметов, их орнаментация, и взамен прежней разобщенности, мы получаем связь исторических явлений, открываем в вещах не одни лишь номера дневников, но оживляемых историческою идеею свидетелей народной жизни и общения племён, указателей тех стоянок варварской культуры у берегов Кубани, Днепра и Дуная до отдаленной Испании и берегов северной Африки. Конечно, этот анализ стиля и формы не составляет еще археологии искусства, но он ставит «древности» на свои ноги, делает предмет наукою и в будущем поведёт к созданию исторического периода там, где имеем лишь ходячие и книжные легенды, отрывочные факты, переданные без понимания летописцем и сочинённые по рефлексу построения примитивного быта.
Такой поворот явился сам по себе результатом продолжительных работ над древностями варварской Германии, Франции и Венгрии, с определённою задачею открыть и установить главные типы вещей, мотивы и формы их орнаментики, указать источники всякого рода предметов утвари и убранства в потребностях и изделиях собственной же страны, или в заимствованиях соседней культуры. Образцовый труд Линденшмита по «древностям меровингской эпохи»1 не только освободил предмет от пустых схем каменного, бронзового и железного веков, но и устранил нужду в сомнительных устоях хронологии могильных древностей в виде ли теории типов могил, курганов и погребальных обрядов, но и создал твердую историческую почву в ясно определяемых памятниках конечного языческого и начального христианского периода. Линденшмит избирает первою частью своего общего обозрения германской древности эпоху разрушения и восстановления Римской Империи, как наиболее блестящий отдел этой древности и «многосторонне важнейший», но который был затемнён прежде ложным представлением грубого варварства и дикости. Между тем, именно здесь разнообразные вооружения, своеобразные уборы из золота и серебра, сосуды из стекла и металла, многочисленная утварь на всякую потребу проливают свет на привлекательную картину жизни этого отдалённого прошедшего, и потому исправляют сами историческое заблуждение, установившее факт будто бы полного уничтожения римской культуры.
В русских древностях периода великокняжеского господствует подобное же историческое заблуждение: период этот считается темным не по одному лишь отсутствию исторических свидетельств, но и по господствовавшему будто бы в нём примитивному варварству; историки заранее отказываются изучать быт этой темной, безличной, однообразной среды земледельческого быта и первобытного состояния звероловов и кочевников. Между тем, нельзя принимать, без критики и даже решительного отпора, тех заключений о примитивности древней Руси, которые сделаны нашими историками, только на основании буквально понятой морали начального летописца. Нельзя отождествлять добрые нравы, чистые христианские обычаи с культурою племени, которая напр. могла стоять в языческом периоде для известной местности выше, чем в период христианский, по разным причинам. Еще менее можно характеристику промыслов древней Руси начинать с звериных ловов, рыболовства, бортничества, скотоводства и иных форм хищнического пользования природными богатствами, тогда как, очевидно, основным занятием Славянских племён было земледелие, а рядом с ним издревле уживались и развивались по местностям, под условием торговли, всевозможные промыслы и ремесла. Не было заводов, фабрик, но тем больше было мастерских, и так как, кроме Киева, Новгорода, Чернигова и Смоленска, торговых городов было мало, то тем шире распространялась кустарная промышленность, стоявшая в домонгольский период даже выше, чем в московское время, в период стеснения торговых сношений, суженья страны, обособления ряда областей на западе, юге и востоке, под гнетом страшных нашествий.
Русь домонгольского периода была, в народной жизни, богаче, развитие, выше ближайшего последующего периода, потому, что эта жизнь разливалась шире, во все стороны, и была разнообразна, благодаря небывалому в истории иных народов соединению разнообразных племён в одной стране, как бы под одним гостеприимным кровом. В этом соединении, взаимном ознакомлении, а затем и слиянии был неиссякаемый источник и верный залог всякого преуспеяния, жизненных сель и дарований нации.
Взаимное ознакомление славянских племён, быстро расселявшихся по ракам, с финскими и туранскими племенами севера и востока, кочевыми ордами юга, греко-византийскими колониями, государствами Кавказа, составляет важнейший факт, нами познаваемый в русских курганных древностях IX–XI столетий. Так, древности берегов Западной Двины указывают нам зачастую своими формами и орнаментикою на древности города Великих Болгар, а находки Люцинского могильника Витебской губ. на Тамбовские. Древности западных губерний связаны с южными, а киевские и полтавские с черниговскими; затем северская земля через посредство Оки с центральными губерниями, а Новгородская область через промежуточную Тверь с областью Ростовскою и Владимиро-Суздальской.
Быть может, еще важнее указанной связи характерное обособление всей степной полосы, в частности земли Войска Донского, юго-восточной России и Кавказа. При этом обособлении вся остальная «оседлая» Россия образует в период IX–XI столетий одно целое, открываемое нам общностью её древностей, как результатом живого обмена разнообразных культур, существовавших одновременно, но сложившихся в весьма различные эпохи и обособившихся под влиянием предыдущих тяжёлых условий для страны.
Несомненно, что конечною целью исторической науки должно быть изучение этих разнообразных культур, на основе широкого исследования памятников вещественных, данных этнографии, народной словесности, наконец, языка и т. п., но пока это все будет, археология должна озаботиться тем, чтобы извлечь, возможно, больше из своего собственного материала, т. е. вещественных древностей или материалов, полученных из раскопок курганов, могильников, гробниц, случайных находок, наконец кладов и т. д. А так как археология сама есть только область знания, черпающая свои приёмы из науки истории искусства, которая ставит в основание исследование форм в их художественном образовании и развитии или исследовании стиля, то и здесь мы должны принять своим средоточием, своею главною задачею, изучение курганных древностей, кладов и пр., прежде всего со стороны их стиля, типической формы предметов, её исторических изменений. При этом, однако, мы должны иметь непрестанно в виду, что под формою мы не должны разуметь только орнаментацию, или даже весь внешней вид предмета, но и самый предмет, так как не только внешней вид предмета есть форма, но точнее говоря, и сам предмет есть только известная форма материи, обязанная своим происхождением: во 1-х потребности, которую мы должны себе объяснить, и во 2-х техническим и материальным условиям, создавшим и самую форму и её орнаментацию, и вызвавшим её дальнейшее развитие. Далее, если мы находим, что известный предмет, положим, из разряда древних уборов, заимствован из Византии, то мы должны представлять себе это перенимание в связи с обычаем, обрядом, назначением предмета, которое и должно быть выяснено, прежде чем мы будем обсуждать перемены в его форме, так как они также могут происходить или от забвения основного обычая, или от перемены в нём. Очевидно, что понятие стиля должно быть принимаемо в более широком, чем доселе оно принималось, смысле, но это будет только плодотворно для самой истории искусства, вдавшейся ранее в узкий, формальный схематизм, поддержавший разрыв со многими областями археологии и в особенности народного искусства, богатого содержанием, за то бедного движением формы. Но самое значение стилей в русских древностях станет нам непосредственно понятно, когда мы представим себе, что этой постановкой их мы станем лицом к лицу с вопросами о разнообразных культурные и художественных влияниях на племена древней России в её начальную эпоху; исследование форм восточного стиля поведёт науку к рассмотрению о том, какое именно влияние шло с Волги, из Персии, Сирии, Средней Азии; изучение русско-византийского стиля должно в будущем дать точные указания всего того культурного запаса, который русские вынесли из Византии и своих с нею связей. Понятно, однако, как обширна и трудна подобная археологическая задача, которая составить, вероятно, труд не одного поколения и даже не исключительно учёных отечественных: для нашей же цели достаточно будет лишь наметить выяснившаяся стороны этих задач, чтобы остановиться, в заключение, на собственной теме данного сочинения.
Если славяне появились в пределах России не задолго до VI столетия, когда о них появляются первые известия, то около этого времени они уже распространились значительно внутрь страны, по рекам, на север и юг, следовательно, должны были найти на Западной Двине и на Днепре, куда, вероятно, они даже только вернулись, а не вновь прибыли, вековую и богатую формами культуру в поселенцах, там удержавшихся еще со времён Геродота. В самом деле, если мы находим, напр., известный тип киевских серёг с эмалированными фигурами птиц, от XI–XII столетий, идущим, через посредство гото-аланских оригиналов IV–V столетий, от древне-восточного оригинала, повторенного также Византией, то естественно предположить, что эта форма уже существовала напр. в Киеве, на Дону и на Волге, где есть и древнейшие образцы серьги, задолго до того времени, когда в новой форме, с византийскими украшениями, она становится оригинальным русским типом, подобного которому уже нигде не находим. Так с Востока (из Персии и Средней Азии, также Сибири) пошли наши витые гривны, которых обильные находки принадлежат Вятской области и Полоцкой, и равно первая форма их орнаментации, какую встречаем в Гнездовском могильнике, оказывается арабскою, а также находит себе подобную в Венгрии. Известная орнаментация наглазников в цепях конскою головою с заложенными ушами принадлежит Средней Азии, а змеиная голова браслетов греческому антику. Так называемые височные кольца доселе существуют в Индии, а свой прототип имеют в больших кольцах с ромбоидальным расширением и подвешенною филигранною бусою в Кестели в Венгрии. Всякого рода поясные украшения и подвески к поясам, погремушки и колокольцы испокон принадлежали именно кочевникам, составляли особенность их одежд, приспособленных к жизни на лошади, а потому, вместе с их кафтанами, разукрашенными поясами и портупеями, перешли к конским дружинам многочисленных варварских племён.
Напротив того, весьма важное обстоятельство представляется ясным фактом отсутствие в русских древностях (за исключением Пермской области или края, с древностями близкими к кавказским) прямого влияния характерной орнаментации, ныне называемой «Готескою»: мы не находим ни самих инкрустаций, ни их подобия, ни клювов и птичьих голов по концам, ни тем более фризов из ползущих хищных животных, грифонов грызущихся хищников и пр., которых мы встречаем на массе поясных блях Венгрии, а также в древностях Ломбардии, напр. в известной находке Кьюзи в Тоскане. Знаменитые золотые бляхи из сибирских находок, кавказские древности и находки земли Войска Донского получают себе непосредственное продолжение через Венгрию в Италии, Германии, Франции, Англии и Скандинавии, как первая форма «звериного» стиля, но не в русских древностях: как будто вся эта характерная орнаментация была пронесена мимо и не дала отпрысков на север от Киева. Значит ли это, что славянское население стало приходить и расселяться уже после окончательного ухода с Днепра Готов и других союзивших с ними племён, и притом приходить с северо-запада, а не с юга, не с Дуная в частности, или есть также и другая тому причина, при теперешней бедности данных – вряд ли решить.
Но, спрашивается, какое именно восточное влияние было действующим в периоде VI – ѴIIІ столетий в пределах современной России? На это мы не можем дать пока ответа более точного, чем те указания, которые мы делаем ниже, на основании анализа клада из Тарса и сравнения его с находками Венгрии, причем и клад и эти находки оказываются отмеченными приблизительною датою в найденных монетах или бляшках с монетными штампами Византийской Империи; сравнение клада с находкой в Кьюзи представит нам, как малоазийский образец изменился в варварской переделке. Наши указания сводятся на роль Сирии в её посредничестве между Египтом и византийским Востоком: эта роль так мало пока определена, так слабо напечатлена в собственных памятниках Сирии, что о ней можно говорить условно. Сошлемся кратко на капитальную важность коллекции ампулл Монцы (начало VI стол.), происходящих из Святой Земли, на характер орнаментов и изображении величайшего из варварских кладов – Неди С. Миклош в Венгрии или так наз. клада Аттилы, относящегося к VIII или самому началу IX столетия. Как бы то ни было, но осетинские некрополи на Кавказе открыли нам и сирийские стекла, даже с арамейскими надписями, в пещерных гробницах по берегам притоков Кубани и Терека, и золотые изделия с характерными украшениями из крупной зерни, толстых виноградных веток, и особенно сухой манеры в резьбе, с античным характером растительных орнаментов, а главное мы находим здесь весь общий тип сирийского пошиба резьбы, который знаем напр. в стенных украшениях дворцов Раббат-Аммана, Машита, Сиаха и Сафа в Сирии. Аналогии между скульптурами этих сирийских развалин и рельефами Ломбардии уже намечены у Баттанео в его известном труде по истории итальянской пластики.
Положение общей науки история искусства за громадный период IV – X столетий может назваться крайне смутным: общее обозрение развевается на отделы искусства византийского, арабского, средневековой Италии, Германии, Франции и пр.. и если требуется свести важнейшие данные искусства в одно целое, оказываются большие пробелы, непримиримая рознь во взглядах не научность хронологических определений. Не мудрено, если стороннего зрителя удивляет необходимость вновь пересматривать каждый вопрос, сызнова анализировать всякий важный памятник. В самих отделах иная беда: здесь не достаёт основания в собственной археологии, или общей науки «древностей» византийских, арабских и пр. Отчасти по причинам новизны предмета, а также особых условий н трудностей арабского языка, доселе не существует того, что бы можно было назвать «реалиями», служащими для понимания арабских писателей и существующие могут считаться только началом будущей сложной науки. Вот почему история арабского искусства ограничивается ныне памятниками архитектуры и тщетными опытами отшить в мечетях Амру в Фостате, Куббет-ес-Сахра в Иерусалиме, Тулун в Каире – оригиналы арабского происхождения. Когда же исследование переходит к преданиям о сказочной роскоши дворцов Багдада, Каира и Дамаска, то её памятниками, единственно уцелевшими являются только куски алебастровых фризов да несколько образчиков резьбы в камне и дереве. Конечно, существо вопроса об источниках арабского искусства сводится к отражению той среды, в которой сложился «арабеск», или вообще говоря, новая восточно-арабская орнаментика, во, вместо непосредственного исследования тех вещей, которые были этой средой хотя отчасти, мы встречаем теоретические рассуждения о филисофии и орнаментике арабского искусства, о роли фигурных изображений и т. д., словом, исследования того, что даётся лишь в конце истории, предлагаются в её начале, и потому не на основании памятников, но по общим заключениям религиозного характера Правда, в последнее время уже указано, что господство растительных и геометрических форм в орнаменте Арабов скорее имеет свой источник в принципах коптского искусства, чем в предложениях или даже комментариях Магометова учения. Однако, коптский орнамент изобилует животными формами, что не может быть принят источником арабеска, или мы впадём в обычную ошибку исследователей орнаментального стиля, разбивающих орнамент на элементы и находящих потом эти элементы (аканф, побег, и др.) везде, где требуется. Также вряд ли научно видеть в грубости фигур звериных, напр. льва, выражение орнаментального принципа, стремящихся будто бы низвести фигуру до орнамента: когда так дурно рисуют как никто, то не из принципа, а вследствие упадка искусства, перешедшего в грубые кустарные производства ткани, посуды и пр.
Напротив тех арабеск, где бы мы его ни видели в арабском искусстве, отличается удивительными красками характерного исполнения всех фигур, и геометрических, и животных (плафоны Палатинской капеллы), если только эти последние допущены в среду изображений. Но именно фигуры животного и человеческого мира как бы заканчиваются в X стол. и появляются только в исходе XII века, с общим возобновлением звериного стиля (о чем скажем ниже). За это время, основные принципы арабеска, т. е. геометрическая и растительная декорация, применяются на громадном пространстве в народном искусстве всей южной Европы: именно в этой среде мы встречаем своеобразные арабески вместо античной фигуры, и рисунок, исполненный сканью или филигранью и резьбой в металле, или же подражание этой скани в фонах лиственных разводов.
Но если известные фоны, с тоненькими завитками, подражают сканному делу на золоте и серебре, то разработка геометрических арабесков должна была совершиться в «накладных работах», «штучных наборах» и т. п., точно так же, как самая форма аканфа, постоянно подставляющего свой профиль, обусловлена чеканным мастерством. Конечно, резьба и чекань, т. е. высекание фонов, или углублённых промежутков, между рельефными полосами, решётками, зигзагами и т. д., были первою причиною распространения решетчатого орнамента, с «буколами» или пуговицами, гнёздами камней в перекрестьях и т. д. Всем известно, как всякого рода штучные наборы подряжаются в мозаике, фаянсах и иных облицовках стены, но также металлические «насечки», чернь и прочие соединения разноцветных металлов перенесены в подражательных рисунках в декорацию мечетей и дворцов. Когда станет возможным направить исследование в эту среду разнообразных художественно-технических процессов, которыми издавна славились Персия и Индия и которые древний мир передал в наследие Востоку, тогда и все исследование арабского искусства будет поставлено на научную почву, и нам уяснятся смены художественных форм и украшений в народных древностях средневековой Европы. Вот в каком теснейшем смысле можно говорить о значении русских древностей для западной средневековой археологии, и если такое заключение вызывает пока полный скептицизм её представителей, то лишь потому, что никто из них еще не задавался важнейшим вопросом о происхождении художественных форм, кроме скандинавских археологов, поспешивших разрешить этот вопрос слишком своеобразно. Вот почему также для изучения русских древностей нужно изучать памятники арабского искусства, как на Востоке, так и на крайнем Западе, в частности, как увидим, в Испании.
Еще недавно в истории искусства почти совершенно отсутствовала, какая бы то ни было, серьезная и систематическая обработка материалов искусства арабов, слишком недавно, для того, чтобы мы могли быть требовательны в наших суждениях о роли этого искусства. Археология арабского искусства ограничивалась великолепным изданием памятников Каира (Priss d’Аѵеnnes, Соstе, Воurgоіng), и блестящими исследованиями монет и истории мусульманского мира (в особенности в трудах русских учёных). Но теперь мы имеем уже два опыта систематического обзора памятников искусства арабов на их родине, в Сирии и Египте, и эти обзоры сделаны первоклассными знатоками его: в Англии Станлеем Лень-Пулем и Гайе во Франціи 2. Последний, надписывая, с сожалением, свою книгу заглавием: «арабское искусство», находит, что никогда термин не был более лишён смысла, никогда не стоял в большем противоречии с предметом исследования, как в этом случае. Копты, Ливийцы, Персы, Греки, Сирийцы, словом все народы, покоренные исламом, принесли свою часть в сокровищницу искусства, которое напрасно пробовали называть то мусульманским, то сарацинским, то – всего неправильнее – мавританским. Весьма возможно, что роль Сирии в выработке основного монументального и декоративного типа арабского искусства была незначительна, и что главною родиною его должно признать, как хотят в последнее время, Египет. И древняя Финикия была всегда более фабричным, нежели художественным центром, и как в политическом отношении играла второстепенную роль области, сменявшей своих завоевателей, так и в культурном была по существу лишь посредницею, передаточным пунктом, местом всемирных ярмарок и родиною оптовой торговли. Если мы теперь в Сирии находим памятники всех важнейших художественных школь: от древне-египетской, греческой, персидской, до римских монументов, древне-византийских церквей, первых мечетей и пр., то напрасно ищем богатств сирийских мануфактур, забывая, что торговля разнесла их с самого начала по всему древнему миру, в виде крашеных полотняных и шёлковых тканей, затканных разноцветною шерстью, серебром и золотом, изделий стеклянных, всех возможных видов утвари и украшений, драгоценностей ювелирного и золотых даль мастерства. Конечно, и в этом последнем роде декоративного искусства средневековая Сирия не была самостоятельна, как и древняя Финикия, воспроизводившая типы, изобретённые Египтом, Грецией, Месопотамией, и в эпоху появления арабов, богатые центры побережья: Антиохия, Дамаск, Газа работали в разных отраслях художественной промышленности и совмещая различные стили, от византийского и коптского до персидского включительно. Но наше предположение сирийского происхождения металлических украшений, ввозившихся арабскими купцами, вместе с тканями, бусами, ароматами, стеклянными вещами и драгоценными камнями, указано нам отчасти самыми типами этих древностей. Ближайшее изучение предметов древности IX – X столетий показывает, что их прототипы и образцы выработались, быть может, именно в мастерских Сирии и отсюда, через посредство арабов, распространились на востоке и по северо-восточной Европе.
Сирийское происхождение многих, наиболее драгоценных золотых и серебряных изделий средневековой Европы в эпоху с VI по ѴIII столетие подтверждается и тем доселе смутным обстоятельством смены так называемых «сассанидских» сосудов за указанный период «арабскими» в IX и X стол. Очевидно, что слово «сассанидский», хотя и опирается на художественный характер известных блюд, представляющих охоты царей из династии Сассанидов, вернее указывает на время происхождения, чем на место. Как сказано, слово «арабский» уже давно считают лишь условным термином, которым приходится называть вообще восточные изделия в период распространения ислама, но который уже пробовали заменять разновременно терминами: стиль мусульманский, сарацинский; как говорено выше, Гайе в своём новейшем сочинении, озаглавленном: «арабское искусство», высказывается так против этого титула: «если когда-нибудь бывало заглавие пустое и лишенное смысла, то именно это: «арабское искусство», которое, к моему крайнему сожалению, я должен был поставить на своей книге. Араб никогда не был артистом» и проч. И, действительно, говоря об арабских серебряных сосудах, легко признать, что арабского в них самое большее – надпись на арабском языке, а мы знаем, что латинская надпись не делает вещь римскою. С другой стороны, это нами указанное сочинение знает в арабском промышленном искусстве и стекла, и ковры, и бронзы, и оружие, но не знает вовсе изделий золотых и серебряных и не поминает до одного памятника этого мастерства или резьбы в слоновой кости. Между тем, достаточно сказать, что мы имеем уже целый ряд подобного рода памятников в испанских собраниях, в ризнице ц. Св. Марка, в Кенсингтонском и Британском музеях Лондона, в коллекции Базилевского – ныне в Эрмитаже С.-Петербурга, там же несколько чаш с Кавказа и т. д., но для нас важнее факт нахождения в Пермской губ. в Соликамском уезде (в 1895 году) серебряного сосуда с арабскою надписью, по изображениям, их стилю и технике чрезвычайно близкого к сассанидским сосудам и вместе к серебряным изделиям X – ХП столетий, находимым в России.
В другом выпуске нашего труда, где нам придётся разбирать клады Воронежской губернии, находки приволжские и прикамские, мы еще будем иметь случай подробно говорить о том греко-восточном стиле, который представляется нам древностями северного Кавказа, берегов Дона, а также ветвями этой юго-восточной культуры, достигшими Великих Болгар и Перми, и который, на наш взгляд, тесно связан с древностями кочевых орд, господствовавших, после переселения народов, от Каспийского моря до Карпат. Начала этого стиля могут быть изучаемы в древностях Сибири 3, а конечные формы – в древностях Венгрии 4: эти последние и по множеству данных стиля и также по византийским монетам, сопровождающим находки, настолько близки по времени к начальному периоду древностей восточных славян, в частности «русских» или киевских, что уже простое сопоставление главнейших художественных признаков может подтвердить нашу мысль. Действительно, в древностях русских ѴIII – X стол. мы не находим золота, а почти исключительно серебро, ни гранатовых инкрустаций и вообще всяких цветных накладок, ни украшений из драгоценных камней, оникса и пр.; вместо прежней резьбы в золоте, бронзе, резьбы, напоминающей работу в дереве5, с накладною басменного дела, мы находим почти исключительно украшения филиграневые, сканные, наколом, пунктиром, реже чеканом. Что самое главное – это бедность в древностях Киевской Руси, на первое время, всякой орнаментации из мира животных, тогда как в древностях Венгрии преобладает своего рода «звериный стиль»6. B этом преобладании геометрических форм и растительного типа украшений в русских древностях всего естественнее видеть общий примитивный тип уборов племени, покинувшего давно насиженные места и еще расселяющегося на новых.
Возьмём для примера всем известную пару турьих рогов, оправленных в серебро и найденных Д. Я. Самоквасовым в Черниговском кургане «Черная могила» с византийскими монетами, судя по которым, самые рога не могут быть позднее 960-х годов. Серебряная оправа украшена на одном орнаментами, повторенными в каирских мечетях и на прилепах церкви Юрьева Польского, на другом роге представлена охота варваров с луками на птиц и два сплетения из пары грифонов и драконов, весьма близкого рисунка и техники с серебряными бляшками Гнездовского могильника. Известно, что по первому наблюдению, сохраняющему и доселе свою силу, эти бляшки были сочтены арабскими привозными изделиями, тогда как было и другое мнение, видевшее в них, как затем и во всем могильнике, древности варяжские, т. е. скандинавского происхождения. Утверждать последнее, значит ничего не утверждать, так как именно в среде художественных изделий скандинавской древности даже её отечественные археологи многое относят к привозным арабским изделиям. Но если мы еще решаемся, согласно с здравым смыслом, считать возможным ввоз арабскими торговцами мелких орнаментированных бляшек, то, очевидно, при первом взгляде на громадные турьи рога, что это произведение местное, киевское, а эта гипотеза сразу объясняет нам многое не только в сфере русских древностей, но и в общем движении искусства и культуры в X веке.
Пара турьих рогов Черниговского кургана была оправлена в серебро, вероятно, с обоих концов, но из этой оправы уцелела только кайма на широких концах и обрывок перехвата на средине одного рога; куда девалась остальная, оправа, неизвестно. Но и эти остатки оправы, по своему орнаменту и по своей древности составляют замечательный памятник, относящейся к X столетию. Известно, что с этою парою турьих рогов, в «Черной могиле» было найдено две золотые монеты императоров Василия I и Константина IX (изд. у Сабатье, таб. 44, фиг. 22, по определению А. В. Орешникова), отца с бородою и сына безбородого, и половинный обрубок золотой же монеты братьев Константина X и Романа II (948 – 959 гг.). Но так как этот обрубок представляет замечательную сохранность, доказывающую, что целая монета вовсе не была в обращении, а первые две монеты уже потерты и относятся к 869–870 году, то можно полагать, что устройство «Черной могилы» относится ко второй половине X столетия, тем более, что уже в 992 году в Чернигове был поставлен митрополит Неофит, и, конечно, приведены к крещению все его жители, так что устройство подобного языческого кургана, по мнению его исследователя, было бы невозможно позднее 7.
Рисунки наши не вполне (рис. 2, 3, 4) представляют оправу с технической стороны фон ее сплошь покрыт кружками наколом, выполненными также точно, как на серебряных сосудах из Перми, позднейшего характера; помянутая серебряная фляжка, найденная в 1895 г.


Рис. 4. Развёрнутый рисунок фриза на серебряной оправе другого турьего рога, найденного в
Черниговском кургане.
с арабскою молитвенною надписью IX – X стол., чрезвычайно сходна также по рисунку копьеобразных лилий, образующих побеги и разводы вокруг горельефов, изображающих уточек, головы верблюдов, птиц, с одной стороны, с запонами из земли Войска Донского (ср. вып. IIІ Русских Древностей, рис. 179), с другой – с Черниговскими рогами. Рельеф или чекань оправы низкий, небрежного рисунка, с крайне грубыми, почти датскими изображениями людей и отличными фигурами животных, как и обычно в восточном искусстве; но в рельефе, после чекана, мастер все проходил резцом и, как говорится у художников, засушил до крайности все изображение; впрочем, такою сухостью, ремесленною

Рис. 5. Рог, найденный в кургане близ г. Симферополя.

Рис. 6. Деталь рога, найденного в кургане близ г. Симферополя.
резкостью контуров, геометрическою правильностью фигур, схематизмом растений и животных, выработкой деталей, в ущерб целого, и отсутствием пластичности отличаются все резные изделия на металл и мрамор в период VIII – X столетий. По нижнему бордюру Черниговских рогов имеется как раз побег, протянутый вдоль, с лилейными концами и аканфовыми; побег насечён так же, как на фляжке, косыми зубчиками; затем нижней бордюр нарезан щитками в виде цветка, тогда как верхней сделан из таких же цветков, вырезанных и набитых поверх оправы; эти щитки украшены веточкою с плющевыми листками, подобного рисунка, что на вещах Воронежского (Бирючинского) клада ѴIII века.
Развернутый фриз (рис. 4) представляет восточный сюжет – охоту, но как ни грубо переданы человеческие фигуры с их непомерно большими луками и колчанами, все же, по их льняным панцирям, видно, что это северные варвары, охотящиеся на больших птиц с собаками; одна птица падает раненая, у другой перебито крыло; виден большой петух с фантастическими крыльями, имеющими форму лилий на верху. Но затем посреди охоты представлены две группы сплетшихся драконов и грифонов, образующих своими переплетениями орнаментальное подобие буквы М, известное нам еще в византийских мозаиках как декоративная форма для бордюров (так наз. промежуточная волна} хвосты драконов и грифонов, переплетаясь, образуют пальметту. На другом роге обод украшен орнаментальным плетением из лилий, тождественным по рисунку с резьбой в одной из мечетей Каира, а также и с рельефным орнаментом на наличнике двери северного входа Георгиевского собора в Юрьеве Польском. Кроме форм или рисунка лилейных побегов, их разводов, здесь интересен и приём нарубок или насечек, идущих вкось и обозначающих рельефность выпуклых листьев по указанному особому, условному способу, принадлежащему IX – XII столетиям.
Но Черниговские рога способствуют нам разрешить общий вопрос об источниках звериной орнаментики или, как у нас издавна принято говорить, звериного стиля: мы имеем здесь наиболее раннее проявление этого стиля в среде русских древностей, и очевидно, единичность такого памятника в X стол. происходит только от недостаточной их известности, от их малого числа. Известно, что звериный стиль царит в наших рукописях, украшениях и инициалах в периоде ХШ – XIV стол. и носит на себе специальный северный или, точнее, северо-западный тип, который должен быть, конечно, поставлен в некоторую связь со скандинавскими плетениями и чудищами. Но эти отношения составляют особый факт, подлежащий рассмотрению всех орнаментальных типов и групп позднейшего звериного стиля, и между тем как для русских курганных древностей этот стиль не имеет даже решающего значения, он играл, вместе с чашечными фибулами, важнейшую роль в гипотезе так наз. скандинавского или варяжского влияния. Здесь пока не место рассматривать эту гипотезу, причины её возникновения, основное заблуждение, выводящее Готфов и их культуру, по указанию Иорнанда, из Скандии, ошибочные наблюдения над древностями Финнов, Славян и Шведов, хронологическую теорию Скандинавов, построенную на их периодах или веках, и пр. Для нашей задачи достаточно выяснить нашу собственную точку зрения, по которой Скандинавы, а с ними и наши Варяги, конечно, весьма многое заимствовали с юга, и если не от одних Славян, то через Славян, при их посредстве. Сюда относятся и те зачатки звериного стиля, связанного с плетением, и относящегося к периоду IX – XII веков, которые, и по предметам и по формам, имеют много общего с русскими древностями 8, но не стоять собственно в прямой связи с звериными формами готской орнаментации. Было время, и сравнительно недавно9, когда были известны только византийские рукописи XI – XII века с фигурными инициалами, и когда для скандинавских археологов было возможно отрицать руководящее влияние византийского искусства и иногда даже (теперь странно сказать!) было возможно предполагать, что, наоборот, оно заимствовало из Скандинавии свои изящные фигурные инициалы из зверей, монстров и переплетений. Руководясь принятым взглядом, приходилось видеть в звериной орнаментике самобытный плод северной фантазии, воспитанный на мифах и сагах, словом, уходить от науки и торной дороги в дебри мифологии и символики. Крайний, малопонятный европейской науке, фанатизм понуждал отделить северное искусство, как некий очаг творчества и художественной фантазии: в сравнении с ним, византийское искусство, арабское, также персидское, оказывались мёртвым повторением все одних форм. Для того, чтобы доказать эту удивительную косность, стоило только выполнить над каждым искусством один несложный и нехитрый процесс, анализа основных элементов, начиная с архитектуры, кончая миниатюрою. Понятно, везде такими элементарными формами оказывались типы и формы, уже известные в антике, напр. лист плюща, лоза, аканф, в мире животном – лев, гриф, орёл, дельфин, или эмблемы христианские: голубь, рыба, павлин, олень10. Зато, этот способ вовсе не применяется к скандинавским древностям, и мы, желая быть справедливыми, также этого не желаем, признавая за ними свой особливый тип, который, правда, скандинавам не удалось пока определить и обособить от других родственных. Ясное дело, что задача исследования арабского стиля заключается не в одном только анализе основных элементов или форм, но в характеристике того оригинального «синтаксиса», декоративной системы, которая и составляет душу арабесок, арабского стиля во всех его пошибах. Затем, мы в настоящее время знаем уже целый ряд греческих рукописей, с звериными инициалами, оленями, слонами, зайцами, птицами, сфинксами, грифами и драконами, чудищами, в роде одноногих людей и пр., и эти рукописи относятся к X столетию, по записям 11; в них плетение заставок переходит местами в плетение змей, на концах ремней и лент появляются головы драконов, или голова и руки проглоченного чудищем человека, буквы принимают вид грифов, несущих человека (Александра Македонского), двух драконов, извивающихся вокруг руки. Но еще пышнее и богаче, и разнообразнее является звериный орнамент в древнейших рукописях сирийских, коптских и армянских, оригинальные инициалы которых собраны и факсимилированы в драгоценном издании В. В. Стасова, все ожидающем от автора своей разработки12. Нечего и прибавлять также, что византийское искусство гораздо богаче формами, чем те, которые мы перечислили, и что инициалы XI века поражают нас своим разнообразием и изяществом, что затем это же искусство разработало орнаментальную форму лилии, пальмы, лавра, аканфового развода, всякого рода драгоценных камней и пёстрых облицовок, инкрустаций, разнообразных койм и бордюров, и за последнюю четверть нашего века восстановлено в своём высоком художественном достоинстве. Нечего повторять, наконец, что именно оно ввело в декоративный обиходь мир зверей, и коней, и рыб, и птиц, и заморских обезьянь, и монстров далекой Индии, также как именно греко-византийская письменность передала на север сказания Александрии и Физиолога. Именно в этой византийской передаче узнавала варварская Европа сиринов и кентавров, Горгону и жену исполинскую, обвитую змеем, кинокефалов, быков о пяти ногах (ассирийских демонов хранителей), людей об одном глазе, одной ноге. Сказания об Индийском царстве, вошедшие в составь Александрии, передавали о сатирах, гигантах, тиграх и львах, белых медведях, метаголынариях (methagallinarii) – кочетах, на них же ездят люди (невидимому, такой кочет изображён на Черниговском роге и на плафоне Палатинской капеллы), саламандр, ипотамах, птиц гигантской ного, феникс, затем о разнообразных монстрах: людях с 4 и 6 руками, с звериными ногами, на половину с телом птицы, или о птицах с человеческим лицом, людях крылатых, со многими головами и пр. Ближайшим доказательством раннего распространения на юг Европы звериного стиля именно в виде этих сказочных монстров представляют, как известно, капители атриума церкви Св. Амвросия в Милане: там уже есть и драконы, выпускающие из пастей тесьму, и пегас с химерою, и кентавр с копьём (повторенный потом рельефами многих бронзовых дверей XII – ХIII в.), крылатые грифы, тигры, бараны о двух туловищах, звери, перевитые хвостами и затем различные звери в византийских завитках; в том же соборе кафедра, помещающаяся над саркофагом, и относящаяся к началу XI века, и портал покрыты плетениями и монстрами весьма характерного грековосточного типа. Что этот тип звериных эмблем наиболее нравился северным варварам, может быть потому, что был в их исконных вкусах, воспитанных Востоком, мы находим напр. доказательство на тех византийских свинцовых печатях префектов и чиновников, заведовавших приёмом варваров в Византии, которые представляют нам волков, львов, орлов, грифонов (Варяги и гвардия носила это прозвище), крылатых драконов, орла, душащего змею и пр.13. Не даром драгоценные кубки, резные из горного хрусталя, украшаются в это время тяжелыми геральдическими львами, химерами, глотающими побеги винограда14. Затем, по самой технике и манере изображения мы можем сравнить именно только с так называемыми восточными изделиями, появляющимися в VIII – IX стол., в Перми и на Юге России, напр. изданною недавно15 парою золотых аграфов из земли Войска Донского, или же арабскими вещами, как напр. резьбой на слоновой кости на ящичке 961 – 976 гг. в Кенсингтонском музее16. Иное дело украшения звериного стиля с ременным плетением на черенке меча, найденного в Трубчевском уезде Орловской губ.17: здесь скандинавского типа и меч, и самые украшения. Но «книга путей» Ибн-Хордадбе (ок. 870 г.) обстоятельно говорить, что «русские купцы» (из земли Новгородских Славян) – они же суть племя из славян – вывозят (на Волгу, в Итиль) меха выдры (бобра?), черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славонии к румскому морю (Средиземному), и царь Рума берет с них десятину. Широкие, волнообразные (по ковке) клинки франкской работы видел Ибн-Фодлан около 920 годов у русских купцов в Итиле.
Впрочем, всякий непредубеждённый взгляд легко откроет разницу между северным «звериным» орнаментом и нашими двумя парами сплетшихся драконов и грифов. Мы уже указывали на декоративную роль этих фигурных сплетений: они разделяют фриз на части. И действительно, мы находим эти сплетения нередко в замках свода, в центре фриза, окаймляющего арку, на капителях. На арке крипты Св. Зенона в Вероне (около 1139 г.) можно видеть двух аспидов, сплетшихся длинными шеями, в резном фризе; на современном барельефе в Мusео Сіѵісо Вероны изображены два сплетшееся аиста. На Раlа d’оrо один эмалевый медальон (XI века) представляет двух драконов, свившихся хвостами вокруг райского древа с птицами и павлинами. На фризах и капителях атриума ц. С. Амвросия в Милане можно видеть ряд декоративных фигур: львов об одной голове, пару грифов, сплетшихся хвостами, с пальметкою на конце хвостов, тигра, барана с двумя туловищами, людей с разводами того же крина и такие же лиственные плетения, как на Черниговском роге, но, должно оговориться, мы не считаем возможным относить все эти капители к IX веку, как это принято делать, полагая, что от первоначального атриума (IX столетия или точнее времён Людовика Благочестивого) уцелело ко времени переделки собора в ХП веке весьма немногое. Пару переплетающихся драконов находим на крыже церемониального меча (epee du sacre) королей Франции (в Музее Лувра, конца XII века). На кресте Фердинанда I короля Испании, с надписью: Ferdinandus rex et Sancta regina († 1067 г., в Археологическом Музее Мадрида), по оригинальной кайме вокруг горельефного Распятия, из слоновой кости, и по всему кресту на оборотной стороне, изображены человеческие фигуры, в самых причудливых положениях, чаще всего скрюченные, ползущие, раздираемые зверями и монстрами, из композиции Страшного Суда и ада, а также всевозможные чудища в плетениях, грифоны, химеры, охотящиеся кентавры и пр.
Впоследствии мы еще вернемся к подробному анализу этих звериных орнаментов в русских древностях, в частности, в находках Гнездовского могильника (и клада) Смоленской губернии, которые представляют также для Х-го века ряд изображений, относимых к северному, специально скандинавскому типу. И там, наряду с геометрическими рисунками, растительными побегами и завитками, бисерными нитями и наборами, сканными и филигранными украшениями, лунницами и бусами, обычно принимаемыми за арабский стиль, мы находим ожерелья из костяных лебедей, медальоны или бляшки с переплетающимися драконами, двуглавыми орлами, чудищами внутри ременных плетении, баранами и козерогами и пр. и пр., словом, типическими деталями, которые уже принято считать северным, для иных – прямо скандинавским орнаментом. Чтобы в одном кладе было возможно сочетание двух стилей, тоже принято считать иные вещи (менее характерные) привозными, арабскими, или подражательными, другие, боле оригинальными – скандинавскими.
Но мы намеренно подобрали ряд подобных памятников XI – XII века южного происхождения, и хотя на севере есть современные им вещи, однако, вряд ли кто решится сказать, что Италия и Испания брали свои орнаментальные типы с севера: это не мыслимо, и все знают, что эти южные страны так мало еще исследованы в сфере народных древностей. В частности Испания была некогда наиболее богата ими, но её народ был дурным, расточительным наследником: он поспешил истребить ненавистную ему, иноверную культуру, разорить богатые города, разрушить или обезобразить дивные мечети, уничтожить невежественною реставрацией чудные дворцы, сплавить драгоценности и сжечь книги (библиотека Толедо в нынешнем веке). Таким образом, хотя на родине Ислама и в ближайших его насаждениях едва теперь начинают открывать и замечать памятники арабского искусства, но все же знают целую их серю, тогда как Испания довольствуется немногими уцелевшими кусками, и Музей Мадрида не иметь даже порядочной поливной посуды мавританского происхождения. Поэтому, доселе только современные народные уборы Арабов и Сирии18 доказывают, как увидим, тождеством форм и приёмов технических художественных свое древнее родство с русскими древностями. Мы находим у Арабов. те же цепи и цепочки; фибулы из Дамаска имеют форму кольца с утолщенными концами и иглою, подвески ожерелий и там в виде блях, или также в форме летящих птичек, двуглавых птиц, в виде крина; там находим пары плечевых фибул с подвесками в типе мерянских, обручи громадных размеров с наглавниками и насечкою и пр.
Когда появится в свете издание серебряных сосудов так называемой сассанидской эпохи из Пермского края, предпринятое, по поручению Императорской Археологической Комиссии, нашим молодым учёным Я. И. Смирновым, тогда пополнится и серия документов, необходимых для научного построения истории арабского искусства, а между ними будут и памятники, исполненные в том роде техники и с тем характером орнамента, которые мы исследуем. Пока мы укажем только на серебряный сосуд из Соликамска (находки 1895 г.) и серебряный сосуд в собрании Е. И. В. В. К. Алексея Александровича: тот и другой относятся к X веку. Что касается многочисленных изделий медной посуды, украшенной серебряною и черновою инкрустацией (таушировкою, al’agemina) и резьбой, то сама эта техника началась только в XIII веке, к которому и относится большинство лучших образцов, начиная с так называемой чаши св. Людовика в Лувре и кончая многочисленными собраниями Кенсингтонского Музея, Императорского Эрмитажа и пр.19; предположение, что эта техника происходит еще из древней Ассирии и существовала постоянно, пока ничем реальным не подтверждается, и потому в искомом подборе памятников получается странный резкий перерыв в два века.
Рис. 7. Рельеф на Мавританском водоёме, находящемся в Валенсии, XII века.




Итак, по технике, приёмам украшения и орнаменту, Черниговские рога, действительно, представляют ранний памятник того восточного искусства, которое, при посредстве сирийской промышленности и арабских торговцев, было непосредственно передано крайней восточной и крайней западной Европе, но которого формы были, затем, развиты всею южною Европою и через посредство Германии перешли на север. Это не был, и для IX–X веков не мог быть, собственно арабский стиль, но лишь продолжение сассанидского периода, и звериный стиль, здесь наблюдаемый, есть своего рода старина, которая потом, в передовых местностях и декоративных работах исчезает и заменяется стилем растительной орнаментики,, точь в точь, как такая же орнаментика в стиле готическом, приняв сначала старый романский «звериный стиль», затем его покидает. Но старина восточного звериного стиля не исчезает, она становится достоянием народных художеств (напр. в поливной посуде, о чём ниже) и доживает до XII века, когда вновь переходит в орнаментику южной и северо-западной Европы, под именем «стиля романского». Понятно, какое значение получает киевская Русь в истории этих брожении вкусов и стилей, связанных с передачею вековой культуры Востока европейскому Западу.
Тесные преемственные связи древней Руси с современною культурою древнего Востока вспоминаются по преимуществу нашими былинами. Когда былина описывает город, то чтобы она ни разумела под «Индиею богатою», воспевая то её «белокаменные палаты» с «точеными» колоннами, «золочеными крышами», то «самоцветные маковки» церквей и «сорочинские сукна», «разостланные» «на мостовых», но певец в своём воображении рисует такую же восточную картину, старинное начертание былого, как Гомер, когда, представляя себе древне- финикийские изделия, описывает щит Ахиллеса. В «крепкой городской стене» ворота железные, «крюки-засовы все медные, стоит подворотня – дорог рыбий зуб, мудрены вырезы вырезано, а и только в вырезу мурашу пройти» – по-видимому, восточная ажурная резьба, с выкладкой, работы индо-персидских мастерских. Еще яснее детали восточной архитектуры в воспеваемых «трёх теремах златоверховых»: «красота поднебесная» там дверь – на семи вёрстах; около двора – железный тын, на всякой тынинке – по маковке, по жемчужинке. Первые ворота – вальящатые, другие – хрустальные, третьи – оловянные. Подворотенки – серебряные (или рыбий зуб). При входе блесте поволоченая (кольцо). Терема – высокие, златоверхие, или с золотыми маковками: палата – белокаменная: крыльцо – белодубовое: сени – решетчатые иди стекольчатые. Грядки – белодубовые, покрыты седым бобром, потолок – черных лисиц; матица вальженая, пол середа одного серебра, а иногда кирпичный. Крюки да пробои у дверей по булату злачены. Окошки косящетые, оконницы хрустальные или стекольчатые, причалины серебряные, обиты окошечки лисицами, куницами и соболями. Столбы в палате – деревянные, точеные, повыше рук золоченые. Хорошо в теремах изукрашено: на небе солнце, в тереме солнце, на небе месяц, в тереме месяц, на небе звёзды, в тереме звезды, на небе заря и в тереме заря и вся красота поднебесная».
Обилие драгоценных камней в конском уборе – ясная картина восточного варварства: «у коня промеж глаз (начельник) и под ушами самоцветное насажено каменье, да не для ради красы да молодецкие, для ради осенних темных ноченек» (светящийся амулет), и «камни самоцветные, все яхонты втираны» в стрелы Дюка Степановича. Чудный сын, приносимый Настасьею Королевичною молодцу Дунаю, представляет ребенка, покрытого серебром и золотом (идола): по колена ножки в серебре, по локотки ручки в золоте, по голове, по косицам звезды частые. Из восточных редкостей взят и тот хрустальный ларец, в котором Святогор богатырь везёт на плечах свою жену богатырскую, когда полякует или кочует. И если певец живописует нам приезд королевича, или паленицы к богатырской заставе, что «по праву руку молодца летит ясень сокол, на руках он держит третра перо (вабило), сквозь пера не видно лица белого», то в основу этой картины должны были лечь те бесчисленные изображения царя на соколиной охоте, с летящим поверх его соколом, которые переданы на восточной утвари, ларцах, зеркалах, и пр. Все былинные представления нынешних одежд, шёлковых рубах, куньей шубы, ожерелий или воротников, полны восточных деталей: шёлк, камка, дорогая «струйчатая» (полосатые, двуцветные: зеленое с красным, бирюзовое с пурпуром, белое с коричневым, сирийские ткани, бывшие в моде в византийской империи с X века), ткани строчены золотом и серебром, смурые кафтаны из «рудожелтой тафты» («золотная»), и на «цветном» платье Дюковой матушки были подведены луна поднебесная, красное солнышко, светел месяц и частые звёздочки. Известно по фантастичности описание золотых пуговок кафтана у Чурилы Пленковича и Дюка Степановича: в каждой пуговке было влито по доброму молодцу, в каждой петельке по красной девушке: как застегнутся, так и обоймутся, а расстегнутся, так поцелуются; или в петли было вплетено по лютой змее, а в пуговки влито по лютому зверю, и как станет Дюк плеточкой по пуговкам поваживать и пуговку о пуговку позванивать, так запоют птицы певучие, закричат звери рыкучие, засвищут змеи во всю голову; или как станет Илья тросточкою по пуговкам поваживать, лютые львы разревелись, а на каждой пуговке по заморскому льву. Но и эта фантастическая картина имеет также свое реальное основание в тех восточных художественных образцах Сирии, Персии и Индии, которые еще в IX – X столетиях положили основание в уборах мужских, женских и конских основание позднейшему так наз. звериному стилю; уже одно упоминание заморского льва должно было бы вам указать на Востоке, если бы мы не знали происхождения этого стиля по вещам. Конечно, мы пока еще не можем с точностью решить, какого именно рода шапки разумеются под колоколами, надеваемыми на голову некоторыми богатырями, но если мы поймём, почему при слове «колокол» певец уже воображает себе медный колокол, в сорок пуд, то также легко представить себе, что это будет шляпа земли греческой и пр., и что певцу, согласно с эпическим творчеством, достаточно было в реальных предметах искусства, непременно чуждого, а потому таинственного, полного внутренней жизни, особого смысла, волшебной силы, иметь живую, органическую форму, чтобы придать ей самое движение жизни. Как яркая черта среднеазиатского Востока, представляются нам металлические украшения, золотые плащи (стар. вместо «бляхи») на папках, черных мормонках, ушастых, пушистых, завесистых, что «спереди сведен да то светел месяц (в современных головных уборах Индии), а вокруг то сведены частые звезды, на верху шелом (поверх шапки, золотой, ср. шапку Мономаха) как будто жар горит». И кажется, излишне прибавлять, что именно из восточных обычаев взято представление о тех, часто громадных, зонтах, подсолнечниках (в смысле зонта, не растения), которые носят над знатными особами, чтобы от красного солнца не запеклось лицо белое». Равно было бы излишне перечислять черты восточного происхождения в описаниях кованого седла черкасского, панцирей «чиста серебра», кольчуг «красна золота», куяка (щитковых или наборных лат из блях, нашитых на сукно), литой палицы с кольцом, шелепуги (плети) или шалыги дорожной, или «плеточки шемахинской». В общей сложности, можно было бы даже прибавить, что поэмы и песни монгольских и тюркских племён представляют, по сходству деталей архитектуры, вооружения, одежды, убранства, как бы прототип русских былин, только более богатый, оригинальный, но эта близость наших былин и поэм зависит от того, что они воспроизводят один и тот же им близки, но равно им чуждый образец, известный из эпических рассказов, той высокой культуры мусульманского Востока, которая, с поразительною быстротой, расцвела в Египте, Сирии, Месопотамии и Персии в IX – X веках. Характерно уже и то, что все эти детали восточного происхождения приведены в русских былинах, так сказать, в меру, что наиболее облегчает певцу композицию, даёт ей ясность, а движению его экспрессию, чего именно, за подавляющею массою деталей, часто недостаёт в тюркских сказаниях. Правда, из этого сходства обстановки, равно как тождества деталей нельзя заключать о непосредственной зависимости русских былин от тюркских песен, за то, и здесь близость сюжетов говорит нам об основной близости культур: древней восточной и новой славянской, также как, по обилию львов, фантастических и крылатых зверей на древнейших греческих вазах археолог бесспорно заключает о той или иной связи, художественной и бытовой, древней Греции с передне-азиатским Востоком.
И, действительно, из «Книги путей и государств» Ибн-Хордадбе, арабского географа, писавшего в 860 годах, мы имеем полное основание утверждать, что во второй половине IX века русские купцы ходили с товарами до Багдада, а этот писатель знал о восточных Славянах и русских, по-видимому, по лично-добытым известиям, так как ему было легко приобрести их во время его бытности начальником почт в Персидском Ираке; только этот арабский писатель знает Славянских князей, славянское происхождение Русов и пр. Полный, но к сожалению испорченный текст этого свидетеля гласит: «Путь купцов Евреев, которые говорят по-персидски, по-гречески, по-арабски, по-французски, по-андалузски, и по-славянски: они путешествуют с Запада на Востоке и Востока на Запад морем и сушей. Что же касается купцов Русских – они же Славянского племени – то они вывозят меха выдры (иди бобра), черных лисиц и мечи из дальнейших концов Славянской земли к Румскому (греческому – Черному или Средиземному) морю, и царь Рума (Византийский) берёт с них десятину (пошлину вообще). А если желают, то ходят на кораблях по Славянской реке (Волге), проходят по заливу Хазарской столицы (Итиль), где владетель её берёт с них десятину. Затем они ходят к морю Джурджана (Грузинскому – юго-восточная часть Каспийского моря) и выходят на любой берег. Иногда же они привозят свои товары на верблюдах в Багдад. Иногда купцы берут путь за Арменией), в стране Славян, затем к заливу столицы Хазарской, затем в море Джурджана, затем к Балху и Мавараннагру, потом до Сина (Китая) ». А так как арабский писатель жил в то время, когда Новгородская (и Киевская) область получила название Руси по преимуществу, то полагают, что это были купцы Новгородских Славян, которые, объехав предварительно области западно-русских Славян и запасшись западно-европейскими товарами, ходили двумя путями в Индию и Китай: северным, через Среднюю Азию, и Южным, через Дамаск, Багдад и Синд. Другой безыменный арабский писатель X века, повторяя все известия Ибн-Хордадбе, прибавляет только, что Славянские купцы пристают на Каспийском море в Рее: « удивительно, что этот город есть складочное место всего мира».
Однако вообще все свидетельства арабских писателей о Славянах и Руси только тогда могут быть принимаемы, без оговорок, когда будет вполне выяснена этнографическая и географическая терминология восточных писателей по этому древнейшему историческому периоду, чего далеко нельзя сказать доселе, и кроме того, именно в этой части арабских известий даже показания очевидцев нельзя поддерживать с полным убеждением, а тем более сведения, повторяемые многочисленными компилятивными сочинениями X – XII столетий. Известно, как далеко уходят от реальной действительности арабские описания Константинополя и византийского двора, а потому тем с большею осторожностью должно относиться к сведениям о необозримых и мало доступных Славянских странах, их племенах и обычаях. Самым характерным примером служит то явное и грубое смешение Славян, Русов – Норманнов и волжских Булгар в одно племя Славян или Русов, с главным городом Булгара, в котором живёт их царь, у наиболее известного из всех арабских писателей Ибн-Фадлана, отправленного в 920 годах халифом в посольской свите к новообращённым в мусульманство волжским Булгарам. Критически анализ известий Ибн-Фадлана об этих мнимых Славянах: их погребальных и религиозных обрядах (идолы в виде столбов, сожжение в лодке, удушение любимых наложниц), о их царе, его колоссальном троне, его жизни на лошади, 400 воинах телохранителях, безотлучных прислужницах рабынях, жилищах в виде саклей и других мелких данных быта, одежд и украшений, все приводит к окончательному убеждению, что в Русах Ибн-Фадлана, а за ним и некоторых других арабских писателей, невозможно видеть русских Славян в первую эпоху их исторической жизни. Рассказы эти, по всей видимой реальности, в высшей степени важны и любопытны для различных финских и тюркских народов с.-восточной России, быть может, именно волжских Булгар. Кроме Волжских Булгар, посредниками Руси в её торговле с Востоком были, видимо, Хазары, если не народ, то торговые фактории их страны. «Книга путей» Ибн-Хаукала (976 – 7 г.) повторяет с особою настойчивостью, что большая часть товаров, мехов и пр. привозится купцами из страны Русов и Булгар, частью из Куябы (Киева), и что Русы продавали эти товары в Булгаре, прежде чем разрушили его в 358 (969) году ( – вероятно, завоевание Дунайской Болгарии Святославом). «Часть товара, однако, идёт в Ховарезм, по причине частых путешествий Ховарезмийцев в Булгар и Славонию, и по причине их походов, набегов на них и взятия их в плен. Прилив же торговли Русов был в Хазране (часть города Итиля, Хазарской столицы, Хазран или восточная половина Итиля); это не переменилось – говорит Ибн-Хаукал – там находилась большая часть купцов мусульман и товаров». Всего точнее говорит о волжских Булгарах и их торговом значении для восточной России «Книга драгоценных сокровищ» Ибн-Даста (писавшего в начале X века): «Булгар граничит с страною Буртас. Живут Булгаре на берегах реки, которая впадает в Хазарское море и прозывается Итиль, протекая между странами Хазар и Славян. Царь Булгар, Альмус по имени, исповедует ислам. Страна их состоит из болотистых местностей и дремучих лесов, среди которых они и живут. Хазаре ведут торг с Булгарами, равным образом и Русы привозят к ним свои товары. Все, которые живут по обоим берегам реки, везут к Булгарам товары свои, как-то меха собольи, горностаевы, беличьи и другие... Булгаре народ земледельческий и возделывают всякого рода зерновой хлеб, как-то: пшеницу, ячмень, просо и другие.– Булгары производят набеги на Буртасов (Мордву), грабят их и в плен уводят. Они имеют лошадей, кольчуги и полное вооружение. Подать царю своему они платят лошадьми и другим. От всякого из них, кто женится, царь берёт себе по верховой лошади. Когда приходят к ним мусульманские купеческие суда, то берут с них десятину. Одежда их похожа на мусульманскую; равным образом и кладбища их как у мусульман. Главное богатство их составляет куний мех. Чеканеной монеты своей у них нет; звонкую монету заменяют им куньи меха; каждый мех равняется двум диргемам с половиною. Белые, круглые диргемы приходят к ним из стран мусульманских путём мены за их товары». Известно, что Зобейда, жена Гаруна аль-Рашида, первая ввела в Багдаде в моду шубы, подбитые русскими горностаями и соболями.
Летопись наша под 1024 годом знает «мятеж велик и голод по всей стране (суздальской), идоша же по Волзе вси люди в Болгары, и привезоша жито и тако ожиша». Владимир около 1006 г. позволил болгарам торговать по Оке и Волге и дал им для этого печати, но только по городам, не по сёлам, и равно русские купцы могли свободно ездить в болгарские города. Торговые связи продолжались и в XIII веке, и даже самое татарское нашествие вызвало оживление торговли по Волге. Русские суда продолжали плавать по Волге и имели склады в Сарае, где была открыта даже особая сарайская епархия; в то же время по Волге ходили суда татарские, армянские, болгарские, вообще различных «бесермен».
Словом, Волжская Болгария была, вероятно, центром хлебной торговли для обширного района, и русские, в частых случаях нужды, уже с XI века получали оттуда хлеб. Но через Болгары, как впоследствии через Нижний-Новгород, шли в Россию пряности, ароматы, шёлковые материи, камни, атлас, шёлк, драгоценные камни, золотые и серебряные изделия, как-то: блюда, цепочки, запястья, кольца, булавки, пуговки, бляхи (восточное вооружение принято в большинстве случаев от татар) и пр. Именно в это время появилось и большинство восточных названии, под влиянием установившихся восточных вкусов, для предметов убранства, костюма, художественной техники и пр.: аламы из персидского языка, бархат кизылбашский, ведро, жемчуг бурмицкий, ормужский, зарбаф – золотная ткань, зендень, зендалъ, кабатъ – одежда, камка индейская, кафтан, кика, клобук, кишень – карман, козырь, канфарить – покрывать точками, мелкою зернью пуговицы и пр., морхи – кисти, объярь – струйчатая шелковая ткань, сарафан, тафта (халяпская – из Алеппо), топор, трунцалъ (канитель), шапка, шуба, шёлк (тохарский из Токата) и пр., на что указывают и самые прозвища: блюда пзднинские, жемчуг гурмыжский или бурмицкий, копья харалужные (вороненой стали), сафьян кармазинный и пр.
Но из всех данных о торговле Руси с Востоком, прежде всего, ясно, что мы лишь условно можем говорить об арабском влиянии и арабском стиле, который будто бы наблюдается в ранних древностях русских. Очевидно, что мы имеем дело здесь с широким азиатским или восточным влиянием, в котором национальные элементы или участвуют разом, по их политической группировке, или в разные периоды, по условиям торговых сношений, близости и взаимных нужд, или же по мере преобладания того или другого вкуса: то Сирия, то Персия, то Малая и Средняя Азия выступают здесь своего рода руководителями русской культуры. Все дело, в конце концов, в том, чтобы и нам самим, наследникам этой культуры, приступающим к её изучению, стать на истинную точку зрения теснейших родственных связей древнего населения Европейской России с Азией, едва ли не на всём пространстве этой части света. В свою очередь эта точка зрения может установиться у нас только в результате нового научного взгляда на варварское население России в период IX – X стол.: это варварство должно принимать не в смысле примитивной грубости, начальной, первой ступени цивилизации, но в том смысле, как этот термин принимали греки, называя древних персов варварами, т. е. в смысле особой, отличной от Запада культуры восточного происхождения и характера, наиболее оригинально выражавшейся в быту кочевников, но и возвышавшейся до блестящих, хотя кратковременных, периодов процветания азиатских царств, создавшихся завоеванием и дружинами.
В разборе древностей эпохи переселения народов мы уже имели случай подробно изложить те основания, по которым быть кочевников в известную эпоху шёл впереди быта земледельческого по усвоению культурных форм, хотя бы эти формы касались исключительно среды личных украшений, уборов, того, что называется доселе богатством в народе. Далее, анализ древнейших периодов русского искусства разъяснил вам общий принцип тесно и неразрывно связи типа уборов с их орнаментом, иначе говоря, логической необходимости этого последнего, как выражения служебной роли типа в том или другом уборе. Этот принцип указал вам, что мы имеем здесь дело с типом первоначальным, не изменённым, но воспринятым однородною средою, находим ясное понимание его роли, которой не коснулась перемена, а потому еще не покинул основной орнамент. Не то мы видим с переходом типов на северо-запад Европы, а потому и характер скандинавского орнамента является с отличительным характером произвола и преувеличения, как орнамент Индии.
В русских древностях эпохи переселения народов мы встречаем напр. витые гривны с насаженными на обруч металлическими бусинами: таковы большие обручи из Гнездовского могильника и такие же гривны найдены в Венгрии. Но эти бусы здесь сделаны желобчатыми (а goudrons) и, очевидно, воспроизводят желобчатые бусы из смальты VII – VIII в., встреченные в натуре в той же Венгрии, и вошедшие в обиход, очевидно, там, где эти стеклянные вещицы были редкостью – в варварском мире Востока. И вот привычное украшение, надетое варварскою рукою на грубую проволоку, представляет потом обширное поле для ювелирных типов металлической бусы, нанизанной на проволоку и закреплённой нитями. Тем же объясняется и форма больших височных колец с бусою внизу в южной России, Венгрии и современной Индии. Такое же значение играет зернь, городки, пирамидки, жгутики, обнизки, ячейки из проволоки, самые подвески в виде листиков, колокольцов, шариков, колечек и пр. Вот почему вся орнаментация «готфских» древностей перешла целиком и в Венгрию, Германию и Францию и в Скандинавию, со всеми деталями инкрустаций, головками птичьими и конскими, ползущими хищниками, охотами, мифическими грифами.
Когда мы рассматриваем скандинавские древности V – IX и X – XII столетий, собранные в национальном музее Стокгольма, нас прямо поражает масса серебряных и отчасти золотых изделий всякого рода: обручей, браслетов, спиральных колец и пр. Действительно, скандинавские археологи должны были невольно увлекаться этим богатством своего музея и, вместе с Иорнандом, считавшим мифическую Скандию страною officina gentium, видеть в ней officina gentium. Но по мере того, как вы рассматриваете в деталях эти витрины, набитые серебром, мало-помалу ваш интерес, с начала крайне возбужденный, охладевает: вы везде видите повторение, бесконечное повторение одного и того же типа, нередко варианта, в десятках, сотнях экземпляров; и везде такая бедность, скудость и убожество художественной формы, везде так мало истинного искусства, так скупо оно и бедно, что все эти бесконечные клады начинают казаться кучами ломаного серебра, имеющими весьма мало значения. Вывод этот, конечно, не окончательный, он не верен, и получается от подавляющей массы кладов с нарзанным, накрошенным, так сказать, серебром, в котором только впоследствии начинаешь различать интересные тины, чудные художественные экземпляры. Все эти клады, прежде всего, состоят из денежных знаков и ценностей, накопленных конунгами и викингами, все это на половину военная добыча, жалованье, наемная плата, ценный металл, только не расплавленный, а нарезанный для удобства хранения.
Нас поражает, затем, в этих богатых кладах, отсутствие серёг, бедность женских уборов и украшений, – черта, как раз прямо противоположная русским кладам, почти исключительно составленным из уборов церковных и личных. Здесь, напротив, если и есть браслеты, то очевидно, по самой их грубости, из них некоторые вовсе не служили для ношения на руках, а только имели эту форму, привычный тип, по существу же были денежною ценностью определённого веса, точно также как многочисленные находки обручей, гривен в Пермском и Вятском крае с одной стороны и Витебской губернии с другой, не могут быть относимы к господству обруча, как украшения, но к его употреблению здесь в виде денежного знака. Вот почему напр. браслеты скандинавские не только грубы и толсты, но массивны, тогда как в других местах или дутые, или вообще тонкие или лёгкие, и грубые браслеты встречаются здесь при 52 брактеатах из золота. Когда же пытаешься составить себе общий тип скандинавских украшений V – ѴІІІ стол., то, кроме постоянных фибул, ничего другого не можешь указать иначе, как в единичных случаях, очевидно, не делающих весны.
Не касаясь самих украшений, изображённых Antiguites Suedoises г. Монтелиуса за №№ 344 – 5, 356, 366 – 368, 416 – 8 – 9, 456 – 7, 467 и 471, мы заметим, что эти сравнительно выдающиеся по техническому совершенству и художественному достоинству предметы сопровождаются в скандинавских кладах и находках массивными браслетами и шейными обручами, весьма грубыми, часто прямо кусками золотой проволоки, иногда массами золотых спиралей из проволоки, изредка электровыми; в одном случае дрот, свитый спиралью, из золота 56%, весь был увешан мелкими спиральными кольцами, различной толщины, а рядом были найдены клубни спутанной золотой проволоки, куски золота, толстые обрубки электра и пр.; иногда спирали были находимы нанизанными, иногда разрезанными мелко в куски (очевидно, не для того, чтобы удобнее было укладывать в горшки, как думают, а для весовых комбинации).
В периоде IX – X стол. мы встречаем напр. большой клад из Гельсингланда, замечательно близки по вещам и их орнаментике (подвесные серебряные лунницы и ажурные бляшки) к Гнездовскому кладу Смоленской губернии, но опять же в этом кладе на несколько разнообразных фибул приходится: одна серьга филигранная, один обруч и пара дротов, согнутых на подобие браслета, а затем уже идут простые серебряные дроты и т. д. Другой клад, с англосаксонскими монетами, богат слитками, разными обручами, но из украшений в нём только два толстых золотых браслета, чрезвычайно грубой работы. Третий подобный клад заключает в себе два толстых серебряных обруча с наглавниками, как в Гнездовском кладе, даже орнаментированными также чернью и филигранью, пояс из 19 наборных блях с подвесными куфическими монетами и бляшками гнездовского типа и рисунка, но из них средняя бляшка выделяется как будто особым «скандинавским» рисунком, тогда как все предыдущие скорее могут быть изделием Бутар, чем Швеции; в том же кладе оказалась 41 бусина, дутых, из серебра, и между ними только восемь одинаких, а прочие все сборные, и некоторые из них, по-видимому, сняты с серёг. Вот напр., далее, что представляет витрина с находками и кладами IX – X столетий (и гораздо позднее): обручи шейные, свитые из дротов, большие, серебряные, иногда перевитые серебряными нитями, а иные столь больших размеров, что г. Монтелиус предпочитает давать им названия поясов (см. № 618 Сеіпtиrе еn аrgent); хотя они, конечно, иногда не были поясами, но равно, может быть, и не были шейным украшением, а денежным знакомь или, скорее металлическою ценностью; вместе с этим последним обручем найдено 37 кусков спиралей, резанных украшений и 1333 целых и 128 кусков монет западно-европейских. Затем спиральные кольца (№№ 640 – 1) из Готланда найдены разом в числе 36 штук, с ними 2 браслета, две булавки, чашка, куски спиралей и 1923 арабских монеты. Рядом видим грубые браслеты, орнаментированные одним наколом, или же отлитые и битые с ложблением (см. №№ 597 и 600), всего 60 экземпляров, а также прямо проволоку, свитую и согнутую в виде браслета, но очевидно, слишком широкую для какой бы то ни было руки. Наконец, масса спиральных колец, мелко нарзанных, и между ними можно найти явно фальшивые деньги, а именно обруч, только обложенный тонким серебряным листом по железному дроту, и обнаруженный, когда его разрезали. Или напр. находка заключает в себе одну круглую фибулу, куски помятой проволоки, накрошенных спиралей, согнутых рублей, или просто погнутые слитки, и все куски без конца, очевидно, для удобства уплаты, также мелко нарзанные; их эпоха и не может быть определяема уже IX – X в., но гораздо позднейшими. И если изредка среди этих кусков, встретится вдруг кусок русской серьги – колта с черновым изображением птицы, клюющей дракона (?), то, издавая этот фрагмент, извлеченный из доброй сотни предметов, скандинавские археологи не воспроизведут характера находки, и не представят памятника «скандинавской древности» в собственном смысле.
Итак, одновременное появление в Скандинавии и Западной России предметов с тождественными художественными формами следует приписать, конечно, во-первых, арабскому привозу, а во-вторых, существованию в приднепровской области обширных мастерских.
Арабы своими завоеваниями, а еще более своими торговыми предприятиями способствовали распространению изделий Сирии и Египта до берегов Вислы на Севере и пределов Испании и Танжера на Юге. Вот почему мы, как было говорено, должны будем указывать на аналоги уборов Средней Азии в Марокко и искать объяснения гнездовским и Невельским древностям в народных уборах Сирии и Арабов Египта. Мы находим там и громадные обручи с наглавниками из Дамаска, и цепи с подвесными бляшками, амулетами, и фибулы в виде кольца с иглою, в подвески в виде кринов, ажурные фигурки двуглавых птиц, и даже те самые капторги или коробочки поясные, которые видел Ибн-Фадлан на Волге у «Руссов», а мы находим в древностях великих Булгар, Мерян и т. д.
Но как черниговские рога представляют местное изделие, так, затем, и пластинчатые серебряные браслеты, с фигурными изображениями, издаваемые нами ниже, и характерная резьба с птицами на черенках из клада Есикорского и множество других более или менее замечательных вещей, очевидно, были сделаны в Киеве. Прежде мы относили все эти произведения к влиянию византийскому, специально константинопольскому, но мы будем вполне точны, если начнём считать это последнее влияние несколько времени спустя после принятия христианства, т. е. не ранее, как с половины одиннадцатого столетия, а здесь перед нами на лицо почти киевские изделия десятого века. Нам, кажется, посильным ответом на этот вопрос будет указание на существовавший некогда корсунский стиль или корсунское дело.
Какое широкое и, пожалуй, особенное значение для русской древности играл Херсонес, свидетельствует та масса привозных из него и через него предметов церковной и светской утвари, которая создала даже в древности первое название стиля или пошиба корсунского. С начала VIII и до половины IX стол., т. е. в периоде наиболее тревожный для Византии, в периоде иконоборцев и торжества ислама, Херсонес является своего рода передовым постом византийской культуры и промышленности, уже отброшенной отчасти с VIII по X стол. с востока на север. Правда, город все еще играл роль ссыльного, опального пункта: сюда привезли Юстиниана Ринотмета, здесь был заточен св. Иосиф, но это не мешало городу быть исходным пунктом распространения византийской культуры. Здесь, по пути к Хазарам, останавливаются свв. Кирилл и Мефодий, отсюда ставили епископов в землю Хазарскую в 920 г., известен поход сюда Владимира. Роль Херсонеса падает вместе с падением Южной Руси, под напором Монголов, и едва ли самое опустошение Юга России, а следовательно, прекращение торговли не были важнейшею причиною падения Херсонеса, а окончательною – уступка, вероятно, невольная всех торговых дел генуэзской Кафе. Эта роль достаточно разъяснена самим Константином Порфирородным в его соч. «de administrando Іmperіо», в главах 1 – 8, где, между прочим, рассказывается и о товарах, вывозимых на север из Херсонеса: пурпурные одежды (bllatia), ткани (рrandіа), редкие материи (сharerіа), нашивки (sementа), перец, кожи пурпурные барсовые и иные предметы. Но, очевидно, что до раскопок местности Херсонеса, начатых графом А. С. Уваровом, в 1870 годах Одесским Обществом Истории и Древностей, а ныне систематически продолжаемых Археологическою Комиссией, мы имели о древностях византийского Херсонеса самые смутные понятия.
Начиная с самих разнообразных памятников церковной древности и бытовой утвари на месте развалин города и кончая многочисленными уже находками роскошных погребальных уборов, мы за немногие годы систематических раскопок узнали так много, что исторический взгляд русского археолога невольно обращается сюда за разрешением всех вопросов русской древности и искусства. Уже теперь для каждого исследователя южно-русской, специально киевской старины, ясна тесная связь Киева с Херсонесом, даже более – их культурная преемственность. Но в этом отделе еще не разобрались, и наши научные взгляды не различают, в исторической дали, общевизантийского влияния от его особенных ветвей, не отличают Цареграда от Херсонеса, иначе говоря, – в самой Византии видят лишь один всем известный константинопольский шаблон. Не так было на самом деле и принципиально все это разумеют, однако, доселе еще не представлялось такого поприща, где бы можно было в самом византийском искусстве и быте ясно выделить его составной восточный элемент. Быть может, для этого будет случай более счастливый и полный, но у нас на «русской» почве, это, конечно, древности Херсонеса.
Под именем «Корсунского» в древней руси разумели все редкое, высокое, но и чудное, старинное, и, в отличие от «цареградского», которое было символом утончённого, высокого в техническом отношении, «корсунское» было почти равнозначительно с «архаическим». Произведения «Корсунского дела» были часто предметами монументального мастерства и производства, из меди, железа и глины, и летописец, говоря о взятии Корсуня, передаёт, что Владимир «взя же и да медяне две капищи и четыре кони медяны иже и ныне стоять за святою Богородицею». Предложенные здесь две поправки в тексте: скопища, вместо капища, от скалы – затворы, косяки, иконы, вместо кони, основаны только на свидетельстве шведского историка, рассказывающего о вывозе двух врат, и на соображениях произвольных, и обе неудачны. Во всяком случае, из Корсуня были вывозимы предметы церковной утвари, сосуды, кресты, и многое, что открывается в Херсонесе новейшими раскопками, имеет ближайшую аналогию в древностях Крыма, Абхазии, берегов Дона и Днепра. Так напр. мы полагаем, что все известные21 нам своим грубым стилем, короткими и архаическими фигурами, высоким рельефом, массивные медные кадила, находимые на берегу Крыма, в Феодосии, Судаке, Керчи и вообще по берегам Чёрного моря, были корсунскими изделиями. Замечательно, что пара подобных кадил, попавших в Национальный Музей Флоренции, с шестью обычными сюжетами, также грубыми, но несколько более разделанными формами, отнесены к ѴII стол. и к изделиям Сирии, хотя, всего вероятнее, принадлежат к X веку и происходят, быть может, из генуэзских колоний, но таков, действительно, их общий пошиб, что, вместе с грузинскими рельефами, он наиболее напоминает коптские и сирийские бронзы, в последнее время уже во множестве поступившие в европейские собрания.

Рис. 8 Рельеф, открытый в Керчи в 1895 г. Собрание Л. В. Новикова.
Конечно, важнейшее явление восточно-византийской культуры и искусства X–XII столетий есть художественная промышленность, сравнительно низкого уровня, назначенная для варварского рынка, поставляющая ряд всяких фальсификаций и местных подделок. II если напр. архитектурные детали и украшения херсонесских базилик, мраморные капители, амвоны, солеи, карнизы исполнялись из проконнеского мрамора на его родине и привозились готовыми, то лишь немногие виды завозной промышленности, особенно предметы первой потребности, а не роскоши, доставлялись в Херсонес и Киев из места изобретения производств, – большинство же, напротив, производилось местными мастерскими, как подражание завозному иностранному товару. Конечно, стеклянные изделия в эту эпоху доставлялись исключительно из Сирии, и вот главная причина того простого факта, что днища стеклянных чашек и блюдец, найденные в Херсонесе и Киеве, тождественны, а затем сходны и с кавказскими находками. Стеклянные браслеты часто встречают в юго-западных курганах и городищах, но чтобы иметь об этом типе изделий должное понятие, надо обратиться к херсонесским погребальным находкам: между ними браслеты столь обычное явление в I эпоху IX–XII веков, что уже теперь набрана их обширная и разнообразная коллекция. Все эти браслеты очень близки к античному оригиналу, также производившемуся в Сирии, и отличаются от него только меньшею тщательностью отливки: древний браслет греко римской эпохи всегда так чисто сплавлен, что концов сваренного дрота не видно, он всегда гладок и хорошо отшлифован, тогда как византийский браслет сделан грубо, небрежно, и концы часто оставлены не сплавленными. Браслеты же бывают разных цветов: зеленые, синие, голубые, почти чёрного стекла, или темно-лилового с глазками, темно-серого цвета, и притом витые и нарезанные тонкою и сухою резьбой, напоминающей нарезные шейные обручи Витебской губернии, иногда витые, с золотыми спиральными нитями.
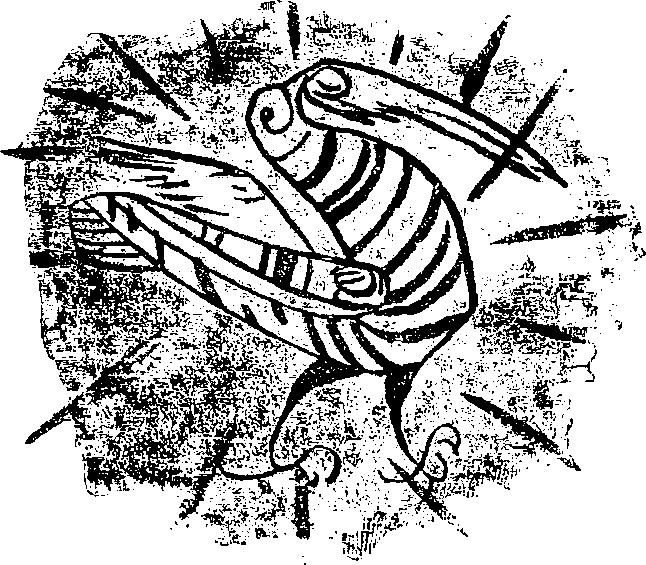

Рис. 10. Внутренний рисунок
Феодосийской чашечный (рис. 9).
Рис. 9. Чашка из Феодосии. из раскопок
А. Л. Бертье-Делагарда.


12. Чашка из Феодосии.
Собрание А. Л. Бертье-Делагарда


Рис. 13. Рисунок внутри чашки (рис. 12) из Феодосии. Рис. 14. Блюдо из Херсонеса. Импер. Эрмитаж.
растений и цветов, идущие из Персии. Но наиболее обильны плетения и геометрический
Рис.15 Фрагмент тарелки из Феодосии. Рис.16 Кусок блюдца из Феодосии
синтаксис всевозможных полос, разводов, полют, волн, звёзд, крестов, розеток, арабесок всякого рода. Весь этот синтаксис не принадлежит ни искусству, хотя древнейшие его образцы мы имеем в поливных сосудах в Риме (в Британском и Кенсингтонском музеях) и Решта, ни арабскому, хотя многие типы повторяются посудою мавританскою, ни также византийскому, хотя мы здесь находим и монограммы христианских имён и имена Святых на дне чашек. По обычаю и здесь производство посуды, в начале привозной, затем стало местным, хотя, конечно, первое время она исполнялась руками приезжих мастеров из Малой Азия или Сирии.



Египет во главе движения и творцом этого стиля, но для нашей задачи это было бы излишне. Достаточно указать на аналогии херсонесских и феодосийских блюд с персидскими блюдами (раннего происхождения) ХШ века, чтобы убедиться в том, что наши блюда носят несравненно более древний восточный характер, а что касается византийского их типа,византийского их типа, в этом нас убеждают многочисленные христианские (рис. 15, 16, 17) монограммы, кресты и византийская орнаментика. Таким образом, в новом атласе коллекций Годмена по персидской керамике22, издаваемые ныне впервые сосуды представляют, прежде всего, ту же технику, что и наши херсонесские и феодосийсие, если только исключить несколько более развитых типов, и по времени, пожалуй, более поздних. Мы встречаем, далее, одинаковые или близкие к нашим сюжеты 23 и сходный, а иногда и тождественный стиль 24. Напротив того, изданные там же, для сравнения, сосуды (в черепках) из находок Эфеса, Афин, Салоник, Мирины отличаются чисто византийским типом, орнаментикою поздне-византийского стиля; ни зверей, ни тем более – звериного стиля здесь нет и орнаменты из лиственных разводов, плетений сменяются только фигурками зайца, рыбы и пр. Животный мир возвращается в находках Фостата близ Каира, вместе с арабесками, и тут же наблюдается видимое родство с южнорусскими находками. Позволяем себе, впредь до подробного анализа других серий замечательных и не изданных памятников, считать пока доказанным, что в этом корсунском деле было на половину столько же греческого, сколько и восточных элементов, откуда бы они ни пришли, из Египта через Сирию и Кавказ, или из Персиичерез Каспийскую торговлю. Так, для примера из того же периода X – ХII столетий можем кратко указать на поразительное стильное 



Рис. 17. Кусок блюдечка из Феодосии.
Рис. 23. Донышко из Херсонеса. изображениях животного мира: таковы драконы и грифоны, львы и прочие хищники, в их изображениях в коптских рукописях и на херсонесских сосудах. Приводим, по этому, несколько фигур птиц (рис. 18 – 22) из сирийских и коптских рукописей ѴІП – X стол.25: эти фигурки повторены серебряными кувшинами и блюдами с арабскими надписями и херсонесскими глиняными сосудами (рис. 23).
Рис. 21. Из коптской рук. IX–X в. Рис. 22. Из коптскаго « Евангелия» УIII в.
Мы можем, без особого риска, догадываться уже теперь, что и бронзовые рукомойники (аguаmanilia) церковного употребления в виде грифонов, львов, химер, всадников, кентавров и пр., образцы которых встречены в кладах: Киева (Житомирская улица, см. ниже) и Гнездова, также.Кавказа (в собрании Г. Д. Филимонова), равно как в древностях Швеции и Дании, и которые за тем нашли себе продолжение в изделиях Аугсбурга и Нюренберга, – что и эти бронзы вывозились на Русь из Корсуня, вместе с сосудами, колоколами (упоминаемыми в летописи под 6970 г.) и прочею церковною утварью. В Музее Кордовы имеется бронзовый водолей очень большого сравнительно размера, найденный в Меdinа аz-Zahira – месте предполагаемых развалин дворца.


Мы избираем из хѳрсонесских крестов складней четыре характерных образца, найденные в 1890-х годах. На одном (рис. 24) из них, заслуживающем более подробного исследования, сохранившемся только в обратной половине, тончайшею резьбой и неизвестною нам инкрустацией выполнены: сверху Вознесение на руках 4 ангелов, в миндалевидном ореоле, Господа I. Христа; в средине Божия Матерь на престоле, держащая Младенца (престола не видно), по сторонам надпись IANAɅΗΨ,-Вознесение. По сторонам, на рукавах, 12 апостолов, как бы идущих к Богоматери. Замечательное сочетание Богородицы – Церкви в «Вознесении» с Богоматерью, держащею Младенца. Внизу МЭТМРСФ –

Второй крест представляет рельефное изображение: Распятого в колобии , маленьких фигур, по сторонам, Иоанна и Марии, наверху солнца и луны; на обороте (рис. 25) Богородицы оранты и в медальонах четырёх Евангелистов. Кто знает сколько-нибудь стиль сирийских и коптских бронз и резных изделий из слоновой кости, тот легко откроет родство с ними нашего херсонесского креста.
Третий образец Корсунского складня (рис. 26) соединяет рельеф с византийскою черневою выкладкой по глубокой резьбе: на обороте креста изображена Богоматерь «Одигитрия», с Младенцем, стоящая, и три Евангелиста в медальонах.


Рис. 26. Складень иэ Херсонеса.
Рис. 25. Складень из Херсонеса. Об.
Рис. 27. Складень из Херсонеса. Рис. 28. Крест–складень из Киева.
Четвертый корсунский крест выполнен резьбой и надколом, по резьбе – чернью, но она вся выкрошилась; представляет (рис. 27) Распятого в препоясании, и погрудь Марию и Иоанна скорбящих, с грубыми надписями их имён.
Затем, рисунки 28 и 29 представляют корсунский крест, найденный в Киеве, по Холевой улице, в 1893 году: рисунок выполнен здесь хорошею резьбой, надколом, еще в стиле IX – X столетий, отличается чрезвычайною характерностью. Корсунское происхождение вне сомнения.
Затем, нам много говорят о «Корсунской» святыне наши предания, но, как всякое предание, данные их крайне смутны. Нам перечисляют множество Корсунских «по преданию» икон и древностей в Новгороде: но и Мстиславово Евангелие, и крест Антония, все это или цареградские произведения, или позднейшие; корсунские иконы–просто всяких «греческих» писем, стенопись – «цареградская» – даже по словам летописи. Знаменитые Корсунские врата Св. Софии Новгородской28 получили такое название или от «Корсунской паперти», у которой они стоят и которая это имя получила от своей иконописи (1350 г.), или от своего архаизма, или же по недоразумению и смешению с другими. Так наз. корсунские врата сделаны в Магдебург, где был еп. Вихман († 1192), на них изображенный. Но так как было предание о привозе врат из Корсуня (впрочем, позднее), и так как еще Герберштейну сообщали это имя (может быть, именно по их древнему типу), то известный И. Б. Забелин полагает, что произошло смешение: подлинно Корсунскими вратами должно считать те врата, которые ныне называют Сигтунскими и которые по характеру, действительно, тождественной орнаментации и техники с византийскими вратами Равелло, Салерно, Амальфи и пр. в Италии. Однако, этому разрешению вопроса препятствует то, что Сигтунские врата были вывезены из шведской столицы Сигтуны при озере Меляри в Новгороде уже в 1187 году, стало быть, они не могли быть корсунскими, а называемые таковыми могли быть привезены только в ХIII веке. И, наконец, именно Сигтунские врата выполнены в технике X – XI ст., как и корсунские складные кресты с резьбой.

Рис. 29. Киевский складень. Об.
Переходя, затем, в XI столетие, мы встречаем обширнейшее и важнейшее влияние византийского искусства и культуры на древнюю Русь и даже, ради точности, должны бы были называть всю вторую половину великокняжеского или домонгольского периода, в частности XI и ХП столетия, периодом византийского искусства или, по крайней мере, русско-византийских древностей. Первый термин может быть допущен, однако, лишь в отдалённом будущем, когда с достаточною близостью будут известны все особенности, принадлежащие византийскому искусству на его новом поприще, в южной России, в частности, в Киеве, Чернигове, Рязанской, Суздальской областях, не только по перемене сюжетов, типов и форм, но и по свойствам техническим (об эмали и филиграни мы говорим теперь же). Что касается второго термина, то он находит себе частное оправдание в указаниях, сделанных историками, для политической сферы, торговых отношений, общегражданского просвещения и особенно церковного, а общее объяснение такого термина дается в результате издаваемого ныне исследования о кладах.
Но в это исследование не могут войти, по самому его объему и содержанию, важнейшие исторические стороны художественного влияния на Русь Византии в сфере храмовой архитектуры, церковной утвари, в области религиозных обрядов, церемониалов и облачений, во всех, наконец, отделах искусства и стиля монументального, иконописи, декоративных росписей, мраморных колонн, капителей и украшений, облицовок, мусийной стенописи и пр. и пр. Правда, именно в этой наиболее показной и высшей среде монументального искусства оказывается наиболее трудным отличить византийский тип от его русского варианта, и пока приходится принимать, согласно с скудными и темными свидетельствами летописей, что все произведения монументального искусства выполнялись у нас Греками, выписными или наезжими мастерами и артелями, или подрядчиками из Византии, причём мраморы привозились из проконнесских ломок уже вполне отделанными, а мусия покупалась пудами в Константинополе, о чём также есть прямые свидетельства, и исполнялась на месте мозаичистами из Перы.
Напротив того, останавливаясь только на мелких предметах из разряда бытовых личных уборов, составляющих главное (хотя далеко не единственное) содержание кладов домонгольского периода, мы, как окажется ниже, наиболее близко подходим к самому существу взаимных отношений русской бытовой и художественной почвы и византийского на ней посева, в том смысле, что через изучение этих мелких уборов и украшений приходим в познанию, в чём именно нуждалась русская земля, что брала от византийской культуры, как видоизменяла принятое, какой смысл и значение придавала своим заимствованиям и пр. Путь к этому изучению должен лежать, прежде всего, через отдел технических приёмов и усовершенствований, принятых от Византии.
Конечно, на первом месте должна стоять техника перегородчатой эмали. Мы уже имели повод ранее рассмотреть во всех подробностях эту технику в особом сочинении, посвящённом византийской эмали, с небывалою роскошью изданном главным собирателем эмалей А. В. Звенигородским 29, а потому, изложив кратко техническую характеристику эмали в X – XI столетиях, когда она стала известна в России, перейдём прямо в теме техническим особенностям, какие она приобрела на новой русской почве.
Мы знаем, что уже с самым началом X века эмаль развивается в Византии особенно широко, усваивает себе почти все существующие в перегородчатой эмали приёмы и технические процессы, обогащается высшим разнообразием цветов и тонов, под давлением восточных, воспринятых Византией вкусов, искавших многоцветности, пестроты красок, и становится особым искусством. Прежде ограниченная орнаментальною сферою, эмалевая живопись, отчасти под условием иконоборства, вызвавшего появление мелких образков, тальников, но главное, благодаря теме же вкусам, вошла в употребление для священных изображений, хотя, быть может, именно иконоборству она обязана была своею обширною практикою. Весьма важно, что появление эмалевой иконописи не сузило, а расширило производство, за которым все же осталась его орнаментальная сфера, столь блистательно представленная киворием и особенно престолом. Св. Софии Константинопольской и причина этого расширения лежала столько же во внутренних условиях самой византийской иконописи, к этому времени как бы поспешившей выработать свои шаблоны, сколько в техническом совершенстве эмалевой техники. Как многочисленны были или финифти во времена Константина Багрянородного, имеем множество указаний в его сочинениях: императорская казна и ризницы столичных церквей изобиловали подобными изделиями, торжественно выставлявшимися на праздниках и во время посольских приёмов в золотой Палате. Те же изделия находились в продаже у ювелиров и менял, обязательно доставлявших во дворец, на случаи особенно торжественного убранства его зал, свои лучшие вещи. В это время эмалью украшали и церковную утварь, потиры и дискосы, кресты и оклады, но также и пиршественные чаши, блюда, оружие, предметы личного мужского и женского убора и лошадиную сбрую. Многочисленность эмалевых изделий, сохранившихся до нас именно от X – XI стол., всего лучше удостоверяет нас в том, что это не была секретная техника, составлявшая монополию византийского двора, так как мы имеем прямые свидетельства о широкой торговле в Византии, быть может именно в Пере (Пераме, «Парамшино (?) дело») эмалями или финифтями. Это было художественное ремесло, разошедшееся на восток и запад: в Киев и Грузию, Северную Италию и Южную Германию, а по догадкам некоторых исследователей, даже в Персию и Индию. Эмальер был в то время и ювелир и золотых дел мастер: он сам приготовлял золотой лист для устройства на нём перегородчатой эмали. Этот лист мог быть толще и тоньше, смотря по величине вещи, по составу золота; этот лист загибался с краёв, по требуемой форме предмета, образка, куска орнамента и пр., и образовывал своего рода лоточек. Затем по внутренней его стороне или по дну выполнялся шилом рисунок в виде пунктира, и затем, следуя по линиям накола, эмальер выкладывал по ним весь контур изображений тонкими золотыми ленточками, нарезанными по толщине будущего слоя эмали, устанавливая их на ребро в виде перегородочек для наложения внутрь их слоёв эмалевого порошка равных цветов.
Понятно, высшая тщательность и цеховая ловкость требовалась здесь от мастера, и отсюда легко отличить чисто византийскую работу и константинопольскую эмалевую пластинку от русской или напр. грузинской, в которой ленточки бывают порваны, заходят концами одна на другую, измяты, грубо вырезаны и проч. Толщина эмалевого слоя и соответственная вышина перегородочек помогает отличать блестящую работу X или XI стол. от изделий времён упадка эмалей в XII и ХIIІ веках в самой Византии. Вещи особенно тонкие не превышают иногда толщины слоя в полмиллиметра, вещи погрубее бывают в два миллиметра. Главное достоинство византийских эмалей в гармонии красок, чистоте и интенсивности тонов, а главный недостаток в отсутствии рельефа и моделировки и в схематизме фигур и особенно драпировок. Но, затем, достоинство эмалевых красок сосредоточивается в их плавильной годности: многие краски темнеют, меняют цвета, подвергаясь обжогу вместе с другими столь тугоплавкими, что они еще не расплавились, когда те успели сгореть. Тон красок отчасти дело уменья, отчасти случая. Так в византийских эмалях особенно поражает красота, телесность цвета тела на руках, ликах, но, вместе с тем, чистый телесный тон, с лёгким розоватым и оливковым оттенком, встречается только в 10-м и первой половине 11-го века, а позже составляет случайность. Известную особенность древнейших эмалей составляют также прозрачные изумрудные эмали и молочно белая краска для тела. Наконец, алльяж золота также играет видную роль в исполнении: в Византии для больших эмалевых работ употреблялся сильный процент примеси: 20% серебра на 80% золота, и в русских работах (Киева, Рязани и пр.) также встречаем в эмалях это низкопробное золото, и во Владимирском кладе оно доходит до 70% золота. Заключительным процессом эмалевого производства представляется шлифовка готовой после обжога эмалевой поверхности. Эта шлифовка или полировка эмалей достигала у византийских мастеров высокого совершенства, подобного шлифовке драгоценных камней, и это причина, почему иные эмалевые древности, даже вынутые из земли, после тысячелетнего в ней пребывания, оказываются сохранившими свою зеркальную поверхность, тогда как другие, не будучи разрушены, стали уже неразличимы. Так, в русских эмалевых вещах, найденных рядом с византийскими в Рязанском кладе 1822 года, наблюдается, как увидим, наибольшая степень разрушения, и вместе с тем, упадок рисунка, грубость орнамента, нечистые краски и пр. И притом, в том же кладе некоторые эмали, хотя и русской работы, лучше других исполнены и соответственно лучше сохранились, тогда как напр. образок Богоматери отличается грубостью рисунка, техники и неузнаваемостью красок, совершенно утративших свои цвета. Точно также мы увидим любопытную разницу в эмалевой технике двух киевских кладов от 1880 года и 1885 года: даже толщина употреблённых слоёв резко разнился в обоих, а также оттенки красок и шлифовки, особенно синего цвета, сохранившего первоначальную чистоту и яркость. Впрочем, все многоразличные особенности русских эмалей мы будем описывать на самих памятниках ниже.
Второй замечательный вид техники в древне-русских изделиях, развившихся под влиянием Византии, составляет скан, сканное дело (от глагола секати, сучить), в простейшем виде существовавшая почти всегда в народном художестве, но выработавшая в XI – XII столетии способы особо утонченные и совершенные. Если Скандинавские археологи находят господство простой скани в русских древностях утомительно однообразным, то им можно указать на Рязанский клад 1822 года и Мономахову шапку, как на произведения высокохудожественные. Очевидно, дело не в выборе способов и приёмов, но в их усвоении и развитии, уменье приманить на деле известный рисунок и открыть наиболее удачную компоновку. Простейшая скань в античных вещах кажется весьма изящною, а в варварских изделиях прирейнских и особенно Англии, грубою и неуклюжею, также как утонченная филигрань XI и XII века в России и Южной Германии даёт художественные работы, а современные закавказские работы того же типа представляются утрированными.
Лабарт, в своей «истории промышленных искусств»30 знает особенное развитие скани или, как он называет по обычному западному термину, филиграни в Венеции: а именно, по указаниям Занетти и инвентарей, Венеция особенно славилась своею филигранью около XII столетия и даже особый вид её opus entrecoseum, достигавший даже изображения фигур, назывался opus ѵеneticum; а драгоценные камни на кресте аб. Сугерия были посажены «sur grands fermilletz d’or doubles a jour de facon de Venise». Однако, и в Германии этот тип филиграни утвердился также в XII столетии, и между несколькими замечательными образцами мы можем указать напр. на три оклада Евангелия в ризнице собора в Трире именно XII столетия; а превосходное, по своей точности, описание31 говорит об одном окладе следующее: «ювелирные пластинки (оклад состоит из эмалевых пластинок и бордюра, покрытого сканью и камнями) представляют, неизменно, по полю филигранных разводов, которых усики оканчиваются в виде шляпки гвоздика, каждая одно крупное центральное гнездо, окруженное восемью малыми». Камни разнообразны: сафиры, рубины, изумруды, яхонты, также стекла и пасты. Какое обилие камней, можно видеть из того, что на лицевой стороне одного оклада описание насчитывает их 228; центральные гнезда здесь укреплены помощью лапок, вырезанных трилистником; формы камней безразличны: круглые, овальные, продолговатые, треугольные и пр. встречаются рядом. Но здесь скань ограничивается одною золотою или серебряною нитью, которая одна своими изгибами образует волюты, стало быть, представлена процессом специально древним и всегда остававшимся более или менее в употреблении.
Напротив того, вещи Рязанского клада 1822 г. (см. ниже), представляют совершенно иную технику: а именно их филигрань исполнена посредством свитых, ссученных или скрученных золотых нитей, по две нити в каждой верёвочке, и притом скрученных настолько круто, столь тесными спиралями, насколько это возможно сделать; это и есть собственно скань, во Франции (в XIII в.) filigrane corde 32; затем эту веревочку сплющивали молотом в ленточку, и тогда её верхняя каемка представляла подобие зерневой нити, или собственно филиграни33. Наконец, в медальонах клада скань расположена, так сказать, ажурно, т. е. припаяна и ко дну и по проложенной уже по дну скани, что придаёт всему рисунку особую красоту и блеск. Подобная техника блистательно применена на Раlа d’оrо Венецианского св. Марка и также на некоторых предметах древности XI – XII стол. (?), по преданию будто бы принадлежавших Карлу Великому34. Начало этой техники, видимо, в варварском способе украшать поверхность нарезанными из золотого листа лентами, из которых набираются цветы, листья, затем перегибаются и припаиваются в живописном и богатом рисунке: такого рода начало мы находим напр. в знаменитом реликварии зуба и волос Св. Иоанна Предтечи в ризнице собора Монцы, который, однако же, напрасно относят ко времени королевы Теодолинды (начало VІI века), так как он не может быть ранее IX столетия35.
Мы знаем два главных вида скани или филиграни, употребляя пока эти термины в условном их тождестве, принятом, однако, почти повсюду. На первом месте стоят работа из зернистых нитей, или нитей мелких зёрен, изгибаемых щипчиками и образующих бордюры, коймы, а также украшение поверхностей и ажурные разводы: это древнее filum granum, filets grenus,grenetis и пр., для нас собственно филигрань или, пожалуй, зернь. Второй способ состоит в употреблении волоченой или тянутой проволоки или нити золотой и серебряной, которою или обматывается напр. мелкая вещь, или украшается поверхность также выкладкой на ней в различных орнаментальных формах. Эта филигрань также древняя, как и первая, если не древнее, судя по тому, что она испокон веков господствовала на древнем Востоке, в Египте, древней Греции и Этрурии и представила множество блестящих произведений искусства в изделиях ювелиров Сирии, Малой Азии, Афин и Тосканы. Эта форма настолько древняя, что употребление первого вида собственной филиграни или зерни в изделиях эпохи переселения народов, меровингской и пр. мы должны скорее объяснять занесенною к варварам временною модою, т. е. своего рода новостью, римским нововведением.
Но около IX столетия филигрань из золоченой нити является господствующим видом и создаёт в искусстве работы, по истине, художественные; при этом, в древностях России IX – XII стол. мы имеем едва ли не лучшие образцы этого вида. Эта форма всегда существовала в западной Европе, но она как бы вновь явилась на смену зерни и собственной филиграни, под влиянием восточной торговли, и хотя средневековые древности Персии и Индии нам совершенно неизвестны, но чудные филигранная работы новейшей Индии, Китая, Персии и Армении известны всем в различных собраниях Европы.
Путём привоза изделий на продажу и распространения самих способов, т. е. привоза золочёных нитей, или появления местного мастерства, уменья волочить проволоку, филигрань перешла с Востока на отдаленный Север. Сюда относится любопытный вопрос, поднятый в 1880 г. в Берлинском Обществе Антропологии, Этнографии и Первобытной Истории36: « стиль филигранных украшений в находках ломаного серебра (Наскsilber) имел ли влияние на украшение народных одежд позднейшего времени в тех же странах, и какие существуют доказательства, что эта новейшая филигрань составляет подражание привозной IX – Х-го столетия?». Богатые клады серебряных вещей, найденные в Голштинии, идущие из конца X столетия и содержащие, кроме ломаных монет, остатки прекрасной филиграни, обратили на себя внимание, а сходство в технике и орнаментике с восточными образцами не оставляли сомнения в подражании этим образцам; филигрань составлена здесь из волоченой проволоки, и этот вид называли восточною техникою, в отличие от резаной проволоки франкских фибул, исполненных перегородчатою эмалью. Померания богата также кладами серебра в кусках, между которыми встречаются украшения с зернью, гривны н резаные серебряные монеты арабского происхождения, и проф. Р. Вирхов полагал, что торговля арабов, направлявшихся через Астрахань и Булгары на Волге, проходила из Перми в Остзейский край, Скандинавию, Прибалтийскую Германию до Франкфурта. Вещи эти37 должны были производить сильное впечатление, по мнению проф. Вирхова, и «теоретически не трудно понять, что затем стали придерживаться этих художественных произведений и продолжать применение их украшений».
Но большинство высказанных мнении по вопросу сводится к тому, что клады вещей с арабскими монетами, содержащие такого рода художественные украшения, должны и происходить сами с Востока, составлять предмет привоза, при чём эти украшения, мелко изрубленные, могли употребляться как мелкая разменная монета, словом, самое серебро это было принято называть «арабским серебром». Некоторую оговорку в пользу северо-германского, местного происхождения, сделал Ундсет, по поводу кладов острова Готланд, для кладов XI и XII столетий, когда арабских монет нет, и они заменяются западно-европейскими. Известный Монтелиус отрицал принципиально, что клады с арабскими монетами содержать вещи арабского изделия: «он убеждён, что большее количество украшенных филигранью серебряных украшений в Стокгольмском музее не арабского изделия, а изготовлены на Севере. Вероятно, филигранная техника IX и X столетий находится в связи с золотою филигранью, которую мы уже встречаем как на Севере, так и в Германии, на некоторых чрезвычайно красивых произведениях У и VI века». «В доказательство того, что относящиеся к IX и X ст. серебряные вещи, с филигранью, по крайней мере отчасти неарабского изделия, г. Монтелиус указывал на некоторые вещи из этих кладов с орнаментами, свойственными северу (круглые фибулы)». «Нужно заметить, что, одновременно с упомянутыми серебряными филигранными изделиями IX и X века, на Севере встречаются также золотые украшения с филигранью. На острове Готланд найдено несколько таких золотых вещей чрезвычайно тонкой работы». В Швеции найдено несколько украшенных филигранью серебряных вещей, относящихся в XII и ХШ стол. и находящихся в связи с предыдущими. Г. Монтелиус «убеждён в том, что и они изготовлены на Севере. Может быть, их следует считать переходными звеньями между различными филигранными изделиями IX и X веков и теми, которые еще до сох пор делаются в Норвегии». Весьма важно обстоятельное возражение на это мнение, высказанное Ундсетом: он сказал: «Говоря о привозных арабских серебряных украшениях, встречающихся в наших кладах, я употребил выражение » арабские серебряные вещи» ради краткости. Вопроса о происхождении всех этих вещей, находимых вместе с арабскими монетами, я не хотел решать. Вполне согласен с г. Монтелиусом, что многие из этих вещей сделаны на Севере; но стиль их чужой, отчасти привозный и постоянно сильно отзывается чуждым влиянием. Таким образом я полагаю, что уже в период привоза арабских монет и серебряных изделий мы можем подметить зачатки местной северной промышленности, но главную массу серебряных украшений в этих кладах я считаю привозною».
Как видно, вопрос, здесь затронутый, тем труднее, чем он важнее и существеннее, и когда мы представим себе, что на этот вопрос не дано и не указано возможности какого либо ответа, даже в Швеции, где древности начали собирать и изучать уже в XVII веке, то мы поймём, насколько было бы не рационально домогаться решения того же вопроса в русских древностях, несравненно более обширных и крайне сложных по множеству разнообразных элементов; мы можем рассчитывать только получить определённое указание той среды, на которой подобные вопросы будут решаться, и того пути, по которому может направляться исследование. Эта среда определяется распространением известного стиля, следовательно, дело, нужда данного вопроса не в изучении бытовой археологии страны, по её систематическим отделам, как то доселе делают археологи Скандинавии, но в историческом изучении формы, правда, в связи с содержанием, ролью, бытовым назначением предмета, но по её художественным особенностям, отличиям от предыдущего и последующего.
Филигрань разных видов составляет художественную форму, являющуюся периодически и притом в самих различных местностях, однако, в иных она удерживается почему то с особою настойчивостью, и такою страною является Сирия38, страна ювелиров и золотых дел мастеров. Именно Финикия поставляла древнему миру всю эту массу поразительных по своей тонкости филигранных работ, находимых на Кипре, Родосе, Крите и Сардинии. Из Малой Азии происходили драгоценные древности Пантикапеи и вообще побережных колоний Чёрного моря. Отсюда также и заметная связь разом по технике и по сюжетам (напр. Персидская Артемида в известной серии бляшек) изделий греческого Востока и Этрурии, напр. находок в Саеге (колл. Кастеллани), а равно и по формам предметов убранства – часто указываемых нами сирийских серёг – калачиками, бляшкам и розеткам ассирийского типа, подвесным полулуниям на монистах, фибулам с фризами львов, сфинксов, крылатых львов, золотым филигранным бусам, серьгам с подвесными гнёздами и пр. А так как рядом находки Кьюзи и Тарквиний, видимо, из местных изделий, только воспроизводят все тонкости филигранной работы сравнительно грубым чеканном и резьбой, и самая филигрань там, где встречается, не тонка, груба, а венки из Саstel d’Asso в Британском музее также подражают и неудачно своим чеканом формам скани и филиграни. Сирийское происхождение серьги с подвеской в виде ассирийского креста, происходящей из Сардинии, вряд ли подвержено сомнению; тоже самое – сережки с подвесною гроздью, или жемчужиною, или известные особенно на Кавказе серьги с шпеньком для насаживания бусы. Эта последняя орнаментальная форма встречается, правда, лишь редко, в виде напр. браслетов из золотой проволоки с насаженною на нее золотою филигранною бусою, но по явной связи с позднейшим русским типом серёг, также браслетов и шейных гривен и височных колец приобретает капитальную важность.
Но мы могли бы более или менее определённо ответить на вопрос, оставленный Ундсетом без ответа: откуда идёт этот филиграновый стиль украшений. Этот стиль явился, вместе с привозными украшениями, из Сирии и через посредство арабских торговцев, снабжавших весь северо-восток варварской Европы УШ – X столетий металлическими и стеклянными изделиями Сирии и производствами её фабрик, полотна, шерсти и шелку.
Что филигрань играла основную роль в финикийских изделиях, факт достаточно известный всем, но для нас важно также и то, что в этих изделиях и драгоценностях, найденных на Кипре, мы встречаем филигрань всех трёх видов, т. е. из простых нитей, рубчатых и собственно зернистой филиграни39. Тоже относится к вещам современной Сирии. В средние века филигрань носила также имя оеиѵrе dе Dатаs. Между финикийскими собственно и кипрскими украшениями мы видим обильные височные кольца спиралью из золота, электра, как с изящной отделкой, так совершенно гладкие, большие, быть может, служившие браслетами40. О том, как обильны были в финикийских украшениях разнообразные подвески в форме калачика – колта, и как, благодаря Сирии, эта форма распространилась по всей Малой Азии, Греции, берегам Африки до Марокко, мы имели уже случай толковать в другом месте41, и вряд ли есть нужда говорить о том обилии украшений из дорогих металлов, как то диадем, серёг, цепей, ожерелий и пр., которое представляют нам финикийские терракотты. Те же указанные типы встречены в поздне-александрийской торевтике, между предметами древности, происходящими из Александрии и Кипра42. К этому должно добавить, что обычай носить серьги должен был прийти в Египет, где его в древности не было, из Месопотамии, где он был издревле, через Сирию и Иудею. Что касается специально серьги в форме калачика с утолщением кольца, или в виде лунницы, то обилие разнообразных вариантов этого типа побудило дать ему название финикийского: несколько пар серёжек этого типа найдены были в Сидоне Ренаном43.
Еще многочисленнее аналогии (см. выше) между предметами русской древности IX – XI столетий и современными украшениями Сирии, как их носят доселе в Дамаске, Бейруте, Гауране и безразлично у Друзов и Маронитов, Бедуинов и Сирийцев. Здесь еще доселе в употреблении нагрудные украшения в виде лунниц с подвешенными листиками (поталами)44, ожерелья из полуцилиндрических продольных бляшек (о которых мы должны будем говорить особо)45 подвесные на толстых цепях капторги, иногда в виде треугольных коробочек46, бляшки-амулеты и желуди на шейных цепях47, жемчужные диадемы48, и, равным образом, именно здесь наиболее удержались разнообразные кики, кокошники, колпачки в женском головном уборе49.
Наконец, весьма веское указание представляется нам в тождестве орнаментальной манеры, которое бросается в глаза преимущественно в золотых вещах: мы уже указывали на тождество орнаментации поясных бляшек клада из Тарса, клада Воронежского, клада, найденного в Венгрии и другого в Кьюзи (Тоскана). Как пример, столь же поразительный, можем указать на тождество замечательных серёг из тончайшей золотой и серебряной филиграни, с фигурными бусами, иногда птичками, одновременно находимых в Казанской губернии, на развалинах Болгар и в Калишской губернии. Между этими находками, несомненно, должна быть причинная, не случайная связь, как есть связь между обилием гривен, находимых в Вятской и в Витебской губерниях.
Мы уже имели случай50 издать образцы любопытных золотых бляшек из Ставропольской губернии, в виде группы ячеек для жемчужин, окаймлённых тончайшею филигранью, в виде жгутиков или даже собственною сканью, причём группы бляшек имели форму пирамидки или же простой розетки с шестью ячейками. При этом мы приложили рисунок совершенно тождественной подвески в виде пирамидальной группы пустых круглых ячеек с двумя головками хищных птиц на верху, из Венгрии; при этом заметили, что эта мало понятная группа ячеек воспроизводит в варварском преувеличении античную гроздь винограда, послужившую так часто, в виде художественного типа, для всякого рода подвесок; к венгерской подвеске еще прицеплены были снизу полые колокольчики, своим типом ясно указывая на варварские формы, нам известные из бронз Осетии и северного предгорья Кавказа. Что венгерская вещь, а следовательно, и ставропольская находка, относятся к ѴП – ѴШ столетиям, о том легко судить по характеру вещей, найденных совместно с венгерскою подвеской и также по характерному её типу, не переходящему границы УШ столетия. Ставропольская находка могла бы принадлежать к вещам половецким или хазарским – неизвестно, но по своему техническому приёму она относится, очевидно, к греко-восточному искусству, если не прямо к его изделиям.
На ряду с этою вещью, столь важною в истории восточной филиграни, мы можем, ныне, предложить (рис. 30) непосредственно за нею следующее и с нею тесно связанное звено–набор 34 крохотных (0,009 м. до 0,012 м.) золотых бляшек51, в виде розеток, из круглого золотого листка, на котором укреплены тончайшею сканью или круглые ячейки (числом 7). или же лепестки (числом 9) розеток. Четыре бляшки имеют – важнейший для нашей задачи – тип так наз. арабского цветка, который, по его значению, мы передаём здесь в точных рисунках, насколько можно воспроизвести их тончайшую скань. Предварительно

Рис. 30. Типы 34 бляшек из Херсонеса в собрании А. Л. Бертье-Делагарда.
должно сказать, что это, повндимому женский убор, трудно сказать, чего именно: для головной повязки, диадемы – всего скорее, так как она именно бывала матерчатая и украшалась розетками, при чём четыре бляшки в виде цветка могли быть на двух завязках диадемы, по концам её; бляшки нашивались. Розетки наши все имеют совершенно одинаковый рисунок – его нельзя было разнообразить, тогда как бляшки с группою ячеек с намерением сделаны мастером разнообразно, а именно: в средине ячейки сканью выкладывается крохотный кружок или гнёздышко (и что составляет верх технической утонченности – самые дырочки для нитей, по 6, были окаймлены также сканью), и от того, как и где оно помещено, по средине, или у краешка, зависит именно вариация рисунка и вида; для нас, в частности, важно и то, что кружочек часто делается нарочно у края ячейки, как если бы он образовывал её завиток; чем, стало быть, напоминается основная форма разводов или закручивающихся усиков, господствовавшая ранее, в изделиях У – VI стол. Рисунок арабского цветка есть также осложненная лилия или крин полевой, но уже в окончательно сложившейся форме, почему собственно и весь набор мы должны считать не ранее IX столетия. Набор этот приобретён, по словам лица, продавшего А. Л. Бертье-Делагарду, в Херсонесе, из прежних раскопок, вместе с великолепным золотым тельным крестом, который, поэтому, мы и считаем нужным представить здесь (рис. 31) в приблизительно точном рисунке. Крестик этот сделан также из листового золота, четверо конечный, выш. 0,047 м., шир. 0,04 м., состоит из цилиндрических, трубчатых, полых внутри рукавов; по концам их устроены из резаной проволоки по пяти выгнутых тонких ручек, при чём часть рукава внутри сделана гладкая, как будто это была крышечка, а верх этой крышечки ажурный, из проволоки; таким образом, и цилиндрическая форма, и эти крышечки назначены подражать тальникам из дорогих камней, сердоликов и пр., по концам обделанных именно в золото. В перекрестье гнездо с сердоликом, а рукава покрыты рядами сканных ячеек, по четыре ряда вдоль каждого. Очевидно, что мы имеем дело с вещами уже второй половины IX или даже X стол.

Рис. 31. Золотой крестикъ изъ Херсонеса.
К тому же разряду мы относим одно драгоценное ожерелье, происходящее, по словам продавца, с Кубани, состоящее из двадцати четырёх золотых бус, необычайной тщательности и чистоты отделки, и столь же замечательного рисунка, и поступившее в ту же замечательную по значительности и подлинности древних золотых вещей коллекцию А. Л. Бертье- Делагарда. Бусы эти, на первый взгляд, производят впечатление чисто русских, киевских древностей, и только внимательное изучение открывает различие. Самый шарик бусы (рис. 32) сделан из более толстого листа, чем обыкновенно, и потому все ожерелье из 20 слишком бус весить гораздо более античных. Далее, поясок спайки двух половинок шарика закрыт бордюром из двух нитей и посреди нитью зерни или собственно филигранью; тоже находим по краю обеих отверстий для шнура, т. е. кружочек окаймлён зерновою нитью. На самом же шарике гладкою проволокою (не сканью) выложена такая же двойная спираль, какую находим в более ранних варварских древностях, но которой нигде на древнерусских бусах не находим, да кроме того, в разводах посажены верна.
С Кубани же происходит золотая бляшка (того же собрания г. Бертье Делагарда), с ячейками, в которые, вместо жемчуга, усердная рука продавца вставила кусочки древнего стекла: вещь тождественна (рис. 33 и 34) с печаткою перстня, найденного в Венгрии (в музее
Пешта); они должны относиться к VII – ѴШ ст. и имеют совершенно тождественную аналогию в срединной бляшке креста короля Пелагия в соборе Овиедо.
В непосредственной связи с этими предметами стоят девять золотых нашивных бляшек, составлявших, по-видимому, также головную повязку или венчик и украшенных по листу тончайшею филигранью, точнее, сканью, т. е. перегородками, исполненными из ссученной нити или скани, только сплюснутой или сплющенной молотком и припаянной к поверхности. Эти девять бляшек принадлежат коллекции А. Н. Поля в Екатеринославе52, происходят из Мариуполя и, вероятно, составляют остаток прежних богатых находок в курганах Южной России, если не попали в Мариуполь, вместе с греками, из Крыма. Круглые бляшки представляют ту же розетку, тождественного рисунка, также есть две бляшки в виде арабского цветка, одной формы с рассмотренными; шесть бляшек (рис. 35) в условной форме лилии, как мы ее встречаем в арабской и сицилийско-норманнской орнаментике; по листу тончайшие разводы из скани в форме завитков, скорее веточки с усиками, заполняющие весь фон, и, кроме того, в средине несколько звёзд из гладких перегородочек или ленточек, припаянных на ребро и образующих как бы ячейки для цветной эмали, которой, однако, нет и не было. Об этой форме скани мы будем говорить особо. В разводах кое где посажены в гнёздах верна яхонтов и мелки жемчуг.

Рис. 35. Из собрания А. Н. Поля. Тип 6 зол. бляшек.

Рис. 36. Золотая бляшка из собр. Каррана в Нац. Муз. Флоренции.
Рис. 33. Золотая бляшка с Кубани . Рис. 34. Золотой перстень в музее Пешта

Рис. 32. Золотая буса из ожерелья
с Кубани.
Следующая за этими видами форма представляется большим мавританским ожерельем, из колл. Саггаnd, поступившим в Национальный Музей Флоренции53: подвесные бляшки этого ожерелья (рис. 36) повторяют ту же форму арабского цветка, однако, осложненную и утратившую свой основной смысл; именно в рисунок введена так наз. индийская пальма или завиток, а все поле покрыто восьмерками и завитками, или идущими по рамкам, или рассыпанными и заполняющими пустоты. К позднейшей эпохе Половецко-Татарской с монетами ханов Узбека (1313 – 1342) и Джанибека (1371 – 1356) относятся серии разных бляшек со сканною работою в виде гнёзд, ячеек, розеток и персидской розы о семи лепестках, с горным хрусталём в средине, из кургана у дер. Вороной, Ново-Московского54 уезда Екатеринославской губ. Эти предметы любопытны особенно, как доказательство необыкновенной сохранности художественных форм у кочевников.

Рис. 37. Ожерелье въ Мадридск. Арх. Муз.
К XIII столетию должно быть отнесено ожерелье (рис. 37) из чудных филигранных, ажурных бус, пронизок и подвесок, происходящее из Гранады (ныне в Археологическом музее Мадрида); подвески имеют форму кавказских конических колокольчиков, а одна в средине, играющая роль амулета, тождественна с описанными вещами из Мариуполя и коллекции Каррана.
Ближайшее, однако, место к тонкой скани Рязанского клада 1822 года занимает клад великолепных золотых украшений, найденный в 1880 годах близ Майнца и поступивши в собрание местного любителя древностей и банкира барона Гейля в Вормсе. Вещи, как мы уже о том имѣли случай писать55, при всём своём разнообразии, происходят из одного пышного, но, в тоже время, художественно исполненного убора. Отдельно найдена в 1885 г., находящаяся во владении того же лица большая бляха (мишень, как говорили в старину, или значек, еnseigne) с эмалевым изображением орла от нагрудного аграфа, явно, местного, еще несколько варварского изделия: инкрустации и эмали подражают византийским; другая бляха с орлом еще грубее. Шесть золотых перстней клада византийской тонкой работы, с филигранью и разными камнями, но один, украшенный резьбой вглубь, геометрическими плетениями и кринами, погрубее, вероятно, местной. Тонкая цепь из эмальированных византийскою эмалью бляшек и эмалевая брошь относятся, по всем признакам, ко времени процветания византийской эмали, т. е., не позже, как в первой половине XI века или даже X века. Но всего замечательнее пять брошей, одна золотая,. эмальированная, с изумрудным фоном, по которому вкраплены красные листья плюща, прочие (рис. 38) украшенные одним камнем в средине щитка и кругом тончайшею сканью, зернистою филигранью и жемчугом. Убор этот настолько типичен, что заслуживает особого рассмотрения. Во первых гнездо простейшего типа, камень удерживается грифами (когтями), или зубчатыми лепестками чашечки, в которой камень посажен; кайма возле состоит из мелкой зерни, или по бордюру, или набранной городками, зигзагами и т. п. Далее, по щитку идут ромбами желобки, устроенные в том же лоточке или золотом листе, но перехваченные всюду скобочками; под этими скобочками идёт проволока, на которую насажен жемчуг, и отдельные жемчужины сидят именно между скобочками по линиям этих желобков; кроме того, крупные зерна посажены в особых круглых ячейках; наконец, все остальное пространство покрыто тончайшею, изумительною но тонкости и правильности, сканью, составляющею, однако, все те-же простейшие рисунки восьмёрок, запятых, усиков, кружочков и пр. Внешняя кайма брошей составляет вновь ряд круглых ячеек, разделённых такими скобочками, и прежде в каждой ячейке сидело по зерну жемчуга. Украшение это, будучи вполне во вкусе X века, может назваться истинно богатым и художественно прекрасным: контраст матового блеска жемчугов и разных тонов золота составляет то изысканное, отчасти изнеженное изящество украшений, которым прославилось повсюду искусство Византии X века. Ряды порванных цепочек, найденных вместе с брошами, как будто указывают, наконец, на то, что эти броши были попарно прикрепляемы к плечам, связаны между собою свесившимися на грудь цепями, и стало быть, изменены в своём первоначальном назначении, соответственно варварской моде, тогда господствовавшей в Германии.
Таким образом подходим мы к величайшему памятнику русской древности, составляющему отечественное сокровище не только по историческому значению, но и по художественному достоинству. Мы говорим об известной Мономаховой шапке, важнейшем, если не единственном действительном памятнике древнерусского велико-княжеского чина, заветной короне московских царей, до новейшего времени обязательной «утвари» священного венчания на царство, ставшей выразительным символом вековых прав и высшею эмблемою царской власти. Всем известно, далее, что с этим именно памятником из всех так наз. «Мономаховых» регалий связались в последнее время и сложные вопросы истории царского венчания и царского титула в России. Правда, многое здесь сложилось и устроилось, до известной степени, случайно, благодаря частью недоразумениям, недоговорённым и недоказанным положениям, а главное в силу самой слабости русской вещественной археологии, которая, не давая сама по себе определённого решения по предмету, тем самым допускала в данном чисто «археологическом» вопросе, полный произвол историко-политических комбинации и ряды всяких возможных и вероятных заключений. В виду этого, мы, с самого начала, считаем нужным совершенно отстранить от дела вопрос об истории, началах и происхождении «царского венчания» в России, как пункт, доселе сам по себе нуждающийся еще в доказательствах, а потому не годный для того, чтобы служить доказательством в других сферах. Раз, что не может быть точно дознано, когда именно положено было начало «царскому чину», бесполезно и не научно было бы с этого вопросительного знака начинать изложение вопроса о памятнике, существующем заведомо, на наших глазах. Археология тем и отличается счастливо от собственной истории, что её материалом служит самое произведение рук человеческих, как для естествоиспытателя произведение природы, а не один только рассказ о нём или его описание, или мнения летописцев и историков. Для нашего дела было бы мало значительно знать, был ли венчан Владимир на царство, если мы не знаем, представляет ли шапка Мономаха действительно древний царски венец до московского периода, тогда как, если бы археология могла доказать это обстоятельство в первую голову, то в свою очередь все соображения историков были бы уже делом второстепенным56.

Рвс. 38. Золотая брошь из находки близ Майнца.
Итак, очевидно, что с такого собственно археологического исследования и следовало бы начать, но, ради точности, мы должны заметить, что оно было сделано лишь недавно и при том не специалистом, который нашёл в нём свой интерес, но не научные результаты, и потому основным руководителем по данному вопросу продолжает оставаться пока археологическое исследование пок. Прозоровского57, подвергшего впервые археологической критике все старинные утвари, приписываемые Владимиру Мономаху. Рассмотрев сначала свидетельства духовных завещании великих князей, начиная с 1328 года до 1504 г., Прозоровский нашёл, что они не дают никакого повода считать какие либо из упомянутых утварей Мономаховыми, а скорее наводят на мысль, что утвари, признаваемые за греческие изделия, получены из Византии разновременно, по различным случаям и приурочены к старому преданию о венчании великого князя, с отнесением этого события к Владимиру Мономаху, как внуку Восточного императора и как избраннику, «его же Бог из утробы освятив и помазав, от царское и княжеское крови смесив». Так, крест с частицею Животворящего Древа, носящий в описях название «креста корсунского, царя Константина, что с животворящим Древом», или «большого цареградского», или креста «в раце Цареградской», и возлагавшийся на царей при короновании, относится к 1383 году; другой крест с частицею, известный под именем Владимира Мономаха, в Благовещенском соборе, по надписи, сделан в 1621 году. «Враная» цепь с крестом, появляющаяся при Иване Ивановиче, и «златая сканная цепь аравийского злата», хранящаяся поныне в Оружейной Палате, возлагавшаяся при короновании на царя после херувимской песни н соответствующие, вероятно, древнему обычаю возложения гривны, как мы замечаем в своём экскурсе о цепях, относятся также к гораздо позднейшей эпохе. Икона золотая «Парамшина дела», с эмалевым изображением Распятия, могла быть нагрудным образком, но тоже появляется только с духовною Ивана Ивановича и исчезает с 1504 года. По вопросу о «золотой коробочке», завещанной Иваном Даниловичем Калитою, истощено было много остроумия на то, чтобы доказать, что эта коробочка тождественна с сосудом или чашею из красной яшмы, оправленною в золото, на золотом поддоне, в собрании графа С. Г. Строганова; для этого потребовалось даже предположить, что темная надпись из начальных букв на сосуде обозначает имя императора, при том IX века, с произвольно прочтённым годом (имя все таки не подходило к году), и что название чаши «крабийцею» дано было из чешскаго языка и почему то переделано было в «коробочку» уже в древней Руси. Сосуд этот относится не ранее как к XII веку, сильно напоминает потиры в ризнице Св. Марка, но сам не был потиром, а чашею, и надпись должна содержать начальные буквы имени и молитвенное обращение к «царю царей», а потому, возможно, что сосуд был царским. Однако, между ним и золотою коробочкою общего только материал, так как позднее она значится под именем «коропки сердоничной, золотом кованой», «из судов коропка сердоничная», что скорее указывает на шкатулку, из яшмовых плиток, оправляемых в золото. И эта шкатулка дана «княгине с меншими детьми» Калиты, вместе с золотом, что князь «прндобыл есть, что ему дал Бог».
Мнение Прозоровского о бармах, как принадлежности русского царского венчания, ошибочно, но заслуживает краткого отступления, так как мнение это основано на некотором общем заблуждении. Дело в том, что, уже на основании формальной справки, Прозоровскому легко удалось доказать, что бармы не были принадлежностью царского сана в Византии, а отсюда уже был сделан вывод дальнейший и ошибочный, что и в древней Руси бармы были сначала только знаком простого благословения, святынею же, символом божественной благодати стали не прежде Ивана Грозного, когда будто бы были приравнены к императорской фелони или даже лору. Ошибка заключается в первой или основной посылке; когда говорят о царском венчании на Руси, то отождествляют его вполне с венчанием византийского императора. Между тем, титул царя, уже по соответствию его с «кесарем» Византии, не сразу стал отвечать понятию василевса, и перевод в данном случае не составлял полного тождества. Как мы будем иметь случай говорить ниже, есть полное основание думать, что императоры византийские, уступая Болгарии, Руси, Грузии, Венгрии и пр. саны кесаря, деспота, архонта, куропалата, нобилиссима, даже магистра, тем самым способствовали установлению «чина» венчания, но было бы крайним заблуждением из венчания Владимира (пока лишь предполагаемого) выводить наименование его царём, которым никакой великий князь у нас не был и не мог быть, так как все же с понятием царя связалось у нас понятие василевса, о чём позаботились в свое время и цари московские, когда это стало не только возможно, а и необходимо, с падением Византии. Мы будем также особо говорить о том обстоятельстве, что наши великие князья сначала искали, и очень усердно, своего рода инвеституры от Византии, а потому и получали, конечно, саны один перед другим, но так как именно эти саны имели лишь очень слабое значение придворных титулов Византийского двора, то это искательство было рано оставлено, вследствие перемены интересов и развития удельной системы, а данные уже титулы не были замечаемы современниками. Думать, как говорили прежде, что русские великие князья соперничали с Византией, презирали её чины и титулы, гнушались принимать на себя своего рода службу, хотя номинальную при дворе императора, было бы явным заблуждением, и против этого говорит известная глава Константинова трактата «об управлении Империи», свидетельствующая, что русские князья очень настойчиво добивались царского сана, регалий и пр. Бармы, напротив, были именно принадлежностью целого ряда высших чинов Империи, под именем маниакия, как мы ниже указываем, но стали придворным мундиром не сразу, а сначала (только когда именно – не знаем пока), приблизительно между У – УІІ столетиями, были принадлежностью царского сана и присных семьи царской; затем, по обычаю, теряя в своём значении и постепенно размножаясь, одежды с шитыми оплечьями стали достоянием высших военных чинов, а после того и гражданских, также излюбленным подарком для варварских князьков, как наиболее пышный мундир, взамен прежнего плаща с таблионом. С того времени, оплечья получили и украшения эмалевыми иконками, императорскими портретами, как прежде таблионы, и уже в этом виде пышного орната явились в древней Руси принадлежностью князя, как в Византии – архонта. Иное дело, что бармы не могли отличать собою «великого» князя от удельного (если бы это было, мы слышали бы очень много об этом обстоятельстве, и это указано было много раз), почему напр. Калита отказывает свои одежды с бармами не старшему сыну Семену, и иное обстоятельство, что бармы все таки были принадлежностью своего рода венчания на «великое княжение», когда это венчание или «сажание» имело место.
И «пояс большой или великий», завещанный Иваном Калитою и рано исчезнувший, по словам Прозоровского, руководившегося византийским царским орнатом X века, «мы не должны считать царскою утварью, разве это был тоже императорский лор, подаренный какому либо великому князю и затем забытый и ненужный». Догадки эти крайне неудачные, в виду той особой важности и даже чрезвычайности, какую греки всегда и особенно в X – ХП стол, придавали своим регалиям, и, главное, догадки излишние, так как пояс был издревле у всех народов Востока принадлежностью военного облачения полководца и народного владыки. И в самой Византии, во времена древние, облачение царя при венчании составляли: дивитисий с золотыми клавами и пояс, в то время, когда его подымали стоящим на щите, как то рассказывается напр. об Анастасии58 и уже потом, спустивши его со щита, вели объявленного всенародно императором, в триклиний, где епископ возлагал на него хламиду или багряницу и венец, после него «император» впервые был приветствуем именем «Августа-севаста», а до тех пор был только «кесарь». Для нашей задачи было бы достаточно знать, что пояс входил в число естественных принадлежностей княжеского облачения, хотя, быть может, память о его священном, символическом значении к данному времени уже утратилась, т. е. пояса не вручали князю особо, как некоторого знака власти. Во времена Константина Порфирородного, пояс был отличеем санов: куропалата и нобилиссима, выше которых тогда был только кесарь59.
Но краткий обзор сведений о том, как князья возводились на княжение, сделанный Прозоровским, показывает с достаточною убедительностью, что таких, особо вручаемых знаков власти при возведении на великокняжеский престол или вовсе не было, и церемония ограничивалась церковною службою, благословением, многолетием, посажением на стол в церкви и всенародным объявлением, или же эти знаки придумывались, так сказать, на каждый раз, смотря по тому, что было под рукою, какой напр. даже византийский сан уже имел великий князь, хотя это было, по-видимому, в эпоху уделов крайнею редкостью. Прозоровский полагает, правда, что князю вручались некоторые знаки власти и права, но оговаривается, что особого возложения на князя шапки вовсе не было, хотя мы видим князей при богослужении в шапке, как своего рода венце, а Иоанн III уже прямо употребил «золотую шапку» для венчания внука по старому чину.
Итак, по вопросу о «Мономаховой шапке» мы ничего не знаем из письменных свидетельств древности, как о венце, и даже может быть вопросом, действительно ли именно эта шапка разумеется под тою золотою шапкой, которую Иван Калита завещал старшему сыну Симеону, а Иван Иванович назначил Димитрию Донскому. Под именем шапки разумели также шлемы, и название «золотой шапки» остается неопределённым, при всём нашем желании ориентироваться там, где все темно и неизвестно.
Вот почему всякий должен был встретить с понятным интересом попытку поискать разрешения вопроса в самом памятнике, сравнив Мономахову шапку с византийскими коронами с одной стороны, с другой приняв в соображение детали её формы и работы: попытка эта сделана г. Регелем в предисловии к изданным им греко-русским документам, касающимся истории царского венчания в Московской Руси60. И, конечно, непричастность автора к собственной археологии была в значительной степени причиною того, что он решился говорить о памятнике по этим двум пунктам, не сознавая ясно, какие необычные трудности заключаются в этом крайне сложном и тонком вопросе, но равно это не могло не повлиять на ошибочную постановку вопроса, а она, не приведя к какому либо разрешению, только усложнила дело выводами, которые, при нынешнем положении русской археологии, не могли не быть поверхностными и преждевременными.
Начать с того, что автор трактата предполагает формы византийских корон известными и повторяет обычные сведения о древней повязке – диадеме и позднейшей стемме для противопоставления их форм нашей шапке: она де «не представляет ни малейшего сходства с коронами византийскими ни X века, ни последующих времён». Общий тип царского венца в Византии, действительно, всегда представлял круглый металлический обруч – венец, более или менее богато украшенный. И потому, если напр. в Византии совершалось восстание, провозглашали нового императора, то, бывало, шли в храм св. Софии, снимали один из обетных венцов, висевших там под киворием и в народе слывших под именем венцов Константина Великого, и возлагали на голову нового царя. Это были простые обручи и потому ничем не отличались в X – XII веках от венца «кесаря», который сохранил и древнюю форму и древнейшее название

Правда, короны Карла Великого и так наз. Константина Мономаха, если и были сначала обетными венцами, то или были приспособлены как регалии, или даже переделаны, как то показывает первая, лучше сохранившаяся. Несомненно также, что если Железная корона была сначала вотивною, то она была переделана в королевскую, а равно королевской или даже «царскою» считалась, по внешним признакам, корона Венгерская, хотя бы она была сначала только «стефаном», кесарским венцом, как мы в указанном сочинении пытаемся доказать. Тем не менее, всякому непредубеждённому взгляду становится сразу ясным разнообразие в формах этих корон, а это разнообразие зависело от того значения, какое в древности европейские национальности придавали титулу императора, царя, короля, князя и пр. Между тем, для нас пока остаются неясными даже взгляды самих византийских политиков, и мы слишком привыкли считать Византию средою неизменною до косности, чуждою перемен и развития, для того, чтобы интересоваться жизнью даже в этой сфере. Равно, для историков единичный факт, будь это даже исключение, осуждаемое впоследствии, является сильнее нормы, правила и закона, и два, три случая наделения царским саном варварского князя, хотя бы признавались чрезвычайными, оправдывают всякие их предположения.
Известно, что все свидетельства о царском венчании Владимира Мономаха относятся к XVI веку и признаны ныне историческою критикой неправдоподобными, потому, прежде всего, что детали этих свидетельств не выдерживают этой критики. Напротив того, занесенная в письменность того же времени легенда о таком же венчании Владимира Святого признается ныне преданием, уцелевшим от исторического факта: его действительность доказывается правдоподобием, которое даёт историкам право развить обширное поле исторических догадок и справок о политическом значении Владимирова похода на Херсон. Возможно, что такая историческая критика поможет нам установить правильный взгляд на ход политических дел Византии и Руси, но она должна быть признана бессильною создать самый факт царского венчания, коль скоро его нет или – что тоже – он остался не замеченным всеми, кроме будто бы какого-то источника, до нас не дошедшего. Правда, монеты представляют Владимира Святого в царском орнате, но этот орнат, на языке современных монет, означал лишь владыку, властителя, и притом также точно представлены и князья Святослав и Ярослав: прежде всего, эти изображения копируют византийские, а известно, что варварские копии наиболее передают детали изображения, и потому из присутствия креста на короне Владимира и хламиды было бы слишком смелым выводить, что он был венчан царём по соглашению с Византиею.
В том же сочинении Константина Порфирородного, кн. II, гл. 46 – 7, подобраны в порядке титулы, коими византийский император величает князей и старейших «народов», и там в числе титулов стоит




Еще важнее было то, что Византийцы, в качестве умирающей нации, живо интересовались всеми обычаями, особенно костюмами, народным вооружением, значками и украшениями племён, и по мере ознакомления с ними, в Константинополе, одна мода сменяла другую, мода на Гуннов, Готфов, Персов, Сарацин, Булгар, Хазар, Варягов и пр., вплоть до крестовых походов, когда место их заступили Алеманы и Франки. Византийские власти с особенною внимательностью, унаследованною в новом мире только немногими, отыскивали всякие варварские украшения, изощрялись в их улучшении при помощи своих мастерских, и затем выдавали их в виде наград и отличий предводителям. Мы, конечно, пока не знаем напр. всех одежд византийского двора, но характерно то обстоятельство, что, при всём их разнообразии, в соответствие с различными чинами, число одежд, раздаваемых в подарки «народам», не менее значительно, а при большом дворце, в кладовых лежали в запасе также и всякие кафтаны, кавадии, гуни и шубы для варваров и их заместителей. Таким путём, как увидим в частности, произошли большинство всех знаков отличий в европейском средневековье, и, надо думать, также большинство корон, венцов, почётных шапок, шлемов и вообще головных уборов мужских и женских. Так исследование русских кокошников и кик дало бы нам, прежде всего, ряд почётных уборов древней Византии, затем Руси и средневековой Германии и Польши.
Шапка Мономахова не императорская стемма, не королевская корона – это легко доказать её внешним видом, – но она легко могла быть «кесарским» шлемом или почётным золотым шишаком «кесаря», владыки «христианского народа по ту сторону Дуная», как говорили в Византии. Тулья шапки состоит из восьми золотых конических пластин (почти треугольных, но с расширением или выгибом и чуть срезанных на верху), выгнутых плоским полукругом и соединённых или, точнее, сдвинутых вплотную одна с другою. На верху все пластинки подведены под венечное полушарие или полусферу, с утверждённым на ней крестом; ниже пластин соболья опушка, прикреплённая к внутренней матерчатой шапке, которой тулья укреплена оловянным переплётом. Уже прежний хранитель Оружейной Палаты и известный знаток московской древности Г.Д.Филимонов обратил внимание на позднейшие части Мономаховой шапки, из которых соболья опушка возобновлена в нашем веке, но существовала уже в XVII веке, как доказывают изображения и описи, а сфера с крестом должна была принадлежать, по его мнению, XVI веку. Г. Регель повторяет тоже мнение, которые, действительно, не требовали нового пересмотра, и, видимо, полагает, что соболья опушка имела место и в древности: можно держаться иного мнения, но начнём по порядку.
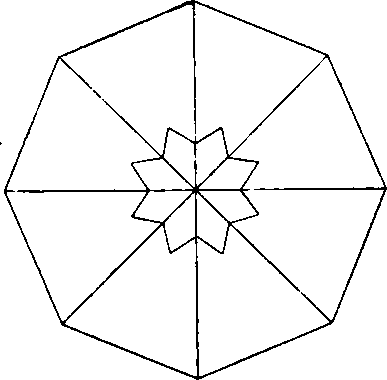
Рис. 39. Восемь пластинок Мономаховой шапки беа прикрывающего полушария.
Все признают, что древнейшая часть шапки восемь пластинок, но как они были первоначально устроены, этим никто не интересовался. Между тем, самая форма пластинок, как она видна на рисунке 39, указывает, что теперешнее полушарие не только поздне устроенное, но и в современном виде неуместное; концы пластинок орнаментированы полукругами, которые должны были иметь продолжение, а оставляемое пластинками свободное отверстие имеет характерную форму звезды и не могло закрываться сферою или полушарием. Следовательно, прежде всего, присутствие креста на сфере в Мономаховой шапке есть такой же позднейшей придаток, какой имеется и в короне венгерской и в короне Карла Великого; в ХП – XIII веках на западе знали хорошо, что крест на короне означает корону царскую, а потому и прибавили его; так сделали и у нас в XV или XVI веке. Именно эта прибавка ясно показывает, что царского венца у нас не было и надо было переделать на него великокняжеский. Но если не могло быть здесь креста, то, напротив, легко могла быть обычная звёздочная крышечка шишака, или восьмигранная розетка с шипом или чашечкою для укрепления в ней пера (аіgrette), султанского или княжеского украшения, и это вполне согласуется с формою золотых шишаков из восьми – десяти золотых пластин, скреплённых наверху, в XV – XVI веках на Востоке, в частности даже в Индии. Всего вероятнее, что отверстие прикрывалось восьмисторонним конусом, а не полушарием, поверх был промежуточный шарик и на нём лилейная чашечка с пером, или, вместо шарика, большая жемчужина в гнезде, или драгоценный камень.
Но тоже самое обстоятельство позволяет догадку, что низ шапки первоначально не был меховой, а составлял обод или обруч, также золотой, украшенный также сканью, и рано отнятый по неизвестной причине. Действительно, низ тульи разделан особым орнаментом, и, как увидим, был покрыт жемчужными нитями, очевидно, не для того, чтобы быть закрыту меховою опушкою. Если теперь эта опушка не закрывает низа, то и носить шапку в современном виде нельзя, так как золотые пластинки держатся на ней исключительно на выставке короны под стеклянным колпаком, на подушке, как она и помещена в Оружейной Палате, а если неосторожно поднять шапку за сферу (что естественно, при ношении шапки), то исподняя шапка с опушкою должна выпасть, в чём можно вполне убедиться на деле, получив от хранителей Оружейной Палаты разрешение осмотреть корону в подробностях. Если же мы представим себе, далее, что нижней обод был золотой и гладки, набранный только сканью, то вся шапка в этом виде будет столь же походить на восточный шишак, с инсигниями владыки, также на одну корону Карла Великого, изображенную на печати, или по нашему, всего вероятнее, на византийский кесарский шлем, который, мы знаем, был золотой, в отличие от серебряных шлемов других чинов. Конечно, шапка Мономахова, в этом качестве, не была уже собственно шлемом или шишаком, что доказывается её убором, однако, мы легко можем видеть, что её убор камнями также не первоначальный, не по одному тому лишь, что камни, на ней находящиеся, имеют грань, но и потому, что гнезда их и теперь закрывают везде чудную скань, которой шапка покрыта и которая, явно, не для того была сделана, чтобы быть закрытою. Форма гнёзд показывает, что они устроены уже в нынешнем веке, но со старинными камнями.
Итак, со стороны формы, хотя Мономахова шапка не есть собственно венец, однако ничто не мешает ей быть византийского происхождения, и татарское происхождение шапки, придуманное в последнее время, было, очевидно, вызвано её современною меховою опушкою. При этом, однако, следовало бы привести примеры металлических шлемов и шишаков, оканчивающихся меховым околышем, что мы считаем невероятным. Достаточно беглого взгляда на средневековые головные уборы Европы и Азии, чтобы убедиться, что приблизительно с IX века «шапка» играет в них господствующую роль, и если современному европейцу шапка с меховым околышем напоминает особенно татарский народный убор, то это впечатление современности совершенно не отвечает истории. Вместе с тем, известно, что сама Византия в XI – XII веках усвоила себе ряд восточных головных уборов, перешедших от древности через посредство сассанидской Персии и Арабов. Мы встречаем напр. в древнем персидском барельефе63 в Фирузабаде, в сцене битвы царя с варварским вождём, на этом последнем кафтан с оплечьем, две гривны, на руках и ногах металлические спирали (8 раз согнутые), сапоги, перчатки, колчан и как раз такую шапку или, точнее, шишак из металлического зубчатого или лучеобразного околыша – венца, шапки, тождественной с Мономаховою и шишом в виде лилейного верха.
Затем от Никиты Хониата узнаем, что Андроник I Комнен, в своих продолжительных скитаниях среди варваров, усвоил себе и головной убор в роде варварского остроконечного колпака64, а затем подобного рода колпаки находим у королей Франции и пр. Но эти, большею частью высокие, остроконечные шапки не имеют ничего общего с нашею. Напротив того, низкие шапки кесарского типа с матерчатым околышем, но украшенным камнями, наиболее подходят в Мономаховой короне65.
Блестящая, ничем доселе не превзойденная «диссертация» великого византиниста Дюканжа66 «о коронах» занята на половину пространными, на основании текстов, доказательствами, что, кроме венцов в виде обруча, Византия для разных чинов пользовалась весьма часто пирамидальными, остроконечными и шаро- или тиаро-образными шапками, как своего рода «венцами», или инсигниями, что будет точнее. Но мы доселе не имеем материалов собственно археологических для того, чтобы достойно иллюстрировать эту диссертацию, а потому дальнейшие суждения о форме Мономаховой шапки должны предоставить будущему.
Но в этом памятнике остается еще последняя и его важнейшая сторона – орнаментация, та самая филигрань, из за которой даже мы привлекли знаменитый памятник к историческому анализу.
Между тем, скань или филигрань Мономаховой шапки заслуживает предпочтительного внимания: она относится к типу, наиболее редкому, «ленточной» филиграни, исполняемой из тонких листовых ленточек, выгнутых и припаянных к лоточку, без зерни, – как бы фактура перегородчатой эмали, но без самой эмали67. Стало быть, здесь нет нитей, нет сучения, нет скани, и побеждена высшая техническая трудность нарезать совершенно ровные, тонкие ленточки и припаять их, не измяв и не погнув неправильно: то, что в перегородчатой эмали делается в сравнительно малых размерах, по необходимости, лишь для контуров, здесь исполняется для крайне сложного и мелочного рисунка. Понятно, почему такого рода филигрань встречается лишь в небольших частях, для рисунков или геометрических фигур, или цветов, но среди обычной скани, и также понятно, почему такая утонченная техника была употреблена для великокняжеского венца. И равно считаем понятным, почему эта высшая по технической утонченности скань существовала лишь в византийскую эпоху, когда производилась из ленточек перегородчатая эмаль.
Такою сканью заполнено все поле пластин, кроме жгутовых бордюров, выполненных не скрученной золотою проволокою, несколько поэтому острой и царапающею, но зерновым штабиком. В скани оставлено место только для больших саженых жемчужин, по три на каждой пластине, а более никаких камней не было. Такого рода исключительное украшение жемчугом по золотой вещи имело место именно в Византии в XI – ХП веках. Но для нас это обстоятельство еще любопытно и потому, что мы узнаем, что калиптры, итbеllа,


Далее, такими гладкими ленточками или перегородочками выполнены в Мономаховой шапке не все извивы скани, но лишь особые части общего рисунка, как цветы или предметы на общем фоне скани, а именно: розетки, нижеупомянутая цепь, репья или индейские пальметки, большие арабские рогатки, крестообразные или четырехлепестковые цветки, арабески геометрического арабского рисунка и наконец восьмерки и завитки по бордюрам и указанные желобки, согнутые в виде гаммы. Но затем, вся общая скань, составляющая растительные разводы, исполнена, как отлично видно на нашем рисунке (табл. XX), выполненном рукою искусного рисовальщика68 с небывалою еще точностью, тою же ленточною сканью, но с насечкою поверх и наискось, так что она, видимо, подражает ссученой и сплюснутой скани, причём мастер, если ему приходилось покрывать насечкою две ленточки, лежащие рядом, делал и насечку двойную, ища, видимо, убедить всякого, что скань исполнена из сученных нитей. Эта насечка скани, на растительных её разводах проведена так неуклонно, что, в то время как все геометрические орнаментальные формы исполнены гладкими лентами, напротив того, даже веточки внутри арабесок опять покрыты насечкою: стало быть, она, так или иначе, связана именно с растительными украшениями.
Переходя к орнаментальной схеме рисунков, выполненных сканью на шапке, мы должны заметить, прежде всего, что эта схема чисто византийская, не следует никакому декоративному плану и покрывает бесконечною сетью разводов все пластинки восьми граней шапки. Единственное декоративное построение представляют во первых архитектурно расположенные гнезда жемчуга и нити его, и, во вторых, отдельные цветки, помещённые в определённом плане, а не брошенные на общем поле, как в восточном искусстве. Весьма важно также заметить, что из восьми пластин 4 одинакового рисунка с мелкими розетками, 3 одинакового же с арабским цветком и 1 пластинка особенного рисунка с звёздами. На этой пластинке равно не три гнезда жемчужных, а четыре, расположенных крестом, и очевидно, что это пластинка лицевая.
Орнаментация шапки и отдельные её рисунки принадлежат византийскому искусству XI – XII веков и не имеют ничего общего с поздне-татарскими, обыкновенно весьма грубыми, филиграневыми изделиями, которые мы знаем в среднеазиатских современных изделиях Хивы, Бухары и Самарканда. Главный рисунок – все те же виноградные побеги или разводы – завитки виноградной лозы, которые с IV века появились в Византии из римской орнаментики и после тысячелетней переработки в византийском орнаменте усвоены были едва ли не всею Европою и Азией. Толковать об этом орнаменте было бы излишне, если бы мы здесь не находили особенного его осложнения, а именно: усики лозы здесь становятся короткими, сидят рядами по внутренней стороне ватки и таким образом заполняют совершенно волюту, а для остающегося по 4 углам четырёхугольного поля её прибавляются по два, по три усика в каждом, – и рисунок готов. В загибе каждого усика сидит блестящее зернышко, и потому поле походит на филигранное, не будучи им в сущности. Мы знаем пока точно такую же орнаментацию только на серебряном киоте (рис. 40) древней рукописи Евангелия в Гелатском монастыре, от XIII – XIV в., с которым и будем затем сравнивать нашу шапку. Обыкновенно же69 рисунок подобных завитков не закрывает сплошь поля, усики расставлены достаточно и, кроме того, прижаты к ветке, из которой выходят, чем восстановляется для известной степени первоначальный римский тип, тогда как здесь возобладал уже восточный орнаментальный принцип.
Внутри разводов выполнены рисунки: 1) розеток того же рисунка, что издаваемые нами бляшки из Херсонеса; к этим розеткам, как если бы это были пуговки или брошки, прикреплены подобия цепочек из репье70, которых форма близко напоминает цепи на коронах известного клада Гварразара близ Толедо (1858 года); наши цепочки поддерживают пару жемчужин; 2) цветов крестообразной формы, которые находим и на Гелатском окладе; от этих цветков протянутые цепочки представляют известный сассанидский тип ряда плющевых листьев. Далее, в средине пластинок находим или так наз. арабский цветок (она же и византийская схема XI – XII в. в миниатюрах) или арабскую геометрическую фигуру с розеткой внутри. Эту же фигуру с составною розеткой из 7 малых розеток находим на окладе Гелатского Евангелия, и тождество этого орнамента, а также цветков, достаточно убеждает, что относить эти орнаменты, по простой догадке, к искусству татар, было бы непростительною ошибкой. Пластинки выполнены все в двух рисунках, мало чем разнящихся. По бордюру их протянуты ряды восьмёрок, очень характерной формы.

Рис. 40. Серебряный киот Евангелия в монастыреГелати.
Наконец, по нижней кайме шапки идёт оригинальный рисунок, подобие меандра, составленного из сомкнутых букв гамм или глаголей, но в существе представляющих ту же форму желобков для жемчужных нитей, которую мы указали на брошах, принадлежащих барону Гейлю. Несомненно, это рисунок арабского стиля71, и он не только напоминает арабские буквы, наклонением своих лини, но и вся кайма как бы подражает молитвенной надписи, обычно находящейся на краях шлема, но в данном случае неуместной. Мы находим подобные коймы на коробочках с талисманами X столетия в восточной России, но наибольшая близость представляется в рисунке внутренних койм того же Гелатского оклада.
Еще теснейшее определение древней скани Мономаховой шапки получаем сравнением с фактурой скани на окладе известного Мстиславова Евангелия (ок. 1125 г.), хранившегося в Архангельском Соборе, а ныне перенесённого в Патриаршую Ризницу и таким образом спасённого, быть может, от разрушения, вследствие небрежного хранения и сырости. Мы не имеем здесь надобности повторять то, что составляет ученую заслугу Г. Д. Филимонова, и наши детальные дополнения его трактату об эмалевых образках этого оклада72, так как это не относится к делу, и для нашей задачи достаточно подтвердить прежде сказанное, что эти образки принадлежат весьма различным эпохам: X и XI веку – византийского происхождения, XIII в. – древнерусские эмали, и наконец 1551 года позднейшие русские финифти. В нашей задаче относится сравнение самой скани оклада, представляющей, на первый взгляд, значительное сходство по рисунку с древнейшими памятниками, как-то Мономаховою шапкою: основу рисунка составляют разводы из закручивающейся веточки с крутящимися усиками, волюты составляют различные геометрические фигуры, группируются около четырёх розеток, украшены ложбинами с жемчугом, крупными, сажеными жемчужинами и пр. Но это, во 1-х, скань не золотая, а серебряная, волоченая, на серебряной позолоченной же доске, и по фактуре относится к разряду «плоской», как ее называет г. Филимонов, серебряной «скани, употреблявшейся для украшения русских памятников, преимущественно иконных окладов, панагий, крестов в XV и XVI столетиях». «Эта скань вовсе не носит, говорит он, отличительных признаков XII столетия. Древнейшая скань, или филигрань, во время процветания в Византии золотых дел мастерства, сколько можно судить по памятникам, которых происхождение не подлежит сомнению, была двух родов: или в виде сети из припаянных на ребро тончайших пластинок, подобных тем, которых промежутки наполнялись мусиею, или в виде золотых верёвочек, расположенных завитками, змейками и пр. В обоих случаях скань употреблялась по преимуществу золотая, имела довольно значительное возвышение над уровнем основания, словом, имела вид накладки». Таково суждение известного знатока русской старины и древнерусского мастерства, но мы можем его еще дополнить указанием на скань круглой бляшки в упомянутой выше находке кургана Новомосковского уезда Екатеринославской губернии73: эта скань из позолоченного серебра имеет совершенно тот же тип, что в Мстиславовом Евангелии, т. е. здесь хотя и есть репейки гладкие, но прочая скань грубо ссученая, а звёздочки наведены финифтью красною и голубою, и скань представляется сплюснутою по позднейшему шаблону, хотя и самый тип украшений, и жемчужные гнезда еще вспоминают древний образец.
В виду всего вышесказанного, мы не можем не объявить прямою ошибкой предположение, недавно выпущенное, что Мономахова шапка должна относиться к XIV – XV векам, если не позднее, и быть татарского происхождения, потому что её орнаменты не имеют будто бы никакого определённого стиля. Искусство, техника и фактура Мономахова венца отличаются таким высоким совершенством, что сами по себе могли бы составить стиль, и только отсутствие доселе порядочного снимка было причиною, что на этот чудный памятник не было обращено внимания западными знатоками, подобно Лабарту или Францу Боку; что же касается русских исследователей, то все известные специалисты неоднократно выражали свое удивление красоте и необычайной крепости филиграни, с виду столь хрупкой. Со своей стороны, повторяем, из крупных вещей мы не знаем нигде подобной филиграни, а из мелких только броши барона Гейля могут соперничать с нею.
Мы признаем Мономахов венец абсолютно византийским памятником, но полагаем, что он был выполнен не в Константинополе, но или в Малой Азии, или на Кавказе, или в самом Херсоне, словом, где византийское искусство в XI – XII веках соприкасалось с развитым арабским орнаментом. Броши Гейля мы считаем древнее, уже потому, что в них указываемые желобки не играют еще декоративной роли, хотя и расположены зигзагами, Мономахову же шапку, по некоторым мелким деталям техники, считаем необходимым относить к ХП веку, тогда как Гелатский оклад должен принадлежать уже ХШ или даже началу ХIѴ века.
Мы имеем множество памятников X – XII веков, украшенных именно по золоту тонкими филигранями разных типов, сканью, «веревочною» и пр., исполненных не только в самой Византии, но и в Италии, Франции, Германии и России. Между тем, те же наши описанные виды филиграни находим и в византийских и арабских произведениях: а именно, филигрань исполняется из ссученных и сплющенных в ленту нитей, которые спаиваются по нескольку, рядом, образуя как бы пучок упругих побегов, которые только при конце загибаются усиком и охватывают зёрнышко. Внутри этих разводов, и отчасти поверх их, припаивается гнездо с камнем, который, будучи приподнят над золотою поверхностью, получает лучи, отраженные ею, и более светится.
Наиболее замечательный в техническом отношении образец чисто арабской скани или филиграни находим в бляшках, украшающих зеленый шелковый пояс сарацинского происхождения, служивший для подвязывания столы в числе «клейнодов» священной римской Империи «Германской нации», или Австрийского Габсбургского дома, хранимых в Венской сокровищнице этого дома74. Не мудрено, что этот пояс, очень простой сам по себе, хотя из тонкой и дорогой шелковой ткани, с самого начала был отнесён к числу древнейших клейнодов, входивших в орнат Норманнских королей, как известно, перешедший потом, так сказать, по наследству к римским императорам. Пластинки, украшающие этот пояс по его концам, так необыкновенно изящны в своей простоте и художественности, что их, конечно, нельзя смешать с вещами сицилийского происхождения: они покрыты превосходными сканными разводами, и так как свободные поля были затем вырезаны (ср. технику Рязанского клада 1822 г. в бусах), то получилась ажурная филигрань. Сама же филигрань исполнена так приблизительно, как и скань Мономаховой шапки, т. е. гладкими ленточками, на которые уже затем сверху напаяны филиграновые нити чрезвычайной тонкости.
Ближайший затем, по времени, памятник, содержащий ту же сканную или филиграневую технику Мономаховой шапки и окончательно доказывающий её европейское, не азиатское, и тем более не татарское происхождение, есть известный церемониальный меч римских (германских) императоров, состоящий в числе клейнодов римской Империи и хранимый в Венской сокровищнице75: этим мечем, по короновании, наносился рыцарский удар. Меч происходит, вместе с другими регалиями римских императоров, из Сицилии, но так как, в числе его украшений, вверху имеется эмалевый имперский орёл, будто бы тождественный с прочими эмалями, то и установлено было уже давно, что меч не мог принадлежать к наследию норманнских королей, но был, вероятно, исполнен уже для императора Генриха VI в Палермо. В нашем вопросе о филиграни меч играет весьма видную роль, так как, при его непременном европейском происхождении, он представляет ту же фактуру саней, что и шапка Мономахова. А именно, по обеим сторонам ножен, от крыжа и до конца, наложены ромбоидальные76 пластинки эмалевых орнаментов, а вокруг них, т. е. по четырём сторонам, набраны филиграновые пластинки в виде треугольников, сообразно форме остававшихся свободных полей, числом по 30 на каждой стороне ножен. Эмалевые пластинки той же техники и достоинства, что эмали, покрывающие далматику и мантию, которые, как известно, сицилийского происхождения; однако, эти одежды были сделаны в 1133 году в Палермо сарацинскими мастерами для короля Рожера II, тогда как меч был сделан позднее, очевидно, при помощи набранных в сокровищнице старых эмалевых блях и украшений, конечно, однако, не позднее ста лет, после их изготовления. Рассмотрев эмалевую технику блях и орла, мы нашли известную, хотя малозаметную, разницу, так как, вероятно, эмальер, делавший орла, во-первых, наследовал ту же технику, во 2-х подражал другим эмалям; мы не знаем пока в точности, какие именно эмали имеем перед собою, и до времени предполагаем, что они той же сицилийской работы (только не чисто византийской): в них обращает на себя внимание господство синей и красной эмали (кирпичного оттенка) и плохая шлифовка эмалей, недостаточно наполняющих лоточки77. Что наша догадка имеет свои основания, можно видеть на крыже, где эмальер соединил на одной полосе две пластинки эмалей различного рисунка, совершенно не сходящихся. За то скань была выполнена именно для меча: она превосходной, тонкой работы, из плоских ленточек, припаянных на лоточке, с насечкою по верху, но рисунок взят уже уродливый – из веточек, идущих ширингами, длинными рядами поперёк ромба; на крыже скань получше, с мелкими зернами. Таким образом, сицилийская скань XII – XIII стол. была тождественна с грузино-армянскою, т. е. сама была арабского, точнее говоря, – сирийского происхождения.
Мы встретили, затем, тождественную скань на оправе знаменитой бирюзовой чаши, происходящей, вероятно, из Персии и слывущей под именем подарка великого халифа, в сокровищнице церкви св. Марка в Венеции. Эта оправа или, точнее, золотая кайма, верхний бордюр чаши составлена из набора эмалевых и сканных пластинок, по очереди обходящих чашу; эмали отличной перегородчатой техники и работы, но, по-видимому, несколько позднейшего происхождения, чем большинство перегородчатых эмалей в этой сокровищнице: эти эмалевые бляшки отличаются характерным преобладанием красного цвета. По сторонам эмалей, и как бы опять служа для них фоном, сканные пластинки набраны на чистом золоте гладкими золотыми ленточками, припаянными на ребро, и окружающими обыкновенно семь гнёзд с камнями. Превосходный рисунок этой скани представляет или разводы в виде кружка, с загибающимся внутрь его, и притом по средине, листом аканеа в профиль, с усиками или веточками, загибающимися по сторонам; или же разводы в виде сердца, т. е. плюшевого листа (как уже мы объясняли достаточно в истории византийской эмали) с такими же деталями. Для нас особенно важно, что равно и сарацинский пояс, и шапка Мономахова, и эта вещь отличаются от других не только фактурою скани, но и художественным рисунком. Как увидим сейчас, эта техника держалась не долго; и не мудрено: только вглядевшись в работу этой оправы, поймешь, какие трудности она должна была доставить мастеру, так как скань русской шапки сравнительно выше, а в этой оправе очень низка, и даже нарезать эти полоски было трудно, а еще труднее, не повредив и не помяв, уложить.
Насколько описанная техника приподнятой, как бы ажурной скани, из спаянных .вместе свитых серебряных ленточек, была распространена на западе уже в позднейшую эпоху, показывает напр. целый ряд оправ на различных редкостях и драгоценностях, попавших в известную сокровищницу церкви Св. Марка в Венеции. Эти оправы исполнены исключительно в серебре, но были некогда позолочены, и всегда дополнены еще мелкими гнёздами полудрагоценных камней. Так оправлена напр. большая яшмовая чаша с массивными древне-типичными ручками, даже овальная чаша из прозрачного рубинового сердолика, большая стопа из горного хрусталя с разною куфическою надписью (по. 78), большая же стопа из горного хрусталя, без украшений (по. 72), кувшинчик из желтоватого алебастра (?), накрытый широким серебряным горлышком, с. сеткой внутри (№ 56), и подобный же из горного хрусталя, в такой же оправе (№ 88)78. Подобным же сканным орнаментом и камнями украшена мощехранительница или ковчежец из горного хрусталя, с любопытною по нём резьбой, изображающею оленей у источника, в музее Клюни в Париже79: вещь может быть отнесена к ХІII веку.
Древним и любопытным образцом применения этой приподнятой скани может служить мало известная, но весьма замечательная, епископская митра из золотой шелковой парчи в церкви св. Петра в Зальцбурге, относимая в XII веку80. Парча митры и золотой галун её, судя по видоизменённому византийскому рисунку и, вместе, но латинским буквам каймы, происходят, по-видимому, из мастерских Сицилии или Южной Италии и представляют тонкую, превосходную работу. На ткани, по титулу (вертикальной полосе) и циркулю (околышу) митры, нашиты отдельные сканные простые кружки с разводами внутри и с зернами на веточках, а на угольниках самой митры трехчастные разводы из трёх кружочков; срединные усики с зёрнышком закручены и приподняты над поверхностью тем, что их разводы прикреплены зернами поверх усиков наружных. Конечно, эти металлические разводы были сняты с металлической доски, которую они украшали первоначально, и весь этот набор указывает, как в южной Германии в ХП веке редки были подобные изделия, встречаемые в России во многих гораздо лучших образцах.
Понятно, какой интерес могли бы иметь для нашего вопроса такие замечательные памятники средневекового искусства, как корона Карла Великого, прочие клейноды Римской империи, РаІіоttо ц. Св. Амвросия в Милане, Раlа d’Оrо в Венеции и т. п., но мы должны, с самого начала, оговориться, что все эти предметы, в высшей степени важные для общей истории искусства и мастерства различных племён и местностей еще варварской Европы, резко отличаются от своих восточных образцов, и на этот раз – мы должны сказать прямо – к своей прямой выгоде. Это западное мастерство, при первом взгляде, отличается варварским преувеличением, и прежде всего утрировкой размеров и форм, усвоенных с Востока: орнамент становится здесь грубым, массивным: фигура, рельеф крупнее размерами, и отсюда все недостатки видны явственнее, сильнее. Вот почему, как увидим, и скань, и эмалевая техника всех перечисленных произведений западного мастерства81 грубее, ниже в отношении мастерства портив византийских оригиналов X – XI веков. Но, вместе с увеличением размеров, западному мастеру приходилось больше вырабатывать рисунок, делать правильнее фигуру и то, что на первый взгляд кажется более грубым, сделано в сущности лучше, так как все недостатки крохотных фигур византийского искусства скрыты за их миниатюрностью. Вместе с этою утрировкой, получается сила, выражение, искусство выигрывает в жизни, мастер ищет совершенствоваться, является движение вперёд и оригинальность, так как, при крупных размерах рельефа эмалевой фигуры, приходится уже наблюдать натуру, а не делать все по шаблону.
Таково, кратко говоря, отношение декоративных изделий западного мастерства к их (несомненным) восточным оригиналам, и таков исторический принцип: то, что мы готовы азвать и часто называем упадком искусства, есть его возрождение.
Внимательное изучение техники сканного филигранного дела и на так назыв. короне Карла Великого вас убедило, что не только дуга её (агсus согnuа), как то доказывает надпись, принадлежит времени Конрада IѴ († 1254), но и вся корона, что, признаться, мы не решались доселе говорить, подчинившись авторитету Фр. Бока, который считает корону конца XI или начала XII века. Хотя мы признаем и теперь, что створки обруча и дуга короны не одновременны, как то объясняли и ранее82, но не считаем уже возможным помещать корону в XII столетие. И это по той простейшей причине, что техника короны решительно тождественна во всех частях и безусловно одинакова с известным крестом, в числе римских регалий, принадлежащим документально эпохе Конрада IV. Между тем и сравнение скани подтверждает нашу мысль: скань здесь состоит из толстых свитых нитей, зернь крупная, вся техника поздняя, очевидно, западной работы, быть может, сицилийской, как думает и Фр. Бок. Мы и прежде указывали на применённый здесь способ ажурных гнёзд, и на аляповатое их исполнение, невозможное для Византии, а теперь ограничимся сопоставлением короны, креста и венецианского оклада Раlа d’Оrо, которого окончательная отделка и убор камнями также относится к XII – ХШ векам.
Еще более определённые выводы поможет нам сделать технически анализ известного Раlіоttо – престола миланской церкви Св. Амвросия. Этот памятник, относимый прежде к 835 году, мы отнесли ко второй половине XI или первой XII века, на основании разбора его эмалей, металлических рельефов и всего фигурного их стиля. В настоящее время, когда эта догадка подтверждена с другой стороны исследованиями Диего Сант Амброджио83, мы можем, с большей уверенностью, повторить то, что писали ранее о важном для нас техническом вопросе, т. е. что «некоторые технические детали памятника указывают на XI – XII столетие. А именно: драгоценные камни, его украшающее, и даже жемчуг, кораллы и пр., размещены отчасти в гнёздах, окружённых филигранью крупные же камни, в приподнятых ажурных гнёздах, пропускают лучи света и отражение снизу, через свои филигранные арочки, и представляют технику, исключительна встречаемую в изделиях конца XI и всего XII века на Западе, а ее то мы и считаем важнейшим руководящим признаком для определения даты». Мы вновь пересмотрели все технические детали памятника и убедились, что фактура здесь также груба, аляповата, как в короне Карла Великого. Так, вокруг центральной рельефной фигуры Спасителя расположены 15 и 12 больших камней в овальных гнёздах, размещённых каждое на ажурной аркаде, из витых жгутиков, с крупною зернью; коймы чеканные, с рисунком ветвей или побегов с рогами изобилия; звёзды вокруг из вставных пиленых гранат и мелких камней; обнизано жемчугом – бисерным или мелким. На боковых сторонах центральные кресты представляют ту же технику; но жемчуг здесь саженый, в гнёздах желобчатых, а звёздочки из резаных серебряных листов, старинной техники, припаянных к поверхности; филигрань все таже, крупнозернистая и грубая. Задняя сторона украшена шестью гнёздами с нарезными ажурными звёздами, а между эмалевых бляшек, филиграновые пластинки, с гнёздами, с сканными рисунками крестов, четырелистников, лилий, завитков, веток, но все это толстой скани, как бы из жгутов.
Однако, горельефная или приподнятая филигрань встречается и здесь сравнительно редко, и вообще тонкие украшения сканью ценятся высоко, почему напр. вся икона Гелатской Божией Матери исполнена чеканом, и только отдельные эмалевые образки обложены сканными коймами. Уже в XV веке выступает вновь эта техника в Армении и на Балканском полуострове, но имеет совершенно иной тип: она делается из низкого серебра, и рисунок приобретает специфическую утрировку прежних схем.
Но и помимо эмали, золотых дел мастерства, скани, басменного дела и пр., южнорусская художественная промышленность достигла высокого состояния в великокняжеском периоде во многих, нам пока неизвестных или малоизвестных сферах. Мы напр. имеем от XII века в письме митрополита Дристры любопытнейшее свидетельство о том, что резьба в его время почиталась даже скифскою или русскою специальностью, «искусством руссов». Не разбирая этого свидетельства, ограничиваемся приведением его текстуально84, с тем, чтобы вернуться к нему со временем, а теперь примем его лишь как напоминание о нашей обязанности искать исторического восстановления исчезнувшей высокой культуры южной России. В этой задаче, которую мы теперь едва намечаем, залог успехов самостоятельной русской археологической науки и её будущая важная заслуга перед наукою европейской. Самое важное, однако, явление русско-византийской среды есть внутреннее отношение варварского мира к цивилизации, связь внешняя и внутренняя русской жизни с византийскою культурою и её гражданским обществом. Эти отношения мы назвали внутренними в том смысле, что их не видно сразу, их открываешь лишь изучением, но раз они доказаны и приняты в принципе, они ведут, так сказать, внутрь всего этого внешнего мира вещей, дают нам постигнуть его внутреннее содержание. Утвердить этот принцип связи варварской культуры с ранее её развившимися значило бы только подтвердить закон непрестанного прогресса в истории, усвоения последующими на её поприще всего им необходимого завета предыдущих поколении и казалось бы делом с первого взгляда лёгким и натуральным. Но все теоретические и археологические сочинения нашего века о первобытной культуре наложили такую печать предвзятых положений на тот отдел начальной средневековой археологии Европы, который мы условно называем варварскими древностями, что здесь не скоро откроется научный исторический приём. Вместо того, чтобы для каждой вещи доискиваться её образца в соседних развитых культурах, так легко бывает применять условно принятия соображения о примитивных началах и их эволюции, а следовательно сводить изучение форм в немногим формулам, и это представляется тем более естественным, что варварский быт, действительно, сохраняет эти первобытные начала и видоизменяет воспринятые культурные формы постоянным переживанием. Между тем, несомненно, жизнь свежей, по своему варварству, национальности в соседстве с гражданским обществом направляет всю чуткую её восприимчивость в сторону заимствования, усвоения, а затем и соперничества, и эти отношения проникают глубоко во всю народную жизнь, разносимые из города, быта высших сословий, в жизнь села и простонародья. Таково было влияние Византии на древнюю Русь, пока Византия была её непосредственною соседскою в Херсонесе, Тмутаракани (в XI веке) и пока византийское влияние на Русь приносили православная Грузя, Галич, берега Дуная, свободные торговые сношения и сообщения с Царьградом. За это время быт народа, формы его иерархии, чин великокняжеский, убранство церемониальное или обрядовое, знаки отличия и достоинства, внешние формы гражданственности, все это должно было, так или иначе, видоизмениться в смысле аналогичном с византийскими формами. Так были приняты, вместе с венцами, женскими диадемами, киками и кокошниками, покрывалами и прочими головными уборами, известные, отвечающие вещам, понятия и обычаи. И если напр. женское ожерелье вообще всегда существовало, то монисто являлось уже выражением особых форм быта, также как различные к нему подвески, талисманы, амулеты. Известно разнообразие чинов византийского двора и их придворных облачений, перенос в эту дворцовую среду варварских народных нарядов и возвращение их же опять к варварам уже с характером почётного наряда, отличия, ранга, и всякий, приступая к исследованию народных уборов и отличий, гривен, крестов, цепей, наручей, почётных фибул, всяких подвесных украшений, должен, очевидно, прежде всего исследовать происхождение этих разных предметов личного убора.
Кратко говоря, клады предметов древности, открываемые в России и относящиеся к великокняжескому периоду, представляют к этому наилучший повод и случай. Большинство предметов, сохранённых в земле от истребления, принадлежит к разряду драгоценных уборов и украшений, а большинство кладов принадлежит Киеву, и немногие городищам Рязани, Владимира, т. е. центров древнерусской истории. Если нам удастся, после обзора кладов, анализом важнейших или типических предметов установить принцип внутренней исторической связи древнерусского народа с его культурными соседями, мы будем считать свою задачу достигнутою.

Рис. 41. Миниатюра из греч. рукоп. I. Скилицы Куропалата в Нац. Библ. Мадрида. Переговоры I. Цимисхия
со Святославом,
* * *
Составляет первую часть его соч. Handbuch der deutechen Alterthumekunde in 3Theilen,1880–9.
Stanle Lane Poole,The art of the Saracene in Egypt, 1886. Gayet, Al. L’art Arabe. 1893
Русские Древности в памятниках искусства, вып. III.
Hampel Jozsef, A Regibb Kozepkor(IV-X szasad) emlekei Magyarhornban. I, Budapest, 1894.
Ibid, табл. 64 – 5, 72 – 3, 90–4, 128, 131.
Ibid, табл. 35, 64 – 5, 73 – 4, 78, 82, 92 – 3.
Древний образец рога, с серебряною оправою, описанный в отчете И. Арх. Коми, за 1691 г., стр. 76 – 9 и здесь издаваемый в рисунках 5 и 6, представляет знаменательное сходство с Черниговскими рогами: оправа имеет, однако, ширину не более 1 вершка; серебряная пластинка на месте укрепления ножки была вызолочена, но оказалась раздавленною. Рог найден в кургане, в 7 верстах от Симферополя. При прахе были железные дротики, топор, которого деревянная рукоять была обвита золотою лентою; у пояса точильный брусок, с рукоятью в золотой оправе; на шее была золотая гривна с наглавниками в виде львиных головок; на правой руке золотое кольцо змейкою, на левой–серебряное с печатью; в гробнице найдена вазочка чёрного лаку, глиняный кувшин и амфора. Древности относятся к эпохе до Г. X.
В изд. О. Монтелиуса, Antiguites Suedoises, 1875, рис. 516, 522, 524, 552, 553, 567, 596, 607.
Sophus Muller, Their-Ornamentik im Norden. 1881, p.163sq.
На том же приеме освован анализ отдельных стилей в недавнем труде г. Алоиса Ригля, Stilfragen. Grundlegungen su einer Geschichte der Ornamentik, 1893, сочинении прекрасном в частностях н чрезвычайно полезном, но погрешающем в этих анализах см. гл. IV, стр. 272 – 346.
См. наше Путешествие на Синай в 1881 г., Одесса, 1882, стр. 125 – 9, атлас, листы 79 – 85. Ср. такжеВ. В. Стасова, Слав. и восточ. орнамент, атлас, таб. 121 – 125.
Славянский и восточный орнамент, Сирийские рукописи на таб. 126 и 129; коптская V – VIII веков на 132 таб., VIII – X на 133-й; армянская X – XII на 141-й и т. д., грузинская на таб. 149.
Schlumberger, G. Sigillographie Byzantine, р. 447 – 8, 451 – 2, 454 – 5.
Подобные кубки и чаши в ризнице ц. Св. Марка в Венеции: Оngапіа, Il Теsоrо dі Sаn Магсо: tаѵ. 51, 52; на древней оправе последнего рубчатая форма листвы, веток и фигур тождественна с Черниговским рогом, и чаша, по надписи, с именем имама 975 – 996 г., см. Раsіпі, текст, стр. 93.
Русские древности в памятниках искусства, вып. III, рис. 179.
The South Kensington Museum, examples of the works of art, 1881, I, pl.61,94.
Ныне в Средневековом Отделении Имп. Эрмитажа. Изд. В. Г. Тизенгаузеном в «Древностях». Труды Московского Арх. Общ. III, таб. XIV.
Собранные в Венском Восточном Музее. Две страницы, посвященные Staney Lane Poole, The Art of the Saracens in Egypt 1886, 202–204, ювелирному искусству, составлены по современным изделиям Каира.
Staney Lane Poole, The Art of the Saracens in Egypt 1886, Глава VII, о металлических изделиях, стр. 151 –158, 170 –2 00, с описанием 27 вещей.
Зал арабского иск., № 908 и 1014.
«Русские Древности», вып. IV, рис. 27, 27а, 28, 28а.
Wallis, H. The Godman collection. Persian ceramic Art. The XIII Century lustred vases. Gr. 4. 96 pp. текста и 46 таблиц, London,1891
Ibid.табл. III,XIII,XVIII,XXI,XXVIII.
Ibid.табл. III,VI,VII,XIII,XXVIII.
Благодаря ученой проницательности В. В. Стасова, все эти детали, столь важные для истории искусства, находятся исключительно в его Славянском и восточном орнаменте, 1887, таб. 126, 133.
В издании: Метorіе stоrіе-crіtісhе іпtоrnо lа ѵіtа dі 8. Маrсо Еѵапgеlistа dі Lеоnагdо Соntе Маnіn, Ѵеnеzіа, 1835, 4°, стр. 23, таблица V, рис. 1 передает, что при вскрытии мощей евангелиста в 1811 году, был найден бронзовый крест складень, тождественной формы, наполненный святыми мощами, и что в Венеции, в церкви 8. Саnсіаnо, сохраняется бронзовый же складень крест, с обеих сторон покрытый изображениями, и найденный на теле св. Максима, когда его мощи были перенесены из Истрии в Венецию; из двух случаев: этого в Венецианской церкви св. Марка и другого в ц. Цельса в Милане, можно заключить, что кресты были положены участвовавшими в перенесении мощей епископами и отдельно присоединены к мощам в мраморном ящике.
В. Б. Антонович, Карта Киев. губ., стр. 130: в окрестности Тальке Уманьского уезда, в кургане; при скелетах были найдены: потяновые зеркала, золотое кольцо, бронзовая серьга; железные: топор, ножики, стремена, удила, огнива, ножницы. У ног: медные кувшины и в одном случае медная кадильница византийского изделия с изображением 4 евангелистов.
Аделунга Корсунские врата; Макария Археологическое описание церк. древ. в Новгороде I, 54 – 5, II, 269 след. Указателъ Исторического музея в Москве, 2-е изд., 1893, стр. 551.
История и памятники византийской эмали. Собрание А. В. Звенигородскаго. 1889 – 1895.
Histoire des arts idustriels, 1864, II p.276–7.
Lion Palustre et X.Barbier de Montault.Le Tresor de Treves.3 pl.en phototyple,Paris.s.a.,pl.XI,XIII,XIV.
Совершенно точное описание способа в словаре Виктора Гея, Glossaire archeologigues I, Р. 1887: filigrane corde, obtenu par la torsion prealable de deux fils mealligues aplatis an marteau de facon a presenter sur les tranches un grenetis oblique et allonge. В древнерусской технике также упоминаются: веревочки витые и городчатые.
Исправляя попутно описание Рязанского клада в изданной ныне «Описи Оружейной Палаты», скажем, что филигрань его не имеет ничего общего с техникою украшений Мономаховой шапки: там филигрань выполнена тонкими ленточками, нарезанными из гладкого листа, подобно перегородчатым эмалям.
Lasterie, L’orfevrerie, 1875 fig.20,21; Fontenay, Lesbijoux anciens et modernes. Paris 1887, p. 185.
Рисунок–очень не точный и поверхностный у Labarte Hist. Des arts ind. II, р. 118, и описание также недостаточное стр. 70 – 2; резные листы не могут быть названы des filets d’or granules.
См. перевод Отчета о заседании по зтому вопросу, сделанный бароном В. Г. Тивенгаувеном из Archiv furAanthropologie. Bd. XIII, Ѵеrhаndlunge, р. 60 – 65.
Вирхов говорит здесь о «кладах», но мы не ошибемся, надеюсь, если отнесем данное обстоятельство не к открытию их теперь, а к поступлению в древности во владение поселенцев Сев. Германии.
Это господство сканных украшений в уборах и даже перстнях можнонаблюдать на замечательной серии еврейских предметов старины и обряднсти, собранных Штраусом в музее Клюни в Париже.См. Description des objets d’art religieux,hebraiques,exp. A l’Expos. Univ. de 1878. Poissy. 1878, pl. 6,8,12.
Реггоt еt Сhipiez, Histoire de l’art dans l’antiquite III, раg. 576, fig. 590 – 1, fig. 601 – 2; бусы, покрытые завятками fig. 604; раgе 839.
Реггоt іbіd., III fig. 570 – 3, fig. 217, раgе 831 – 2.
См. наше cоч. История и памятники византйской эмали, глава IV. Также Реггоt іbіd., III fig. 570 – 3, fig. 576 – 575, 578 – 9, 581, 587; IV ср. 416.
Schreber Th., Die alexandrinische Toreutik. Untersuchungen uber d.Griech. Goldschmiedekunst im Ptolemaeerreiche.L. 1894, p.305–8.
Fопtепау, Les bijouх апсіепs еt тоdernes. Р. 1887. р. 101 – 103. Ср. тождественные с указанными в соx. Шрейбера египетскими древностями типы серег іb. р. 105 – 107, найдены в Сирии.
Lortet, La Syrie d’aujourd’hui, Paris, 1884. p.84, 238. Racinet, Le costume historique, pl.179.
Racinet, Le costume historique, pl.140; Lortet p.85.
Lortet p.76,85,90; Racinet pl.179,8.
Lortet p.17,90.
Lortet p.79.
Lortet p.83,85,165.
Русския Древности, III, р. 148, рис. 176 – 8. Тождественное украшение в указанном для древностей Венгрии сборнике Гампеля, I, таб. 45.
Принадлежит коллекции А. Л. Бертье-Делагарда, которому мы и приносим здесь свою искреннюю благодарность за предоставление нам этой вещи для издания.
Каталог коллекции А. Н. Поля в Екатеринославе, И, К. Мельник, Киев, 1893, стр. 144, №№ 93 – 101, таб. XIV, рис. 93, 98, 99, 100. Альбом фотографий Одесск. Арх. Съезда, табл. 19.
Фотография Алинари № 2,820: Gioielli Moreschi e Gotici, XII е XIV sес.
Из собрания Д.Я.Самоквасова, в Историческом Музее. По каталогу коллекции 1892 г., за №№4527–53 из 302-й таблице.
В соч. История и памятники византийской эмали. Собрание Л. И. Звенигородского, стр. 243 – 4, рис. 87. Об аграфе с орлом см. ст. д-ра Шнейдера: Ein Schmuckstuck aus der Hohenstaufenzeit, 1886, Abdr. Aus d. Kunstgewerbeblatt III. Jahrg.
Литература вопроса о Мономаховой шапке не велика: Вельтман, Царский златой венец и царские утвари, присланные греч. имп. Василием и Константином Первовенчанному В. К. Владимиру Киевском в Чтениях Общ. Ист. и Др. Росс. 1860, I. Прозоровский, Об утварях, приписываемых Владимиру Мономаху в Зап. Отд. Рус. и Слав. Арх. Имп. Русского Археологического Общ., III, 1882, стр. 1 – 64. Терновский, Ф. Изучение византийской истории и её тенденциозное приложение в древней Руси, вып. II, 1876, стр. 155 – 166. Regel, W. Analecta byzantinorussica, 1891, рrооетіит, раg. LХ – ХСѴІІІ, Жданова, И. H. Повести о Вавилоне, Журнал М-ва Нар. Просвещения, сентябрь и октябрь. Беляев, Дм. Ф. Byzantia. Очерки, материалы и заметки по византийским древностям, II. Ежедневные и воскресные приемы византийских царей и праздничные выходы их в храме св. Софии в IX – X в. Спб. 1893, стр. 216, прям. 1. Мнения историков: Карамзина, Погодина, Соловьева, указаны на страницах этих сочинений.
Ему следовали все известные мне авторы рассуждений об утварях Мономаховых. Полагаю, что все выводы Прозоровского приняты были и г. Регелем, в его сочинении, хотя он говорит с самаго начала своего разсуждения (на стр. 89) о регалиях Владимира Мономаха: «Un соuр d’ оеіl quе jе Іеur dоппаі suffit роur mе сопѵаіпcге qu'іl пе роuѵаіt s’аgir ісі quе dе Іа соuгоппе соnnuе dерuіs lе ХѴІ-е s. sоus lе поm де bоппеt dе Моnоmаque, tоus Іеs аutгеs огnеmепts etаnt d’огіgіпе рlus гeсепtе». Автор этих слов, быть может, не знает, что не все русские регалии, хотя и предполагаемые, находятся в Оружейной Палате, а так как он не археолог, мы не можем догадаться, какого именно «взгляда» было ему достаточно, чтобы убедиться в их позднем происхождении.
Сonst. Porphyrogen. De cerimoniis. Bonnae, I, 92 pag. 423.
Сonst. Porphyrogen. ibid. II, 51, pag. 711. Codinus, De officiis, Boun., p. 50, 51.
Analecta byzantino-russica, ed. W. Regel. P. 1891, p. LXXXIX sq.
История и памятники византийской эмали. Собрание А. В. Звенигородского 1895, стр. 216 – 240.
Flandin, Voyage en Perse, I, pl. 43, Rawlinson, 9. The Seventh great monarchies p. 611 рис.
Nicetas, Аlех. Роrрhуrоg. 12 – кратко: «пирамидальная шапка темнаго цвета», гл. 18 – дымчатая пирамидальная шапка; Апdrоп. Сотп. II, 11:

Сonst. Porphyrogen. De caer. Арреndіх, еd. Воnn. р. 500, о короне кесарской Константина сына Василия Македонянина, при триумфе отца, бывшего в латах:


Des couronnes des Reis de France, Dissertatio XXIV sur l’Histoire de Saint Louys,Glossarium med.latin. t. X, pag. 81–7, cp. pl. XII, рис., 12–14.
Считаем нужным дословно повторить определение замѣчательного словаря Гея: Gау, V. Glossaire archeologique, I, 1887, filiqrane: «Оn а епсоге ехecute lе filiqrane аѵес dе minces bandelettes taillees dans unе feuille dе ‘ metal, conturnees et soudees, sans grenetis. С’еst l’operation du cloisonnage des emaux» .
Художника Д. К. Крайнева.
Лучший обращик представляется напр. на окладе Евангелия XI века в Музее Клюни.
В «Восточном Музее» Вены, мы встретили среди народных уборов Арабов тройную цепочку из такого именно рода петель, с пятью колечками,на которых подвешены подвешены бляшки в виде розеток тождественного рисунка. А древнейший тип представляется серьгами из Венгрии, в виде розеток с гранатами, и поталами внизу, что тоже репьями, с гранатом. В национ. Музее Пешта несколько экземпляров.
Однако, основное его происхождение только византийское. Иоанн Лидийский в своем соч. De maqistratibus сообщает (ed Bonn. II, pag. 169) о коймах (бармах):




Г. Д. Филимонова. Оклад Мстиславова Евангелия. Из Чтений М. О. И. и др. 1860 г., М., 1861. Наша « История и Памятники византийской эмали. Собрание А. В. Звенигородского», стр. 186 – 8.
Коллекция Д. Я. Самоквасова в Историческом Музее, за № 4533.
Fuhrer durch d.Schatzkammer d.Kaiserhauses zu Wien. 1895, II, 15, pag. 25.
Fuhrer durch d.Schatzkammer d.Kaiserhauses zu Wien. 1895, I, 7, pag. 19. Frans Bock, Die Kleinodien d. h. Rom. Reiches d. Nation.
Ромбическая форма вызвана была первоначальною накладкой металлических блях для укрепления ножен, а затем удержана в наборных украшениях по причине удобства формы для эмалевых городчатых наборов. По крайней мере, в изображениях мечей на пространстве XI – XIII веков и на византийском Востоке и франкском Западе встречаем этот тип украшений в обилии: тип этот ведёт свое начало от римского образца, известного еще в Византии и в романском периоде. Широкие церемониальные мечи, служившие инсигниями для многих воинских потентатов, встречаются в XI – XII стол. на рельефах, надгробиях весьма часто, с ХПІ в. – в памятниках Франции, Испании, Германских земель и пр.
Перегородчатые эмали западного происхождения, надо думать, вызовут со временем специальные исследования, без которых современные опыты построения разных «германских древностей», «галльских» и пр. не дадут прочного исторического результата.. Уже разнообразие эмалей на «римских» клейнодах обращает на себя внимание: на паре перчаток имеются превосходные бляшки с тритонами и пара птичьих головок почти варварской работы (X века?); на мантии эмали хуже, чем на далматике; на мече Св. Маврикия (1257 года) есть куски византийских эмалей, и т. д.
Теsоrо dі S. Маrсо, еd. Оngania: tаѵ. XXXVI, 65; XXXVII, 66; ХLІѴ, 94, 95, 12; ХLѴІІІ, 105 (текст стр. 84 – 5); L, 112; LА; L, 1, 117.
Sommerard, E. Nouveau Cataloue du Musee de Cluny, 1883.
Не знаем, была ли где-нибудь эта митра издана или воспроизведена, кроме фотографического снимка в серии фотографий Венского Художественно-Промышленного Музея за № 1.
Ближайшие доказательства того, что все эти предметы принадлежат западному искусству, хотя и собраны частью из византийских кусков, какъ Раlа d’Оrо, мною уже изложены в «Истории византийской эмали», издание А. В. Звенигородского.
Византийские эмали. Собрание Л. В. Звенигородского, стр. 113 – 9.
Указанием этим мы обязаны рецензии уважаемого исследователя древнехристианского искусства Д-ра Павла Вебера в Repertorium fur Kunstwissenschaft,nХVIII, 1 Вd, 4 Нft, 1895.




