Сочинения по археологии и истории искусства. Том 3
Содержание
I. Русское искусство в оценке французского ученого II. Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени III. Новости русской литературы по церковному искусству и археологии Образцы письма и украшений из Псалтыри с восследованием по рукописи XV века, хранящейся в Библиотеке Троицкой Сергиевой Лавры под № 308 (481) V. Из Рима. Письма на имя председателя Общества Древнерусского Искусства VI. Для иконографии души VII. Несколько заметок при чтении одного церковно-археологического труда. (Н.В. Покровского: «Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских» С.-Пб. 1892 г)
I. Русское искусство в оценке французского ученого
L`Art russe, ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir. Par Viollet le Duc. 261 pp. Paris V-e. A. Morel et C°. 1877.
L`Art russe. Parle R. P. J. Martinov de la Compagnie de Jésus (Extrait de la Revne de l`Art chrétien, II-e série, tome IX). 66 pp. Arras. Imprimerie de la Société du Pas-de-Calais. 1878.
Русское искусство Е. Виолле-ле-Дюк и архитектура в России от X-го по XVIII-й век. 24 стр., с 16 таблицами рисунков. Графа С.Г. Строганова. С.-Петербург. Типография Императорской Академии Наук. 1878 г.1.
Статья первая
Знаменитому французскому архитектору пришла на ум счастливая мысль написать книгу о русском искусстве, именно –об архитектуре,иконописи и орнаментике. Немногих материалов, какими мог по этому предмету располагать Виолле-ле-Дюк, оказалось совершенно достаточно, чтобы усмотреть в них сущность и стиль русского искусства, его происхождение, составные элементы и высшую точку его развития, сверх того, прозреть в его будущность и начертать самые пути, по коим оно должно шествовать. Книга имела невероятный успех и во Франции, и у нас. Как все выходящее из ряда вон, производила и не перестает еще производить она самые противоположные действия. Ее превозносят и порицают, ставят на пьедестал, как откровение истины, и топчут в грязь, как легкомысленный памфлет, ее встречают с симпатиями и сарказмами, по ней учатся, и над нею издеваются и смеются.
Автор задался отважной мыслью открыть настоящее национальное русское искусство, и своим открытием этой новой, доселе неведомой области изящного действительно изумил не только французов, которые вообще мало знают наше отечество, но и русских, для которых, надобно сказать правду, русское искусство – дело темное, спорное, мало известное, а для большинства – и вовсе не имеющее ни значения, ни интереса. Таким образом, самые обстоятельства воодушевляли к исследованиям и поискам, внушали решимость, придавали смелости и отваги. Надобно было нанести удар. Чтобы пробить кору невежества и равнодушия, под которой таилось искомое зерно открытия.
Каким же образом могло быть совершено такое капитальное открытие человеком, который мало знает Россию и ее историю и который имел под руками самые скудные материалы и пособия по вопросу, какой он взялся решить?
Вещи познаются из сравнения. Это общее место получило в настоящее время новый смысл, когда в науке водворилось господство сравнительного метода. Чтобы определить национальность в русском искусстве, надобно было решить, чем отличается оно от искусства других народностей Запада и Востока. Виолле-ле-Дюк своими образцовыми, настольными руководствами по архитектуре, мебели, орнаментике снискал всеобщую известность и уважение. Он отличный знаток художественных стилей, не только готического, романского, византийского, но и восточных, – в Сирии, Грузии и Армении, в Персии, Египте, Ассирии, Индии, Китае; что же касается до искусства французского, то он – решительно авторитет. Это один из самых даровитых мастеров своего дела, который с практической деятельностью соединяет обширные познания и тонкий вкус. Он изощрил проницательный взгляд свой многолетней опытностью и разносторонними наблюдениями. Стоит только взглянуть ему на художественное изделие, чтобы определить его стиль и эпоху. Полагаясь на свои знания и проницательность, он смело решает вопрос в стилях сложных, каковы византийский и романский. И в том и другом есть значительная примесь элементов восточных, сверх того, в романском во всей очевидности выступает элемент византийский. Потому во всяком изделии русском, будь оно византийского или романского происхождения, можно усмотреть стиль византийский – иранский, ассирийский, даже индийский и туранский. Таким образом, остроумию и отважности французского архитектора русское искусство предоставляло самое широкое поприще; а именно:

1. Заставка из греч. рукоп. Беседе И. Златоустого, принадлежавшей Иеремии, патр. Константинопольскому, X в. (Моск. Синод. Библ. № 128)

2. Заставка из Слов Григория Богослова X–XI в. (Моск. Синод. Библ. № 64)
На 1-ой таблице при стр. 33 приложены у него (рис.1 и 2) два снимка с византийских заставок X века; ту и другую он характеризует стилем славянским, несмотря на то, что первая – из рукописи,принадлежащей некогда патриарху Константинопольскому Иеремии. Необыкновенно смелая, но вместе с тем счастливаямысль, хотя бы в данном случае была и неуместна. Болгары в X веке, в блистательную эпоху царя Симеона,особенно могли осложнить своим влиянием разноплеменную, сборную национальность Византии и внести некоторые элементы в стиль ее искусства. Читатель отмечает 33-ю страницу в книге французского архитектора и ищет дальнейших подкреплений и более ясного и точного развития этой счастливой мысли, но – напрасно: автор вовсе забыл свою счастливую мысль; что же касается до болгар или сербов, то, как кажется, ему и в голову не приходила мысль о значении этих славян в истории письменности и литературы древней Руси; потому нигде в книге даже не упоминается о них. Надо полагать, что под славянским автор разумеет только русское. Иначе никак нельзя бы было себе объяснить, почему обе эти византийские заставки X века названы у него не византийскими, а русскими. Но тогда новое недоразумение. Русская письменность не восходит древнее XI века. Не слишком ли уже смело со стороны французского ученого отыскивать русские заставки в рукописях X века?
На стр. 55, по поводу двух заставок из Евангелия, приписываемого XIII веку, в Московском Архангельском соборе – табл. V – читаем следующее: «1-й орнамент (рис. 3), как по форме, так и по гармонии тонов, напоминает искусство не византийское, персидское или арабское, а искусство, принадлежащее желтым расам центральной Азии. 2-й орнамент (рис. 4) сохранил некоторые следы искусства персидского, но он туранский по соединению тонов». Наблюдение это обобщается следующей мыслью: «в русских рукописях до XV века, то есть, до падения Восточной империи, можно усмотреть следующее: с одной стороны, влияние византийское чистое, или скорее работу мастеров византийских; затем, в произведениях собственно русских – это византийское влияние, замечательно усложненное элементом славянским, азиатским и примесью туранскойи притом в

3. Заставка из Евангелия XII–XIII в. Моск. Арханг. собора
пропорциях самых различных». Рукопись Архангельского собора действительно явление очень замечательное. Сначала замечу, что по прописным буквам она носитна себе очень ранний характер, не только начала XIII века, но даже и XII века. По буквам заглавным представляет грубое, неумелое воспроизведение букв Евангелия Остромирова 1056–1057 г. и Мстиславова 1125–1132 г., что между прочим явствует из начертания букв В и Р: весь верхний овал буквы В и овал буквы Р наполняется изображением человеческого лица; оно очень красиво и довольно натурально в Евангелии Остромировом, уже менее изящно в Мстиславовом и, наконец, очень дурно в рукописи Архангельского собора, однако все же не так безобразно, как приведено в V таблице у Виолле-ле-Дюка, по Истории русскогоорнамента г. Бутовского. В этом издании неудовлетворительно были избраны образчики орнаментов из рукописи Архангельского собора, особенно в буквах, которые носят на себе явственный отпечаток византийско-болгарского происхождения, как это можно видеть в самой рукописи на листах: 15, 15 об., 21, 51, 57 об., 88 (рис. 5), 91, 93 об., 122, 170 об., 187 об., 242,247 об., 253 об. (рис. 6).

4. Заставка из Евангелия XII–XIII в. Моск. Арханг. Собора
Кроме упомянутых лиц, буквы эти состоят из византийских орнаментов, каковы:цветы, листы и веточки, перевитые ремни, колонны с перемычками и коленцами или с узлом из ремней посередине, византийский крест (рис. 7) в нижнем овале буквы В, или (рис. 8) зверь с длинным хвостом и т. п. Что касается до характеристической приметы человеческих лиц, то она господствует и в рукописях южнославянских древнейшей эпохи. Буквы с этим орнаментом можно видеть в болгарском Евангелии XII века, из библиотеки профессора Григоровича, поступившем в Московский Публичный Музей; например, на лист. 66 и 99 об. буквы В и Р (рис. 9); обе писаны киноварью, как и прочие заглавные буквы, а в верхних овалах обеих букв изображено лицо: глаза, нос, рот–чернилами, а на щеках ударено киноварью; со лба по обе стороны спускаются завитки, тоже киноварью, будто кудри волос на голове.
Такова история орнамента в Евангелии Архангельского собора XII–XIII в. Через Остромирово Евангелие он восходит к болгарским оригиналам; А, так как Виолле-ле-Дюк усматривает – как уже замечено – славянское в орнаменте византийском, то как же надобно понимать этих азиатских славян, туранцев и людей желтого племени, коих он призывает для совокупного воспроизведения орнаментов нашей русской рукописи? Кто эти азиатские славяне? Где наложили они свою руку на украшения Архангельского Евангелия, в России или Греции? Были это русские или болгары? Даже в тех заставках, которые приведены у Виолле-ле-Дюка, стиль византийский заметен; в других заставках, не вошедших в
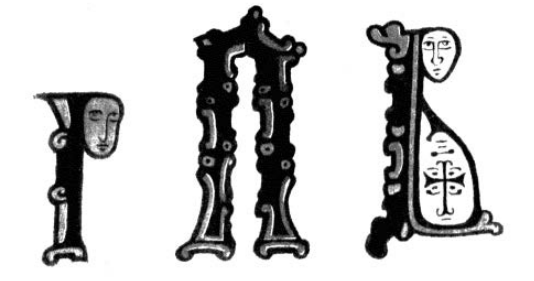
5. Г 6. П 7. В
5–7. Из Евангелия XII–XIII в Моск. Арханг. Собора


8. В– Из Евангелия XII–XIII в.Моск. Арханг. собора

9. Р– Из болг. Евангелия Григоровича (Моск. Рум.Муз. № 1690)

издание г. Бутовского, например, в рукописи на листах 43 об., 106 об., 184 об., стиль этот еще очевиднее; но оно аляповато замазан писцом, который, вместо того, чтобы воспроизвести его тонкими очерками и нежными красками по золоту, мазал широкой кистью, щедро макая ее во все краски, какие только были у него под рукою – это именно: вкрасную, желтую, зеленую и синюю. Оттого те же рисунки, что в Остромировом Евангелии или в болгарском Григоровича, получают у него, на беглый взгляд, совершенно другой характер.
Итак, остается уступить на долю желтой расы в нашем Евангелии только как выражается вежливо Виолле-ле-Дюк – гармонию тонов: мы – русские – свои люди с писцом этой рукописи; потому не обидим его памяти, более дорогой для нас, нежели для французского архитектора, если эту вежливую фразу переведем невзрачною пачкатнею, происшедшей от неумелости и недостатка в материале для раскраски; потому что мы знаем и другие русские рукописи, и древнее этой, и ей современные, с заглавными буквами и орнаментами, такой же широкой кистью раскрашенными, однако, благодаря более тонким очеркам, не потерявшими своего византийского облика. Таково, например, Туровское Евангелие, приписываемое к XI веку (изданное в facsimile Виленским учебным округом), Иоанн Лествичник XII века, в Румянцевском музее № 198, из которого приведены орнаменты и буквы на XXIII таблице в издании г. Бутовского, но, к сожалению, не отличены нумерацией от букв и орнамента Добрилова Евангелия, помещенных там же.
В пользу французского ученого может быть приведена следующая мысль, на которую надобно обратить особенное внимание.
Неумелость или грубость в воспроизведении чужого оригинала не есть только личные качества мастера, но и результат привычки, плод воспитания, коему подвергался глаз в известной обстановке. В данном случае, неумелость и грубость писца рукописи Архангельского собора могли быть воспитаны на почве туранцев и людей желтой расы. Потому его орнамент и стал будто бы настоящим русским. С этой целью, может быть, он и приводится в знаменитой книге.
В старину, когда все грубое, гадкое и вообще неизящное называли готическим, когда восхищались бездарными поделками псевдоклассической литературы, а грубую народную поэзию презирали, как принадлежность подлой черни, тогда, конечно, грубость или варварство в художественном стиле не могли быть понимаемы так, как они разумеются теперь. Грубость народной поэзии оказалась теперь не в пример изящнее большинства произведений так называемых образцовых писателей, а термин gothique, которым когда-то ругались, теперь характеризует произведения одного из самых лучших художественных стилей.
Грубость народной поэзии живуча, как сам народ, который ею пользуется; она столько же повсеместна в стране, как и народ, занимающий страну. Но не такова грубость и неумелость писца сказанной рукописи. Это явление чисто случайное, исключительное. Перелистайте все русские орнаменты от XI до XV века в издании г. Бутовского: все они самым резким образом отличаются по «гармонии тонов» от этой рукописи. Следовательно, это вовсе не та дорогая для народа грубость и неумелость, с которой он, как со своим природным свойством, никогда и нигде не расстается. Он ее не знал, этой невзрачной пачкатни, ни прежде, в XI веке, ни после, в последующих за тем столетиях; он приучал свой глаз к совершенно иному сочетанию красок в XIII и XIV столетиях, которое более соответствовало его вкусу и навыку.
Прежде чем приступлю к рассмотрению рукописных орнаментов этих последних столетий, надобно сказать два слова об орнаментах скульптурных или прилепах суздальской архитектуры XIIвека. На основании исследований графа С.Г. Строганова2 и графа А. С. Уварова3, составилось в нашей ученой литературе господствующее мнение, что эти суздальские орнаменты носят на себе отпечаток романского стиля, благодаря участию иноземных, именно, немецких мастеров, которых тогда вызывали князья для сооружения каменных храмов. К этому предмету я еще буду иметь случай воротиться потом, а теперь только замечу, что французский архитектор, потому ли, что вовсе не знает литературы по вопросу о суздальском орнаменте, или же не находит нужным удостоить ее своего внимания, в разрез установившемуся мнению, решительно утверждает, что орнаменты Дмитриевского собора во Владимире носят на себе самый явственный характер азиатский (стр. 64), в доказательство чему приводит из них, между прочим, один листок, в котором видит сродство с каким-то бронзовым индийским фрагментом брахманической эпохи XIV столетия, находящимся в коллекции самого автора. В эту эпоху стиль византийский заметен; в других заставках, не вошедших в изданиестиль византийский заметен; в других заставках, не вошедших в изданиет – утверждает он – Индия и Персия формулируют элементы русской архитектуры, равно как и ее орнаментации (стр. 66).
Об архитектуре будет речь впереди; теперь же буду продолжать об орнаменте. Он одинаково господствует и в архитектуре, и в мелких изделиях утвари и одежды, и особенно в украшении заглавных букв и заставок в рукописях, и во всех этих отраслях искусства и ремесла определяет их общий стиль и эпоху. Преимущественно обращу внимание на рукописи, как потому, что это у нас в России самый богатый и разнообразный материал для истории орнамента, так и особенно потому, что, благодаря точности в определении места и времени происхождения рукописей, можно с большей определительностью и ясностью проследить местное и историческое развитие этой художественной формы. Заглавная буква, с художественным украшением, стоит крепко при тексте, составляя его нераздельную часть, сопутствует его происхождению и истории. Сверх того, орнамент в букве, соединяя в одно целое грамотность с художественным стилем, вводит нас некоторым образом в мир художественных представлений писца и его старинных читателей, дает понятие о их вкусах, воспитываемых написанием или чтением рукописи. На Западе рукопись не имеет такого первенствующего значения в истории художества, как у нас, потому что роскошное разнообразие в произведениях прочих искусств отодвигало там скромную работу писца на второй план. Потому же археологи русские с большим вниманием относятся к украшениям своих рукописей, нежели западные. Доказательством служит сам Виолле-ле-Дюк. Хотя главным материалом для его книги было издание «Истории русского орнамента» г. Бутовского, по греческим и русским рукописям, однако он далеко не умел этим материалом пользоваться, как это видно из того, что, постоянно приводя из этого издания заставки, он плохо обратил внимание на русские заглавные буквы, которыми значительно восполняется художественное содержание орнамента и в большей точности определяется стиль самой заставки, как это было уже мною показано на Евангелии Архангельского собора XII–XIII века.
Следующие мои замечания я направляю к тому заключению, что если б знаменитый автор словарей французской архитектуры и мебели рассмотрел с надлежащим вниманием отношения русского орнамента к византийскому и романскому, то пришел бы к иным результатам в определении русского искусства.
Кому случалось перелистывать русские рукописи, от второй половины XIII столетия до начала XV, тот, конечно, не мог не обратить своего внимания на замечательную выдержанность общего им всем одинакового характера в стиле изукрашенных заглавных букв и заставок. Это – затейливое сплетение ремней и веток с разными фантастическими животными, с птицами, у которых иногда человеческие головы, со зверями, хвост которых извивается веткой, оканчивающейся листком, особенно с драконами и змиями, которые из своей пасти выпускают ветку, а своим хвостом перевивают зверей и других чудовищ, наконец, с человеческими фигурами, руки и ноги которых вплетены в эти перевивы из ремней и змеиных хоботов. Существенной характеристикой стиля оказывается здесь нарушение или искажение и разложение естественных форм природы животной и растительной, при самом подчинении их целой группе, связанной извитиями, которые то насильственно рассекают эти формы, то так незаметно с ними сливаются, что глаз не может уследить, где оканчивается животное или растение и где начинается ремень, переходящий в змею. В этом хаосе сплетений всякая естественная форма принимает вид чудовища, которое, однако, рассчитано не на то, чтобы пугать воображение, а не то, чтобы затейливостью группы, или, точнее, симплегмы, произвести игривое впечатление. Стиль этот вполне соответствует романскому на Западе. XIV век – есть цветущая его эпоха у нас, и именно в орнаменте русских рукописей. В течении целого столетия постоянное повторение одних и тех же сюжетов привело к замечательно художественной обработке этих фантастических групп, связанных игривыми линиями перевития. В тонком киноварном очерке, фигуры эти, – обыкновенно белые, со светло-желтыми нежными полосками и с черными кружками, чешуйками или черточками, – выступают на синем, красном или зеленом и даже на черном фоне. Фраза, не кстати сказанная французским художником о рукописи Архангельского собора, вполне применяется к этому русскому орнаменту XIV века, отличающемуся действительно «гармонией тонов».
Орнамент этот заслуживает особенного внимания по вопросу о самой сущности древнерусского искусства. Он содержит в себе результаты всего предшествовавшего развития в украшениях нашей письменности, начиная с Остромирова Евангелия, захватывает собой ранние следы доисторических впечатлений, открываемые в раскопках курганов и засвидетельствованные историей, этнографией и преданиями или легендами, узаконивает права собственности и наследия за орнаментацией суздальской архитектуры XII столетия, и вместе с тем свидетельствует о родственных связях с южными славянами и Византией. Для ясности изложу результаты своих наблюдений в кратких положениях, под отдельными рубриками. Ограничиваюсь только положительными фактами по рукописям и некоторым памятникам искусства, с точными указаниями времени и места их происхождения, вовсе не касаясь вопроса о восточных влияниях на стили византийский и романский, который далеко уклонил бы меня от предполагаемой мною цели4.
1) Русский орнамент XIV века – буду означать его этим веком, как временем полнейшего развития – состоит из двух главных элементов: из ременных и преимущественно змеиных сплетений и из чудовищ, куда причисляю и все фигуры животных и людей, потерявших натуральность под печатью условного стиля.
2) Оба эти элемента и в византийских, и в южнославянских, а также и русских рукописях сначала идут отдельно, особняком, не смешиваясь друг с другом.
3) Слияние это произошло сначала в заглавных буквах и потом уже в заставках. В рукописях византийских оно ограничилось буквами, в южнославянских же и русских в равной степени развилось в буквах и заставках.
4) В византийских рукописях, благодаря натурализму и изяществу в живописной раскраске с золотом, фигура животного, обыкновенно птички, или фигура человека отделяется от корпуса буквы, стоя при ней, как изящная раскрашенная статуя при архитектурном здании. См., например, (рис. 10–11), в издании Истор. русск. орнам. Бутовского, табл. XV, из рукописи XI–XII века. Затем, суставы букв, колонки и овалы, выступы и перекладины, из членов архитектурных превращаются в животных сливая таким образом орнамент геометрический с орнаментом царства животных. Блистательный образец таких букв предлагает

10. А 11.С
10–11. Буквы А и С из Сборника Святославова 1073 г.
византийская рукопись Акафиста Пресвятой Богородицы, в Синодальной библиотеке, отнесенная Вагеном к XII веку по художественным украшениям первой половины этой рукописи, но по второй половине принадлежащая к XIV веку5. Для нашей цели это все равно, будет ли и первая половина XII-го или XIV век. Если изукрашенные буквы принадлежат XII в., то ими отлично объясняются начала чудовищного или романского стиля в буквах Остромирова Евангелия 1056–1057 г.; если же он – XIV века, то предлагают изящный, во вкусе чисто византийском, пандан к русскому орнаменту того же столетия. Дракон или змий с головой чудовища и с птичьим клювом, украшенный листвой, составляет обыкновенно всю букву, или же два таких же змия, если это нужно для начертания таких букв как Т или Н. Сверх того, в букве Т нарисованы человеческие лица: четыре в профиль, по два вместе, как у Януса, и одно enface, будто выходящее из змеиного чрева. Ближе к перевитиям русского орнамента стоит буква Y. Каждая из частей рогульки состоит из змия с головой: одна голова увенчана короной, для другой головы этому украшению помешала рамка заставки сминиатюрой. Завитком одного изи змиев скрепляется угол рогульки. Под завитком получеловеческое-полузвериное рыло, из пасти которого вниз спускается ремень, захватывающий, как подпруга, под живот какое-то четвероногое животное, которое, ступая на своих лапах, составляет пьедестал всей буквы.
12.В – из Остромирова Евангелия


5) В ближайшей связи с буквами этого византийского Акафиста состоят буквы Остромирова Евангелия, в которых из листов геометрически, архитектурно построенной буквы там и сям выступает то человеческое лицо, то звериная морда. Замечателен, между прочим (рис. 12), грифон, полуптица-полузверь, крылатое животное с лапами, составляющее нижний овал буквы В. Такой же грифон изображен в медальоне в стенной живописи на лестнице Киево-Софийского собора, с головой, обращенной к чудовищному рылу извивающегося под его ногами змия6; затем, между прилепами Дмитриевского собора во Владимире, 1197 г., встречается он особенно часто7; наконец, является одной из самых распространенных фигур в орнаменте русских рукописей XIII–XIV в., как это можно видеть в издании г. Бутовского, табл. XXXIII–XLIX. Эта фигура, ведущая свое происхождение с иранского Востока, чрезвычайно распространена в стиле романском, на Западе8. Она, можно сказать, коренится в самой почве, по которой совершалось переселение народов с Востока на Запад, чему свидетельством может служить скифский грифон из Луговой Могилы, с которого снимок приведен у Виолле-ле-Дюка на стр. 12. Я уже проследил выше историю человеческого лица в буквах от Остромирова Евангелия до начала XIII столетия. Замечу мимоходом, что этот орнамент встречается и в романском стиле, на Западе; например, в одной рукописи XII в., Лаонской библиотеки, в овале буквы Р изображено человеческое лицо, а нижний конец завершается звериной мордой с высунутым языком; ранний образец этого же сюжета встречается в Лаонской же рукописи VII в9.
6) Гораздо ближе русский орнамент из сплетений подходит к тем византийским буквам, которые состоят из змеиных перевивов; например, в византийских рукописях: 1022 г., П, в котором каждый из столбиков обвивает змея, выпуская из своей пасти жало; 1044 г., Е, описываемое змеей, а из средины змеиного полукруга выходит человеческая рука с протянутыми пальцами; 1063 г., О, состоящее из змеи, перевивающей свой хобот узлами, со звериной пастью, коей пожирает какую-то фигуру; 1118 г., Т, колонну которого обвивает змея, и вся буква получает вид креста со змеей10.
7) Еще ближе подходит русский орнамент к буквам в южнославянских рукописях, как это явствует в упомянутом уже выше болгарском Евангелии XII века, от профессора Григоровича поступившем в Московский Публичный Музей; например, буква В, в виде извивающейся змеи, л. 63 об.; Р, овал которой представляет голову чудовища, л. 99; в Хиландарском Паремейнике, тоже вывезенном проф. Григоровичем из Болгарии, ныне в Московском Публичном Музее: Р, в виде змеи, л. 29, или (рис. 13) змея перевивает столбик этой буквы, л. 13; С (рис. 14 и 15) из двух змей, пасти коих по обоим концам этой буквы, л. 24 и 72 об.; тоже из двух змей Т, Х и Ж (рис. 16), л. 19 об., 35 об. и 48; особенно любопытна буква В (рис. 17), оба овала которой состоят из головы чудовища, л. 23.
8) Чем небрежнее и беднее писаны украшения в византийских и южнославянских заглавных буквах, тем более теряют они в натуральности изображаемых предметов и тем более подчиняются условному стилю чудовищ, сплетающихся со змеями. Это особенно видно в украшениях, писанных чернилами или только одной какой-нибудь краской, обыкновенно киноварью. В них роскошный орнамент византийских рукописей, копирующий мозаику и эмаль, переходит уже в затейливые узорочьи каллиграфа.

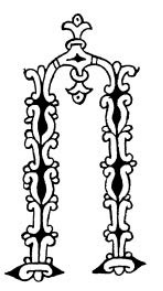

15.С
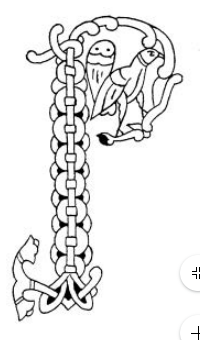
14.С

13. Р
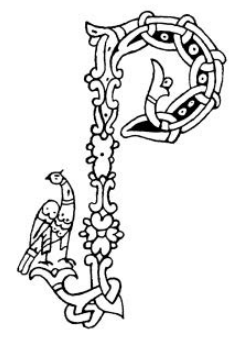
13–15. Из Хиландарского Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1685)

16. Ж 17. В
16–17. Из Хиландарского Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1685)
9) Факт высокой важности для истории перехода сплетенного из змей орнамента заглавных букв – от южных славян к нам на Русь еще в XI в. предлагает знаменитая рукопись Григория Богослова в Императорской Публичной библиотеке в С.-Петербурге, писанная на наречии древнеболгарском, но со следами руки одного или нескольких русских переписчиков. При малом умении и при недостатке в материалах для раскраски, писец, выводивший тонкой тростью заглавные буквы и некоторые чертежи, коими пришла ему фантазия кое-где украсить рукопись, нашел для своего убогого мастерства посильную задачу в неестественных фигурах чудовищного стиля и в немудреных змеиных сплетениях. Для примера указываю (рис. 18) на букву М, всю переплетенную узлами и завитками змеиных хвостов и со змеиными головами по обоим концам столбиков этой буквы. Рукопись эта, во всем согласная с последовавшим в XII–XIV столетиях в Новгороде же еще в 1276 г., как видно из приписки на л. 25211.
10) В русских рукописях XII в. сплетенный из фигур животных и чудовищ орнамент продолжаетразвиваться в заглавных буквах, но отсутствует в заставках, которые все еще носят на себе традиционный характер византийский и, если допускают птиц или животных, то помещаются они отдельно, на выступах или наверху заставок, по обычаю византийскому.

11) Превосходный документ, до убедительной очевидности свидетельствующий о переходе чисто византийского орнамента к сплетениям и чудовищам варварского или романского стиля, представляют нам заглавные буквы Юрьевского Евангелия 1120–1128 г., составляющего в этом отношении в письменности новгородской, и по стилю, и по времени, связующее звено между памятниками XI в., представляющими высшее развитие сплетенного орнамента. Из 65 заглавных букв Юрьевского Евангелия, которое по этому предмету в желаемой полноте исчерпано на трех таблицах, XIX–XXI, издания г. Бутовского, до 20 букв принадлежат бесспорно к узорочьям из сплетенных животных и чудовищ, другие же представляют более

19. П – изЕвангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)

18. М – из СловГригория Богослова XI в. (Имп. Публ. Библ. № 16)

или менее искусные копии с византийских оригиналов, как букв геометрического орнамента в архитектурной форме, например, П (рис. 19), или же из листвы и ветвей, например, Р (рис. 20), в виде пальмовой ветви с византийским завитком, которую держит рука, так и букв, хотя состоящих из животных, а иногда и из фигур человеческих, но, согласновизантийскому стилю, не связанных переплетами ремней.

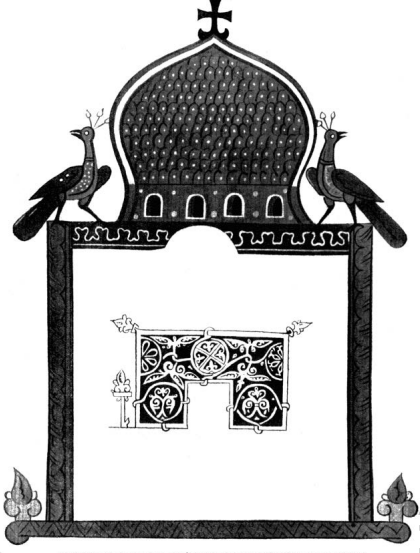
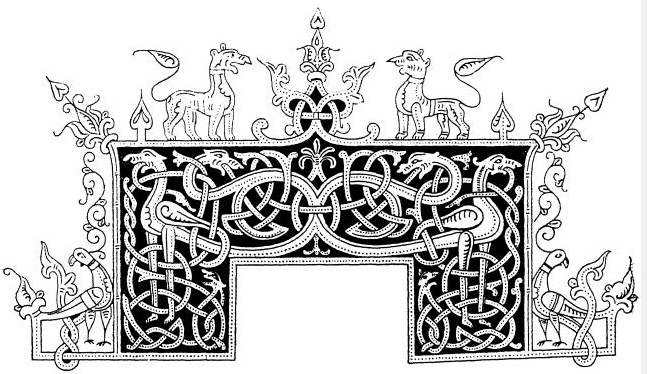
20–22. Р – из Евангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)


23–24. В – из Евангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)
Например, (рис. 21), на выступе византийского лиственного завитка сидит птица или стоит животное, иногда (рис. 22) птица в овале, описываемом древесной ветвью, клюет ее листок; иногда (рис. 23) зверь стоит у столбика, образующего часть буквы, дополняя ее овалом своей фигуры. В одной букве (рис. 24) у столбика стоит конь, с чепраком на хребте; в другой (рис. 25) две человеческие фигуры, совсем в иконописном стиле, подошли к раке или саркофагу, стоящему на земле;напротив того, третья буква, именно Р (рис. 26), состоит из обнаженной человеческой же фигуры, держащей в руках ветвь с листьями и цветком, которая, образуя верхний овал буквы, опоясывает потом обнаженную фигуру и, завиваясь назад, спускается до ее ног византийским завитком. Из фигур, хотя тоже не сплетенных еще ремнями, замечательна, как один из элементов переплетенного русского орнамента XIV в., царь-птица, т. е. по пояс человек в венце, а остальное птица с крыльями, хвостом и лапами. Такую фигуру встречаем в орнаменте XIV в. по изданию г. Бутовского на табл. XLII и XLV, но еще чаще вообще грифона или дракона с человеческой головой, с завитком на голове или же в остроконечной шапке. Царь-птица вошла и в прилепы Дмитриевского собора во Владимире, 1197 г12. Получеловек-полуптица фигурирует и в романском стиле на Западе, например, в буквах одной рукописи Лаонской библиотеки XII в.13; или же крылатое животное с человеческой головой в короне на одной капители14.
25.В – Из Евангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)

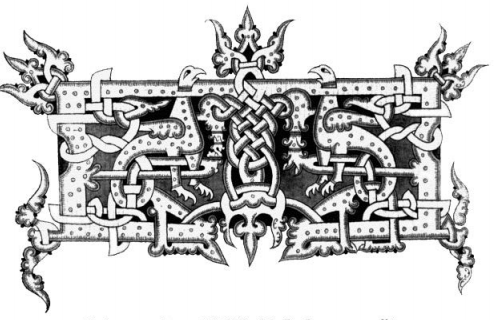
12) Вплетение зверей и птиц, грифонов и драконов в ремни, иногда оканчивающиеся змеиной головой или рылом чудовища, замечаемое в целой трети заглавных букв Юрьевского Евангелия, продолжает развиваться в XII и XIII вв., как это видно в Евангелии Добриловом, 1164 г., и в другом Евангелии Румянцевского же Музея, XII–XIII в., под № 104, см. у г. Бутовского табл. XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVII. Но во всех трех рукописях очевидно еще господство византийского стиля, чем он существенно и отличаются от русского орнамента XIV в. Сверх того, Евангелие под № 104, весьма недостаточно эксплуатированное в издании г. Бутовского, представляет некоторые характеристические орнаменты изящного иконописного стиля, уже невозможные в чудовищных сплетениях XIV в.; например, в изображении буквы Р, верхний овал которой представляет или нимб вокруг увенчанной короной головы юноши enface, в размере бюста, лист 11 об., или же с заостренным верхом излучину образка, на котором написан такой же бюст царственного юноши, лист 45 об., или, наконец, в кругу старательно и довольно – фигуру орла, лист 86, в том скульптурном, условном стиле, в каком эта птица изображена между прилепами Дмитриевского собора 1197 г., согласно с таким же изображениями на Западе в стиле древне-романском15.
26 Р – из Евангелия Юрьевского 1120–1128 г. (Моск. Синод. Библ. № 1103)

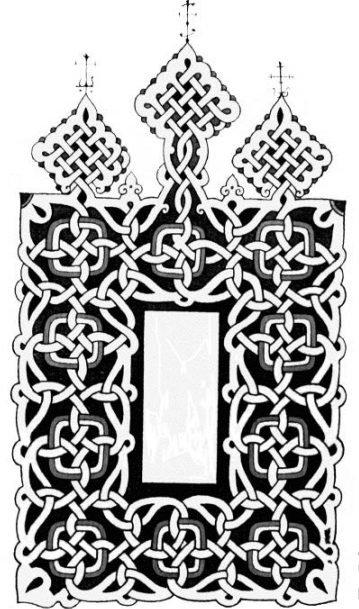
13) Дальнейший переход от этих трех рукописейXII и начала XIII в. к орнаменту XIV в. составляет Евангелие 1270 г. в Румянцевском Музее, под № 105, к крайнему сожалению не принятое в число материалов в издании г. Бутовского. Буквы чудовищного стиля из грифонов и драконов не только вполне соответствуют русскому орнаменту XIV в., но своей затейливостью во многом его дополняют, по крайней мере в том объеме, в каком этот последний орнамент представлен в издании г. Бутовского, табл. XXXV–XLIX. См., например, в рукописи листы: 12 об., 13, 37, 97, 152, 155 об., 157 об. Здесь же обращу внимание на следующие орнаменты. В (рис. 27) – столбик из перевитых ремней, верхний овал из ветви с завитком, а в нижнем овале из корня двух ветвей поднимается на шее человеческая голова, в профиль, в остроконечной шапке, л. 88 об.; еще затейливее буква В – из птицы или грифона, хвост которого извивается змеиными хвостами, а голова тоже человечья, в профиль, и тоже в остроконечной шапке, л. 133 об., 148.Еще тоже В: столбик, в самой середине своей проходит через голову чудовища и выходит из его пасти; к столбику подходит конь, которому и принадлежит собственно эта чудовищная голова, хотя по правилам живописи ни коим образом не прилаживается к его шее; верхний завиток буквы составляет змеиная голова, выпускающая из своей пасти ветвь с листвой, л. 147. Наконец, иконописный стиль сохранился в двух экземплярах буквы Р, столбики которых состоят из переплетенных ремней, а внутри верхнего овала по человеческой голове в царском венце, одна бородатая, другая (рис. 28) юная, безбородая, обе enface, лл. 29 об. и 39 об.
14) Сверх более роскошного сплетения, орнамент XIV в. отличается от рукописей XII и начала XIII в. разнообразием и богатством колорита, именно той гармонией тонов, о которой было сказано выше; тогда как орнамент в Юрьевском Евангелии писан киноварью по белому полю пергамента, а в Добриловом и Музейном № 104 частью тоже по белому, частью по красному, так что красные очерки, сливаясь с красным же фоном, оставляют внутри его пробел самого рисунка, в рукописях XIV в. пробелы эти выступают, как упомянуто выше, по синему, зеленому, даже по черному фону. Сверх того,
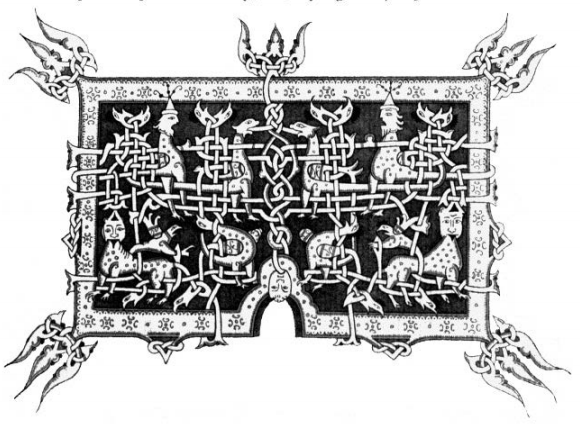
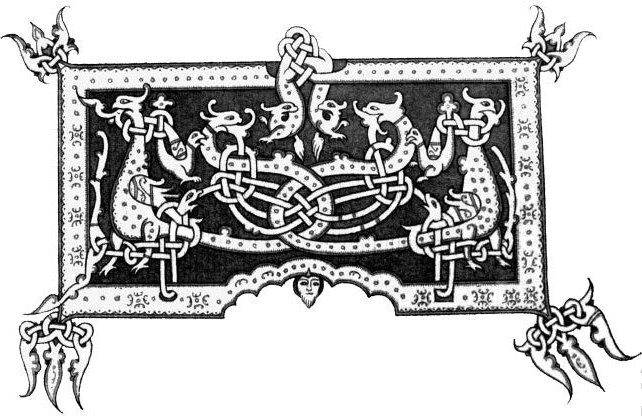
27 В
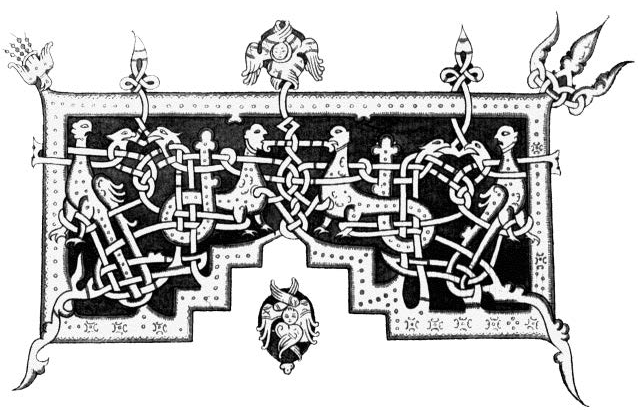
28 Р

27–28. Из Евангелия 1270 г. (Моск. Рум. Муз. № 105)
пробелы нежно расцвечены светло-желтой краской, что в XII в. еще не вошло во вкус. И относительно раскраски Музейное Евангелие 1270 г., под № 105, представляет переход от тех трех рукописей XII–XIII вв. к гармонии тонов XIV. В этом Евангелии орнамент иногда выступает не только по красному фону, но и по синему или зеленому, а также и по желтому, и самый рисунок наведен желтоватой краской.
15) Доселе была речь только о заглавных буквах. Теперь обращаюсь к заставкам. Самый существенный принцип в русском рукописном орнаменте состоит в том, что роскошная в своих затейливых извитиях заставка XIV в., в исторической последовательности, непосредственно развилась из буквы, через посредство орнаментов которой и восходит она к своим ранним источникам и оригиналам не только XII в., но и XI в. Заставка XIV в. есть только перенесение на более широкое поле и в больших размерах того же самого орнамента, который возник и развивался при самом писании рукописи, в красной строке с заглавными литерами. Эта связь художественного узорочья с буквой текста постоянно поддерживала в рукописном орнаменте предание, воспитывала в переписчиках единство и выдержанность стиля и преграждала путь всякому чуждому влиянию, не согласному с общим строем, делала его вовсе невозможным.
16) Переход сплетенного из чудовищ орнамента из заглавных букв в заставки совершался в исторической последовательности. Заставка на 1-м листе Юрьевского Евангелия, подобно заставкам на 3-м листе Изборника Святославова 1073 г., представляет храм в византийском стиле, с крестом наверху, и, по византийскому же стилю, по сторонам, не обеих арках, по павлину, а ниже на выступах, по обеим сторонам, птицы и звери16. В Добриловом Евангелии 1164 г. заставки (рис. 29) малые – обыкновенного византийского орнамента из жгутов или из кружков с листвой, а большая представляет тоже храм с куполом в форме луковицы, по сторонам тоже павлины или фазаны, см. у г. Бутовского табл. XXIV и XXV. Затем являются в заставках чудовища, но еще не вплетенные в ремни, а стоящие или наверху заставки, по византийскому обычаю, помещавшему там же павлинов, голубей и т. п., или же и в самой заставке, но на пустом месте, свободном от ременного переплета; например, в одной рукописи Синодальной библиотеки 1252 г17. Наконец, животные и чудовища помещаются и отдельно, на верху заставки и по бокам на выступах, и внутри ее – вплетенные в змеиные хвосты; как, например, в Музейном Евангелии XII–XIII в., № 104 (рис. 30), у г. Бутовского, табл. XXVII и в Евангелии Музейном же 1270 г., № 105.
17) Восходя к древнейшим источникам и оригиналам русского орнамента, мы замечаем, что заставки из змеиных хвостов и со змеиными головами более были распространены в письменности южнославянской,

29. Заставки, большая и малая, из Добрилова Евангелия 1164 г. (Моск. Рум. Муз. № 103)

30. Заставка из Евангелия XII–XIII в. (Моск. Рум. Муз. №104)
нежели в византийской. Такие заставки очень обыкновенны в болгарских рукописях уже XII в., а именно в вывезенных профессором Григоровичем из Болгарии и теперь принадлежащих Московскому Публичному Музею: в Хиландарском Паремейнике пять заставок со змеями, лл 1, 34 (рис. 31), 99, 104 и 108; в Охридском Апостоле, с отрывками глаголитского письма, две заставки, лл 100 об. и 105 об.; в болгарском Евангелии одна заставка, л. 53 об. Из византийских заставок со змеиными головами и хвостами укажу на находящуюся в греческом Евангелии 1199 г., в Синодальной библиотеке18.
18) Наконец, самый ближайший источник и образец сплетенного с чудовищами орнамента в русских заставках XIV в. дают нам те же южнославянские рукописи. Блистательное доказательство этому представляет знаменитая сербская рукопись Шестоднева Иоанна ексарха болгарского 1263 г., хранящаяся в Московской Синодальной библиотеке, под

31. Заставка Хиланд. Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1685)
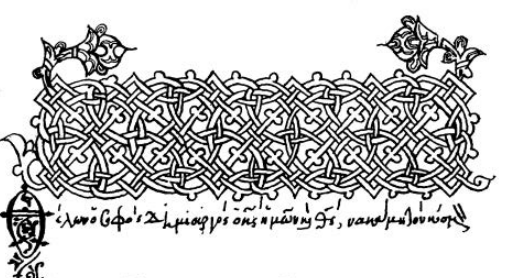
№ 345. Заставка (рис. 32), под которой писано заглавие Шестоднева19, раскрашенная киноварью и зеленой и желтой красками, в рамках еще византийского узора, представляет двух грифонов, хвостами вместе, а головами врознь, переплетенных и связанных извивами двух змиев, головы которых, поднимаясь по обе стороны над головами грифонов, испускают из своих
32. Заставка из Шестоднева Иоанна экзарха болгарского 1263 г. (Моск. Синод. Библ. № 345)
пастей по византийскому завитку. Заставка (рис. 33) из Погодинской Минеи XIV в., приведенная по изданию г. Бутовского в книге Виолле-ле-Дюка на табл. IX, при стр. 81, до такой очевидности сходствует с сербской заставкой Шестоднева 1263 г., что обе они кажутся копиями с одного общего оригинала, отличающимися одна от другой самыми незначительными вариантами.

33. Заставка из Минеи XIV в. (собр. Погодина Имп. Публ. Библ. № 14)
Даже четырехугольная рамка заставки в обеих копиях одинаково разрезана внизу пополам змеиными хвостами; только византийский узор сербской рамки замененв русской, узором, более соответствующим русскому орнаменту XIV в. Две другие копии того же общего оригинала, но уже на Западе и гораздо древнее, именно из второго периода романского стиля (XI–XII в.), в поразительной очевидности родственные сербской и русской заставкам, можно видеть у Комона20 в орнаментах двух капителей Альзасской архитектуры и вообще вдоль Вогезских гор, в стиле, который этот ветеран средневековой археологии называет романско-германским (roman germanique). Если всем этим четырем копиям в глубине веков предполагается одна общая их фигура, следы которой явственны в чудовищном грифоне или драконе21, встречающемся между узорами ткани и металлических изделий иранского или персидского происхождения, то наш русский орнамент XIV в. состоит в очевидной зависимости от южнославянского. Шестоднев со знаменитой заставкой, как свидетельствуют оба его послесловия, был написан искусным писцом Феодором «грамматиком», на Афонской горе, по повелению и при содействии иеромонаха Дометиана, «духовника» Хиландарского братства, в 1263 г., при благоверном царе Михаиле Палеологе и при крале Стефане Уроше, которого писец рукописи называет нашим господином и в своем отечестве самодержавно владычествующим всеми Сербскими землями и Поморскими. Из послесловий же узнаем, что Феодор «грамматик» от гонения и притеснения спасался из Хиландарского монастыря в городе Солунь.
19) Мы уже видели, что с древнейших времен южнославянские рукописи значительно отличаются от собственно византийских своим орнаментом, составленным из сплетения змей и чудовищ, сначала в буквах, потом и в заставках, чем и сближаются они с орнаментом романского стиля на Западе. Восточное племя болгар, покорившее придунайских и балканских славян, могло немало способствовать внесению азиатских элементов в их культуру, в быт, а потом и в искусство. Болгарское государство, охватившее восточную часть Балканского полуострова, в X веке, при болгарском царе Симеоне, достигло уже значительной степени цивилизации, как свидетельствуют памятники литературы и письменности22. Вместе с тем, сношения моравских и болгарских славян с Западом, с германскими императорами и римскими папами, не подлежат сомнению. Самый язык славянского перевода Св. Писания свидетельствует о влиянии Запада на цивилизацию славян, как, например, в словах: букы, букарь (грамотник), црькы (или церковь), алтарь, цесарь или царь, князь, склязь (или шляг), пенязь, оцет и др.23.
20) Русская письменность с самых первых своих памятников, с XI в., началась переписыванием болгарских оригиналов и затем не переставала подчиняться непосредственному влиянию письменности болгарской и сербской, и таким образом усвоила себе и южнославянский орнамент рукописей, в заглавных буквах и заставках, который в XIVстолетии принял некоторый оттенок самостоятельного русского стиля.
21) Почти все разобранные мною рукописи относятся к письменности Новгородской, начиная с Остромирова Евангелия 1056–1057 г., через Юрьевское Евангелие 1120–1128 г. и Музейное 1270 г. № 105, до рукописей XIV в. включительно; так что интересующий нас орнамент следует назвать Новгородским.
22) Новгородская область спаслась от погромов и ига татарщины; потому сохранила памятники и культурные предания старины и уберегла свою национальность от влияния татарского.
23) С другой стороны, сношения Новгорода, а также Смоленска и Пскова, в XII, XIII и XIV столетиях с Ригой, готским берегом и ганзейскими городами, засвидетельствованные и письменными актами, и преданиями и легендами, а также и монументальными памятниками24, служили для новгородской культуры проводниками западных влияний, которые должны были оказывать свое действие на более свободное отношение к византийским и южнославянским художественным преданиям и на более самостоятельное их развитие, уже не ограничивающееся рабским копированием. Следы этой самодеятельности очевидны в орнаменте новгородских рукописей XIV в., не смотря на его ближайшее сродство с орнаментом южнославянским.
24) Если южнославянский орнамент составляет восточную отрасль византийского, то Новгородский XII–XIV вв. составляет такую же органическую отрасль орнамента южнославянского или сербо-болгарского.
25) Так как русская письменность в XIII и XIV вв. преимущественно сосредоточивалась в области Новгородской, то орнамент Новгородский можно назвать и вообще русским.
26) Оставаясь верен многовековым преданиям и сохраняя следы византийского и южнославянского стилей, русский орнамент XIV в. представляет некоторые особенности, в которых можно усмотреть черты русского стиля. Довольно бросить для того беглый взгляд на изданные г. Бутовским материалы.

34. Заставка из Псалтири XIII–XIV в. библ. Ново-Иерусалимского монастыря № 6

35. Заставка из Евангелия XIV в. ризницы Троице-Сергиевой Лавры № 2

36. Заставка (Бутовский, табл. 48)
Чудовища (рис. 34) переполняют заставку и прошибают ее рамку и вверху своими головами, и внизу своими хвостамиили же извитиями ремней, которые опутывают чудовищ, табл. XXXVI. Иногда (рис. 35) заставка удерживает традиционную задачу изобразить церковь, но дает церкви иную форму, обыкновенно с тремя главами на высоких и тонких фонарях; и стены, и фундаменты, и барабаны, и главы, и самые кресты – все наполнено чудовищами или же их хвостами и ременными переплетами; кресты обыкновенно из одних ремней или хвостов, но часто со змеиными у подножья головами; иногда пишется крест не переплетом, а сплошной киноварью, табл. XXXIX–XLI; в одной заставке впрочем (рис. 36) сплетена вся церковь только из ременных переплетов и с крестами, которые выведены только киноварными линиями, хотя в буквах и допущены чудовища: точно будто писец следовал условиям пуризма в изображении церкви, не желая осквернить ее чудовищной нечистью, табл. XLVIII. Иные заставки в их обыкновенной четырехугольной форме, с выемками внизу, представляются будто стены романского храма, вроде Дмитриевского во Владимире на Клязьме, с разнообразным орнаментом из чудовищ: тут (рис. 37) и грифоны с человеческими лицами в профиль, в остроконечных шапках, и животные тоже с человеческими лицами enface, а между ними василиски с петушьими

37. Заставка из Псалтири XIV в. Имп. Публ. Библ. № 3
гребешками, а внизу, над выемкой рамки, на переплетенных ремнях повешена человеческая голова за подбородок лбом книзу, табл. XLII. Последняя подробность любопытна, как свидетельство той капризной фантазии, которая руководила мастера в его работе. Человеческие головы,только в их натуральном положении, в романском стиле обыкновенно помещаются в архитектуре – или под фризом25, или в виде консоли, под пилястрами, спускающимися сверху по стене26, а в рукописях заканчивают нижние линии заглавной буквы27: заставка на табл. XLIII (рис. 38) получает

38. Заставка из Псалтири XIV в. в Имп. Публ. Библ. № 3
вид архитектурного орнамента на стене храма, благодаря головке, помещенной в виде консоли под нижней рамкой, в ее выемке28. Чтобы придать орнаменту черту более приличную церковному стилю, иногда (рис. 39), вместо головки, помещается шестокрылый серафим, и не только внизу заставки, но и вверху, табл. XLIV. Иногда, вместочудовищ, в заставке изображена только одна человеческая фигура, вся запутанная и связанная змеиными хвостами, – в Хутынском Служебнике 1400 г., в Синод. библиотеке № 24029; ей вполне соответствуют орнаменты тимпана в некоторыхпорталах романского стиля на Западе30. Заглавные буквы дополняют фантастическую историю человеческой фигуры, обуянной ватагой переплетающихся чудовищ.
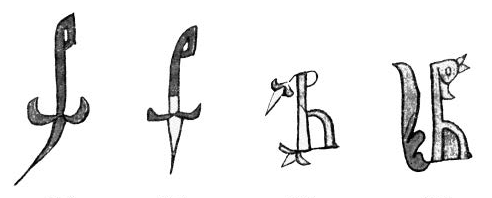
39. Заставка из Псалтири XIV в. Имп. Публ. Библ. № 3
То она (рис. 40) стоит на хребте чудовища, ухватившись руками за змеиные хвосты; то (рис. 41) ступает одной ногой на ходуле, другой на змеиныхсплетениях, в одной руке держит рог, может быть, с вином, в другой нечтонаподобие гуслей; то (рис. 42) забавляется охотой с соколом в руке или же (рис. 43) поймав животное за хвост, у Бутовского, табл. XLII–XLIV; то (рис 44) со щитом сидит верхом на животном; то (рис. 45), согнув колено, держит в руках секиру, или же (рис. 46) чинно сидит на стуле перед пюпитром, на котором лежит книга, как в одном Евангелии XIV в. в библиотеке г. Хлудова, в Москве31. Русская фантазия, ограниченная узкими пределами строгого стиля иконописи, находила для своих капризов желанный простор во всех этих затейливых орнаментах, ласкавших зрение наших предков игрой линий и гармонией тонов.
27) Постоянно указываемое мной сходство русского орнамента с романским на Западе, иногда доходящее почти до тождества, приводит к мысли о необходимости открыть между ними обоими и различия, из коих можно бы было заключить о свойствах собственно русского искусства. Различия эти состоят не столько в качестве материала, сколько в его объеме, указывающем на большую или меньшую энергию художественных сил.

40. Г 41. Х
40–41. Из Псалтири XIV в. Имп. Публ. Библ. № 3
А именно, во-первых, русский орнамент преимущественно и почти исключительно развился в заглавных буквах и заставках, за исключением немногих мелких изделий да прилепов в суздальских храмах, составляющих

42. К 43. Г
42–43. Из Псалтири XIV в. Имп. Публ. Библ. № 3
резкое исключение из общего принципа византийско-русского искусства, враждебного скульптуре; напротив того, на Западе романский стиль, наложив свой резкий отпечаток на орнамент рукописный, широко охватил всю архитектуру, рассыпав в неисчерпаемом обилии свои разнообразные формы и по стенам здания, и по капителям и базисам и по самому стволу колонн, по тягам арок, по тимпану портала и церковным вратам, по балюстрадам, купелям, амвонам и пр. Во-вторых, романский стиль на Западе начинается тотчас же вслед за древнехристианским, уже в VI и VII веках явственно проявляет свои резкие, неуклюжие формы и, более и более сглаживая их варварскую грубость, из века в век видимо развивается и хорошеет, по мере развития скульптуры и живописи, в орнаментах заглавных букв уже с XII в. дает более и более простора осмысленной легенде и миниатюре, и наконец, постепенно, к концу XII и в началеXIII в. переходит органически в стиль готический, одновременно и в архитектуре, и в живописи, и в скульптуре. Напротив того, русский орнамент только в XII в. стал освобождаться от рабского копирования византийских и южно-славянских оригиналов, и, хотя выказывал некоторую самодеятельность в XII и XIII вв., но все же под сильным влиянием южнославянским, и только в XIV в. успел достигнуть большей самостоятельности, но и тогда процветал недолго, да начала XV в., уступив свое место копиям с новых поделок на Афонской горе, а с XIVв. – копиям со старопечатных книг, Венецианских, Угровлахийских, а затем и вообще западных изданий. Заставка (см. ниже, рис. 49) Геннадиевской Библии 1499 г., по золоту украшенная травами, с

44. В 45. В 46. В
44–46. Из Евангелия 1323 г. А. И. Хлудова № 29
миниатюрой пишущего Моисея, относится уже к этим позднейшим изданиям печатного стиля32, не имея ни малейшей связи с русским орнаментом XIV в. Таким образом, романский орнамент на Западе представляется громадным деревом, глубоко пустившим свои корни в землю, раскинувшим свои густые ветви далеко и широко во все стороны, с богатым цветом, который опал только тогда, когда принес плоды и дал жизненные семена для следующих затем возрастаний; русский орнамент в рукописях это скромное деревцо, с жидкими ветками, на которых показались недолговечные цветки, завядшие прежде, чем успели принести свой плод и семена, Чем менее было в русском элементе самодеятельного стремления вперед, тем более держался он старины и предания, согласно общему принципу русской жизни, и в религии, и в литературе, и в искусстве, преимущественно в иконописи. Ранние признаки чудовищного романского стиля, усматриваемые на Западе еще в VII в. и идущие до XII в., удерживаются во всей сохранности в русском орнаменте XIV в.; например, характеристическая подробность усеивать туловище змей и чудовищ точками и кружками, или просто, или с точками внутри33, или же украшать птиц, животных и чудовищ ошейником34.
28) За отсутствием в древнерусском искусстве скульптуры и при неразвитости живописи, русский орнамент и в самом высшем своем развитии в XIV в. не мог приобрести способности к воспроизведению натуры в ее рельефности и переливах колорита. Он остался на степени каллиграфии, в фантастических разводах каких-то иероглифов, состоящих из переплетенных животных и чудовищ, оставляющих мало места для фигур человеческих. Орнамент не дошел до человеческой группы и ограничился узорочьем симплегмы, в которой змеиные хвосты, перерезывая фигуру животного или человека, искажают и дробят ее по частям, насильственно соединяя их искусственными связями, будто металлические пластинки, накладываемые на плоскость. Вместе с тем, вся фигура имеет вид металлического изделия: голова, окаймленная узором по шее, приставляется к туловищу, иногда ему не по мерке; крылья, будто отчеканенные с геометрической симметрией, как бы привинчиваются к туловищу шпиньками, шляпкам которых соответствуют обычные, вышеупомянутые кружки; наконец, по всей фигуре идут коймы с кружками, орнамент грубых металлических изделий, резко протестующий своей стереотипной условностью против природы, которую должна бы фигура изображать. Это плоский стиль изделий, отрываемых в курганах, это рисунок ткани, однообразно повторяющийся на паволоке до бесконечности; это не живопись и не рельеф, а просто узорочье, ласкающее глаз всем своим целым, а не по частям. В виду отрываемых из-под земли подобных же узорочьев, я назвал бы этот стиль ископаемым, хотя он и прошел известные стадии своего развития и на поверхности земли, от XI до XIV в., и усвоил себе от Византии еще XI века ту ветку с листиками, или византийский завиток, с которым не расставался русский писец и в XIV в., то влагая его в клюв птицы или в пасть животного и чудовища, то завершая им их хвосты, или украшая им же углы заставок и выступы заглавных букв. Это – та Ноева масличная ветка, которой русский орнамент непрестанно напоминал древней Руси обетованные края Цареграда, Солуня и Афонской горы.
Как ни совестно мне утомлять внимание читателя мелочными подробностями, изображения которых ему приходилось отыскивать в рукописях и разных изданиях, но я необходимо должен был пройти этот длинный ряд наблюдений, для того, чтобы без всякого взвешивания и колебания оценить настоящей ценой взгляд знаменитого французского архитектора и ученого на русское искусство вообще и на русский орнамент в особенности.
На стр. 56 и 57 своей книги Виолле-ле-Дюк сближает одну русскую заставку XIV в.35 с заглавной буквой Пикардской рукописи XII в. – фиг. 26 и 27 –и затем ниже, при стр.81, на табл. IX, приводит снимок с той самой русской заставки, которой замечательное сходство с сербской заставкой Шестоднева 1263 г. и с орнаментом Альзасских капителей указано мною в положении 18. Слова знаменитого француза на стр. 81 особенно для нас важны: они дают нам ключ к открытию той мысли о русском искусстве, которая извлекается из всей его книги и вместе с тем служит отличным образчиком самого метода, который был принят им в исследовании.
«Мы уже сказали – фиг. 27 – орнамент русской живописи XIV в. – говорит он – который замечательно сближается с некоторыми виньетками западных рукописей XII в. Восток, индийский Восток, есть источник, откуда идет этот род орнаментации. Как получили западные мастера образцы этой орнаментации XII века? Это не иначе было возможно, как посредством сношений, столь частых в эту эпоху, с Востоком, только через Византию; ибо в орнаментации византийской ничто не напоминает этих комбинаций. Несомненно, то, что в XIV в., когда господствовали татары, явились эти странные орнаменты, составленные из сплетений и животных и раскрашенные вовсе не в византийских тонах колорита. Вот одна из этих виньеток – табл. IX. Нет необходимости в настоятельном доказательстве того, что орнаментация эта более принадлежит Индии, чем Византии. На той же странице, несколько выше, называет он ее индо-татарской, распространяя эту характеристику и вообще на русские, как он выражается, «школы искусства» во время татарщины.
Теперь во всей очевидности оказывается перед нами убогая пустота этого измышления, когда мы уже знаем, что сказанный орнамент принадлежит не России, а Сербии, и составлен на Афонской горе, свое же фамильное происхождение ведет непосредственно от ранних болгарских оригиналов, образцы которых мы видели в рукописях, вывезенных из Болгарии профессором Григоровичем. Справедливость обязывает извинить ученого парижанина в незнании того, что доступно в источниках и пособиях нам, русским, и особенно в Москве. Но и по изданию г. Бутовского мог бы он проследить историю русского орнамента в его последовательном развитии от начала XII в. и прийти к правильному заключению, что результаты этого исторического развития в XIV в. ничего общего не имеют с татарщиной, что, вместе с тем, согласовалось бы с местными и историческими условиями нашей письменности, по преимуществу сосредоточенной тогда в Новгороде. Но он, видимо, увлекся одними заставками, вовсе не обратив внимания на заглавные буквы, в коих, вместе с процессом переписывания текстов, первоначально и вырабатывался этот стиль сплетения чудовищ. Разумеется, если бы русские писцы переписывали не южнославянские оригиналы, а татарскую грамоту, то внесли бы в свой орнамент татарщину, а не южнославянские узорочья. Можно было бы извинить французскому архитектору и такое чудовищное предположение, что у нас на Руси процветала татарская письменность, и в оригиналах, и в переводах; но как нам следует понять то загадочное невнимание, с которым он относится к своему собственному, западному стилю, именно к романскому, который ему, знаменитому архитектору, должен быть известен, как свои пять пальцев? С этою мыслью перечитайте вновь вышеприведенную выдержку из книги Виолле-ле-Дюка, и что ни строка, – то изумительная неожиданность. Русский орнамент XIV в. сближается с некоторыми виньетками западных рукописей XII в. Только-то? Но он поразительно сходствует вообще с романским орнаментом во всей архитектуре. Я с намерением и привел выше именно Альзасские капители. Читаем далее – только двенадцатого века? Но эти сплетенные из чудовищ узорочья, эти тератологические или чудовищные украшения составляют существенную принадлежность самого раннего периода в истории романского стиля, именно англо-саксонского, скандинавского, меровингского, ломбардского, как-то должен знать лучше всякого другого знаменитый французский архитектор. Это ведь азбука средневековой археологии, потому я и ссылался не на такие специальные пособия, как Остенао Ломбардских зданиях от VII до XIV в., или Шульца о средневековых памятниках искусства в южной Италии и т. п., а только действительно на Азбуку, на Abe1ce1daire Комона, чтобы дать знать читателю, что для сравнения с русским материалом я не отыскиваю на Западе в стиле романском каких-нибудь исключительных особенностей и редкостей, вроде того брагманического фрагмента, коим – как мы видели –Виолле-ле-Дюк определяет индейство орнаментов суздальской архитектуры, а беру только самое общее, типическое, элементарное. Но будем читать далее: Восток, Восток индийский есть источник и т. д. Без сомнения Восток, но почему же именно только индийский? И потом –когда именно? Мы знаем, что это восточное во всем его обилии присутствовало на Западе в романском стиле VII в. Но знаменитый ученый ищет своего индийского источника только с XII в. Как западные мастера получили образцы этой орнаментации в XII веке? Спрашивает он таким решительным тоном, что невольно становишься в тупик от недоумения, не говорится ли здесь о чем другом, а не о той романской орнаментации, которая сближается с нашими заставками XIV в., и перед авторитетом этой специальной знаменитости не без некоторого колебания решаешься заметить, нужно ли было и поднимать такой праздный вопрос, когда всякому занимающемуся средневековой археологией хорошо известно, а и тем более автору Словаря французской архитектуры, что мастера эти получили свои образцы по преданию, восходящему в романском стиле лет за шестьсот до XII в. Но проницательные взоры специалиста обращены на Византию XII века, и, не находя там тератологического орнамента из сплетенных животных, он указывает своим вещим перстом на Индию.
Не мудрено, что французский архитектор, погруженный в свою художественную специальность, не досмотрел во всем этом деле ни Болгарии, ни Сербии, когда и великие дипломаты Западной Европы, более его сведущие в географии и этнографии, при посредстве самых зорких увеличительных стекол не могли усмотреть границ Болгарии, решая ее судьбу на Берлинском конгрессе. Виолле-ле-Дюк не раз в своей книге намекает на что-то славянское азиатское: génie slave asiatique, un élément slave asiatique (стр.38:55), и я сначала думал под этим словом открыть или вообще восточных славян, или в частности славя южных, балканских, болгар и сербов; но мои поиски были напрасны, и это нечто славянское азиатское так и осталось в своей мистической неопределенности, не воплотившись даже из прилагательного в собственное имя каких-нибудь азиатских славян или славянских азиатцев. Всего вероятнее, что это таинственное славянское азиатское, по мысли автора, должно характеризовать не болгар или сербов, которых он вовсе не хочет знать, а только нас – русских. Если бы ему известны были родственные связи русского искусства с Солунем и Афонской горой, исследования его приняли бы другое направление и привели бы вовсе к иным результатам.
Но мы еще не кончили с той Индией, которая так фигурирует в вышеприведенной цитате нашего автора. Мы уже знаем, в какое отношение к ней ставит он стиль романский на Западе. Но как усвоила себе эту индейщину Россия. По учению французского архитектора, русские испокон веку были предрасположены к Турану, к желтым расам центральной Азии и особенно к Индии. Их славянский азиатский гений только подновил себя двухсотлетней татарщиной и остался верен своим азиатским элементам и принципам вплоть до XVII столетия. Читатель всему этому напрасно ищет в книге Виолле-ле-Дюка точных, положительных доводов, основанных на исторических и этнографических данных, которые были бы, так сказать, анатомически и химически анализированы в их составных элементах, именно с теми приемами настоящего сравнительного метода, выработанного так блистательно лингвистикой и филологией, который я старался приложить в своих положениях или тезисах к историко-сравнительному изучению русского орнамента. Я мог лично впасть в некоторые ошибки, по незнанию каких-нибудь фактов или по недосмотру, но я твердо убежден, что только этим путем можно достигнуть настоящих результатов по вопросу о существе русского искусства.
Сравнительный метод состоит не из набора разных клочков этого и сего, выхваченных из Персии или Индии, из раскопок русских курганов, да наугад брошенных ссылок на Туран и татарщину с желтыми расами центральной Азии, а в точном аналитическом разборе действительных фактов известного места и времени, кои подлежат рассмотрению. Если нет этой твердой фактической основы, исследователь отрешается от научной почвы, пускается в мечтания и мистицизм и, как искатель приключений, строит воздушные замки. При чтении следующих строк во французской книге о русском искусстве невольно приходит в голову опасение, не случилось ли то же самое и с ее автором. Говоря об индействе русской архитектуры XVII столетия, он себя спрашивает: «подражание ли это? Нет, это воспоминание, это вдохновение, это стремление произвести известный эффект во вкусе русского человека, после того, как взоры его перестали уже непрестанно обращаться к Цареграду, после того, как татарское иго привело его в более непосредственное соприкосновение с древним Востоком центральным» (стр. 134).
Очень возможны в русской архитектуре элементы и индийские, и татарские, так как и вообще в русской национальности много и западного и восточного, чем, само собой разумеется, и отличается она от Запада, противополагаемого Востоку; возможно также, что современный метод сравнительного изучения в преемственной передаче культурных преданий от одного народа к другому, с таким успехом прилагаемый к изучению народности, откроет новые пути, по коим разные влияния шли с Востока на Запад, захватывая племена и народы, вошедшие в состав древней Руси. Но в исследованиях такого рода, неизменно положительных и точных, строжайшим образом возбраняется прибегать к безотчетным воспоминаниям и пиитическим вдохновениям.
Если бы я мог отрешиться от обаяний, которые с давних пор внушало мне авторитетное имя автора книги о русском искусстве, то я, может быть, позволил бы себе сказать, что главнейшим образом страдает она от недостатка в здравом сравнительном методе и от погрешностей, с какими был он в ней употребляем.
Статья вторая
АббатМартынов, желая сделать критический разбор книги Виолле-ле-Дюка, вместо того пришел к необходимости составить целую самостоятельную монографию о русском искусстве, предложив французской публике, в результатах, наиболее важное и существенное, что только выработала наша ученая литература по этому предмету. Мне остается только сделать ссылки на лучшие места этой критики-монографии и ограничиться некоторыми добавлениями со своей стороны и кое-где необходимыми, по моему мнению, поправками, и именно в тех особенно случаях, где критик соглашается с автором.
Уже первые строки монографии характеристичны. Она начинается следующими словами Наталиса Рондо, в которых он высказывает свои беглые впечатления при обозрении образцов русского орнамента, выставленных на Венской выставке 1874 года. «Россия, в разные эпохи своей истории, имела рациональное искусство, начала которого мало известны; но сродство этого искусства с восточным большое. Первоначальный характер его то определяется, то нарушается влиянием финским, монгольским или персидским, то наполовину сглаживается чертами, заимствованными от стиля византийского или индийского. Увлекшись изобретениями искусства французского, русское общество уже давно стало отдавать ему свое предпочтение, и только в новейшее время возвращается оно ко вкусу древнего искусства славянского»36.
Любезный комплимент русским узорам, мимоходом брошенный парижским туристом, послужил г. Виолле-ле-Дюку темой для целого ученого трактата, задачей которого было определить самое существо всего русского искусства. Монгольское, персидское, индейское и всякое другое восточное было уже дано автору в этом беглом, поверхностном взгляде на русские изделия; оставалось только найти первоначальный характер русского искусства, который затерялся между восточными влияниями и наносами. В первой статье я старался показать, что поиски эти не туда были направлены, куда бы следовало, и предприняты были с такими средствами, с которыми далеко идти было нельзя. Оставалось только вращаться в том колесе, которым вместе с темой позаимствовался Виолле-ле-Дюк от Наталиса Рондо.
Но, чтобы этому коловращению придать внушительный вид научного анализа, г. Виолле-ле-Дюк в интересах ясности для читателя делает из всего им сказанного общий вывод в суммарной таблице всевозможных элементов, из коих будто бы сложилось искусство русское.
Исходным пунктом таблицы принята национальность русская. Первое разветвление составных частей русского искусства – это элементы скифские, византийские и монгольские.
На втором плане следует разветвление каждой из трех составных частей: скифский – на азиатское, арийское и греческое; византийский – на греческо-эллинское, романское и азиатское; монгольский –на азиатское арийское и азиатское желтой расы.
На третьем плане каждое из разветвлений второго плана разлагается на свои элементы: романское – на этрусское, греческое и азиатское иранское; азиатское, как элемент византийского, – наиндусское арийское, персидское арийское и сематическое; монгольское – на индийское, китайское и пр.
«Отсюда видно, заключает г. Виолле-ле-Дюк, что русское искусство, и по своему происхождению от местных преданий скифских, и по заимствованиям из Византии, и по влиянию татарского ига, постоянно черпало из одних и тех же источников азиатских, и каковы бы ни были пропорции составных его частей, целостное его единство не могло быть тем нарушено. Восток дал ему по малой мере девять десятых из его элементов; и несколько преданий западных и семитических, которые оно добыло из Византии, были не настолько значительны, чтобы повредить этому единству», стр. 150 и 151.
Пусть будет так. Беды нет, что наше искусство азиатское, так как в его элементах девять десятых с Востока. Лучше быть хорошим азиатским, чем дурным европейским. Уже 35 лет тому назад, еще в 1844 г., в первом издании своей Истории образовательных искусств (том 3, стр. 290)знаменитый Шнаазе почти то же самое, что и Виолле-ле-Дюк, говорит о русской национальности и русском искусстве, именно, что оно все восточное, азиатское, и по самой природе своей, и по татарскому игу, сближавшему нас с Индией и Китаем, и т. п. Но тогда этими словами нас поносили и ругали. Теперь лингвистика и сравнительное изучение народностей подняли национальное достоинство не только финнов, с их Калевалою, татар с их сказками, но даже дикарей Нового Света. Для публики же этнологические материалы придают вкусу пикантность, а эстетическому впечатлению – характерность. Затем, ученый метод литературного и художественного заимствования и исторической передачи предания, уверяя все более и более в старой истине, что Восток – колыбель европейского просвещения, вместе с тем указывает, как много восточных элементов вошло в историю европейской культуры и цивилизации. Сообразуясь с современными понятиями и вкусами, французский архитектор перевернул на другую сторону ту же самую медаль, которую 35 лет тому назад держал в руках Шнаазе, – и таким образом в 1877 г. нас превозносят за то же самое, за что в 1844 г. поносили. Итак, пусть себе взвешивает наше искусство французский архитектор на азиатских весах. Но это количественное определение посредством счета составных элементов, набранных из разных народностей, определяет ли самое качество русского искусства? Не преждевременны ли эти уж слишком точные расчеты с Востоком и с Западом, и, наконец, сказанная пропорция девяти десятых, коей огулом определяется все русское искусство, с одинаковой ли не только математической, но и логической отчетливостью прилагается к каждому из его отделов? Можно ли, например, русскую иконопись определить так, что она содержит в себе девять десятых из элементов восточных и немножко западного, и семитического? Сам же Виолле-ле-Дюк не раз уверяет, что ни татарского, ни индейского, ни желтоплеменного центральной Азии в нашей иконописи не имеется. Так же вот и русский орнамент. Мы уже видели, как этими азиатскими весами обвешивали нас в тератологическом орнаменте русских заставок XIV века; далее увидим то же и при заставках XV в.
Очевидно, г. Виолле-ле-Дюк соблазнил так успешно разрабатываемый теперь метод этнографический, низводящий художественные интересы из высших областей живописи или скульптуры в ремесленную, культурную среду народного быта. И тем удобнее было приложить этот метод к древнерусскому искусству, что оно, далеко отставши от западного, более подходило в глазах француза к изделиям промышленности, нежели к произведениям свободного творчества, которое черпает силы в высшей области идей, вырабатываемых успехами цивилизации.
Но вместо узоров ремесленного изделия г. Виолле-ле-Дюк имел под руками заставки и заглавные буквы, которых историческое происхождение и стиль надобно было определять изучением самих рукописей. Вот почему промышленный метод должен был стать в тупик, когда, неожиданно для него, столкнулся он с рукописями.
Наконец, всю сказанную таблицу г. Виолле-ле-Дюка надобно переделать снова. Она не тем начинается, чем следует, и направлена не по надлежащему пути. Русские – это одно из славянских племен, и притом составляющие одну общую группу с болгарами и сербами. Вот настоящая точка отправления для таблицы элементов русской национальности и искусства.
Сверх того, в первой статье моей было уже показано, что русский орнамент в рукописях, вместе с письменностью и литературой, идет по прямой линии от южных славян, от болгар и сербов. Эти же племена были постоянными посредниками между Россией и Византией, а вместе с тем составляли значительный вклад в культуру и этой последней. Следовательно, чтобы определять элементы русского искусства, как ворнаменте, так и в иконописи, особенно в миниатюре, составляющей принадлежность рукописи, необходимо, прежде всего, выставить на вид кровное родство русских с дунайскими и балканскими славянскими племенами и, затем, непосредственные с ними сношения в развитии литературы и искусства. Итак, если бы таблица г. Виолле-ле-Дюка была направлена от надлежащего пункта, определяемого этнографией и историей культуры, она бы сократила свой фантастический размер и вошла в пределы возможного, доступные научному наблюдению.
Хотя досточтимый аббат хорошо знает отношения русских к соплеменным им славянам, но он оставил без вниманий этот существенный пункт при рассмотрении сказанной таблицы, которая для меня имеет особенную важность, как наглядный результат всей книги французского архитектора.
Если бы критик г. Виолле-ле-Дюка положил в основу своих наблюдений руководящую мысль о непосредственной связи русского рукописного орнамента с южнославянским, то он избавил бы себя как от увлечений французского архитектора, так и от неминуемых противоречий, когда приходилось исправлять его ошибки. Соглашаясь с автором в приписании азиатского характера заставкам Евангелия Архангельского собора XII–XIII в. критик оставляет нерешенным вопрос о происхождении нашего орнамента XIV в. между Скандинавией и Востоком; что касается до деревянного креста XV–XVI в., находящегося в Московской Оружейной Палате, то приходит он в крайнее удивление, когда французский архитектор определяет его стиль в следующих словах: «l’ornament qui l’entoure est éminemment hindou, appartient à l’extreme Orient» (стр. 86–86). Ссылаясь на монографию г. Филимонова37, аббат Мартынов совершенно справедливо видит в этом кресте не более как один из экземпляров самого обыкновенного на Афонской горе изделия.
Что говорит г. Виолле-ле-Дюк о русской иконописи – еще слабее, чем об орнаменте. Для характеристики русского стиля в этом последнем, он мог прибегать к готовым краскам Индии и Персии. Иконопись русская не поддавалась ни далекому Востоку, ни близкой татарщине. За неимением научных ресурсов, пришлось ограничиться общими местами дешевой риторики, вроде, например, таких: икона – это для русских союз, соединяющий воедино всех членов нации, это то же, что для них знамя, это язык, понятный для каждого, это символ патриотизма, это его герб. И только. Вы желали бы знать, что именно такое русская иконопись сама по себе, какими путями она развивалась, в каких отношениях она состояла к литературе и к общему строю русского искусства, и находите только один ответ, что она носит на себе печать архаизма (стр. 96–97).
Аббат Мартынов также признает характеристику подобного рода очень недостаточной и старается открыть оригинальность русской иконописи –и, во-первых, во множестве сюжетов и типов, собственно принадлежащих иконографии русской и вовсе неизвестных грекам. Таковы, например, Покров ПресвятойБогородицы, Единородный Сын, Никола Можайский, Кирилл и Мефодий, Борис и Глеб и мн. др. «сверх того, открывается эта оригинальность, – продолжает он, – частью в образе представления некоторых таинств и религиозных идей, частью в самом способе и технике, коими пользуются русские мастера. Одним словом, она виднв везде, где примешивается элемент славянский к византийскому, и эта примесь дает знать о себе тотчас же, как только будет она подвергнута строгому анализу. Надобно обратиться также к иконописному Подлиннику, без которого не может обойтись ни один русский иконописец и в котором он найдет все необходимые для него указания. Дело, созданное многими поколениями, Подлинник этот есть настоящий монумент национального гения» и т. д. (стр. 30 и след.)
В этих немногих словах действительно указана почтенным аббатом та точка отправления, от которой должны бы были исходить исследования, имеющие привести к истинному уразумению настоящего русского искусства, высшим проявлением которого в древней Руси была именно иконопись.
Русский Подлинник, в многоразличных его редакциях составляя одно стройное целое, есть действительно многовековой монумент древнерусского народного духа. Наш Подлинник, своими началами восходя к самому раннему источнику Мартирология, еще явственному в редакции афонского монаха Дионисия, идет у нас затем рука об руку с церковным обиходом служебных миней и с домашним чтением прологов, время от времени вносит в свой состав новые праздники и новых русских святых и, наконец, осложняется разными, не только богословскими, но и вообще литературными влияниями XVII и начала XVIII столетий.
Впрочем, хотя почтенный критик своими замечаниями на книгу Виолле-ле-Дюка достаточно обнаружил ее бессодержательную пустоту по вопросу о русской иконописи, все же я нахожу не лишним сделать несколько дополнений, имеющих целью значение этой отрасли искусства в связи с национальным развитием письменности древней Руси. В этой связи преимущественно обнаруживается и национальный характер нашей иконописи38.
По самому принципу восточной Церкви, иконопись определяется текстом Св. Писания и Отцов Церкви. Она состоит в непосредственной зависимости от Писания, как его иллюстрация или толкование в лицах. На практике принцип этот приводится в исполнение в двух господствующих формах: в миниатюре, предназначаемой для толкования текста, и в иконе, заменяющей собою текст. Таковы, например, лицевые святцы, молитвы в лицах: Достойно, Отче наш, Верую, а также и многие другие сложные сюжеты, как: Единородный Сын, Почи Бог в день седьмый, Премудрость созда себе дом, Величит душа моя Господа, Хвалите Господа с небес, Приидите, людие, трисоставному Божеству помолимся и т. п. При этом должно заметить, что, по основному принципу нашей иконописи, связь изображения с текстом неукоснительно наблюдается в надписях не только названий изображаемых лиц и предметов, но и целых стихов молитвы или церковного песнопения. Надписи текста до того обязательны для иконописца, что их постоянно приводит для руководства иконописный Подлинник, а древнерусские ценители икон обращали на надписи столько же внимания, как и на самые изображения, что можно видеть, например, в деле о дьяке Иване Висковатом39.
Священный текст – не только источник для иконописи, но вместе с тем и строгий хранитель художественных преданий, оберегающий их от произвола личной фантазии.
Потому назначение иконографии – быть грамотой для безграмотных, первоначально общее всему христианству, у нас господствовало на практике до позднейших времен, тогда как на Западе рано потеряло свой смысл, вследствие развития творческой фантазии, которая, не довольствуясь пределами текста, живописала не то или больше того, что говорит текст.
Тем же основным принципом определяется и самый стиль иконописи, и в миниатюрах, и в иконах. Это стиль символический.
Он требует от фигур не верности природе, а прямого соответствия тексту. Иконописец не знал природы и довольствовался старинными оригиналами или, как он их называл – переводами, с которых переводил очерки и краски на пергамен, бумагу или доску. Таким образом, русская иконопись усвоила себе известную стереотипность условных приемов этого символического стиля.
С расширением круга литературных интересов, иконопись распространяла те же веками выработанные приемы и в новых изделиях, в иллюстрации русских житий святых, хронографов и других летописных памятников, синодиков и, наконец, разных произведений древней нашей письменности, не только религиозного, но и вообще литературного содержания40.
Вместе с тем должно заметить, что, при выдержанности условных приемов, иконопись допускала разнообразие форм для выражения смысла одного и того же текста. Так, мы имеем несколько совершенно различных между собой редакций лицевого Апокалипсиса от XVI до XVIII вв., или лицевого жития Василия Нового на таком же расстоянии веков41. Варианты такого рода редакций, свидетельствующие о самодеятельности русских мастеров, предлагают драгоценные факты, которых напрасно будем искать в дошедших до нас миниатюрах византийских.
Таким образом, главное достоинство нашей иконописи, как в иконах, так и особенно в лицевых рукописях, не оцененное ни французским автором, ни его критиком, состоит не в стиле внешней формы, а в самых сюжетах. Ремесленность исполнения только способствовала у нас до позднейших времен сохранению в беспримесной чистоте драгоценных материалов не только византийской, но и вообще древнехристианской иконографии, и западные ученые значительно обогатят свои исследования по христианской археологии, когда воспользуются этими обильными материалами42.
К сказанному полагаю нужным присовокупить следующее соображение, которое, мне кажется, должно бы иметь обязательную силу по вопросу об определении самого метода в изучении нашей иконописи. Метод этот, по моему крайнему разумению, должен бы быть тот же самый, образчик которого я надеялся дать в моей первой статье при исследовании русского орнамента.
Сравнительный метод тогда только ведет к удовлетворительным результатам, когда основывается на положительных данных, а не на беглой наглядке и пробах личного вкуса, которым дает такую решающую силу Виолле-ле-Дюк. По самому существу своему, наша иконопись состоит в нераздельной связи с письменностью и литературой. Иконописный Подлинник, как лицевые святцы, только скрепляет эту традиционную связь. Следовательно, рукопись и миниатюра, определяемые известным местом происхождения и временем, должны быть приняты в основу исторического изучения нашей иконописи, а затем – со времени введения книгопечатания – старопечатная книга с политипажами.
Обыкновенно говорят только о византийских источниках нашей иконографии. В орнаменте русских рукописей, мы уже знаем, очевидно посредничество южных славян и Афона между Византией и Русью. То же должно быть указано и для иконографии. Писец Остромирова Евангелия 1056–1057 г., украсивший его миниатюрами евангелистов, имел для себя оригиналом не греческую, а болгарскую рукопись, и над головой св. Луки надписал его имя хотя по-гречески, но с древнеболгарским юсом, очевидно, не понимая ни греческого письма, ни носового произношения чуждой русскому языку буквы. Итак, уже самый первый факт русской иконографии, отмеченный годом, указывает исследователю ту же точку отправления, которая принята была мною и для истории русского орнамента.
Тем необходимее изучение русского искусства в связи с письменностью и литературой, когда идет дело о влияниях, коим древняя Русь подвергалась с Запада; потому что одним из главнейших влияний этих, с конца XV в., в XVI и особенно в XVII в., была литература, получившая со времен книгопечатания небывалую до тех пор силу посредничества в международных общениях.
Знаменитый французский архитектор не затрудняет себя кропотливой работой в исследовании многовековой истории западных влияний на древнюю Русь; он даже не знает или не хочет знать, с каких пор начались и как усиливались эти влияния, и какими путями шли они. Это ему вовсе не нужно. В своем пресловутом анализе элементов русского искусства он уже математически доказал, что западное влияние тут не при чем. Вслед затем он пресерьезно уверяет своих читателей, что «русские все же не индейцы, не моголы, не желтая раса, не семиты, не иранцы, как те, кои населяют нынешнюю Персию, и, хотя между русскими встречаются следы этих различных рас, и именно финны и татары, однако, необъятное большинство нации, населяющей Европейскую Россию, – славянское, т. е. арийское; но постоянные сближения этого населения с Востоком, его колыбелью, дали возможность его гению развиваться вне западных влияний до XVII века. Делавшиеся с тех пор покушения подчинить его формам западного искусства, и именно усвоить ему искусство латинское, имели своим плодом только недоносы и привели к мистификации, слишком, слишком продолжительной» (стр. 151). В другом месте этот термин западного влияния еще ближе придвигает французский автор к позднейшей эпохе: «Россия была одной из лабораторий, где художества, шедшие со всех пунктов Азии, соединились вместе, чтобы принять форму, посредничествующую между миром восточным и западным. По самому географическому положению она должна была принимать эти влияния; этнологически,43 она была вполне приготовлена усвоить себе эти художества и их развить. Если же она остановилась в этом деле, то только в эпоху очень близкую к нам, когда, отказываясь от своих зачал и преданий, она, наперекор своему гению, возымела притязание быть нацией западной» (стр. 58–59). Оказывается, наконец, что это было делом моды, которой увлеклось высшее общество в России, и не ранее, как в XVIII в. Русское искусство, как оно шло изначала, по словам французского автора, было полно надежд и обещаний в его оригинальном развитии, «если бы естественный порядок вещей в своем шествии не был остановлен пристрастием, с каким высшее общество в России кинулось на произведения искусства итальянского, немецкого и французского» (стр. 94). «Веяние западной цивилизации, распространившееся по России в XVIII в., дало возможность новой живописи проникнуть даже в церковь; но народ никогда не разделял этой моды, и для него нет другого искусства, кроме гиератического» (стр. 126).
Итак, вместо точных исторических данных, какие подобают всякой ученой работе в исследовании элементов, из коих слагается искусство, французский архитектор отделывается дешевыми фразами самых истасканных общих мест, разводя многословием данную ему Наталисом Рондо тему: «Очарованное изобретениями французского искусства, Русское общество уже давно отдает ему свое предпочтение» и т. д.
Почтенный аббат не мог не заметить с первого же раза во французской книге о русском искусстве полное отсутствие исторических сведений по вопросу о западных влияниях на древнюю Русь и постарался восполнить этот существенный недостаток несколькими более выдающимися фактами, начиная от варяжского пути через Русь и от легендарной эпохи варяжских пещер в Киево-Печерском монастыре и Новгородских преданий, до итальянских архитекторов, которые в XV и XVI вв. были призываемы нашими царями для украшения Москвы. Допуская возможность азиатских элементов в искусстве, преимущественно московском, критик, хорошо знакомый с географией и этнографией нашего отечества, удачно полемизирует против взгляда французского автора, указывая на другие области Западной России, которые испокон века более или менее подчинялись влияниям Запада, каковы: Новгород, Псков, Смоленск и вообще Белорусские, Литовские и Малорусские окраины, и затем эти области, в свою очередь, оказывали влияние на Москву, особенно в XVI и XVII столетиях.
Из приведенных аббатом Мартыновым историко-этнографических данных, вошедших в круг элементарных сведений всякого образованного человека в России, но, судя по Виолле-ле-Дюку, далеко неизвестных публике французской, достаточно уже явствует, что не мода, не высшее общество и его капризы и пристрастия призвали к нам эти западные влияния, но что в течение столетий мало-по-малу всасывались они в самую культуру древней Руси, сначала по ее окраинам, потом должны были найти себе место и в центральной Москве, как в римском пантеоне, который собирал в свое святилище чужеземных богов от покоряемых Римом народов. Самое наследие, завещанное России от падшей Византии, в лице Софии Палеолог, привело к нам, вместе с остатками византийских преданий, целую ватагу новых западных влияний. Все это совершалось не вопреки национальному гению и не по превратному ходу вещей, а естественным путем исторического развития, определяемого самым возрастанием Московского государства. Искусство и литература неминуемо должны были воспринять в своей окрепшей веками национальный состав элементы западные, для того чтобы стать полным выражением исторических судеб России.
Сказанные критические замечания аббата Мартынова я почитаю не лишним скрепить несколькими из более резких, выдающихся фактов, полагая в основу ту мысль, что соответствие искусства национальной литературедает ему значение и силу национальности, хотя бы в обоих этих проявлениях народной жизни и оказывались какие-либо элементы иноземные; ибо, по господствующему в современной науке методу, оказывается несомненным, что самая национальность не иначе могла развиваться, как при посредстве усвояемых ею влияний, путем литературных и вообще культурных заимствований.
Как Виолле-ле-Дюк отыскивает в произведениях древнерусского искусства симпатии и предрасположения к усвоению им азиатских элементов, так и я, указав уже в русском орнаменте, от XI до XIV вв. включительно, предрасположения и элементы вовсе не азиатские, теперь беру на выдержку одну из лицевых рукописей новгородского письма XIII–XIV в., в тех видах, чтобы в ее миниатюрах открыть ранние следы несомненного западного влияния, которое постараюсь определить на основании точных указаний истории языка и культуры.
Это миниатюры в Псалтири, числом до 127, в библиотеке г. Хлудова, в Москве44. Редакция миниатюр, хотя и писанных русским мастером, – в своем первичном происхождении, без сомнения, византийская, чему, между прочим, служат доказательством кое-где изредка встречающиеся греческие надписи между славянскими, несомненно, русского письма. Редакция уже сложная, составлена из двух простейших, образчиками которых надобно полагать, во-первых, греческую Псалтирь Парижской публичной библиотеки, IX–X в., и, во-вторых, греческие же Псалтири: Лобковско-Хлудовскую, IX века, в Москве, и Барберинскую, XII в., в Риме45. Русская Псалтирь XIII–XIV в., о которой теперь идет речь, содержит в себе миниатюры, изображающие не только события из жизни царя Давида и вообще ветхозаветные, как в греческой Псалтири Парижской библиотеки, но и в параллель пророчеству царя Давида – события новозаветные, как в редакции Лобковско-Хлудовской и Барберинской.По самым сюжетам и способу их представления, русские миниатюры согласуютсяс той или другой из обеих этих греческих редакций, иногда дополняют или сокращают сюжет, иногда же и вовсе отклоняются. Вот, например, одна русская миниатюра взята из редакции Парижской Псалтири, хотя несколько и переделана, а не из Хлудовско-Барберинской, в коей соответствующей ей нет. «Пред концом 4-й песни, внизу 278 лист. об. – как описывает ее архимандрит Амфилохий – изображен с воздетыми к верху руками Исаия; по правую сторону Исаии олицетворенная в человеческой фигуре вечерняя заря, поддерживая небо, яко свиток, начинающийся в правой руке. С другого конца неба олицетворенная утренняя заря поддерживает, имея в левой руке вроде факела, а в правой солнце. Эта фигура вся красная, и конец неба начинает краснеть от факела. Подписи: зоря вечерняя – зоря утреняя – Исаия». В Парижской Псалтири тоже три фигуры: пророк Исаия молится, стоя между двумя фигурами: направо от него женская, в виде Дианы, с развевающимся высоко над головой покрывалом, надписано по-гречески: νύξ (ночь); налево – маленький мальчик с факелом, надписано: ὂρθρος (рассвет). Другая русская миниатюра состоит из слияния двух миниатюр редакции Парижской, но слияние это произошло еще ранее, в редакции Лобковско-Хлудовско-Барберинской, откуда уже и заимствована миниатюра русская, однако не прямо, а при посредстве какого-то другого перевода, в котором удержалась одна отличительная подробность редакции Парижской. А именно, в русской Псалтири, по описанию архимандрита Амфилохия: «в конце третьей кафизмы, после поучения о молитве, нарисован сидящим в задумчивости Давид, без царской короны, с гуслями в руках. Подле него два козла бодаются, а два барана как бы слушают его музыку. По правую сторону его изображен он же сидящим на льве, с поднятой палкой или чем-то похожим на дубинку, которой вероятно хочет убить его. По левую сторону Давида сидит кто-то близ дерева, и что делает, по стертости красок, трудно отгадать». В Парижской Псалтири этот сюжет еще разделен на две миниатюры: на одной миниатюре изображен играющий на лире Давид, окруженный своим стадом, а на другой он же прогоняет диких зверей от стада. Олицетворения Мелодии, Силы и др., коими украшены парижские миниатюры, уже опущены как в русской редакции, так и в Лобковско-Хлудовско-Барберинской; однако, только в русской удержано олицетворение Горы Вифлеем (по Амфилохию: «сидит кто-то близ дерева»), коего уже нет во второй греческой редакции46.
Итак, русская Псалтирь XIII–XIV века своими миниатюрами восходит к ранним редакциям византийским. Во многих подробностях следы древнехристианской иконографии неоспоримы. Так, например, голова царя Фараона, коему Иосиф толкует сон, окружена нимбом (перед 104 псалм., лист 189 об.). Не смотря на то, этот замечательный памятник русской иконописи предлагает, вместе с древними преданиями византийскими, и притом в одних и тех же миниатюрах, и очевидные влияния Запада.
На 26 листе изображено Распятие Господа: по сторонам Божия Матерь с Иоанном Богословом и сотник Лонгин с воинами; внизу два саркофага: из одного восстают цари Давид и Соломон, из другого еще две фигуры, над которыми подписаны их имена: Карин и Лицеош. Эта последняя подробность взята из апокрифического Евангелия Никодимова; у католиков довольно рано была она освящена авторитетом церковного предания47 и, как оказывается из разбираемого мною памятника, была принята и нашей православной иконографией; но, основываясь на приведенной надписи, надобно несомненно полагать, что в эту миниатюру, а может быть и вообще в иконописную редакцию этой Псалтири, попала она из источника латинского. Ибо Лицеош48 есть не что иное, как искаженная латинская форма Leucius, который по греко-русскому календарю соответствует форма Левкий, как и значится она в месяцеслове Остромирова Евангелия 1056–1057 г., лист 244 об. Замечательно, что это западное влияние встречается здесь в миниатюре, которая, несомненно, византийского происхождения, как явствует из греческой надписи над распятием: σταύρωσις.
Кроме следов, оставленных в тексте этой надписи, западное влияние отразилось в подробностях культурного свойства. Именно, в миниатюре (лист 1 об.), имеющей содержанием, как царь Давид составляет псалтирь, и он сам и некоторые из окружающего его хора музыкантов играют на инструментах западного происхождения и, во всяком случае, отступающих от древнехристианского и византийского предания. Один играет на скрипке, держа ее кузовом на плече: левой рукой прижимает лады не вверху, как теперь, а внизу, и правой – поводит смычком по струнам. Царь Соломон играет на струнном инструменте, выработанном на Западе в XII веке из древней формы crout’a в позднейшую ротту или хротту; сам же Давид держит левой рукой organistrum, в виде гитары, а правой – повертывает ручку этого инструмента49. Самая замена псалтири в руках царя Давида даже скрипкой со смычком, встречающаяся еще в византийских миниатюрах50, указывает на свободу восточной иконографии в отступлении от предания в бытовых подробностях. По православному, Давид должен играть на гуслях; ими в русской иконописи заменяется античная лира, которую еще употребляет он в миниатюрах и Парижской и Лобковско-Хлудовской Псалтырей.
Такого же содержания миниатюра, под заглавием: Лик Давыдов51, в Козьме Индикоплове, в Макарьевской Четьи-Минее, август, 1542 г. (Синод. библ. № 997) – дает царю Давиду именно гусли; но, вместе с тем, вносит она другую новизну, тоже под очевидным влиянием Запада. Внизу, под престолом царя Давида, стоят два инструмента, представляющие древнейший вид органа, более первобытный, нежели тот, какой приводит, Куссемакер по миниатюре Эдвиновой Псалтири XII века52: вместо трубок, по русской миниатюре 1542 г., поднимаются из машины рога, как самый употребительный из духовых инструментов в музыкальном лике царя Давида; приводят же машину в действие не палками, как в английской Псалтири, а какими-то орудиями, вроде больших ключей. Каково бы ни было происхождение и развитие музыкального органа, но, во-первых, ему не место в традиционном сюжете Лика Давидова, а, во-вторых, по самой надписи в русской миниатюре 1542 г., инструмент этот носит на себе печать западного влияния. Из двух его экземпляров, на одном надписано: кимваны, а на другом по латинскому произношению: цымбаны. Итак, традиционный кимвал, т. е. две металлические тарелки, коими ударяют друг в друга, инструмент, составляющий издревле необходимую принадлежность Лика Давидова, заменяется, наконец, органом, инструментом усвоенным католической церковью, по отвергнутым русской, и сверх того дается ему латинизированное название.
Хотя в нашей письменности от XIV века сохранилось сказание о том, как Давид составил лик играющих на инструментах, заимствованное из Иосифа Флавия, которое служит как бы толковым текстом для обеих этих миниатюр XIV и XVI века53, но слишком общие, неопределенные названия инструментов, как мы видели, дали повод миниатюристам ко введению в Давидов Лик инструментов западных. Потому у нас есть еще одна редакция этого же сюжета, замечательная тем, что она возникла в интересах иконописного пуризма и тем самым как бы обличает в западничестве обе вышеприведенные редакции. Это именно в одной из миниатюр лицевой Псалтири русского письма XVI в., принадлежавшей некогда московскому купцу Стрелкову54. Миниатюра носит заглавие: Давид царь состави псалтырь с лики. Соединяет она два сюжета, которые в Хлудовской Псалтири XIII–XIV века разделены, именно, во-первых, лик музыкантов и, во-вторых, Давида, не играющего на инструменте, а пишущего свои псалмы. Обыкновенно, в последнем изображении помещается Давид только один, без посторонних лиц, как это принято и в Хлудовской миниатюре, л. 6 об. Но в Стрелковской, кроме Псалмопевца, держат в руках свитки псалтири и другие лица по обеим его сторонам, а наверху, из-за зданий, высовываются фигуры, трубящие в рога. Других инструментов, кроме рогов, нет. Над лицами внизу, держащими свитки, подписано: Мудрецы и Творцы. Очевидно, музыканты удалены на второй план и лишены неудобного для традиционной иконописи разнообразия в своих инструментах.
Выше я говорил, что национальная сущность нашей иконографии состоит в тех драгоценных вкладах, которые она должна со временем внести в археологию и историю иконографии народов западных. Разобранный мною так называемый Лик Давидов по трем русским редакциям может тому служить одним из множества примеров, а вместе с тем и доказательством самых ранних предрасположений русского искусства к восприятию им влияний западных, которые оно претворяло в здоровые, питательные соки для своего организма.
Соответственно этим предрасположениям, с давних времен художники и ремесленники носили на Руси западное название мастера, сокращенное из лат. magister или через южнославянскую форму майстор, от византийского μᾳίστορος, или через немецкое meister, древне-итальянское mastro, ново-итальянское maestro, древне-французское maistre, и т. д. В наших летописях, а именно: по Лавр. списку 1377 г. мастерами называются строители и архитекторы (Полн. Собр. Русск. лет. I, 173), по Ипат. Списку XV века – седельники, лучники, кузнецы железа, меди и серебра и другие ремесленники (II, 196); в Стоглаве мастерами называются и живописцы (гл. 43). В Геннадиевской Библии, о которой будет тотчас говорено подробнее, латинское magistratus переведено из текста латинской Вульгаты словом мастер, 1Пар., гл. 25, ст. 1.
Кроме неистощимого богатства иконографических сюжетов, расположенных у нас во множестве вариантов, другая отличительная национальная особенность русского искусства, а именно иконописи, как было уже мною замечено, состоит в ее теснейшей связи с текстом, до такой высокой степени, которой, при свободе художественной фантазии, Запад не мог достигнуть. Отсюда естественным последствием выводится то необходимое заключение, что если западное влияние подействует на текст, то вместе с тем оно должно будет отразиться и на русском искусстве.
В этом отношении факт громадной важности представляет нам Геннадиевская Библия, составленная в Новгороде в 1499 г. Это первое на Руси полное собрание всех книг Ветхого и Нового Завета, в систематическом порядке и с предисловием к каждой книге. Наибольшая и самая значительная часть книг Св. Писания внесена была в это собрание из наших древнеславянских переводов, а самый план и все остальное, чего не могли составители найти в имевшихся у них под руками русских материалах, было заимствовано ими и переведено из латинской Вульгаты и немецкой Библии, в старопечатных изданиях XV столетия. Таким образом, сверх древнеславянских переводов Пятикнижия, Псалтири, Нового Завета и мн. др., мы видим в Геннадиевской Библии, как выражается архиепископ харьковский Филарет: «в переводе с Вульгаты – книги Паралипоменон, три книги Ездры книги Неемии, Товии, Юдифь, Премудрости Соломоновой, две книги Маккавейские; с той же Вульгаты переведены пропуски в книгах Исаии, Иеремии, Есфири, в Притчах; предисловия в книгах переведены также из Иеронимовой Вульгаты, а некоторые из Немецкой Библии; книги расположены по порядку Вульгаты. Из сотрудников Геннадия в сем святом деле – заключает Филарет – ныне известны Дмитрий Герасимов и доминиканец Вениамин»55. Замечательно, что этот доминиканец родом был славянин.
Итак, от южных славян приняли мы и византийские миниатюры вместе с древнеболгарскими рукописями, и элементы нашего тератологического орнамента, который Виолле-ле-Дюк отсылает по принадлежностиболее к Индии, чем к Византии (стр. 81), с Афона же мы взяли и тот резной крест, которого орнаментацию он же признает в высшей степени индейской, принадлежащей крайним пределам Востока (стр. 85–86); от южных же славян брали мы и ранние предрасположения к Западу в тех иконописных позаимствованиях, для примера которых я указал на миниатюры Хлудовской Псалтири XIII–XIV века; наконец, опять славяне же в лице доминиканца Вениамина способствовали внесению в нашу древнюю письменность тяжеловесных вкладов из латинской Вульгаты и немецкой Библии. Хлынувшие на Русь, в течение всего XVII столетия, целые потоки западных влияний через Белоруссию, Литву и Польшу, были естественным последствием столько же успехов просвещения Московского царства, как и многовековых связей и сношений наших предков с соплеменными им славянами.
Впрочем, касаться элементарных сведений о Геннадиевской Библии и о многом другом, что вносится в учебники русской истории и литературы, было бы крайне неуместно в таком ученом журнале, как «Критическое Обозрение», если бы я не был вызван, на то самым содержанием книги, которую разбираю.
Геннадиевская Библия дает нам точку отправления в истории русского орнамента XVI и XVII века, поскольку орнамент этих столетий, сообща с литературой и живописью, подчиняется влиянию западному. Об этом орнаменте, как о пограничной черте, отделяющей древнерусский стиль от позднейшего, было уже упомянуто в моей первой статье.
Но, чтобы определить значение сказанного орнамента, надобно вопрос обобщить в кратком историческом изложении, имеющем целью характеризовать те стили, которые господствуют в русской рукописной орнаментации в XV, XVI и XVII столетиях; а так как в этом позднейшем периоде рукопись и старопечатная книга состоят во взаимном влиянии, то я непременно должен коснуться того же взаимного отношения и между орнаментацией рукописной и старопечатной.
Древний тератологический или чудовищный стиль с XV в. до конца XII в. был у нас заменен тремя стилями. Я называю их болгаро-сербским или византийско-славянским, фряжским или западным, и собственно византийским. Рассмотрю каждый в отдельности.
1) Стиль болгаро-сербский. Хотя он происхождения византийского и встречается и в рукописях, и в старопечатных книгах греческих, но преимущественно усвоен он в заставках южнославянских и русских рукописей, а также в славянских старопечатных книгах, изданных в Венеции, Кракове, Угровлахии и в южнославянских типографиях, потому и имеет право называться более болгаро-сербским или южнославянским, нежели византийским. С первого взгляда заставки эти напоминают стиль тератологический, особенно в угровлахийских изданиях: то же сплетение, только не змеиных хвостов, а ремней и веток; но звери, чудовища и человеческие фигуры отсутствуют. Не одушевленные живыми существами, сплетения эти можно бы было отнести к тем ранним византийским заставкам, из коих потом развивался наш стиль тератологический, мало-по-малу населяя переплеты изображениями животных и людей, если бы только этот болгаро-сербский орнамент не усвоил себе однообразной господствующей формы вплетающихся друг в друга кружков, иногда очень туго стянутых узлами, в один ярус или в два, даже и в три, и притом каждый из рядов или ярусов также друг с другом сплетаются. Иногда, но реже, заставка состоит из решеток, образуемых прямолинейными ремнями, которые, однако, по краям или сгибаются, или же закругляются, переходя в овалы. Что касается до заглавных букв, то, согласно стилю заставок, они состоят из ременных же сплетений, впрочем, не всегда.
Заставки с переплетенными кругами и изредка с решетками предлагают нам, например, следующие из южнославянских рукописей: в Московском Публичном Музее, из рукописей профессора Григоровича, Служебник сербского письма XV века, № 1713: с кругами в один ряд, притом две заставки из таких кругов имеют форму четырехугольника, в середине которого пустое поле с надписью заглавия; из Румянцевского собрания: № 123, Евангелие болгарского письма, XVвека, на лл. 62 и 297 – с кругами в один ряд; № 116, Евангелие позднейшего болгарского письма, перемешанного с русским, 1544 г.,на л. 1 – сплетенные круги в три ряда, на л. 145 – круги в два ряда; № 131, Евангелие XVI века, писанное в городе Дубне, принадлежавшем князю Острожскому, но письма южнославянского, на л. 14 – заставка сплетена из кругов в три ряда, которые так тесно связаны узлами, что только по большей или меньшей густоте тени обнаруживают себя круги; на л. 94 – тоже в три ряда, но ряды сплетены более редкой плетенкой и самые круги выступают виднее; на л. 146 – решетка из ремней, которые по обеим сторонам на краях сплетаются. Но самое замечательное в истории этого орнамента то, что у южных славян в более простой форме, но тоже – сплетенных вместе кругов, является он гораздо раньше, а у нас, вместе с более сложными формами, оказывается даже в XVI веке. А именно, такая точно (рис. 47) заставка, изданная архиепископом Саввой56 из Хронографа Георгия Амартола, по Синодальной рукописи № 148, сербского письма, составленной на Афоне в 1386 г., повторяется у нас, почти черта в черту, в московской письменности ровно через двести лет, именно, в Хронографе же по рукописи 1585 г., писанной в Москве (в Московском Публичном Музее, № 598, л. 14)
Заставки эти очень рано перешли в старопечатные книги, которые в свою очередь могли оказать влияние на орнамент рукописей,

47. Заставка из Хронографа Георгия Амартола 1386 г. (Моск. Синод. Библ. № 148)
переписываемых с этих книг, и именно у южных славян, на Афонской горе и в Угровлахии. Так, например, заставки из превитых кругов в один ряд встречаются в печатных книгах: в Краковском Шестодневе, иначе называемом Октоихом 1491 г.; в Цетинском Октоихе 1494 г.; в Краковской Триоди Постной конца XV века57; В Венецианском Служебнике 1519 г., – в среднем круге с щитом, на коем монограмма Божидара; В Псалтири Следованной, изданной в 1544 г. в Милешевом монастыре в Герцеговине; в Венецианской Псалтири Следованной 1570 г.58 Сплетенные круги в несколько рядов составляют особенность заставок в угровлахийских старопечатных книгах. В Евангелии 1512 г. еще вместо кругов овалы и неправильные узлы, и все вместе смешано и не разделено на ряды59; но в Апостоле половины XVI века явственно выведены уже круги с узлами к центру и в три яруса60. Посреди обеих заставок помещено по птице, но свободно от сплетений, – в первой на белом поле, с водруженным крестом около, а во второй птица окружена лавровым венком. Наконец, для заставок с решетками, которые внизу и вверху и по бокам скругляются овалами, укажу на Часовник или Часослов, изданный в Москве в 1565 г.61 Замечу мимоходом, что эти московские заставки представляют большое сходство с орнаментами старопечатных немецких книг, например, в OfficiaCiceronis, deutsch. Franct. AmM. 1565 г., орнаменты в конце оглавления перед 1-й стр. и на стр. 26.
В заключение полагаю необходимым присовокупить, что та же самая заставка из перевитых кругов, в один ряд, с узлами, усвоенная и выработанная южными славянами, на Афонской горе и в старопечатных изданиях, упомянутых выше, является и в рукописях греческих, позднейших, даже XVII века, например, (рис. 48) в Хронографе 1622 г. по византийской рукописи в Синодальной библиотеке, № 45762.
Такова история орнамента, постановленного мною под 1-й рубрикой. Я не настаиваю не его названии. Будет ли это южнославянский, болгарский или сербский, греко-славянский или афонский, герцеговинский, краковский или угровлахийский, но, во всяком случае, он не составляет исключительной особенности русского искусства и русского стиля и, само собою разумеется, не имеет решительно никакой прикосновенности к специальным, местным отношениям России к татарам и к Азии вообще, так как он с Балканского полуострова зашел даже в издания венецианские. Но так как орнамент этот господствовал и в нашей письменности в течение XV века, то ему отведено видное место в издании г. Бутовского, от листа L по LXVIII, а частью XVI в. – от листа LXXXV по LXXXVIII.
Теперь послушаем, как об этом орнаменте отозвался г. Виолле-ле-Дюк и как отнесся он к тому богатому материалу, который предлагали ему и Россия, и южные славяне, и Афон, наконец, даже типографии Кракова, Угровлахии и самой Венеции. К крайнему моему удивлению, знаменитый французский архитектор вовсе не коснулся этих разнообразных материалов, так что остается вопросом даже, знает ли он их или нет; вместо того, он ограничивается только изданием г. Бутовского и, указывая на приведенные там снимки, полагает такое решение:
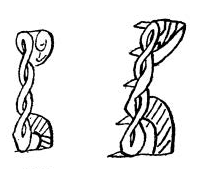
48. Заставка из греческого Хронографа 1622 г. (Моск. Синод. Библ. № 457)
«Таким образом, можно себе дать отчет о преобразовании, происшедшем в школе русского искусства от падения татарского ига до начала западных влияний. Эта школа, вполне пользуясь элементами азиатскими, коими в обилии была она снабжаема, оказывает стремление мало-по-малу возвратиться к стилю византийскому. Таким образом, в указанном издании (т. е. г. Бутовского) образцы, приведенные на таблицах от L по LVII, еще глубоко проникнуты характером азиатским, на таблицах же LVIII, LIX, LXIX воспоминания стиля византийского очевидны» (стр. 123).
Так как вышеприведенная мною орнаментация южнославянских рукописей и старопечатных книг та же самая, что и в указываемых г. Виолле-ле-Дюком таблицах от 50 по 57, по изданию г. Бутовского63, то и о всех тех, упомянутых мною заставках болгарских, сербских, а также в изданиях краковских, угровлахийских, венецианских, надобно было бы сказать словами французского архитектора, что они – «sont profondement pénétrées encore caractère asiatique» (стр. 123).
Я не спорю о самом выражении, которым французский автор определяет этот орнамент. Пусть он будет азиатский. Мне это все равно: но дело в том, что он столько же принадлежит России, как и южным славянам, распространившим его в Угровлахию, Краков, Венецию. Это исторический факт, документально засвидетельствованный письменностью и книгопечатанием.
Итак, в характеристике и этого орнамента, господствовавшего у нас в XV в., г. Виолле-ле-Дюк обнаружил те же недостатки своего вовсе ненаучного метода, какие мною были уже замечены в его определении русского орнамента XIV века.
Крайнее незнание дела, за которое он взялся, привело его к нелогическому выводу в приписании России того, что в той же мере, если еще не больше, принадлежит южным славянам, Афону и иноземным типографиям.
Но будем продолжать о стилях.
2) Стиль фряжский, или западный. Геннадиевская Библия 1499 г., содержащая в себе такой обильный вклад из латинских и немецких источников, вместе с тем, предлагает нам (рис. 49) и в своей заставке самый замечательный образец стиля фряжского, который хотя еще и не вполне освободился от некоторых приемов традиции византийской, но уже решительно отличается столько же от русского орнамента в заставках XIV и XV века, сколько и от византийского, вновь получившего у нас господство в рукописных украшениях XVI века. В заставке Геннадиевской Библии64 по золотому фону из одного корня идут четыре ветви зеленого куста: две крайние широко раскидываются по обе стороны со своими цветами и листвой, а две средние образуют овал, в котором на седалище восседает Моисей перед столом и пишет книгу. При корне этого куста изображена какая-то красная масса, которая в виде пламени расходится красными же лучами, подернутыми по концам серебром, будто языки пламени: подробность, может быть, намекающая на неопалимую купину. Фряжский стиль этой заставки, имеющий вид как бы целой картины, а не узора, проявляется в двух очевидных признаках, отличающих его от стиля византийского. Во-первых, вместо геометрических линий, коим постоянно подчиняются в византийских заставках ветви, листва и цветы, здесь мы видим более натуральное представление свободно раскидывающейся растительной природы, какое замечается в украшениях от руки и в ксилографических орнаментах западных инкунабул. Во-вторых, усвоив себе перегородчатый стиль византийской эмали, рукописный орнамент византийский, как он оказывается еще и в русских рукописях XVI в., отделяет одну краску от другой перегородками, и тем лишает колорит естественного перехода в его оттенках и нарушает природу изображаемого растения, проводя вдоль всего ствола резкую линию перегородки или разнимая естественный состав цветка таким же резким разобщением.
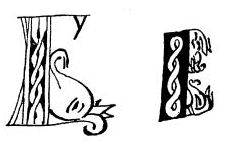
49. Заставка из Геннадиевсокй Библии 1499 г. (Моск. Синод. Библ. № 915)
Вместо того, Геннадиевская заставка, без всяких перегородок, представляет нам сочные ветви, листву и цветы, раскрашенные с переливами светлотени, усиливаемой кое-где серебряными штрихами, что придает всему изображению рельефность, которой не знала заставка византийская65.
Трудно и едва ли возможно решить, к какому именно из западных оригиналов присматривался мастер разобранной мною заставки в Геннадиевской Библии; но, так как составители этой рукописи пользовались старопечатными изданиями Вульгаты и немецкой Библии, то и для мастера могли служить руководством те же инкунабулы. Как бы то ни было, но изображенные им растения сильно приближаются к стилю и манере немецкой, а в некоторых подробностях заметно сходствуют с орнаментом Гуттенберговой Библии 1455 г. и другой Майнцкой же Библии 1462 г.66
Влияние западного орнамента инкунабул оказалось в двух направлениях: сначала на Геннадиевской заставке, с которой, надобно заметить, ничего общего не имеет фряжский стиль старопечатных Московских книг, и потом, независимо от этой заставки, оно оказалось непосредственно на изданиях Московской типографии, начиная с первопечатного Апостола 1564 г. И замечательно, что в этой книге мы открываем очевидные следы орнамента Библии Гуттенберговой, именно в изображении перевивающихся листов, и особенно в одной характеристической подробности, которая с некоторыми видоизменениями господствует потом вообще в Московских старопечатных книгах: это стилистически измененная фигура виноградного грозда в гнезде из листвы с завитками, и притом окруженного изгибами ветки67.
Одновременно с нашим орнаментом, и южнославянский подчиняется влиянию стиля фряжского и, что особенно замечательно – в некоторых рукописных заставках представляет замечательное сходство со старопечатными Московскими, значительно опережая эти последние по времени. Таковы, например, в упомянутом уже выше Болгарском Евангелии XV в. в Румянц. Музее, № 123, на лл. 236 и 313.
По прямой связи рукописи с печатной книгой, наш рукописный орнамент второй половины XVI в. и в течение XVII в. постоянно и сильно подвергался влиянию фряжской листвы старопечатных Московских изданий.
Такова история фряжского стиля в русском орнаменте, начиная от Геннадиевской Библии 1499 г. В соответствие с этим стилем, вся история русского просвещения в XVI и XVII столетиях, в литературе и искусстве, представляет нам непрерывный ряд фактов, отмеченных западными влияниями, которые, наконец, так блистательно были оправданы в деле русского искусства Ушаковым и его школой, – столько же в иконописи и даже в ее художественной теории, сколько и в гравюре, успехи которой у нас объясняются тем, что главными проводниками западного влияния были тогда иноземные печатные издания, как предмет более удобный для перенесения. Вместе с тем, и русский иконописный Подлинник должен был расширить свой традиционный объем и внести в себя массу иноземных вкладов с Запада, в связи с Минеями Димитрия Ростовского, с Мадоннами западного культа и многое другое68.
Теперь обращаюсь к Виолле-ле-Дюку. Ничего этого он не знает; в противном случае, аббат Мартынов не стал бы в своей рецензии распространяться о западном у нас влиянии в XVI и XVII вв. Что же касается до фряжского орнамента, то, рассматривая его по изданию г. Бутовского, французский архитектор относится к нему, как будто к каким мануфактурным узорам женского наряда, а не к заставкам с заглавными буквами, составляющим неотъемлемую принадлежность первопечатных церковных книг и оттуда уже перешедшим в рукописи. Одну из таких рукописных заставок печатного происхождения69 приводит он на табл. XVI иговоритследующее: «En examinant notre planche XVI, on est choqué par l’étrangeté de ces ornements qui rappellent les bijoux émaillés provenant des ateliers de Nuremberg de la fin du XVI siècle» (стр.125). По предложенному мною О Геннадиевской Библии 1499 г. и о первопечатном Московском Апостоле 1564 г. пусть оценивает сам читатель тот оригинальный метод, который знаменитый француз выдает в своей книге за настоящий научный.
3) Стиль византийский. Он возродился в орнаменте русских рукописей в XVI в.и господствовал в XVII в. Самое важное, что следует заметить о его возрождении в эту позднюю эпоху, – именно то, что одновременно с ним в нашей письменности показались древнеболгарские большие юсы и некоторые другие особенности южнославянского письма, указывающие на Афон, как источник этого возрожденного у нас в XVI веке византийского стиля. Впрочем, этот стиль господствует в наших рукописях пополам с фряжским, заимствованным из двоякого источника: или, во-первых, из Московских старопечатных книг, или, во-вторых, независимо от них, из каких-то других западных оригиналов, особенно в бордюрах наших заставок, состоящих из гирлянд, листвы и разных цветов, иногда на самых тонких, в одну линию, веточках и стебельках: орнамент, очевидно, взятый с бордюров, коими окружаются страницы многих старопечатных изданий. Иногда в одной и той же рукописи рядом встречаются заставки и византийского и фряжского стиля, или же в одной и той же слияние обоих вместе. Так, например, Псалтирь Следованная в Московском Публичном Музее, № 450, по рукописи XVI в., южнославянского письма, с большими юсами и с ь вместо ъна конце слов, содержит в себе 42 заставки; некоторые писаны на золоте. Из этого числа 11 заставок византийских, с византийскими же антефиксами; 4 византийских, с бордюром кругом из тонких усиков, выведенных пером (напр., л. 353); 4 византийских, с фряжской листвой кругом (напр., лл. 366:410); 7 фряжских заставок, только не из Московских старопечатных книг; из них 3 подходят к Геннадиевской 1499 г. (именно на лл. 340, 535 и 609); 2 фряжские, сходные с Московскими печатными (напр., л. 183), и одна совсем печатная, вырезанная из какой-то книги и наклеенная (л. 258); 2 заставки представляют, так сказать, слияние византийского стиля с фряжским, именно, на лл. 200 и 642; наконец, 11 заставок из тех же элементов византийско-фряжских, с попытками на самостоятельность узорочной ткани (именно, лл. 46, 191 об., 282 об., 298 об., 390, 417, 462, 508, 523, 592:696). Что касается заглавных букв, то они представляют любопытную смесь стиля тератологического с фряжским Геннадиевской Библии, Московских старопечатных книг и источников западных, – например, лл. 41 об., 44 об., 45 об., 46, 52 об., 63 об., 68, 83 об., 91, 129, 450. Разумеется, животные писаны натуральнее, чем в орнаменте XIV в.; слич. также человека, трубящего в рог, на л. 49. Иногда фряжский орнамент Московских старопечатных книг вставляется, как заплата, посреди византийской заставки, но уже значительно изменившей своему первоначальному стилю перегородчатой эмали, например, у г. Бутовского на л. XCVII. Любопытный образец, так сказать, химического слияния элементов византийских с фряжскими предлагает нам орнамент показаний, или рубрик,
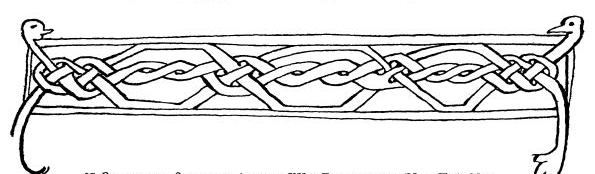
50. Заставка из Филаретовского Евангелия 1537 г. (Моск. Синод. Библ. № 62)
заглавных букв (рис. 50) и заставок, окруженных фряжским бордюром, в так называемом Филаретовском Евангелии, по рукописи 1537 г., в Синод. Библ. (№ 62)70.Замечательно, что Евангелие это опять южнославянского письма, с большими юсами и с ь вместо ъ на конце слов, а также с флексиями древнеболгарской грамматики. Возрождению и у нас, и у южных славян византийского стиля в связи с фряжским соответствовало и возрождение древней славянской грамматики, которая распространяла в нашей письменности XVI в. болгаризмы и сербизмы.
И в такого рода орнаменте Виолле-ле-Дюк упорно продолжает видеть Индию и Персию. Что бы сказал южнославянский писец Филаретовского Евангелия, может быть, с Афонской горы, если бы послушал, как издевается над свято-чтимым им делом какая-то французская книга в таких необдуманных выражениях: «Le retour à l’art byzantine est marquee dans ce dernier ornement (pl. XV) avec une harmonie de tons plus brillante et certains détails qui rappellent les dessins hindous et persans. C’est plus tard seulement que le gout allemande vient se mêler de la manière ia plus fâcheuse à cette ornementation remarquable par son unité d’allure et ses harmonies» (стр. 124).
Итак, и здесь, как во всем мною рассмотренном выше, та же органическая, тесная связь русского орнамента с письменностью, с южными славянами, Афоном и с развитием нашей литературы и иконописи.
Много говорил я об орнаменте потому, что он дает содержание большей части книги г. Виолле-ле-Дюка, проходит по всем ее отделам, как основная, связующая нить. Теперь перехожу к архитектуре; а так как об этом предмете у меня под руками монография графа С.Г. Строганова, то обращаюсь к этому сочинению, заключая свое мнение о рецензии аббата Мартынова следующими двумя замечаниями. Во-первых, где говорит он от себя, не соглашаясь с Виолле-ле-Дюком и опровергая его, там излагает он солидные сведения по истории русской культуры и просвещения, и здравые взгляды на русское искусство, как, например, об истории русского иконостаса, по исследованиюг. Филимонова (стр. 59); где же соглашается с разбираемой им книгой, там по большей части впадает в ошибки, как, например, о русском орнаменте XV в. (стр. 39). Во-вторых, попытка достоуважаемого аббата исправить книгу французского архитектора, дополнивши ее, чем следует, и, устранив из нее уже сильно вопиющие промахи и несообразности, решительно оказалась тщетной. Из рецензии явствует, что книга эта неисправима. Здравая критика, налагая на нее руку, разрушает ее до основания. Потому почтенному аббату следовало бы написать для французской публики совсем новую книгу о русском искусстве.
Впрочем, как знаменитый архитектор и реставратор Парижской Божией Матери, должен же был Виолле-ле-Дюк что-нибудь дельного сказать, по крайней мере, о русской архитектуре. Не будучи специалистом в этом предмете, я отказываюсь от личного мнения и буду ссылаться на суждения людей, более меня сведущих.
Говорят, что его чертежи сводчатого покрытия с кокошниками в конструкции Василия Блаженного и Рождества Богородицы в Путинках заслуживают внимания; что же касается до исторического и теоретического объяснения этих чертежей, то оно страдает односторонностью той же азиатской теории, лишенной, как мы уже видели, всякого научного метода. «On y retrouvait les dispositions générales byzantine, géorgienne ou arménienne – говорит он: mais avec une physionomie asiatique des plus prononcées. Ces coupoles en forme de tours présentaient des séries d’arcs en encorbellement à l’extérieur, des renflements qui accusaient également une influence hindoue» (стр. 108–109), и далее опять те же только азиатские характеристики: «il est impossible de ne pas trouver au moins une réminiscence de certains détails de l’architecture hindoue» (стр. 115), «une influence asianique centrale incontestable» (стр. 116); одним словом, почти те же фразы, какими автор определяет азиатство нашего рукописного орнамента. Относительно Василия Блаженного характеристика эта – вовсе не новость; потому граф Строганов замечает: «в 1817 г. вся церковь, как снаружи, так и внутри, была совершенно возобновлена, причем все наружные линии получили окраску самого резкого причудливого характера. С этого то времени и укоренилось мнение, будто церковь Василия Блаженного в Москве произведение индо-монгольского типа» (стр. 13).
Может быть, в ее архитектуре, с очевидными признаками национального русского вкуса, действительно есть некоторая примесь азиатская; но, чтобы держаться здравого научного метода, французский архитектор на пути своих исследований должен бы был с особенным вниманием остановиться на этнографическом и историческом рассмотрении двух предметов.
Во-первых, характеризуя качества русского стиля в каменных зданиях, Виолле-ле-Дюк должен бы был непосредственно вывести его из архитектуры деревянной, в которой собственно и выразилась русская национальность. Но о деревянных постройках вообще у разных народов, по различию племен и по историческому развитию архитектуры, Виолле-ле-Дюк обнаруживает самые слабые, сбивчивые сведения. Это указал Дарсель в своей замечательной дельной рецензии на книгу французского архитектора71. Аббат Мартынов не упустил случая сослаться на авторитет Дарселя; что же касается до деревянного зодчества в России, то он исправляет и дополняет книгу французского ученого исследованиями Забелина и Даля72. Наконец, граф Строганов обвиняет г. Виолле-ле-Дюка в том, что в образец деревянных боярских палат XVI в. принял он, вместо настоящего памятника русской старины, какую-то новоизобретенную подделку, составленную неумелой ученической рукой. Приводя в своей книге эту выдумку новейшей фабрикации, реставратор Парижской Божией Матери дает следующее объяснение: «Mais il est bon de donner l’aspect de ces palais moscovites élevés en bois et datant du XVI siècle. La figure 57 (т. е. эта самая подделка) présente un échantillon de ces demeures de boyards, d’après des fragments recueillis de tous côtés» (стр. 145–146).Во-первых, где этот рисунок взят, потом – из каких именно фрагментов были собраны, и, наконец, – почему именно это измышление вчерашнего досуга долженствует представлять зрелище боярских хором, и именно XVI столетия? Вот настоятельные вопросы, которые без решения оставить было нельзя. Но знаменитому французу нет до них и дела. В ответ на такое бесцеремонное отношение и к русской старине, и к научному методу, граф Строганов приводит в рисунке действительный исторический памятник 1565 г, именно Сольвычегодский дом именитых людей Строгановых – табл. IX, – и присовокупляет следующее: «Рисунок дворца, здесь изображенного, есть подлинный снимок; тот же, который был послан г. Виолле-ле-Дюку, есть чистый вымысел. Это ничего больше, как неумелая реставрация, сделанная, по всей вероятности, учеником рисовальной школы в Москве» (стр. 11). К этому я прибавлю еще одно замечание. Если и имеет Виолле-ле-Дюков рисунок некоторое сходство, то – не с Сольвычегодским домом половины XVI в., а с Коломенским дворцом царя Алексея Михайловича, 1640 г (у графа Строганова рисунок на той же табл. IX). Почему же знаменитый архитектор этот стиль половины XVII века отодвинул назад на целое столетие? Согласно ли это с правилами здравого научного метода?
Во-вторых, указывая на подъем национального русского гения в каменных строениях XVI и XVII столетий, вызванный воспоминаниями каких-то индейских прототипов и вдохновениями (стр. 133–134), г. Виолле-ле-Дюк, для ограждения своей теории от недоумений и возражений, очень естественно всякому приходящих в голову, должен бы был с особенной тщательностью исследовать и обсудить вопрос об обоюдном влиянии иностранных зодчих, руководивших постройками, и русских каменщиков, которые их выводили. Даже о кремлевских башнях и стенах, заведомо сооруженных архитекторами западными, автор выражается так: «L’Asie avait aussi, dans cette architecture militaire, une grande part» (стр. 120). Граф Строганов, в недоумении при виде той малой доли, какая приписывается во французской книге западному влиянию на русскую архитектуру, признал необходимым предложить хронологический перечень иностранных архитекторов, сначала из Италии, от 1475 по 1519 гг., потом, с XVII столетия, из Германии и Голландии, и к этому перечню присовокупил указатель самых зданий, ими сооруженных. Историческое развитие совершается посредством внутреннего процесса, который перерабатывает чужое, приспособляя к собственным потребностям народной жизни. Откуда бы ни взялся башенный стиль Василия блаженного, с Запада или Востока, и при том, из далекой Индии или соседней Казани, отличающийсяперспективой своей группы воздымающихся куполов, стиль этот должен был выработаться у нас исторически, последовательно. Граф Строганов усматривает эту органическую последовательность в истории русских колоколен, состоящей в связи с увеличением веса колоколов. «Появление их – говорит автор – приписывается концу XVI столетия. Вскоре употребление колоколен сделалось общим; оно стало предметом усердия и соревнования между городами. Потребность в колокольнях возбудила новый род архитектурных построек, и, весьма может быть, они-то и послужили первой школой для русских архитекторов. Не имея возможности черпать из арийских источников, лишенные достаточных сведений, чтобы, например, приводить требуемое здание в гармоническое архитектурное сочетание с типом существующей уже церкви, русские строители ограничивались копированием башен, построенных в московском кремле итальянцами… В середине XVII столетия формы куполов начинают принимать фантастические извращенные линии и появляться колокольни, лишенные всякой пропорции с церквами, которым они принадлежат. Влияние башен московского кремля выказывается иногда самым оригинальным образом; самая церковь принимает иногда пирамидальнуюформу и делается тогда во всем схожей с колокольней. Постройки этого рода показались столь странными, что дальнейшее их производство строго было воспрещено патриархом в 1650 г.» (стр. 12 и 13).
Но что особенно бросает тень подозрения на архитектурную авторитетность г. Виолле-ле-Дюка, то это его взгляд на нашу суздальскую архитектуру XII века, именно на Покровскую церковь близ Боголюбова монастыря, 1158–1160 гг., и на Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме, 1194–1197 гг. Обе эти церкви позднейшего византийского стиля по своей конструкции, что же касается до порталов с романским выступом колонн и до внешнего убранства стен прилепами орнамента, то, после исследований того же графа С.Г. Строганова и графа А.С. Уварова, предложившего этот вопрос на обсуждение специалистам на первом археологическом съезде в Москве73, оказывается несомненным самое очевидное влияние Запада на эти наружные части храма. Чужеземность этого западного вклада в нашу суздальскую архитектуру оказывается в двух резко бросающихся в глаза фактах. Во-первых, элемент этот, очевидно, у нас пришлый, потому что не имеет внутренней органической связи с самой конструкцией храма и имеет значение только декоративное, как, например, полустолбики с арками, в виде прилепа, приложенные к самой стене: подробность, соответствующая действительной аркаде с галереей. В-вторых, эти романские орнаменты появляются в суздальских зданиях XII века, как случайное исключение, без предшествовавшей постепенной подготовки и без последствий, в историческом развитии нашей древней архитектуры. Уже в первой своей статье я заметил, что г. Виолле-ле-Дюк оставил без внимания исследования русских ученых по этому предмету. Я вовсе не имею притязания вменять в обязанность французу, чтобы он был непременно знаком с русской ученой литературой; только крайне удивляюсь, как мог столь знаменитый архитектор позволить себе такой промах, что не усмотрел западного романского стиля на наружных стенах суздальских церквей и отыскивал разные сирийские, персидские и индийские источники для их архитектурного орнамента74.
Во всяком случае, так как французский архитектор не очистил поля для своих исследований опровержением доводов упомянутых выше авторов в пользу несомненного влияния западного романского стиля на суздальскую орнаментацию, то следующую его характеристику этой орнаментации надобно признать если не совсем ложной, то по малой мере недоказанной: «Comme dansl’ornementation indienne et persane, l’artiste auquel est due cette composition (т. е. в орнаментах Дмитриевского собора) a eu le soin de garner tous les nus, de ne laisser entrevoir, dessous ces réseaux, que de très-petites parties des fonds. La sculpture plate, mais délicatement modelée, malgré la naivété du dessin, occupe également les surfaces, comme le ferait une passementerie. C’est là un parti tout oriental, développé sous un climat où la lumière du solei lest vive, où les brumes sont inconnues. Les manuscrits de cette époque, dus à des mains russes, et non à des artistes byzantins, présent une ornementation analogue, bien plutôt indienne et persane que byzantine» (стр. 69).
Во-первых, характеристика эта теряет уже половину своей годности, потому что суздальский орнамент архитектурный здесь сближен с рукописным, в котором, на основании всех приведенных мною исследований, отыскивать непосредственное влияние персидское, индийское и вообще азиатское – значило бы не иметь самых элементарных сведений в истории рукописного дела в древней Руси. Во-вторых, вместо того, чтобы брать на себя бесполезный труд и переносить под палящие лучи индийского и персидского солнца наш суздальский орнамент, не легче ли было и не ближе ли к истине объяснить его плоский стиль тем общеизвестным фактом, что древняя Русь, получив от Византии вместе с христианской верой и иконопочитанием отвращение к изваянным иконам, не могла выработать скульптурных приемов для воспроизведения статуи и высоко выпуклого рельефа. Плоское изображение есть отличительная черта столько же суздальских орнаментов, почему они и называются прилепами, сколько и русской иконописи, и рукописных украшений.
Таким образом, западный романский стиль в Суздале был подчинен местным условиям и привычкам, согласным с общим характером русского искусства. Потому действительно архитектурный орнамент суздальский имеет по стилю большое сходство с рукописным. Александр Македонский, возносящийся на грифонах, представляет будто условную фигуру из русской заставки тератологического орнамента, хотя по сюжету относится к общему источнику с приводимыми графом Строгановым и графом Уваровым изображениями из Базеля, Фрибурга, Ремагена и Венеции. Во всех последних изображениях корона или шапка (как в венецианском) надета на голову Александра как следует, согласно правилам скульптурной перспективы, а в суздальском, вместо короны или шапки, прибита над головой какая-то четырехугольная дощечка с рамкой, совершенно с тем же приемом плоской обронной работы, в каком над песьими головами Гога и Магога в одном лицевом Апокалипсисе XVI в. приставлены, а не надеты, короны особого условного же стиля75.
Оканчивая свою рецензию, я нахожу излишним делать общий вывод76. Читатель мог извлекать его сам из каждой подробности приведенных мной исследований и наблюдений. Я на них не скупился потому, что думал открыть истину, которой в книге г. Виолле-ле-Дюка не находил. Наука о русском искусстве еще в том периоде своих малых успехов, когда могут двинуть ее вперед не широковещательные назидания об азиатском величии России и о ее постыдном подчинении цивилизации европейской, а собирание материалов и самое тщательной их изучение во всех мельчайших подробностях.

51. Р –из Евангелия 1270 г. (Моск. Рум. Муз. № 100)
II. Славянский и восточный орнамент по рукописям древнего и нового времени
Собрал и исследовал Владимир Стасов. Издано с Высочайшего соизволения Императора Александра II. Выпуск первый. С.-Пб. 1884
Только что вышедший в свете первый выпуск с нетерпением ожидаемого любителями старины капитального издания В. В. Стасова содержит в себе орнаменты стиля восточнославянского из рукописей, писанных кириллицей, именно стили: болгарский XI–XVIII вв., сербский XII–XVIII вв., герцеговинский XIV в., черногорский XV в., боснийский XIV–XV вв., боснийско-патаренский XIV–XV вв., молдаво-влахийский XV–XVIII вв. и румынский XVII–XVIII вв.
В остальных двух выпусках будет предложено следующее: во-первых, окончание отдела восточнославянского из рукописей, писанных кириллицей, именно стиль русский, в его разветвлении по областям: южнорусский (Киев, Галич и пр.), северно-русский (Новгород, Псков и пр.), восточно-русский (Суздаль, Переяславль, Ростов, Рязань и пр.), западнорусский (Гродно, Вильна и пр.) и среднерусский (Москва и прилежащие к ней местности). Затем, стили западнославянские: орнаменты из рукописей, писанных глаголицей, – восточных XI–XIII вв. и западных XIII–XVII вв., и орнаменты из рукописей, писанных латинскими буквами: стили хорватский и дубровницкий, XIV–XV вв., чешский XI–XVI вв. и польский XIV–XVI вв. Наконец, стили восточные: греко-византийский VI–XVI вв., армянский X–XVII вв., грузинский XI–XVIII вв., сирийский VI–XV вв., коптский V–XIX вв., эфиопский XIII–XVIII вв., арабский VIII–XVII вв. и среднеазиатский. Объяснительный текст, имеющий предметом решение вопроса о происхождении и характере русского орнамента и архитектуры в связи со стилями прочих славянских племен, будет помещен в последнем выпуске издания.
Уже достаточно одного этого голословного перечня фактов в их систематической группировке, чтобы составить себе понятие о той громадной массе сведений, какие г. Стасов в течение более четверти столетия неутомимо собирал по публичным и частным библиотекам, как в России и в других славянских землях, так и в Западной Европе, постоянно входя в сношение с лучшими специалистами по этому предмету, о чем любопытные для библиографов сведения сам автор приводит в предисловии, помещенном в вышедшем первом выпуске. Я со своей стороны полагаю не лишним к сказанному там присовокупить, что уже очень давно г. Стасов, как специалист по орнаментике, пользуется известностью в европейской ученой публике, между прочим, например, по его сношениям со знаменитым Вествудом, который еще в 1868 году поместил его замечания об одной англо-саксонской рукописи ирландского происхождения, из Императорской Публичной Библиотеки, в своем великолепном издании: «Fac-similes of the miniatures and ornaments of Anglo-saxon and їrich manuscripts», на стр. 52–53.
Даже по одному тому, что вышло теперь в первом выпуске, можно ясно предвидеть, как успешно и мастерски, с проницательным тактом опытного знатока, сумеет г. Стасов привести в исполнение предложенную выше многосложную программу всего издания. Выпуск этот не только вполне оправдал, он далеко превзошел всякие ожидания, столько же по необычайной новизне богатых материалов, как и по умению ими пользоваться в характеристическом их подборе. Всякому, кто покушался до сих пор на ученый анализ русского рукописного орнамента, живо чувствовалась настоятельная потребность в более близком и подробном знакомстве с рукописными же орнаментами Болгарии, Сербии и других славянских земель, для того чтобы свое русское понять и уяснить себе как следует, на широкой основе общеславянской письменности, определив в большей точности, что в каждом из соплеменных орнаментов принадлежит к общему им всем кровному и наследственному родству, и какими характеристическими особенностями каждый из них предъявляет свои права на самостоятельность, так сказать, личного, индивидуального стиля, в той же мере, как из общей группы орнаментов так называемого романского стиля выступают в своей резко отчеканенной физиономии стиль ирландский, англо-саксонский, вест-готский, лонгобардский, карловингский. Исследователю русского рукописного орнамента не доставало самой почвы, чтобы твердо и надежно установить аппараты для своих наблюдений; ему не доставало перспективы, чтобы определить себе точку зрения, с которой предметы объявились бы в их настоящем освещении. И это чувство беспомощности особенно тяжелее становилось всякий раз, когда русская рукопись с орнаментами сама наводила исследователя на следы ее болгарского или сербского происхождения, как копия с южнославянского оригинала, как переделка или подражание, и тогда такая рукопись, в сличении с другими, более чистого русского происхождения, только раздражала пытливость исследователя, который, не имея в своем распоряжении беспримесных южнославянских данных, оставался без точки опоры в своих выводах о том, что в ее орнаментах заимствовано у южных славян и что переделано на русский лад или взято из каких-либо других источников. Да и вообще в русском орнаменте постоянно чувствовалось сильное присутствие южнославянского элемента, но в какой степени – это оставалось загадкой. Только теперь, благодаря первому выпуску изданий г. Стасова, наши недоумения и загадки разрешились, недоразумения и колебания переходят в успокоительное чувство достоверности и решительности. Многое из орнаментов, изданных на 40 таблицах этого выпуска, нам хорошо знакомо и из русских рукописей, но большая часть – совершенно ново и поразительно оригинально, а вместе с тем как-то близко к сердцу и воображению, как давно чаемое, жданное и желанное, будто вдруг явившийся перед вами незнакомец, о котором вы много наслышались и который, при всей оригинальной особенности своей фигуры, с первого же раза подкупает к себе вашу симпатию родственными чертами сходства с его семьей, которую давно знаете и с которой связаны узами привычки и дружбы.
Из сказанного уже само собой выводится заключение о том, чем существенно отличается строго ученое предприятие г. Стасова от роскошного сборника орнаментов, изданного В. И. Бутовским в 1870 году с практической целью – дать образцы рисунков для промышленных изданий, под громким заглавием «Истории русского орнамента с X по XVI столетие по древним рукописям». Так как орнаменты расположены здесь в хронологической системе, согласно заглавию, то и начинаются они на первых семи таблицах именно с десятого века, а не с одиннадцатого, раньше которого, как известно, нет ни одной рукописи ни русской, ни вообще славянской. Необычайность такого произвола извиняется тем соображением, что русский орнамент ведет свое начало от византийского, и потому сказанные семь таблиц содержат в себе не русские орнаменты, а византийские, из рукописей греческих, X и частью XI века. Но в таком случае почему было не начать «историю» и гораздо раньше, так как стиль византийский уже задолго до X века установился? Г. Стасов так и понимает этот стиль, и в своем издании ведет его от рукописей VI века, но отделяет его от письменности русской и вообще славянской, как один из элементов, вместе с восточными, вошедший в историческое развитие вообще европейского орнамента, а вместе с тем и славянского. Напротив того, г. Бутовский не только начинает русское византийским, но и в последующих столетиях время от времени к русским изделиям, более скромным, примешивает византийские, щегольские и пышные. Так, поместил он вслед за Изборником Святославовым византийские орнаменты XI и XII вв. на табл. XV–XVIII, далее, вслед за славянской Кормчей книгой и другими рукописями Румянцевского Музея – византийские же орнаменты XIII в. на табл. XXVIII, XXIX и XXXII. Допустим, что от издания, предпринятого в скромных видах способствовать успехам ремесленной промышленности, мы не в праве требовать строгой научной системы, но такой вопиющий произвол в смешении стилей должен вводить в заблуждение ремесленников, которые, соблазняясь щеголеватыми образцами византийскими, будут выдавать их в своих изделиях за русский стиль. В оправдание могут сказать, что таблицы с рисунками из греческих рукописей отмечены надписью: византийский орнамент. Но для неученого мастера этот термин теряет свой собственный, точный смысл, потому что сам издатель ведет историю русского орнамента от X века, выдавая на первых же таблицах рукописные памятники византийские за русские, когда этих последних не дошло до нас от того века. И это смешение для русских мастеров тем опаснее, что и без того у нас издавна привыкли в иконописи византийское соединять с русским, между тем как русский орнамент в своем историческом развитии, характеристическими особенностями выделяется из стиля византийского.
Посредствующим звеном, соединявшим древнюю русскую письменность с византийской, были рукописи болгарские, с которых наши писцы делали копии и вместе с тем усваивали себе более или менее и южнославянские переделки византийских орнаментов в заглавных буквах и заставках. Таковы, например, Остромирово Евангелие 1056–1057 гг. и Изборник Святославов 1073 г. Если и перед этими рукописями, и вслед за ними г. Бутовский поместил орнаменты византийские, то уже, в силу исторической последовательности, надобно было вспомнить об орнаментах болгарских и вообще южнославянских. Было бы несправедливо требовать, чтобы издатель «Истории русского орнамента» предпринял с этой целью отдаленные поиски по всем славянским землям, как это сделал г. Стасов; но все же он мог бы воспользоваться тем, что так легко было в Москве иметь под руками – из рукописей болгарских, например, «Саввину книгу» XI в. в библиотеке Синодальной типографии, из сербских – Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского 1263 г., из молдаво-влахийских – довольно значительное собрание в Московском Публичном Музее. Г. Стасов, предложив русский орнамент в родственной группе прочих славянских племен, столько же удовлетворил требованиям науки, сколько и в практическом отношении щедрой рукой богато снабдил нашу национальную промышленность оригинальнейшими образцами разных славянских стилей. Впрочем, в этом последнем отношении об издании г. Стасова будет не раз говорено потом, а теперь обращаюсь к рассмотрению самых орнаментов, помещенных в первом выпуске.
За неимением под руками объяснительного и руководящего текста, который, как сказано, будет издан впоследствии, пока следует теперь ограничиться разбором отдельных подробностей, не возводя их к общим результатам сравнительного исследования об их происхождении и историческом развитии, в отношении их к другим стилям восточных и западных народов. При этом больше всего буду иметь в виду показать и объяснить читателям все разнообразное обилие и оригинальность изданного теперь материала, а вместе с тем проницательность, опытную наглядку и обширные сведения специалиста, при помощи которых г. Стасов, как настоящий мастер своего дела, умеет выбрать из каждой рукописи самое характеристическое и существенное.
* * *
Впрочем, прежде чем войти в подробности, я должен, для самого уразумения их, сказать несколько слов о том, с каких точек зрения я буду смотреть на предложенный материал.
Рукописный орнамент славянских племен вообще, а вместе с тем и русский, составляет неотъемлемую часть письменности, которую украшает. Заглавная буква, будь она простая или узорная и раскрашенная, разделяет общую историческую участь со всем строчным письмом рукописи. Кириллица ведет свое происхождение от греческой азбуки, за исключением немногих букв, взятых из других источников, и вместе со строчным письмом славянские рукописи усвоили себе и орнаментацию из византийских оригиналов, с которых они предлагают перевод и в самых текстах.
При каких условиях и в каких отношениях к письму и другим отраслям ремесленного и художественного производства составился орнамент византийский, теперь касаться этого вопроса не следует – до издания г. Стасовым последнего выпуска, в котором для того будут предложены надлежащие данные. Теперь речь идет только о славянах, а они в своей письменности безусловно были подчинены оригиналам византийским. Всем хорошо известна роскошь и красота византийской орнаментации в эпоху, когда начиналась письменность славянская, от которой дошли до нас рукописи не ранее XI века. Заставки Остромирова Евангелия и Изборника Святославова принадлежат еще к искусству византийскому, а не к славянскому. Вместе с орнаментацией они взяты нами из болгарских оригиналов.
Но, рядом с изящным стилем византийским, болгарские же рукописи уже XI и XII вв. предлагают нам в издании г. Стасова, как будет указано ниже, и такие орнаменты, который по своей чудовищности и по самому происхождению своему ничего общего не имеют с византийскими и скорее могут быть сближены с самыми грубыми поделками раннего средневекового стиля, из которого потом от VII и до X века развивался на Западе орнамент, так называемый, тератологический, не только рукописный, но и в изделиях каменных, металлических и др. По принципу коснения и консерватизма, у славян до XII века и даже позднее могли сохраниться залежи того, что в ирландских рукописях уже в VII в. успело подчиниться развитию, хотя и в самых грубых, уродливых формах. Материалы, собранные г. Стасовым по разным восточным стилям, должны дать просвет на пути к решению того, что теперь остается загадочно.
Впрочем, вместе с оригинальной чудовищностью, те же славянские рукописи XI и XII вв. явственно свидетельствуют о своей зависимости от византийского орнамента, то в архитектонике самых букв заглавных, то в листе и в веточках, то в жгутах с перлами и в решетках и т. п. Далее – иногда грубо, невзрачно начерченные птица или зверь при столбике, составляющем часть буквы, кажутся неумело воспроизведенными копиями изящного византийского рисунка. А эти столь обычные в славянском орнаменте змеи, господствующие и вообще в орнаменте романском, разве не составляют также принадлежность и орнамента византийского, и в буквах, и в заставках?
Что примесь восточного элемента в византийском стиле существует, это давно уже археологами принято, но что именно восточное, откуда и как вошло оно в орнамент, должно будет решиться материалами, собранными г. Стасовым в последнем отделе его издания. И чем более окажется в византийском стиле примеси восточной, тем больше получится данных для объяснения тератологического элемента в орнаментах южнославянских, а вместе с тем и в нашем русском.
Помимо пути, данного историей самой письменности, объяснить рукописный орнамент славянский никоим образом невозможно. На Западе тератологический стиль одинаково господствует и в рукописях, и в прочих отраслях культуры, как уде замечено мною выше; то же надобно сказать и о связи рукописной орнаментации в культуре византийской с изделиями мозаичными, эмалевыми, с узорами ткани и проч. Чтобы письменность южных славян привести в прямую зависимость от местных условий самостоятельного их развития в искусстве и промышленности, пришлось бы, за неимением для того данных, прибегать только к догадкам. Немногие буквы, взятые в кириллицу из восточных алфавитов, каковы ж, ч, ш и некоторые другие, не дают исследователю права посягать на орнаментацию всех прочих букв кириллицы, скопированных с греческого. Предположить, что славянский писец, копируя рукопись, намеренно прибегал к пособию каких-либо образцов восточных для украшения букв заглавных, значило бы приписывать ему затеи мастеров позднейшего, склонного к эклектизму и произволу. В те далекие времена писание было дело великое, относиться к нему слегка и как-нибудь было немыслимо, и ни одному славянскому писцу не пришло бы на ум и не поднялась бы у него рука осквернить это святое дело какой-либо прикрасой из источника не чистого. Если он и выводил в своих орнаментах драконов, змей и разных чудовищ, то, не мудрствуя лукаво, делал это не по собственному измышлению, а пользовался уже готовым преданием, освященным для него книгой, с которой списывал или по которой учился и привыкал изображать такие фигуры.
Едва ли придется сделать значительные уступки в принятом здесь принципе и после произведенных г. Стасовым открытий, на которые он указывает в следующих словах предисловия: «Текст, назначенный сопровождать этот атлас, должен, по моему предположению, рассмотреть и, по возможности, решить вопрос о происхождении не только русского орнамента, но и вообще русского архитектурного стиля, столь тесно с ним связанного». Оригинальность русской архитектуры преимущественно состоит в стиле деревянных построек; но они по своему материалу очень недолговечны и могут предложить факты только позднего времени, тогда как русские рукописные орнаменты мы имеем уже от XIIи даже частью от XIвека. Если это так, то связь русской архитектуры с письменным орнаментом, по строго историческому пути, может быть объяснена только в пользу влияния письменного орнамента на архитектуру, хотя бы и безграмотного происхождения, в силу того же принципа, по которому исследователи открывают явственные следы письменного влияния в духовных стихах и даже в былинах безграмотного простонародья. Сверх того, русский письменный орнамент состоит в родственной связи с южнославянским, как это будет указано ниже; потому вопрос и о русской архитектуре должен быть распространен и на архитектуру южнославянскую. Можно надеяться, что при этом г. Стасов обратит внимание и на утварь, а также и на другие узорчатые поделки древнейшей эпохи, из камня, металла, кости и проч. Желательно, чтобы для ясности, точности и доказательной силы он внес в текст самые изображения более замечательных и характеристических из этих предметов, с подробным их анализом. Здесь, без сомнения, мы встретим много оригинального, отличающегося от орнаментации письменной, более независимого и самостоятельного, более народности, безграмотности, следовательно, более доморощенности или по крайней мере самодельщины, хотя бы и по чужим образцам, заносным и завозным, или по разным залежам, какие дают нам раскопки от времен доисторических. Только тогда можно будет решить вопрос о самостоятельных, национальных воззрениях, о наглядке и навыке, при условии которых славянские писцы XI и XII вв., копируя византийские оригиналы, переиначивали их на свой лад, давали им свой пошиб.
Начавшееся в эпоху романтизма чествование самородности и первобытности национальных посевов культуры и теперь еще не перестает оказывать свою силу в преувеличенной оценке народных и местных основ письменного орнамента, между тем как в других областях истории быта и литературы метод исторического исследования и передачи плодов ранней культуры открыл новые пути к самым убедительным заключениям. Для народов европейских многообъемлющей, великой сокровищницей всяких результатов древнейших цивилизаций, как восточных, так и западных, то есть, греческой и римской, было христианство, и преимущественно в его могущественном орудии, которое вместе с тем внедрилось в самую его сущность: это именно Писание. Не входя в рассуждение вообще о той объединяющей силе, которой христианство сблизило и сроднило разные народности, подчинив национальные их особенности общему уровню своего всеобъемлющего и всепроникающего влияния, ограничиваюсь здесь только средневековой орнаментацией. Очевидное сродство, как в общем, так и в подробностях, тератологического стиля славянских племен с так называемым романским, то есть, с ирландским, меровингским, англо-саксонским, карловингским, лонгобардским, основывается не на прямом заимствовании от дохристианских культур и не прямо с Востока, но при посредстве письменности и преданий уже христианских. Что же касается до животных и чудовищ во всех этих тератологических стилях, то в какой бы мере ни были указаны для них источники восточные, все же античные, классические фигуры гиппопотамов, гарпий, василисков, химер, гидр, драконов и грифов, хотя бы и переделанные когда-то из восточных оригиналов, были сподручнее для средневековых писцов и мастеров, воспитывавших свои воззрения на христианских памятниках греко-римской культуры.
Искажение и обезображение в копировании и воспроизведении довольно правильных образцов древнехристианского и византийского искусства, еще носящих на себе следы античного изящества, послужило основой, на которой выработался ранний романский стиль в живописи и скульптуре. Такое же искажение византийского натурализма, воспроизведенного еще в стиле античном, способствовало происхождению и развитию тератологического орнамента письменного, который, по одинаковости условий своего образования, оказывается общим для разных народностей, а вместе с тем в каждой из них принимает местный, индивидуальный характер, подчинившись особенностям той или другой народности. Потому стиль славянский отличается от ирландского или лонгобардского, и русский от болгарского или сербского.
Таким образом, по теории исторического унаследования ранних образцов, славянский рукописный орнамент в своих ранних зачатках есть не что иное, как неумелое копирование изящных образцов византийских, подобно тому, как в скорописи XVI или XVII вв. от спешного производства искажались буквы раннего устава и полуустава, или как в деревянной кукле или в расписном прянике переводились на топорный пошиб натуральность и изящество каких-то затерянных оригиналов.
Общее для всех славянских орнаментов – это византийская канва, но каждый из них на свой лад выводит по ней свои тератологические узоры, видоизменяя в них по-своему общий всем традиционный материал, согласно умению мастера и разным условиям, при которых он производит свою работу.
В этом отношении очень важное различие в орнаментации представляют рукописи, писанные тщательно и с особенным старанием и писанные спешно и более небрежно; орнаменты роскошные, покрытые золотом по довольно изящно выведенным и раскрашенным фигурам, и орнаменты, грубо намалеванные и покрытые сплошь густым колоритом; наконец, орнаменты вовсе не раскрашенные, в одних очерках, и притом выведенные или чернилом или киноварью.
Чем изящнее и тщательнее делан орнамент, особенно с золотом, как, например, в Остромировом Евангелии 1056–1057 гг. или в Мстиславовом 1125–1132 гг., тем ближе он по стилю к византийским. Чем с большей поспешностью начертан, или чем аляповатее намалеван, тем более сглаживаются в нем следывизантийского изящества, тем становится он грубее, но вместе с тем и энергичнее, оригинальнее и сподручнее для полнейшего выражения всей чудовищности и прихотливости тератологического стиля.
Вопрос о колорите рукописного орнамента русского и вообще славянского доселе остается еще открытым. Можно надеяться, что материалы, собранные г. Стасовым из разных восточных рукописей, укажут путь к его решению.
Надо полагать, что в каждом из славянских племен, уже в XI и XII столетиях, рукописный орнамент подвергся видоизменениям по различию в школах писцов. В русском орнаменте это уже давно явствовало; теперь по изданию г. Стасова оказывается до очевидности такое же различие по школам в Болгарии и Сербии.
* * *
Прежде чем перейду к подробностям, я должен сказать несколько слов об отношении русского орнамента к южнославянским.
Наш древний орнамент состоит в наследственном родстве с болгарским, о чем свидетельствуют русские рукописи XI века, переписанные с болгарских оригиналов, каковы: Григорий Богослов в Императорской Публичной Библиотеке, Остромирово Евангелие, Изборник Святославов 1073 г.
Согласно болгарским образцам, тератологический элемент и у нас, в XI и XII вв., состоял в связи с византийским натурализмом, но в Болгарии развился в большом разнообразии оригинальных попыток к самостоятельному развитию, у нас же, как подражание и копия, выказывается с меньшей смелостью и в меньшей пропорции, будучи стесняем канвой византийского стиля, частью, может быть, и от того, что до нас доходили от наших отдаленных соплеменников более ценные рукописи, роскошно изукрашенные, и потому с более тщательным соблюдением византийского изящества.
У нас слишком резко выступает с XIII в. перепутанный ремнями тератологический орнамент и в однообразии общих очертаний господствует целые два столетия, то есть, в XIII и XIV вв. Главный эффект рассчитан в нем не столько на затейливость отдельных фигур животных и людей, сколько на хитросплетенные узлы и перевивки ремней, в которых они путаются и затягиваются.
Этому же слишком осложненному явлению не достает столько же богатого предшествующего периода, когда сказанные фигуры, еще не спеленутые ремнями, могли сами по себе на просторе развивать свои оригинальные качества. Вот эта-то разработка отдельных, так сказать, характеристических физиономий в их сверхъестественной чудовищности и занимает несколько столетий в истории болгарского орнамента, от XI и до XIV века включительно. См. у г. Стасова табл. I–VIII. Эти отдельные фигуры букв, с одной стороны, представляют грубую переделку и очевидное искажение изображений животных натуралистического стиля византийского, а с другой – бесконечный ряд смелых попыток, при технической неумелости, создать нечто новое и необычайное, согласно безотчетным привычкам, воспитанным местными условиями быта. В последнем отношении особенно должны быть важны открытия г. Стасова в области восточных орнаментов, предложив нам более точные свидетельства, что и восточным элементом в русском рукописном орнаменте мы преимущественно обязаны влиянию болгарской письменности.
Доселе между русскими рукописями мы имели не много таких, которые предлагали бы нам несомненный переход от отдельных тератологических фигур к сплетениям в наших орнаментах XIII и XIV вв. Из них наиболее видное место занимает Юрьевское Евангелие 1120–1128 гг., а также частью Евангелие Добрилово 1164 г., обе рукописи вместе с тем интересные и по очевидной примеси элемента византийского к тератологическому. Смотри у г. Бутовского табл. XIX–XXI, XXIII–XXIV. Панданом, или дружкою, к этому нашему орнаменту служит болгарский из Орхидской Псалтири 1186–1196 гг., в библиотеке Болонского университета; см. у г. Стасова табл. IV. Замечательно, что оба выведены только киноварью без всякой другой раскраски, и Юрьевский и Охридский.
Для полнейшего перехода к нашей орнаментике XIII–XIV вв. не доставало нам в ранних русских рукописях заставки с двумя птицами или какими-либо чудовищами, сильно переплетенными в решетке из ремней или же из змеиных хвостов, спутанных извитиями и узлами, именно той самой заставки, которая во множестве вариантов господствует у нас в сказанных столетиях. См. у Бутовского в таблицах XXXIII, XXXVI (см. выше, рис. 34), XXXVII, XXXVIII (трижды), XLII (см. выше, рис. 37), XLIII, XLIV (см. выше, рис. 39), XLV, XLVII и XLIX(дважды). В последней таблице – две таких заставки, одна под другой, из которых верхнюю приложил Виолле-ле-Дюк на табл. IX, при стр. 80, в своем сочинении L’artrusse, 1877. Общая основа этого орнамента в его главных, характеристических очертаниях одинаково принадлежит и Востоку, и Западу. Сличите. Например, у Вествуда в названном выше издании, в самом конце книги, между тремя добавочными таблицами, на 2-ой и особенно на 3-й (рис. 52) почти такой же орнамент раннего романского стиля, как и в указанной тотчас нашей заставке XIV в. Слич. также (рис. 53) у Комона на капителях романско-германского стиля на стр. 132, в его Abécédaire, по 3-му изданию 1854 г.
И замечательно, что недостающая в Юрьевском Евангелии заставка, которая могла бы служить предвестием нашей орнаментации XIII–XIV вв., как раз встречается в той же Охридской Псалтири, и притом очень согласная в общих очертаниях с указанной выше заставкой у Бутовского в таблице XLIX. Затем, подобная же заставка со следами большого архаизма встречается в письменности сербской XIII в., именно в Шестодневе Иоанна экзарха Болгарского 1263 г., у г. Стасова в таблице XIX (см. выше, рис. 32).
Как древнейшие русские рукописи, будучи копированы с болгарских, состоят в ближайшей от них зависимости и по языку, а вместе с тем и по украшениям, так с XIII века наша орнаментация, отклоняясь от менее сложной болгарской, сближается своими сплетениями с сербской XII–XIV вв., как свидетельствуют у г. Стасова узорчатые буквы в табл. XV, XVI, XVII и XXI. Так, в табл. XV, Мирославово Евангелие XII в. сближается еще с нашим Юрьевским, а Евангелие Ватиканской библиотеки XIII в., в таблице XVII, предлагает сплетенную орнаментацию в киноварных очерках, кое-где покрытых желтым и синим, и при этом частью выведенных на синем же поле, которая так близка к русской, что, будучи помещена между орнаментами Бутовского XIV в., мало бросалась бы в глаза своим от них отличием. Большая часть орнаментных букв в евангелии Жупана Вукана 1190–1200 гг. и Хиландарского XIV в., сходствуя с нашими XIII–XIV вв. в очерках, отличаются от них большим разнообразием и пестротой в раскраске, табл. XVI и XXI.

52. Ящичек слоновой кости (Велико-Герцогск. Муз. В Брунсвике)
Древнейшее, соплеменное и исторически наследственное сродство нашей орнаментации с южнославянской скрепляется наконец еще новыми, столько же тесными связями в XV и XVI столетиях. Как у нас, так и в Болгарии и Сербии, а также в Молдаво-Валахии, при возрождении византийского изящества вместе с заимствованиями с запада, возникает новый стиль, который, по возвращению от тератологической чудовищности к натуральности и по замене царства животного растительным, листвой и цветами, соответствует на Западе стилю готическому, а по внесению изящного вкуса византийского и западного, может быть назван стилем возрождения.
При замечательном сходстве наших рукописей того времени с болгарскими, сербскими и молдаво-влахийскими по орнаментации, многие из них усвоили себе и особенный искусственный язык, перемешанный с грамматическими формами правописания болгарского и сербского, именно ту неорганическую смесь, которой отличаются рукописи молдаво-влахийские. Для примера укажу на изящнейшие по роскошным украшениям две русские рукописи, из которых образцы изданы Обществом любителей древней письменности, под редакцией А. Ф. Бычкова и моей. Одна из них – Следованная Псалтирь XV в. из библиотеки Троице-Сергиевой Лавры, под моей редакцией, а другая – Четвероевангелие 1507 г. из Императорской Публичной Библиотеки, изданная г. Бычковым. Обе одинаково представляют в правописании сказанную смесь русского с болгарским и сербским, в орнаментации же и вообще в художественном отношении стоят на той высоте изящества, к развитию которого послужил целый ряд попыток, как свидетельствуют данные в издании Бутовского, табл. L–LXVIII.

53. Капитель XII в. романо-германского стиля
Впрочем, чтобы вполне понять и оценить это новое явление в истории нашей письменности, надобно проследить его зачатки и постепенное развитие не на русской почве, а на южнославянской, то есть, болгарской, сербской и молдаво-влахийской.
Как стиль узлов и сплетений у нас резко отделяется в XIII–XIV вв. от более простого, так сказать, элементарного стиля тератологического, и звено между тем и другим дает нам в более ясном свете Болгария и Сербия, – так еще с большей неожиданностью сменяется у нас в XVв. стильXIV века, сплетенный тератологический – стилем, соответствующим на Западе готическому и стилю Возрождения. У наших южных соплеменников, во-первых, позднее остаются при новых явлениях элементы старые, которые таким образом дают последовательность в развитии; во-вторых, нововведения оказываются не вдруг, а зачинаются очень рано, как отдельные попытки, и потом все шире и шире охватывают всю орнаментацию. Это особенно ясно оказывается в орнаменте сербском, как увидим в разборе некоторых подробностей в издании г. Стасова; и наконец, каждый новый период в истории орнаментации у южных славян, именно у болгар и сербов, как наших предшественников в рукописном деле, начинается на целые столетия ранее, чем у нас в России.
Что же касается до орнаментации молдаво-влахийской, то она, не восходя ранее XV в., вдруг проявляется в своем высшем развитии изящного стиля, как бы составляя позднейший период, предшествие которому надобно искать в письменности болгарской и сербской. Смотри у г. Стасова, табл. XXXIV–XXXIX.
Впрочем, для окончательного решения об элементах этого нового стиля надобно подождать последнего выпуска «Орнаментов» г. Стасова, где будут помещены византийские. Особенно сильно оказывается влияние греческое в некоторых из русских рукописей XV и XVI вв., как в начертании букв, так и в греческих приписках, например, в обеих сказанных рукописях, изданных Обществом любителей древней письменности. Спрашивается: в какой мере мы обязаны позднейшему византийскому орнаменту большей или меньшей долей того западного влияния, которое в такой очевидности господствует в нашей русской орнаментации XV–XVI вв.?
Во избежание недоразумений, почитаю не лишним припомнить здесь, что наша рукописная орнаментация XVI в, особенно в заставках, состоящая в связи и в зависимости от старопечатных книг и в таком обилии у нас распространившаяся, составляет особенность собственно русского стиля в названном столетии, чем и отличается она от современных ей прочих соплеменников наших, как это явствует из материалов, изданных г. Стасовым. Образцы этой русской орнаментации во множестве предлагает Бутовский.
Указывая таким образом на теснейшую связь и зависимость нашей орнаментации от южнославянской и византийской, я вовсе не думаю посягать на ее высокие национальные качества и только даю уразуметь, что часть не может быть понимаема без целого, к которому она принадлежит, и что каждый член, будучи отрублен от целого органического состава, теряет свой жизненный смысл.
* * *
При разборе подробностей я постоянно буду сравнивать южнославянские орнаменты с византийскими и русскими. В отношении к византийским южнославянские будут представлять более или менее удачную копию, переделку, искажение, а иногда и дополнение; в отношении к русским будут они служить, во-первых, оригиналами, и во-вторых, тем целым соплеменным составом, которого наш орнамент составляет только часть.
Система, принятая г. Стасовым в размещении южнославянских материалов, соответствует хронологическому порядку в появлении каждого из них в письменности. Орнаменты начинаются в Болгарии с XI в. и в Сербии с XII в., и в обеих землях доходят до XVIII в. Затем следуют все другие, которые восходят не ранее XIV в. и продолжают свое существование не более века, много двух, за исключением молдаво-влахийского, материалы которого тянутся от XV до XVIII в. Из прочих, герцеговинский оказался только в XIV в., черногорский только в XV в., и то всего в одной только рукописи, боснийский и патаренский в XIV и XV вв., румынский в XII и XIII вв.
Итак, начинаю с Болгарии. Самый видный вклад для XI и XII вв. дают здесь г. Стасову рукописи из московских книгохранилищ, числом шесть: одна из Библиотеки Синодальной Типографии и целых пять из Московского Публичного музея, именно из собраний Григоровича и Ундольского, которые поступили в Музей, вместе со многими другими ценными приобретениями, благодаря неутомимым заботам и беспримерному усердию покойного А. Е. Викторова о пополнении и обогащении вверенного его хранению рукописного отделения.
Имея под руками сказанные шесть московских рукописей, я мог вполне оценить в издателе такт опытного знатока, вкус и проницательность, с какими из многого было выбрано им самое характеристическое и необходимое. Г. Стасов оставляет в стороне общие места византийского происхождения и придает цену только тому, в чем выражаются местные особенности и уклонения77.
При общем единстве стиля, болгарский орнамент в издании г. Стасова поражает разнообразием видоизменений, условленных различием по школам писцов. Разнообразие это резко бросается в глаза уже в самом раннем периоде болгарской письменности, в XI и XII вв. Из этого времени у г. Стасова приведено девять рукописей, и каждая из них отличается собственным характером своей школы. Эти отличия состоят в том, что писец более или менее подчиняется стилю византийскому, один заимствует себе оттуда одно и постоянно того придерживается, другой берет другое. Потом каждый по-своему уклоняется от этого стиля в область чудовищного, ломая и искажая ранние античные формы, и натуральность греческой живописи передает на свой лад в фантастических чертежах. Затем, один писец в этих чертежах с большей тщательностью вырабатывает подробности, другой ограничивается бойкими и до дерзости смелыми намеками. Наконец, разнообразие это усиливается различием в техническом исполнении.В одних рукописях орнаменты выведены только в очерках чернилом или киноварью, в других они раскрашены, и притом или по черным очеркам, или по киноварным, и вместе с тем каждая из рукописей отличается своим колоритом по различию в красках, по более легкому или более густому наложению их. Не вникая в подробности, можно все это легко заметить при беглом взгляде на первые семь таблиц г. Стасова.
Орнаменты ранней письменности отличаются от позднейших, между прочим, тем существенным качеством, что, состоя в ближайшей связи с письмом рукописи, они вырабатываются преимущественно в заглавных или прописных буквах, на которые писец преимущественно устремляет свое внимание, а не в заставках, которые, будучи вне строк, как бы на отлете, более принадлежат к внешней прикрасе. Этим объясняется разлад между фигурными буквами и заставками в болгарском орнаменте XI и XII вв. Его неисчерпаемое богатство и разнообразие заключается в буквах, между тем как заставки еще не успели подчиниться самоуправству писца и носят на себе более традиционный характер византийского стиля. Потому так и мало их приведено у г. Стасова в первых семи таблицах. Впрочем, Хиландарский Паремейник XII в. свидетельствует, что уже и в эту раннюю эпоху заставки стали подчиняться местному стилю заглавных букв; см. табл. III. Напротив того, в письменности позднейшей преимуществует заставка перед заглавными буквами, которые тогда или подчиняются ее орнаментации, или состоят с ней в разладе, удерживая для себя разные традиционные формы.

Различия болгарского орнамента по школам писцов, как прямое проявление местных условий, сопутствуются разноречиям местных говоров и правописания. Так, например, очень резкая разница, замечаемая между Супрасльской рукописью и Хиландарским Паремейником по орнаментации – табл. I и III, – в значительной силе оказываетсяи в правописании и языке обоих этих памятников. Болгарский орнамент XI в. дали г. Стасову три рукописи: Евангелие в отрывке, всего на двух листах, в Московском Публичном Музее (из собрания Ундольского), Саввина книга в Библиотеке Синодальной Типографии и Супрасльская рукопись в библиотеке Лейбахской гимназии. Табл. I.
В первой рукописи всего только две фигурные буквы и одна заставка. Из них одну букву, именно В, внизу запачканную, г. Стасов опустил; взятая же им (рис. 54), по опечатке, названа: Г – табл. I, 2, тогда как это есть Р, в слове рече, которое написано под титлом. Замечаю эту опечатку потому, что она могла бы дать неверное понятие о самой орнаментации этой рукописи,
54. Р – из отрывка Евангелия XI в.
Ундольского (Моск. Публ. Муз.)
а вместе с тем и других рукописей той же эпохи. Вверху этой фигурной буквыпучок из двух листиков и двух клиньев выражает овал в букве Р, а не горизонтальную перекладину буквы Г, потому что почти такой же орнамент взят для верхнего овала в букве В, опущенной у г. Стасова. В других рукописях ему соответствует или простой овал, или с листвой, или с намеком на звериную морду, как сейчас увидим. Итак, это буква Р, с пучком вместо овала, во всем прочем, и По архитектонике, и по мозаичному стилю, носит на себе характер византийский, равно как и заставка; только крутыми переломами углов эта последняя выделяется из господствующей в Византии формы закругленных, эластических перегибов в жгутах. Рукопись эта отличается от прочих преобладанием зеленой краски. Ее было так много в запасе у писца, что ею же налагал он пятна на все рубрики, которые здесь писаны чернилом, а не киноварью, как это принято вообще. Потому вся страница представляется усеянной зелеными пятнами. Скудный материал, предложенный эти отрывком, все же в некоторой степени дает понятие об орнаментации всей рукописи. Во-первых, как сказано, господство зеленого колорита, которым она отличается от прочихБолгарских рукописей XI и XII вв.; затем, видимая наклонность к угловатым и заостренным фигурам. Так, сказанная буква Р, изданная у г. Стасова, спустилась вниз длинным шпицем, заостренным протянутой линией, будто меч или сабля, эфесом которой служит принятая в византийской орнаментике перемычка в столбиках разных букв: только здесь эта перемычка, посреди обоих колец, ее составляющих, с обеих сторон будто колется острыми шипами. Также колется двумя острыми клиньями и сказанный пучок из листьев в овале той же буквы Р. Надобно заметить, что опущенная у г. Стасова буква В покрыта коричневой краской с черным. Впрочем, о колорите ее судить нельзя, так как место, где она написана, далеко кругом попорчено желтоватым пятном.
Саввина книга предлагаетуже более заметную примесь болгарского элемента к основе византийской. Форма заглавных букв простая, греко-кирилловская, раскраска киноварью, охрой и зеленью, иногда переходящая в дымчатый оттенок, будучи отделяема черными очерками, имеет вид то перегородчатой эмали, то мозаики, например, в буквах В, З, Р –6, 7, 8, 9, 12 – также, как и в вышеприведенном отрывке из собрания Ундольского. Затем, листва в отводах от столбиков в буквах В – 4, 5, 6 – до очевидности византийская.Наконец, значительная масса букв, по системе г. Стасова опущенных, не представляя ничего особенного, болгарского, тоже в стиле византийском, например, В на листах: 15 об., 34 об., 36 об., 111 об., 133 об., Р 16 об., П 98 об. В этой рукописи до очевидности явствует, как на византийской канве мало по малу и еще сдержанно начинают выводиться узоры во вкусе болгарском. Замеченный в предыдущем отрывке острый, колючий конец буквы Р полюбился писцу и этой рукописи; только вместо византийской перемычки, отделяющий нижний шпиц от самого ствола буквы, он употребляет два листика, а иногда и четыре, которые исходя от ствола, составляют как бы эфес меча – 8, 9 – иногда (рис. 55) конец шпица

55. Р 56. Р 57. В 58. В
55–58. Из Саввиной книги (Библ. Моск. Тип.)
загибается – 11 – если же он короток (рис. 56) – 12 –, то этот орнамент сближается с византийской листвой или цветком, что принято (рис. 57) в этой же рукописи для выпусков в букве В – 6 –. Но особенно характеристично бросается в глаза затея болгарского писца в попытках претворить верхний овал буквы В в звериную голову и, вместе с тем, как бы оживотворить и осветить геометрическую фигуру смотрящим глазом –4 (рис. 58), 5 –. В этом оживотворении замечается постепенность, так что капризная рука мастера, будто играючи, не вдруг решается на задуманную прихоть. Эти моменты у г. Стасова опущены. По крайней мере, он взял один экземпляр В, в котором верхний овал сохранен еще в его геометрическом чертеже, не тронутый оживлением –6 –. В том же виде этот овал в буквах на листах: 34 об., 36 об., 111 об., 133 об., то есть во всех тех, которые я уже характеризовал выше византийским стилем. Но сказанные переходы и полумеры, которые принимал писец всвоих попытках, мне приходится привести из рукописи. Во-первых, он приделывает к овалу только уши, но еще без глаза, на листе 40 об., или только глаз, но без ушей, на листе 49 об., и в обоих случаях, для вящего подобия звериной морде, вниз от овала спускает красное ее рыло, и уже затем следует полное претворение в буквах, взятых у г. Стасова. Оканчивая о буквах, я должен заметить, что желтоватый и зеленоватый колорит оригинала, побурелый от времени, не везде точно передан в издании диким цветом. Заставки в этой рукописи ничего особенного не представляют. Выступ у них из византийской листвы, только в одной (рис. 59) с правой стороны к завитку расходившаяся рука мастера приделала уши –16 –. Что же касается до того, что все они проведены между строк рукописи в тех местах, где верхний текст оканчивается на полустроке; потому все левые стороны заставок, состоящие из полос, содержат в себе полустроку текста, и тогда оставшееся место давало простор для орнаментации правых сторон. Там, где мастер мог действовать свободно, он выводил цельную заставку, как на листе 73 об., составленную из византийского жгута; в том же стиле и полузаставка на листе 73 об. И та, и другая, как общее место, у г. Стасова не приняты. В заключение я должен указать на одну характеристическую и очень редкую в славянской орнаментике подробность. Хотя она встречается в этой
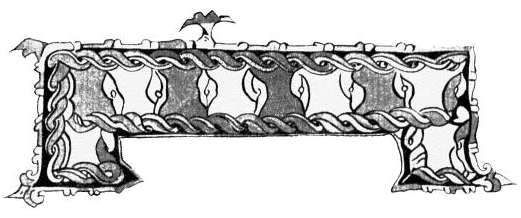
59. Заставка из Саввиной книги (Библ. Синод. Тип.)
рукописи тлько один раз, но не могла ускользнуть от зоркого внимания г. Стасова. Это именно (рис. 60) завиток из линии, замотанной спирально, который выведен от нижнего отреза буквы Р –10 –. Форма мотка из спиральной линии, как известно, составляет одно из характеристических свойств ирландской орнаментации; у нас же является, как редкое исключение. В Болгарии встречается она еще и в XII в., именно в одной из заставок Хиландарского Паремейника – III, 1 – , а у нас в XI в. в Григории Богослове Императорской Публичной Библиотеки; см. в «Исследовании» этой рукописи, г. Будиловича, табл. II.
Орнаментация Супрасльской рукописи принадлежит к совершенно другой школе болгарских писцов, таких, которые строго держались правильности и изящества классического стиля римско-византийского, как в буквах, так и в заставках. В образцах, изданных г. Стасовым, господствуют стройные формы архитектурные или точнее –геометрические, а вместе с тем и византийская листва. Все выведено твердой, привычной рукой, в одних чернильных очерках, без красок. Из животных встречается (рис. 61) только рыба для буквы О – 28 – . Она здесь с двумя головами: одна на своем месте, другая в хвосте. Древнехристианский символ рыбы очень рано принят и сильно распространен в западной рукописной орнаментике уже в VII и VIII вв78. Там употребляется рыба, как одна из узорных фигур, для разных букв; в византийской рукописи она введенапозднее, преимущественно для буквы О, например, в рукописи 1116 г., как и в рукописи Супрасльской. У нас для этой же буквы она довольно распространена в том же Григории
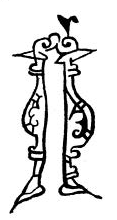

60. Р –из Саввиной книги (Библ. Моск Синод. Тип.)
61. О –из Супрасльской рукоп. XI в. (библ. Люблянской гимн., №1)
Богослове XI в., а также иногда привешенана тонком хвосте обыкновенного начертания прописных и строчных букв З и Р; но потом в русской рукописной орнаментике, сколько мне известно, она уже не принималась. При этом замечу, что в болгарской орнаментике XII–XIII в. рыба принята (рис. 62) для буквы Р – VII, 5 –.
Орнамент XII в. предлагают следующие болгарские рукописи: Охридский Апостол, Евангелие и Хиландарский Паремейник, все три в Московском Публичном музее (из собрания Григоровича), далее – Толковая Псалтирь в Императорской Публичной Библиотеке, Слепченский Апостол в библиотеке Верковича и часть той же рукописи в Московском Публичном Музее (из собрания Григоровича), Охридская Псалтирь вУниверситетской Библиотеке в Болонье; затем XII–XIII вв.: Орбельская Триодь в библиотеке
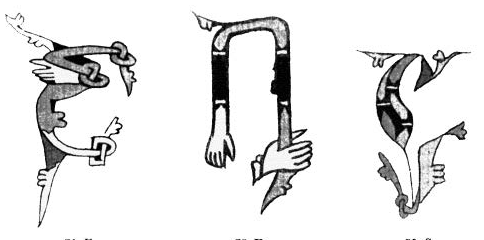
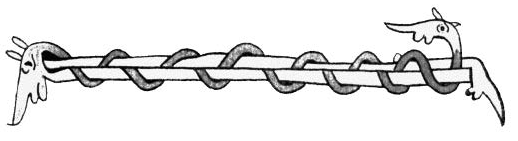
62. Г –из Евангелия XII–XIII в. Народной Библ. в Белграде
63–64. В –из Орхидского Апостола XII в. ГригоровичаМоск. Публ. Муз., № 1695)
Верковича, ичасть той же рукописи в Московском Публичном Музее (из собрания Григоровича), Охридская Псалтирь в Университетской Библиотеке в Болонье; затем XII–XIII вв.: Орбельская Триодь в библиотеке Верковича, Евангелие в Народной Библиотеке в Белграде и, наконец, там же отрывок из какой-то рукописи, отмеченной у г. Стасова только номером 207. Табл. II–VIII.

Орнаменты Охридского Апостола – табл. II – выведены также, как и в Супрасльской рукописи, только чернилами, без красок, но отличаются от нее своей местной школой. Хотя и в них сильно господствует стиль византийский, но с примесью зарождающегося болгарского пошиба. Последний явствует, во-первых, в наклонности к колючкам или шипам; так, например, (рис. 63), в букве В принят столбик из византийского жгута –9 –, затем в углублениях овалов его, на византийский манер, помещаются перлы в виде шариков, как это представляют экземпляры буквы В на листах рукописи: 6 об. и 8, не взятые у г. Стасова, и, наконец, шарики заменены острыми клиньями, что и приведено г. Стасовым –10 (рис. 64), 11 –. Во-вторых, кое-где к архитектуре византийского столба, со жгутом по всему его протяжению, присоединяетсячудовищная фигура звериной головы, означающая овал, именно в изображениях букв В и Б –13, 17 –. Из них Б –17 –содержит (рис. 65) в своем овале еще нечто среднее между листвой и звериной мордой: это какая-то овальная фигура, с растительным завитком кверху, освещенная глазом, а вместо ушей служит ей пучок из листа с клиньями, вроде (см. выше, рис. 54) замеченного нами в двух листах рукописи XI в. в Московском Публичном Музее –1, 2 –. Указываю на это соответствие потому, что нахожу ему подтверждение в букве В, опущенной у г. Стасова, именно на л. 3: в ней верхний овал представляет явственное подобие звериной пасти с высунутым языком, то есть, с клином между двумя овальными вырезами листвы, имеющими вид широко раскрытых челюстей. Упомянутая выше в издании г. Стасова (рис. 66) буква В –13 – только в нижнем овале представляет чудовищную голову, и – замечательно – с ошейником, в верхнем же – какой-то бесформенный набросок, будто эмбрион или зародыш чего-то чудовищного; но в рукописи есть другое В, лист4, с двумя чудовищными головами: одна
65. Б 66. В
65–66. Из Охридского Апостола XII в.
Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1695)
для нижнего овала, другая для верхнего. Эти чудовищные придачи, не целого зверя, а только головы его, к архитектонике византийской фигурной буквы должны быть приняты в расчет при определении происхождения и характера заглавных букв нашего Остромирова Евангелия; см. у г. Бутовского табл. XI–XIII. Теперь остается сказать об узорах змеиных, которые по изданию г. Стасова являются здесь впервые и приняты не в буквах, а в двух простых орнаментах – 14, 16 – и в заставках у г. Стасова взята (рис. 67)
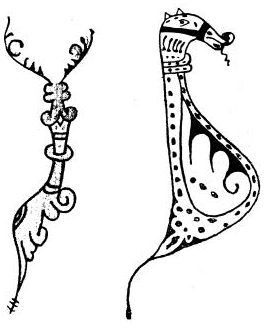
67. Заставка из Охридского Апостола XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1695)
только одна с двумя змеиными головами –2 –; но в рукописи еще есть другая, в которой из-за сплетений, наполняющих всю заставку, вверху ее и внизу, по змее:

68. Заставка из греч. Евангелия 1199 г. (Моск. Синод. Библ., № 278)
с обеих сторон высовывают они свои конечности, налево торчат два хвоста, а направо две головы, лист 56. Здесь еще болгарского в змеином орнаменте не следует видеть, так как он сближается с теми византийскими заставками, в которых сплетениятоже состоят из змеиных голов с хвостами, например, (рис. 68), в греческой рукописи 1199 г. в Синодальной Библиотеке79. Другая из двух принятых г. Стасовым заставок, без змей, ничего особенного не представляет, в стиле византийских решеток из сплетенных ремней. В заключение я не могу не выразить крайнего своего сожаления, что г. Стасов не взял из этой рукописи один в высшей степени замечательный орнамент, непотому, чтоб он характеризовал местный болгарский стиль (из-за этого, вероятно, он и не принят в издание), а потому, что предлагает одну особенность, вообще чуждую славянской орнаментации раннего времени, но очень распространенную на Западе. В этой черте вижу я не влияние западное, а указываю в ней на признак неисчерпаемого богатства средств, какими могли располагать писцы наших южных соплеменников, точно также, как выше я обратил внимание на ирландскую спираль. Опущенная г. Стасовым буква Б, лист 56 об., состоит из столбика, вдоль разделенного вертикальной линией, а по середине охваченного перемычкой в одно кольцо; верхняя покрышка выведена прямой линией, на конце с загнутым вниз клином. Но особенно важна нижняя часть буквы. Бойкой рукой выведен овал для брюшка ее из тонкой линии, которая потом, дав косой обрез столбику, спускается далеко вниз легким овалом, содержащим в своей дуге вырезанную фестонами листву, и затем тянется вниз без всяких усложнений одна, сама по себе. Нечто подобное можно найти и в нашей письменности позднейших времен; но в XI или XII вв. такую игру голой линииможно встретить только в западных инициалах. Во всяком случае, надобно признать, что описанная мною буква Б была замышлена в том же пошибе, что и принятая у г. Стасова (рис. 69) буква В –21 –,


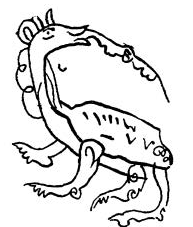
69. В 70. В. 71.В.
69. В – из Охридского Апостола XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз., №1695)
70–71. Из болг. Евангелия XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз., №1690)
только расходившаяся рука писца дала свободу себе расчеркнуться прямой линий подальше вниз.
Евангелие из собрания Григоровича, в Московском Публичном Музее – табл. II –, дает образчики еще новой школы, отличающейся от предшествовавших и в колорите, и в очерках. Вообще писец пользовался для орнаментации только киноварными очерками и большую часть букв оставил без всякой другой раскраски. Ноглаз его не удовлетворялся этим однообразием и требовал себе развлечения в колорите. Простейший и более сподручный для того способ предлагали чернила, и мастер немногими черными чертами дает более резкую физиономию человеческим лицам, писанным киноварью в овалах буквы Р –3, 4 (см. выше, рис. 9) –, приделывает уши и глаз змеиной голове в букве В –29 – (рис. 70), а в другой той же букве –31 (рис. 71) –только глаз и сверх того черные точки на каждой из чешуек, выведенных киноварью по всему змеиному хвосту, из перегибов которого, перепутанных узлами, состоит вся буква. Это придавало не только некоторую рельефность, но и оживляло фигуру, усиливая ее взор черным глазом. Кроме того, писец имел под руками две краски, синюю и зеленую: это немного, но в соединении с киноварными очерками колорит получал представительный вид византийской перегородчатой эмали, перегораживая зеленые и синие массы красными линиями –5 (рис. 72), 20 –. То же и в заставках: или заставка сквозит своими киноварными переплетами побелому полю пергамента –7 – или это поле покрыто в перемежку синими и зелеными участками, как эмаль, отделенными друг от друга теми же красными линиями –8 –. Особенно убедительно заявляет мастер о чувстве колорита в той (рис. 73) заставке –6 –, которуюон покрыл массивными полосами киновари по широким просветам белого пергамента. Тогда он сделал уступку принятой им манере и не только очерки вывел чернилами, но кое-где пустил черный фон для красных и белых жгутов, принятых в этой заставке в отличиеот двух других, которые состоят только из плетенки. Согласно господствующему принципу, тератологический элемент в этой рукописи развивается на основе византийской архитектоники, и развиваетсяв такой силе, как еще ни в одной из предшествовавших рукописей. Столбики букв еще византийского стиля, или из жгутов, как в букве В –5 –, или с перемычками и выступами, дающими фигурный архитектурный профиль, как в буквах В, Р, П –20, 30, 32 (рис. 74). Иногда эта византийская канва так и остается сама по себе, без болгарского узора, как в названных тот час буквах, а также во многих других, у г. Стасова по справедливости опущенных; например, из жгутов:
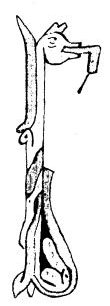

72. В – из болг. Евангелия Григоровича XII в. (Моск.Публ. Муз.)
73. Заставка из болг. Евангелия Григоровича XII в. (Моск.Публ.Муз.)
Р – на листах 14, 15, 19 об., В – на листах 20, 69 об. Иногда византийский столбик теряет свою классическую простоту от приставки к нему болгарских прилепов. Указываю на эти случаи по рукописи, с изъявлением сожаления, что они не внесены в издание г. Стасова. Эти буквы только в киноварных очерках. Во-первых, В на листе 5. При столбике со сказанным выше архитектурным профилем выведен верхний овал буквы полукругом в форме лунного серпа, а в середине овала помещен глаз; нижний же овал кажется будто рукой, которай, исходя от края подошвы этой буквы, затянутая в узорчатый поруч, поднимается кверху и касается всеми своими пятью пальцами столбика; при этом большой палец на ногте отмечен точкой, точно смотрит глазом. Эту нижнюю часть буквы надобно признать за фантастическое изменение византийской листвы с глубокими вырезами, как это и принято в той же букве на листе 8. Во-вторых, то же В на листе 34 об., с прямолинейным столбиком, по которому писан жгут: верхний овал образуется полукругом широкого листа с глубокими вырезами внутри овала; собственно заслуживает здесь внимания овал нижний. Он состоит из змеи, которая, исходя своим хвостом от пъедестала столбика, тянется сначала горизонтально и потом, круто сгибаясь углом, поднимаясь вверх, обращая свою голову кстолбику: в очерченном таким образом пространстве помещена птица, поставленная вертикально, так что ее голова приходится как раз под мордой змеи. Но особенно характеристичен змеиный хвост. На всем протяжении от головы и до той части, которая внизу упирается в столбик, – весь он покрыт, по обе стороны, частыми шипами, почему это шершавое чудовище кажется колючим, как сучок шиповника. Наконец, буква Р на листе 53 об. От такого же столбика, со жгутом, с верхнего его обреза направляется овал в форме как бы одной четверти лунного диска, а посреди его чернилами изображен глаз, именно зрачок, в виде пятнышка, с бровью. В заключение надобно присовокупить, что упомянутые выше фигуры буквы Р с человеческим лицом, а также и буквы В в рукописи на листе 66, тоже с лицом, писанным чернилами в верхнем овале, следует иметь в виду для характеристики орнаментов Остромирова Евангелия. Смотр. у Бутовского табл. XI и XII.
Орнаменты С.-Петербургской Толковой Псалтири, писанные в стиле византийском, не представляют ничего особенного, за исключением буквы Б – 23 (см. ниже, рис 93) –, о которой я нахожу удобнее упомянуть, когда будет речь об Охридской Псалтири 1186–1196 гг., в Болонье. Замечу только, что красками эта рукопись богаче Московского Музейного Евангелия: к красной, зеленой и синей она прибавляет еще желтую.

С особенной энергичностью и во всем разнообразии тератологических узоров резко проявляет себя болгарский орнамент в Хиландарском Паремейнике и Слепченском Апостоле – табл. III –. Сколько мне известно, дальше этого одичалая чудовищность средневекового стиля не пошла ни в одной из славянских рукописей, ни у нас, ни у наших соплеменников. Тут не беспомощная неумелость самоучки, который боязливо и вяло портит в своей убогой копии красивый образец, а смелая и бойкая рука отважного удальца, который привык громить классические сооружения античного мира, и их монументальные развалины и узорчатый щебень пригонять на скорую руку к своим невзыскательным потребностям и поделкам. Тот же дух разрушения старых форм, а вместе с тем и созидания из их обломков форм новых, веет от болгарской орнаментации обеих названных рукописей.В обеих явственны следы и осколки византийского стиля; но все, что было в нем стройного и спокойного, теряет свою меру и грацию. Гибкие линии ломаются резкими углами; нежные почки на древесных ветках, будто длинные и тонкие бородавки, вытягиваются в корявые побеги, то неуклюже торчат пучком на столбиках
74. П –из болг. Евангелия XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз., №1690)
букв, то перемешиваются с византийскими перлами на полосах византийского же жгута – 1 (рис. 75), 4, 8, 9 –, то превращаются в зубы или усугубленное жало

75. Заставка из Хиландарского Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз. № 1685)
чудовищной головы – 3 (см. выше, рис. 31), 1 –, то (рис. 76) между красными полосами из их узла торчат они желтой рукой с пятью пальцами в букве Е – 22 –: может быть, это и действительно на взгляд писца настоящая рука, так как эту потребность он усвоил себе (рис. 77) в более византийской букве П – 11 –, но, привыкши к корявым оконечностям в этой орнаментации, наблюдатель отнесет и пятерню в букве Е – 22 – скорее к корявостям болгарского стиля, чем к своеобразному воспроизведению византийской руки, повязанной пощиколотке бантом красной ленты с концами. Иногда эти бородавчатые побеги заменяют вырез широкого византийского листа, например (рис. 78), для нижнего овала буквы С – 24 –, который, впрочем, согнут в острый угол. Писец знает и настоящую форму этого византийского листа и дает иногда его выгибым более спокойную округлую форму, как, например (см. выше, рис. 15), в букве С – 5 –, где два таких листа, но он протянул их стволы и изогнул, как гусиные шеи, и на каждый посадил по змеиной

76. Е 77. П 78. С
76–78. Из Хиланд. Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз., № 1685
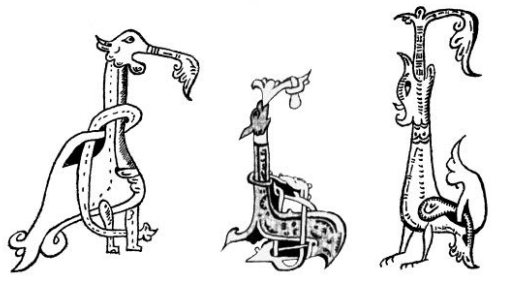
79. Заставка из Хиланд. Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз., № 1685)
голове с ушами.Еще приятнее ему оживлять тот лист, претворяя его в морду чудовища: так (рис. 79) в заставке – 6 – на правой стороне желтая полоса оканчивается еще настоящим листом, а красный перевитый ремень имеет на конце уже его озверение посредством глаза и ушей. Эта фигура еще сильнее озверилась на левом конце того же ремня, так как более крутой вырез листа лучше прилажен к подобию морды, и уши поднялись у ней грозно. Эту же метаморфозу можно проследить в следующих буквах. Нижний овал буквы В – 21 – (рис. 80) ещезаметно являет свое происхождение от листа, только он снабжен глазом и ушами; в той же букве иного чертежа – 18 – (см. выше, рис. 17) оба овала, и верхний, и нижний, по болгарскому пошибу, согнуты углами в треугольники: в верхнем еще явствуют следы листа, хотя уже и претворенного в звериную морду, но в нижнем, при треугольном чертеже, разрезы листа, только в числе двух, далеко протянутые, получают вид длинных и тонких челюстей, которыми эта морда ущемила столбик буквы. Наконец, в букве Р – 16 (рис. 81) – овал теряет все признаки листа и имеет вид только треугольника, нос глазом, хотя и без ушей, как в Саввиной книге я указал верхний овал с одним только глазом, тоже без ушей, в букве В, на листе 49 об., пропущенной у г. Стасова. Наконец,укажу на смотрящий глазом цветок с ушами в простом орнаменте, в виде указателяпомещенный в Хиландарском Паремейнике на поле 83-го листа, оборот. Это колокольчик, вовсебез стебля; положен он поперек, то есть, горизонтально. К его овальной чашечке приделаны уши, а лепестки открытых краев цветка с обеих сторон симметрично сгруппированы в округлых спусках. На поле, очерченном этой фигурой, помещен глаз. В этой метаморфозе звериной головы надобно принять за ее рот или рыло сказанную бахрому из лепестков. Вся эта фигура выведена киноварным очерком, который только в лепестках тронут черными линиями. На месте г. Стасова я непременно поместил бы этот орнамент в издании, как особенно характеристичный для изучения этой рукописи.


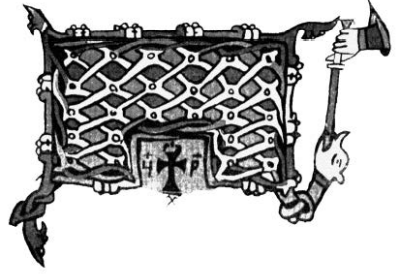
80. В 81. Р 82. Ч 83. Б
80.В – из Хиланд. Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз., № 1685)
81.Р – из Хиланд. Паремейника XII в. Григоровича (Моск. Публ. Муз., № 1685)
82–83. Из Слепченского Апостола XII в. (библ. Верковича)
Все вышеприведенные мною факты взяты из Хиландарского Паремейника, потому что эта рукопись особенно резко предъявляет вторжение болгарского самоуправства в традиционный строй византийской орнаментики. Слепченский Апостол, при всей оригинальной чудовищности болгарского пошиба, удерживает в большой сохранности стройные и спокойные формы византийские, как, например, (рис. 82), для буквы Ч – 12 – красный лист, стебель которого тянется вверх в виде византийского столбика с перемычками, а от него, для означения чашечки в букве Ч, поднимаются в обе стороны две ветки с нежными побегами, выведенные чернилами, с красным пятнышком на каждой, будто с цветком. Также спокойно и стройно воспроизведен (рис. 83) лист классической формы в нижнем овале Б – 13 –, между тем как верхний состоит из взнузданной красными ремнями головы коня, шея которого выросла из столбика буквы, но отделена от него перемычкой из двух колец или гривен. Такой сдержанности и осторожности в обращении с традиционными формами Хиландарский Паремейник не признает. Ломая все натуральное и естественное, его писец не затрудняет себя изображением целого животного, а только для намека на него берет одну голову или даже только глаз да уши. При таком отношении к царству животных, ему на руку змея: у нее нет ни рук, ни ног, ни даже корпуса; стоит только к ремню или полосе приделать голову, все равно – змеиную или вообще звериную. Потому ни одна из известных мне рукописей не кишит так змеями, как эта. Напротив того, писец Слепченского Апостола, вовсе не питая пристрастия к змее, хотя изредка и употребляет ее, но совершенно иначе, на свой манер; особенно жезаявляет вкус в изображении целых животных, чем существенно и отличает себя от писца Хиландарской рукописи. Четвероногих зверей он даже разнообразит породой, например, в букве В и в простом орнаменте – 14, 34 (рис. 84) –. Очень стилистично изукрасил он для Б – 15 (рис. 85) – целую же птицу, с ошейником на шее и с кольцом,



84 85. Б 86. Б
84 Орнамент из Слепченского Апостола XII в. (библ. Верковича)
85–86. из Слепченского Апостола XII в. (библ. Верковича)
отделяющим туловище от хвоста; другая маленькая птичка, будто ее детеныш, тычет свой носик в ее клюв, чтобы клюнуть себе пищи. Особенно характеристична (рис. 86) буква Б – 30 –, состоящая из змеи, но для ее хвоста писец не воспользовался простым тонким ремнем, а дал ей массивное туловище, и притом не заостренное на конце, а куцее, впрочем, снабдил его колючей шершавостью, какую я уже указал в змеином орнаменте буквы В в Музейном Евангелии из собрания Григоровича, на листе 46. Наконец, укажу между тератологическими орнаментами на более близкий к натуральному стилю византийскому в Музейном отрывке того же Слепченского Апостола, именно в букве Б – лист 6 –, очень важной для характеристики этой рукописи, но у г. Стасова опущенной. Это – птица с ошейником, стоит на византийском листе, который, легко сгибаясь своими вырезами к птице, намекает на нижний овал буквы, тогда как ремешок, высовывающийся из птичьего клюва, образует верхнюю ее перекладину. Не надобно, впрочем, упускать из вида, что эта рукопись содержит в себе любопытные опыты и той метаморфозы растительного царства в звериное, какую мы заметили в рукописи Хиландарской; так, по Музейному отрывку буква Б – 29 – в нижнем овале представляет (рис. 87) лист с глазом, который для резкости выведен чернилом, но без ушей. См. то же в самой рукописи на листах: 3 об., 4, 5; а по отрывку в собрании Верковича – в букве В – 33 – (рис. 88).



87. Б 88. В 89. Б
87 Б – из Слепченского Апостола XII в. (Моск. Публ. Муз.)
88–89. Из Слепченского Апостола XII в. (библ. Верковича)
В заключение я должен обратить внимание читателей на одну фигуру в Слепченском Апостоле, в высшей степени важную в историческом развитии славянского орнамента вообще, а вместе с тем и русского. Из отдельных тератологических элементов, как в Болгарии и Сербии, так и у нас, возникли впоследствии чертежи осложненные и как бы спутанные в своих составных частях, именно из фигур звериных, птичьих, человечьих, или же вообще чудовищных близкое сходство такой заставки с западными– и из разных сплетений в виде змей, веток и ремней, которые спутывают и связывают эти фигуры разнообразными узлами. Один из ранних зародышей этого пошиба, в самом оригинальном по своей чудовищной резкости виде, предлагает (рис. 89) в сказанной рукописи буква Б – 32. С первого взгляда вся буква изображает собой обнаженную или как бы одетую в туго натянутые панталоны и куртку человеческую фигуру; на голове у ней красный колпак; лицо в профиль, будто с бородой, которой на затылке соответствует такой же клин, так что голова будто надета на шею, как гриб сморчок на корешке. Изо рта высунулась красная ветка с загнутым вниз листком, для означения верхней линии с загибом в букве Б. Этот человек стоит, скрестив ноги; под ним полоса, которая потом поднимается овально, для означения брюшка буквы Б. Вся эта фигура не плотна, а сквозная, потому что сплетена из полос: одна полоса идет от левой стороны и, образуя левое плечо, делает легкий овал направо и потом спускается вниз уже в виде ноги, которая, скрещиваясь с другой ногой, становится налево, под левым плечом, откуда полоса эта направилась, чтобы вывести собой весь этот овал. Другая полоса, направо, образует правое плечо и правую руку с намеченной пятерней. Левой руки вовсе нет; вместо того из-под первой полосы, образовавшей, как сказано, левое плечо и правую ногу, идет еще полоса и, спускаясь вниз, дает собой левую ногу. Таким образом, мы имеем теперь только оконечности человеческой фигуры, из трех полос, то есть из двух длинных – обе ноги, и из одной покороче – одну руку. Что же касается до туловища, то место его занимает тоже полоса, но отличающаяся от трех первых тем, что она шершавая, с колючками, как змеиный хвост, что мы уже видели прежде, – между тем, другие три полосы гладки, как ремни. Этот змеиный хвост и есть та сказанная выше полоса, которая, начинаясь у ног человека, образует нижний овал буквы Б; затем, направляясь вверх, пересекает она обе длинные полосы, которыми образуются ноги, и, наконец, вертикально поднимается к голове, образуя ее шею, так что голова будто выросла на змеином хвосте. Не надо много воображения и догадливости, чтобы в этом причудливом сплетении увидеть лицом к лицу то легендарное чудовище средневековой фантазии, в котором на наших глазах змеиные гады претворяются в человеческое подобие.
Такое же (рис. 90) чудовищное сплетение ремней с головой человека на длинной шее и с рукой, держащей палку, перепутанную узлами, представляет в той же рукописи простой орнамент, выведенный чернилами – 31 –.

90. Орнамент из Слепченского Апостола XII в. (библ. Верковича)
Из сказанного уже довольно ясно, что обе рукописи, Хиландарская и Слепченская, принадлежат по концепции к разным школам. Они отличаются и в колорите. Писец Хиландарской рукописи располагал тремя красками – красной, желтой и коричневой, и делал очерки то чернилами, то красной краской и, сверх того, покрывал фигуры сплошь колоритом. Писец рукописи Слепченской имел под руками только одну краску, именно красную, очерки выводил чернилом и только кое-где покрывал их сплошь красным, обыкновенно же оставлял не раскрашенными, но всегда по белому фону пергамента, усеивая их нутро черными черточками и красными пятнами, от чего все фигуры представляются рябыми, усиливая таким образом оригинальную чудовищность своего пошиба.
Между русскими рукописями существенное дополнение к этим двум болгарским предлагает Петербургская со Словами Григория Богослова, XI в. В орнаментации ее, как свидетельствуют образцы в упомянутом выше исследовании г. Будиловича, оказываются характеристические особенности той и другой, с присоединением и своих собственных, о которых теперь говорить неуместно. Так же, как Слепченская, она удерживает византийскую архитектонику букв и дает целые фигуры зверей и птиц, искажая в них византийский натурализм фантастичностью неумелого рисунка; но, вместе с тем, на манер орнаментации Хиландарской, пользуется змеиными извитиями, как, например, в букве М (см. выше, рис. 18), по своему пошибу относящейся к одному разряду с Хилиндарскими (см. выше, рис. 13–17) С, Р, С, Ж – 5, 8, 19, 25 –, пользуется спиральными линиями, как в Хиландарской заставке – 1 (см. выше, рис. 75) –, и, наконец, как в обеих болгарских рукописях, превращает византийский листок в голову чудовища с глазом и ушами. См. у г. Будиловича букву В.
В рассмотренных доселе рукописях мы видим борьбу зарождающихся элементов болгарской орнаментики с византийским преданием. Иное остается еще в своей классической неприкосновенности, иное насильственно ломается, и из этой ломки и порчи традиционных форм возникают новые образы, наивные и неуклюжие в сравнении с античным изяществом, но выкупающие его утрату смелостью новизны и оригинальной характерностью, которая дает свежий источник для художественного творчества. Посеянное зерно византийской традиции должно было бы с болью разрушится, чтобы дать живой росток славянскому орнаменту. Следующие выпуски издания г. Стасова, без сомнения, дадут нам новые зрительные аппараты для микроскопического наблюдения над этими славянскими зачатками; но и теперь, из того, что издано в первом выпуске, можно со смелостью заключить, что великое дело создания славянского рукописного орнамента уже совершилось в XI и XII вв., и что дальнейшее его развитие постепенно и естественно исходит от этих зачатков, и каковы бы ни были посторонние в него внесения, они претворялись в плоть и кровь живого и живучего организма.
Можно надеяться, что эти смелые порывы творческой фантазии в раннем болгарском орнаменте дадут мастерам разных промышленных изделий такие образцы, которые внесут в их узоры характеристичное разнообразие и освежат оригинальными подробностями монотонность господствующих теперь сплетений.
Новый период в истории славянского орнамента ведет свое началоот попыток к искусственной обработке грубых набросков, хотя и смелой, но непривычной руки, и к гармоническому их сочетанию в более приятное на взгляд целое, именно тот период, который потом достигает своего высшего развития в русском стиле XIII–XIV вв., состоящем в тератологических сплетениях, мастерски выработанных, будто ювелирные изделия. Но на основании каких данных и при каких средствах могли возникнуть эти художественные попытки, когда в стиле болгарском уже укоренились те ломаные и уродливые формы, о которых мы только что говорили? Для этого не надобно было славянским писцам далеко идти за поисками, так как они желаемое ими и требуемое для прикрасы своих орнаментов с лихвою могли находить в тех же художественных источниках Византии. Потому уже одновременно со школами писцов, упражнявшихся в грубой тератологии, в том же XII в. начали процветать и такие школы, которые, исправляя ее неуклюжести, давали ей изящную отделку.
Охридская Псалтирь 1186–1196 гг., в Университетской Библиотеке в Болонье – табл. IV –, с которой по орнаментации сходствуют, как уже замечено мною прежде, наши рукописи: Юрьевское Евангелие 1120–1128 гг. и Евангелие Добрилово 1164 г и некоторые другие, – при сильном господстве еще византийского стиля, предлагает начатки сплетенных тератологических фигур, и не только в буквах, как у нас в XIIв., но (рис. 91) и в заставке – 1 –, и именно в такой, какая стала у нас господствующей в орнаментации XIII–XIV вв., о чем тоже было уже замечено выше80. Как в Хиландарском Паремейнике чудовищность змеиного орнамента в заставках соответствует такой же чудовищности в прописных буквах, где она преимущественно и вырабатывалась, так и Охридская заставка состоит в зависимости от орнамента буквенного, что очевидно явствует из сличения обеих переплетенных птиц в заставке с такими же в двух экземплярах буквы Б – 2 (рис. 92), 17 –. Ту же зависимость от букв, как будет указано ниже, мы заметим в заставке (см. выше, рис. 32) сербской рукописи Иоанна экзарха Болгарского 1263 г. – XIX, 1 –, в заставке, совершенно сходной с Охридской. Ни в Юрьевском, ни в Добриловом Евангелии подобной заставки еще нет, но значительно осложненная она принята уже (см. выше, рис. 30) в русском Евангелии XII–XIII в. в Румянцевском Музее№ 104 (у Бутовского табл. XXVII). Не смотря на замечательно близкое сходство такой заставки с западными
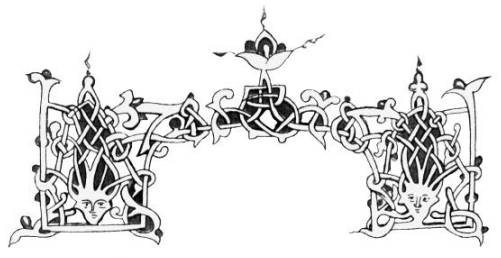
91. Заставка из Охридской Псалтири 1186–1196 гг. (Библ. Болоньского Универс.)

92. Б – из Охридской Псалтыри 1186–1196 г. (Библ. Болоньского Универс.)
93. Б – из Толковой Псалтири XII в. (Имп. Публ. Библ.)
94. Б – из Охридской Псалтыри 1186–1196 г. (Библ. Болоньского Универс.)
92, 94. Из Охридской Псалтири 1186–1196 гг. (Библ. Болоньского Университета)
орнаментами, указанное мною выше, органическая ее связь с прописными буквами в двух названных рукописях, одной болгарской и другой сербской, не оставляет сомнения, что она сама собою вылилась из-под руки писца, привыкшей к составляющему ее орнаменту на частом его повторении в прописных буквах. Остается заметить, что орнаментация Охридской Псалтири так же, как и названных трех русских Евангелий81, выведена только киноварью, без всякой другой раскраски, и, сверх того, в Охридской рукописи и Румянцевской № 104 киноварные узоры кое-где отчетливо и стройно, с большим вкусом, тронуты рядами черных точек и черточек, а иногда и пройдены черным рисунком, легко и изящно. Этот художественный прием особенно приятно ласкает зрение после только что прошедших перед нашими глазами неряшливо накиданных красных пятен, которыми покрыты чудовищные фигуры в Слепченском Апостоле.
К разряду рассматриваемых теперь рукописей надобно отнести и упомянутую выше Толковую Псалтирь в Императорской Публичной Библиотеке, с раскрашенными орнаментами. Один из них (рис. 93), в букве Б –II, 23 –, на безногом туловище, сплетенном ремнями, протягивающий длинную шею со звериным рылом, из пасти которого торчит ветка, завязанная узлом –, по общему составу сходствует с узорными буквами в Охридской Псалтири – 6, 18 (рис. 94) – в Орбельской Триоди XII–XIII в. –VI, 12 (рис. 95) –, а у нас в Юрьевском Евангелии (у Бутовского табл. XIX).

Тот же благоустроенный стиль, но на иной манер, свидетельствующий о другой школе писцов, предлагает нам Орбельская Триодь XII–XIII в., в библиотеке Верковича – табл. V и VI –. Орнаменты такого же художественного достоинства, как и в только что указанных рукописях, но они потеряли довольно в тонкости, отчетливости и деликатности рисунка, потому что, вместо линейных очерков киноварных, они густо покрыты желтой, красной и зеленой краской, за исключением (рис. 96) одной буквы, в виде птицы, именноС –VI, 9 –, в которой к этим трем краскам прибавлены очень удачно черные узоры и полосы. Дажерисунок выведен не тонким пером, а кистью, которой замалевано и его нутро. Повсюду веет благочинностью и спокойной ясностью византийского духа, и в заставках, и в буквах, несмотря на тератологическую примесь, и самые сплетения не вяжут и не насилуют фигур, а больше их украшают, как
95. Б 96. С
95–96. Из Орбельской Триоди XII–XIII в. (библ. Верковича)
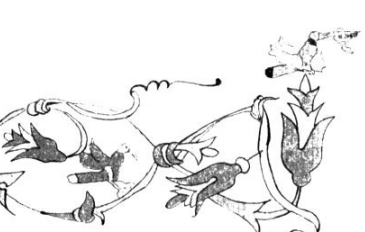
97. В 98. Е 99. Р
97–99. Из Орбельской Триоди XII–XIII в. (библ. Верковича)
разноцветные ленты. В букве В –VI, 22 (рис. 97) – полосатыми лентами спеленута от шеи до хвоста вся птичка, составляющая эту букву, – будто с намерением, чтобы она не вспорхнула и не унесла в себе эту букву из рукописи. В двух экземплярах буквы С VI, 9, 13 –, состоящей тоже только из птички, широкая лента, со вкусом завязанная узлом, составляет ее хвост. Для буквы Е –VI, 16 (рис. 98) – просто брошен в вертикальном направлении как бы пояс, узорчатый; в середине он завился петлей, для серединного выступа буквы Е, внизу оканчивается бахромой в виде окраины цветочных лепестков колокольчика, а вверху – птичьей головкой, как бы пряжкой на поясе. Мастер не предается безотчетному порыву в погоне за чрезвычайным, несбыточным и недомыслимым, как это мы видели в Хиландарском Паремейнике и Слепченском Апостоле, – но сознательно вникает в смысл того, что хочет изобразить. Следуя византийским образцам, он с особенным расположением пользуется человеческой рукой для выражения человеческой воли и разумения. То она, для буквы Р –VI, 10, 19 (рис. 99) –, со сложенными на благословение перстами, поднялась вверх на красивом столбике буквы; то в заставке –V, 2 (рис. 100) – и в букве Б –V, 14 – поражает мечом высунувшуюся наружу из сплетений змеиную голову; то (рис. 101) держит сучок, от которого идут полукругом загнутые ветви, переплетенные в плетень, для буквы С – V, 11 –, или же держит столбик, покрытый перекладиной, для буквы Т – VI, 7, 14 (рис.102) –. А то эту же букву (рис. 103) до половины с нижнего конца проглотила звериная пасть, которой голова с ошейником поднимается на длинной шее, внизу оканчивающейся в своих узорах бахромой – VI, 26 –. Вообще во всей орнаментации чувствуется что-то осмысленное и созидательное, а не разрушительное, что-то ясное и спокойное, а не буйное и порывистое. Современная промышленность может найти в ней для своих изделий не малую поживу.

100. Заставка из Орбельской Триоди XII–XIII в. (библ. Верковича)

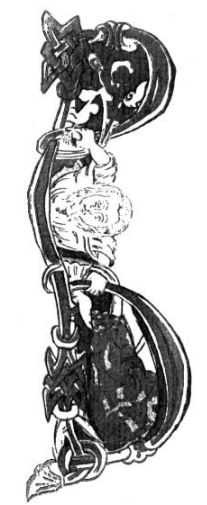
101. С 102. Т 103. Т
101–103. Из Орбельской Триоди XII–XIII в. (библ. Верковича)
Еще лучшую добычу даст нашим золотых дел мастерам Евангелие Народной Библиотеки в Белграде, XII–XIII в. – табл. VII –. Здесь болгарский орнамент достиг высшего совершенства, как в рисунке, так и в колорите, какое только могло ему быть доступно. Ко всем достоинствам, указанным мною в Орбельской Триоди, мастер Белградского Евангелия, очевидно, принадлежащий к другой школе, присовокупляет необыкновенно тонкий и отчетливый очерк чернилами, которыми с замечательной легкостью выводит подробности орнамента; и, вместе с тем, обладает чувством колорита, как никто из прочих болгарских орнаментаторов. Унаследовав себе стиль византийской эмали и мозаики, он понимает взаимное отношение между рисунком и колоритом и художественное их слияние в одно гармоническое целое. Располагает он немногими красками, но как мастерски ими пользуется! Кроме цвета чернил, с синим, будто сталь, отливом, у него были под руками всего только киноварь да охра. Правда, в миниатюре (см. ниже, рис. 111), изображающей евангелиста Марка, он не поскупился для свечей в подсвечнике и на золото, но в орнаментации обошелся без него, потому ли, что дорожил этим ценным материалом, или же не хотел нарушить пестротой гармонию колорита, почему не допустил он и краски зеленой, которая была распространена у болгарских писцов разных школ.


104. Ч 105. М 106. В
104–106. Из Евангелия XII–XIII в. Народной Библии в Белграде
Чтобы достигнуть своей художественной цели, мастер дает каждой подробности в орнаменте, выведенной черным очерком, свою отдельную краску. Так (рис. 104) в букве Ч – 9 – византийский столбик разделен пополам вертикальной линией: одна половина покрыта желтой краской, другая красной; вверх для чашечки этой буквы симметрично поднимаются две змеи черного цвета, будто капитель на колонне, и обращают друг к дружке свои желтые головки, с красными ушами и красными же языками, и с черными глазами. Мастер постоянно заботиться дать глазу его натуральный вид, и для того рисует черный зрачок по белому его белку, который, вырезываясь на черном или желтом фоне звериной, змеиной, птичьей или рыбьей головы, дает ей такую светлую зрячесть, как ни в одной доселе рассмотренных нами иллюстраций – 3, 5, 17 (рис. 105), 18, 25, 27, 29 –.
Иногда мастер пользуется в видах колорита белым цветом пергамента, присоединяя к цветным подробностям белую, которая своими полосами пересекает цветные: так, например, (рис. 106),белая змея, нежно покрытая черными и красными черточками, извивается своими хвостами по двум развалинам сучка, одной желтой и другой красной, которые, для образования буквы В – 12 –, суживаясь кверху, соединяются в белой же змеиной морде, для верхнего овала буквы, пропустившей свой длинный белый нос между желтыми и красными листиками. Иногда белая фигура по черному ее абрису оттеняется красной полоской, как в букве Р – 14 –. Иногда нутро буквы покрыто сплошной краской, на которой рельефно выступает сплетенный из полос орнамент; например, в букве В по красному фону черные и желтые полосы, или по желтому – черные и красные – 7, 19 –; а то между цветным сплетением сквозит белый фон пергамента, как в буквах В и Б – 6, 20.
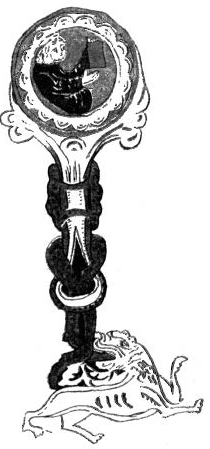

107. Р 108. Р 109. Р 110. Л
107–110. Из Евангелия XII–XIII в. Народной Библии в Белграде
В вымысле фигур, соединяющих в себе болгарские элементы с византийскими, господствует изящная простота, не редко достойная античного стиля. Мастер умеет пользоваться малосложными средствами, чтобы выразить свою мысль. Благословляющая рука (рис. 107), поднятая вверх, рыба, заяц (рис. 108), стоящий на задних ногах, даже один только жгут (рис. 109) или столбик для него – буква Р – 4, 5, 27, 15, 21 –; палочка с орнаментом на обоих концах, которую держит рука или звериная морда в своей пасти (рис. 110) – это буква Л – 16, 18 –. Сплетения, впоследствии доведенные до излишества, как у нас в XIII–XIV вв., составляют здесь принадлежность не более, как только одной половины орнаментов, и то в очень умеренных размерах, не запутывая и не заслоняя главной фигуры своими извитиями, чему вместе с тем не мало способствуетколорит, которым постоянно отличаются ремни от того, что они связывают и переплетают.
В отделке подробностей замечается то натурализм византийского происхождения, то стилизация, частью византийская, частью болгарская или вообще средневековая. Так, упомянутый выше заяц, в желтой шкурке с красными пятнами, ведет свою породу из византийских миниатюр, через Изборник Святославов 1073 г., в котором он тоже стоит на задних лапках и с такими же не в меру длинными ушами, только золотыми82, тогда как мастер Белградского Евангелия, следуя принятой им манере, живописно отличил в заячьих ушах желтую шерсть наружной их стороны от внутренней, покрыв ее красной краской – 27 –. Но туловищу рыбы – 5 (см. выше, рис.61) – дал он стилизованную отделку в виде шахматной доски из черных и красных квадратиков. Кроме того, пользуясь манерой золотых дел мастеров, разлагает он члены животного на отдельные пластинки, которые потом соединяет друг с дружкой не как органические части животного, а как узорчатые фигуры, одна к другой привинченные или припаянные, и при этом для каждой пластинки пользуется отдельным колоритом, что, впрочем, при малом числе красок, не бьет в глаза пестротой – 17 (см. выше, рис.105), 24, 29 –.
В этой орнаментации мы имеем дело с настоящим мастером, который сознательно относился к своей работе и ясно понимал, как и что хотел он изобразить. Это могли мы заметить и в предложенном анализе, но, сверх того, сам мастер лично от себя уверяет нас в сказанном и как бы свидетельствует о том своей собственной подписью. А именно: в миниатюре (рис. 111) представил он евангелиста Марка сидящим с книгой перед подсвечником с тремя упомянутыми выше золотыми свечами. Над три арки; из них обе крайние упираются – каждая на свою колонну; из-под арки спускаются две лампады, а каждая из обеих колонн имеет своей капителью львиную голову.83 В надписи под арками означено: Львов образ а се кандила. и свещ. . . Что в надписях называются предметы, изображенные в миниатюре, – это дело обыкновенное, как и здесь кандила, то есть, лампады, и свещ., то есть свещник или свещи; но, чтобы вникать в смысл орнамента и принимать его за сюжет самой миниатюры, то есть, капители назвать львовым или львиным образом – такую надпись мне только здесь пришлось прочесть в первый раз в нашей славянской письменности. Скажут, что надпись, может быть, начертал не сам орнаментатор, если не сам он был и писцом рукописи; но, во всяком случае, надпись эта была помещена не без ведома мастера, и не только сам мастер, но и товарищ его, писец рукописи, умели истолковывать орнаменты и относится к ним сознательно.
* * *
Рассмотренными доселе рукописями я ограничиваю подробный анализ, в котором я думал коснуться самых корней того болгарского древа, которое распростерло свои узорчатые ветви и по другим славянским племенам, и только русский отсадок, ранее этих последних укоренившись у нас, разросся еще более широким и развесистым деревом, чем болгарское, хотя и пошел от

111. Миниатюра из Евангелия XII–XIII в. (Народная Библия в Белграде)
него. Связь русского орнамента в его позднейшемразвитии с прочими соплеменными объяснена мною выше. Теперь мне остается только сделать общее обозрение, коснувшись немногих особенностей, более достойных замечания.
Болгарский орнамент, как он представлен в издании г. Стасова, оказывает поразительную бедность, почти полное отсутствие в течение всего XIV века, именно в тот период, когда у нас в таком неисчерпаемом обилии художественно выработанных форм развился стиль тератологических сплетений. Из шести рукописей, давших г. Стасову образцы для таблицы VIII, только одна XIV в., именно Дечанская Псалтирь Императорской Публичной Библиотеки (из собрания Гильфердинга), по орнаментации ничего характеристичного не представляющая, как и другая того же века, Евангелие в Академической библиотеке в Загребе, и притом эта последняя не чисто болгарская, а болгаро-сербская, то есть, переписанная с болгарского оригинала в Сербии или сербом. Остальные четыре рукописи –XIII в.; как и разобранные мною выше XII–XIII вв., они по развитию орнамента более или менее соответствуют нашим Евангелиям – Юрьевскому 1120–1128 гг. и Добрилову 1164 г. и некоторым другим, в которых разрабатывались элементы для нашего русского стиля XIII–XIV вв. В VIII таблице указываю из болгаро-сербского Евангелия XIII в., находящегося, как и названное выше, в Академической библиотеке в Загребе, на два орнамента буквы В – 15 (см. ниже, рис. 131), 21 –, в которых принята человеческая голова, еще в грубой форме, которой высшее художественное развитие будет указано в орнаментации сербской –XXI, 2 –.
Затем, с таблицы IX начинаются XV и XVI вв. и последовательно восходят до XVIII в., в табл. XIII. Так ка этот позднейший стиль в общем характере и в частностях сходствует с нашим, тоя коснусь только немногих подробностей.
Из Севлиевского Евангелия XVI в. в библиотеке г. Сырку взята необыкновенно изящная заставка. Она состоит (рис. 112) из переплетенных ремней, которые, как Медузины змеи, исходят в виде толстых волос от двух человеческих голов и расходятся в своих извитиях по всей заставке –IX, 7 –. Слич. (рис. 113)

112. Заставка из Севлиевского Евангелия XVI в. (библ. Сырку)
сходную с ней сербскую XVв. –XXIV, 14 –, только с одной головой, а змеи заменены сплетенным из ремней украшением, и сквозной легкий переплет болгарской заставки отягощен в сербской, густым колоритом разноцветного фона.
Из того же Севлиевского Евангелия взяты две буквы З и К –X, 3 (рис. 114), 2 – очень большого размера, с длинными хвостами поперек всей страницы рукописи, из цветочной гирлянды с птичками, на

113. Заставка из Акафиста Живоносному Гробу и Воскресению Христову XV в. (Библ. Ученого Дружества в Белграде)
западный манер и в западном стиле. Заставка –X, 1 (рис. 115) –, по светло-зеленому полю, из сплетенных белых веточек с красными ягодками в виде шариков, по одному, по три и более; а посреди, на белом пространстве, округленном теми же ветвями, изображен евангелист Матфей, как Моисей (см. выше, рис. 49) в заставке того же позднейшего фряжского стиля в Геннадиевской Библии 1499 г.84
Наполнение ременных сплетений фигурами зверей и птиц, но не столько связанными и перепутанными, как у нас в XIV в., а более свободными и потому в более натуральном виде, встречается в болгарских заставках XVI и XVII вв. – табл. XI, 1 (рис. 116), 6 –. Слич. у нас в XV в. по изданию Бутовского в табл. LV.
Обращаюсь к орнаменту сербскому – табл.XIV–XXVII –. По изданию г. Стасова он доведен до XVIII в., но начинается только с XII в., когда он явился уже в полном своем расцветет, разделившись на школы, отличающиеся между собой по степени художественного развития и по источникам и пособиям, которыми
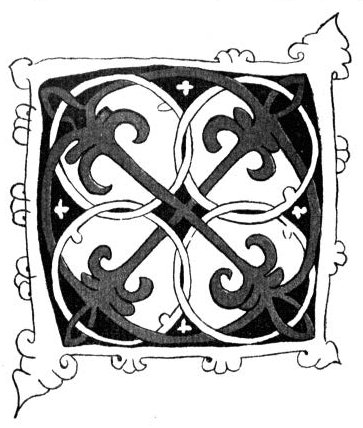

114. З – из Севлиевского Евангелия XVI в. (библ. Сырку)
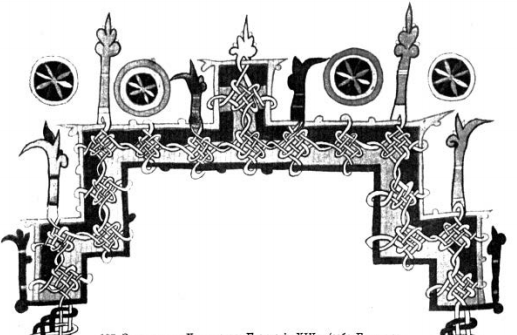
они пользовались. Сербский орнамент по внешнему изяществу превосходит все прочие славянские, не исключая и болгарский, но в оригинальности и внутренних качествах далеко уступает этому последнему. Как явление уже позднее, он должен быть возводим к своим началам по рукописям болгарским и по нашим XI и XII вв., и притом представляет в своих школах уже в XII в. неожиданную примесь западного элемента в довольно чувствительных размерах, а, вместе с тем, даже в XIII в. пользуется такими архаическими формами, которым по древности уступают соответствующие
115. Заставка из Севлиевского Евангелия XVI в. (библ. Сырку)
болгарские XII в. Будучи оторван от ранней исторической почвы, сербский орнамент при самом своем появлении в XII в. должен был разложится на анахронические противоречия и, подвергшись соблазнительному веянию с Запада, обнаружить наклонность к замене стилизованных форм живописными, то есть, к превращению собственно орнамента в миниатюру, а, вместе с тем, и вообще к проявлению изящного вкуса в подробностях, заставившего орнаментаторов ценить классический стиль византийского предания. Одним словом, в сербском орнаменте XII и XIII вв. мы находим уже первый и решительный шаг к тому стилю возрождения, который оказывается в нашей русской письменности XV и начала XVI вв.
Только что сказанное вполне оправдывается орнаментацией Евангелия Мирославова, из Хиландарского монастыря, XII в., которой у г. Стасова начинаются сербские материалы – табл. XIV и XV –. На первой таблице

116. Заставка Евангелия XVI–XVIIв. из города Татар Пазарджика (библ. Сырку)
они воспроизведены в красках и с золотом, во второй (по снимкам Севастьянова) только киноварными очерками. Уже самая величина букв своими необычными в византийской, болгарской и русской орнаментации размерами указывает на западные образцы, иногда занимающие собой целую страницу латинской рукописи –XIV, 2, 3, 4, 6 –. Как в миниатюре, фигуры, довольно натурально написанные, приводятся в известном, определенном действии. В букве В – 2 (рис. 117) – человек, изображенный по грудь, обеими руками, обнаженными по локоть, с очевидным усилием тянет к себе тот и другой овал этой буквы, поместившись между обоими. В другом экземпляре буквы В – 6 – человек, сидя вверху, веревкой тащит к себе зверя, захлестнув ею его шею, и поражает его рогатиной в пасть. В букве З – 4 (рис. 118) – сидящая у фигурного жезла птица, извивая свою длинную шею, ущемила своим клювом

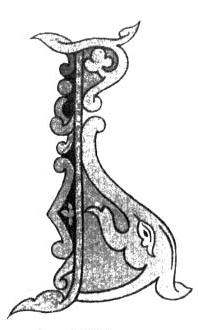

117. В 118. Р
117–118. Из Мирославова Евангелия XII в.
завязанный узлом хвост змеи, которая соей пастью вцепилась в золотой наконечник того жезла. Другой экземпляр буквы Р – 3 – представляет (рис. 119) на звере водруженную колонну, которая вверху своими орнаментами охватывает медальон или щит: в нем изображена человеческая фигура с книгой. Подобные щиты с помещенными на них человеком или животным довольно обыкновенны в западной орнаментике прописных букв; например, по одной латинской рукописи XI в. в колоссальной букве V два щита с человеческой фигурой в каждом85; еще ранее, в Библии Алкуина колоссальная же буква Р, между своими орнаментами, содержит тоже два щита: в одном человеческая фигура, в другом птица86. Вообще, вся эта таблица XIV представляет в орнаментации нечто совершенно особенное, небывалое, даже скажу – невозможное для славянских рукописей, писанных кириллицей, не только XII в., но и гораздо позднейших. Орнаментатор, как живописец, отличает зверей и птиц по породам, дает им соответственное движение или покойную позу, равно как и человеческим фигурам; искусно вырабатывает подробности своей миниатюры и обладает чувством колорита в гармоническом сочетании красок и в живописном приноровлении их к натуре изображаемых предметов, как на Западе мастера XII и XIII вв., или как ранее их предшественники первых веков христианства на Западе и на Востоке, еще не утратившие классического предания. Таблица XV, с орнаментами, выведенными только киноварью, из того же Мирославова Евангелия, при том же живописном изяществе содержит в себе более следов византийского стиля и, не смотря на мастерскую обработку фигур, заявляет о сродстве их с гораздо менее искусными и более наивными в нашем Юрьевском Евангелии 1120–1128 гг.

Евангелие Жупана Вукана 1199–1200 гг. (из собрания епископа Порфирия) принадлежит совсем к другой школе писцов – табл. XVI–; и сближается по стилю с болгарским орнаментом Орбельской Триоди XII–XIIIв. – табл. V и VI –, только рисунок выведен чернилами, и потому тщательнее и точнее, и колорит
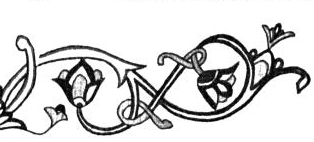
119 Р. 120. Р 121. I
119. Р – из Мирославова Евангелия
120 ‒ 121.Из Евангелия Жупана Вукана 1199–1200 гг.
разнообразнее. Так же, как там, тонкие ремни, спутывающие своими сплетениями фигуру, превращены и здесь в широкие полосы, наподобие лент с разноцветными каймами – 2, 8, 12 (рис. 120), 13 –. Прекрасный образец для подражания в промышленных изделиях предлагает (рис. 121), по своей изящной простоте и наивной осмысленности, буква I – 15 –, состоящая из красного сучка, с прорезанными кое-где черными проймами,сквозь которые продеты изогнутые прутики розового и желтого цвета; верхушка сучка загибается двумя тоненькими черными усиками. По архаичности и по колориту, более бледному, отличается от других буква В – 7 –, в которой верхний овал, на древнеболгарский манер, представляет превращение листа в звериную голову с глазом и ушами87.


122 Р. 123
122. Р – из Евангелия XIII в Ватиканск. Библ. в Риме, № 4.
123. Фронтиспис из Оливеровой Минеи 1342 г. (Народн.Библ.в Белграде, № 62)
В Ватиканском Евангелии XIII в. – табл. XVII –, еще иной школы писцов, орнамент (рис. 122) из переплетенных ремнями фигур, нераскрашенных и только выведенных киноварью по синему полю, напоминает наши XIII и XIV вв., например, у Бутовского в табл. XLIX, только проще и менее отягощен сплетениями. Он представляет, как бы переход от Юрьевского Евангелия 1120–1128 гг. к сложному и роскошному орнаменту в русских рукописях обоих позднейших веков.
В таблице XVIII орнаменты из пяти рукописей XIV в., принадлежащие по малой мере к трем разным школам, замечательны тем, что по своему стилю составляют преддверие к художественному возрождению в славянской письменности XV и XVI веков. В фронтисписе Оливеровой Минеи 1342 г. (рис. 123) мы видим художественное воспроизведение византийских образцов в несколько обновленном виде – 1 –. Дечанское Евангелие в Императорской Публичной Библиотеке (из собрания Гильфердинга) предлагает (рис. 124)

124. Заставка из Дечанского Евангелия XIV в. (собр. Гильфердинга, Имп. Публ. Библ.)

125. Орнамент из Евангелия XIV в. Народн. Библ. в Белграде, № 232
заставку кругов или венков, которые состоят из сплетенных ремней, именно такую, какая сделалась общим местом в славянской орнаментации XVв. – 2 –. Орнаменты в форме одного круга или одного квадрата, как в Триоди и Евангелии из Народной Библиотеки в Белграде – 13 и 14 (рис. 125) –, напоминают подобные же в Псалтири Троицко-Сергиевой Лавры второй
половины XV в., по изданию Общества любителей древней письменности, под моей редакцией, № LII–LXXIV, табл. 57 и 58.
Самый неожиданный сюрприз между щегольскими орнаментами сербскими дает нам (см. выше, рис. 32) в следующей таблице XIX заставка маститой старины во всей простотеи неуклюжести раннего стиля тератологических сплетений. Это именно в Шестодневе Иоанна экзарха Болгарского 1263 г., в Синодальной Библиотеке в Москве – 1 –. О ней не раз уже было упоминаемо мной в сравнении с русской заставкой по изданию Бутовского в табл. XLIX (см. выше, рис. 33) и взятой оттуда Виолле-ле-Дюком в его книгу о русском искусстве, в табл. IX. Как мог появиться в одной из сербских школ в такое позднее время этот архаический орнамент, столько чуждый всему остальному, что мы видим в сербских рукописях XII–XIV вв., – объяснить это иначе нельзя, как только точной копией с очень раннего болгарского оригинала. Этот оригинал должен был предшествовать рассмотренной нами выше (см. рис. 91) подобной же болгарской заставке в Охридской Псалтири 1186–1196 гг. в Университетской библиотеке в Болонье –IV, 1 –. Эта последняя заставка отличается уже большей выправленностью и искусственностью в отделке киноварью и чернилами, в общем стиле с прописными буквами. Согласно закону исторического развития славянского орнамента, заставка в сербской рукописи 1263 г. состоит еще в большей зависимости от узоров прописных букв, чем Охридская, как это явствует (рис. 126) в букве В, на том же самом листе Шестоднева, где написана и та заставка88. Очень жаль, что эта характеристическая буква не приведена в издании г. Стасова.Таблица XX, c орнаментами из пяти рукописей XIV в., из коих две означены годами, одна 1372 г., и другая 1388 г., предлагает нам тот же художественный стиль, который к нам пришел в рукописи XV в., то есть, с заставками в кругах из ременных сплетений. Заставка – XX, 1 – (рис. 127) Хлудовского Евангелия (из собрания Гильфердинга) по школе согласуется с украшениями Оливеровой Минеи 1342 г. – XVIII, 1.
К объяснению перехода в истории русского орнамента от Юрьевского Евангелия 1120–1128 гг. к нашим рукописям XIII–XIV вв. служит, вместе с другими выше указанными болгарскими и сербскими памятниками, Хиландарское ЕвангелиеXIV в. (по снимкам Севастьянова) – табл. XXI–XXII –. Только орнаменты в этой поздней рукописи, будучи подчинены художественному обновлению, отличаются выправкой рисунка на новый манер и богатством колорита, для которого были употреблены желтая,

126. В – из Шестоднева Иоанна экзарха Болгарского 1263 г. (Московск. Синод. Библ., №345)
оранжевая, красная, розовая,синяя и зеленая краска. Ременными переплетениями связаны не все тератологические фигуры, и то слегка, не нарушая их очерка и давая им свободу в движении и постановке. Иные носят на себе следы ранних источников, как, например, стоящий на четырех ногах зверь, а вместо головы поднимается у него высоко только одна шея, которая вверху завивается в клубок, завязанный узлом из сплетений; или другой зверь, поднявшийся на дыбы, так прирос своей желтой шкурой к древесной ветви того же цвета, что составляет с ней одно целое: оба эти экземпляра означают букву В –XXI, 8 (рис. 128),

127. Заставка из Хлудовского Евангелия XIV в. (собр. Гильфердинга, Имп. Публ. Библ.)
12 –. К остаткам старины принадлежит тоже (рис. 129) в букве В – XXII, 6 – нижний ее овал, состоящий из большого листа, которыйна древнеболгарский манер, смотрит глазом: подновление оказывается только в том, что лист оранжевый, а глаз на нем белый, старательно вырисованный киноварью, причем нижнее его веко выведено такими же вырезами, как и самый лист, на котором он помещен. Живописный стиль поздней школы особенно наглядно выступает из сравнения буквы Р –XXI, 2 – (рис. 130) с двумя экземплярами В болгаро-сербского Евангелия


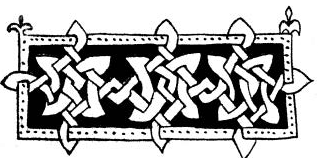
128. В 129. В 130. Р
128–130. Из Евангелия XIV в. Хиландарского монастыря
Академической библиотеки в Загребе, XIIIв. –VIII, 15 (рис. 131) и 21 –. Во всех трех буквах верхний овал образуется из человеческого лица: в Загребском Евангелии оно, как условная стилизованная форма, составляет нераздельную часть столбика буквы, ил его капитель, когда он поднимается в виде колонны, или архитектурное украшение под аркой, когда вверху он сгибается полукругом; что же касается до Хиландарского Евангелия XIV в., то в нем несравненно искуснее вырисованное лицо, покрытое зеленой краской, с каштановыми волосами и такой же небольшой бородкой, написано на знамени, снизу закругленном для овала буквы Р, которое водружено на древке с фигурными перемычками в византийском вкусе.
Затем на пяти таблицах – XXIII–XXVII – позднейшая орнаментика XV–XVIII вв., в стиле славянского возрождения, ничего особенного не представляет, за исключением трех рукописей в Библиотеке сербского Ученого Дружества в Белграде, одной XV в. и двух XVI в. – табл. XXIV –. Из них Акафист Живоносному Гробу и Воскресению Христову, XV в., предлагает (см. рис. 113) заставку – 14 –, которая, как замечено выше, по головному убору человеческого лица, напоминает две Медузины головы в болгарской заставке Севлиева Евангелия XVI в. в библиотеке г. Сырку –IX, 7 –; а из прописных букв –11, 12, 13 – Б (рис. 132) из перевития разноцветных ремней, с длинным хвостом из гирлянды с цветами на фряжский манер; затем Л (рис. 133), тожеиз разноцветных сплетений веточек, которые наверху покрыты горизонтально положенным цветком белой лилии, принявшим вид звериного рыла, от начертанного на нем глаза, а из отверстия, как из звериной пасти, торчит стебелек с цветком, расписанным разными колерами; наконец, буква В (рис. 134), нижний овал которой состоит из человеческой головы в шлеме, составленном из переплета ремней, поднятых вверх и завязанных узлом для образования верхнего овала этой буквы. Тот же художественный мотив представления целой буквы только под видом головы в шлеме принят и в другой из упомянутых трех рукописей, именно в Следованной Псалтири, XVI в., и также для буквы В – 4 (рис. 135), 8, 9 (рис. 136) –.
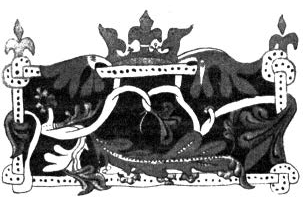


131 В 132 Б
131. В – из болгаро-сербского Евангелия XIII в. Акад.библ. а Загребе
132. Б – из Акафиста Живоносному Гробу и Воскресению Христову XV в. (Библ. Ученого Дружества в Белграде)


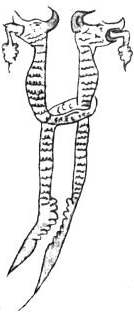
133. Л 134. В 135. В
133–134. Из Акафиста Живоносному Гробу и Воскресению Христову XV в. (Библ. Ученого Дружества в Белграде № 155)
135 В – из Следований Псалтири XVI в. (Библ. Ученого Дружества в Белграде, № 155)
Рукопись эта, по орнаментации принадлежащая к одной и той же школе с предыдущей XV в., едва ли не самая изящная из усвоивших себе стиль возрождения. Мастер располагал большим запасом красок, а также и золотом, но, внушаясь художественным чутьем, пользовался тем и другим умеренно, не желая отягощать замалевкой тонкого рисунка чернилами, на изящную обработку которого обращал преимущественно свое внимание, чтобы этой изящной простотой достигать художественного впечатления. Мастера нашего времени, которые для своих изделий будут пользоваться орнаментами этой рукописи, – можно надеяться – оценят по достоинству их высокие эстетические качества. Кроме сказанных головок в шлеме89, составляющих переход от стилизованного орнамента к живописи в миниатюре, как и упомянутая выше гирлянда XV в., в этой рукописи приняты и сплетения, преимущественно из белых ремней, иногда со змеиными головками, выведенных на фоне золотом или разноцветном – 5, 3 –. Старинные традиционные формы в руках мастера получают новый живописный вид; они сбрасывают с себя неуклюжесть средневековой неумелости так называемого романского стиля и, сообразно стилю возрождения, действительно возвращаются к живописности стиля античного, переданного нашим соплеменникам в византийских оригиналах. Так, например, известный византийский рисунок для букв, состоящей из руки, которая держит жезл, ветвь или что другое, постоянно имелся в виду у славянских орнаментаторов, которые в более или менее искаженном виде его воспроизводили. Сербский писец Следованной Псалтири старается дать этому традиционному сюжету живописный характер византийского стиля, соединяя натурализм со стилизацией сплетений, а именно: для буквы Р – 10 (рис. 136) – берет он палочку, которая с обоих концов, и с верхнего и с нижнего, сплетается ветвями ее отростков; ее держат две руки, очевидно левая и правая; пальцы с красными ногтями прижимают палочку, и только большой палец правой руки отходит от ладони и тянется вниз, непосредственно переходя в сплетающуюся ветвь; левая же рука, как следует, отделена от сплетений золотым поручем. Писать натурально и правильно руки было задачей наших орнаментаторов уже в XV в., как это указано мной в Следованной Псалтири Троицкой Лавры: см. в упомянутом выше издании Общества любителей древней письменности, составленном под моей редакцией, табл. 21, 57 и 58. Ефрем, епископ Радауцкий, художественно украсивший написанную им в 1619 г. Псалтирь, очень старательно подражал природе в изображенной им руке, которая за изящную ручку держит красивую четырехстороннюю рамку из узорных бордюров –XXXVIII, 6 –. Наконец, третья из рукописей, на табл. XXIV, содержащая в себе Евангелие, замечательна по роскошной заставке, которая составлена хотя и в XVI в., но принадлежит к одной и той же школе, которая в 1342 г. дала орнамент для Оливерной Минеи, и в том же XIV в. подобный же для Хлудовского Четвероевангелия (из собрания Гильфердинга).

Б Р
136. Из Следованной Псалтири XVI в. (Библ. Ученого Дружества в Белграде, № 155)
См. табл. XVIII, 1. XX. 1.Различие позднейшегопроизведения от двух ранних состоит только в том, что мастер пустил их вверх высокими побегами над архитектурными выступами заставки.


137. П 138. К
137–138. Из Таслиджского Служебника XIV в. (собр. Гильфердинга, Имп. Публ. Библ.)
Орнаменты прочих славянских земель, как уже замечено, относятся к позднейшему времени, не ранее XIV в. – табл. XXVIII–XXXIII –. Хотя в них заметно предание византийское, но оно сильно попорчено и подновлено частью, может быть, и разной другой примесью местного происхождения. При всем том, родственная связь с предшествующей историей вообще славянского орнамента явствует довольно наглядно.
В герцеговинском орнаменте Таслиджского СлужебникаXIV в., в Императорской Публичной Библиотеке, из собрания Гильфердинга – табл. XXVIII –, господствует смесь преданий лучшей эпохи – 1, 6, 9, 10, 11, 12 – с грубыми поделками, отличающимися безвкусием и аляповатой неумелостью – 2, 3, 4 –. Вбуквах П и Н – 10 (рис. 137), 11 – при византийской орнаментации столбиков встречается почти тот же между столбиками узел или бант, что в букве омеге в сербском Евангелии Мирославовом XIIв. –XIV, 9 –. Особенно характеристична (рис. 138) буква К (под заставкой 1-го номера): по колоссальному размеру и по намерению дать орнаменту, так сказать, смысл картины, буква эта носит на себе влияние западное, но по исполнению принадлежит к самому грубому пошибу лубочных картинок: человек, в зеленовато-синем кафтане с красными полосами от пояса до подола, стоит перед змеей, которая, образуя своим хвостом выгиб буквы к, поднимает свою голову вверх, с человеческим лицом и в короне, а изо рта выпускает маленькую змейку над обнаженной головой человека.
Подобный же узел или бант, как в Мирославовом Евангелии, замечается в другой герцеговинской рукописи XIV в., в Евангелии Гимназической библиотеки в Лайбахе, именно в букве М –XXIX, 3 –, и такой же лубочный пошиб в изображении евангелиста Иоанна, сидящего под аркой, которая опирается на столпы византийского стиля. Иоанн, в противность православному иконописному преданию, с длинными кудрявыми волосами короткой бородкой клином –XXIX, 4 –.
Такую же смесь самодельщины с художественными преданиями славяно-византийскими представляет орнамент боснийский в Апосьоле XIV в. Императорской Публичной Библиотеки, из собрания Гильфердинга – табл. XXIX–XXX –. Иные буквы обязаны своим изяществом именно этим преданиям –XXIX, 5, 10, 11, 12. XXX, 6, 7, 8, 9, 10, 13 –; другие в стиле тех же герцеговинских орнаментов, которые усвоили себе пошиб лубочных картинок, и притом, на западный манер, в колоссальных размерах букв, с человеческими фигурами, или же со змеями и драконами –XXIX, 6, 7. XXX, 11, 12 –; при этом должно заметить, что из первых орнаментов, по западному преувеличенному размеру букв, относятся к последним два экземпляра П и один В–XXIX, 10, 11. XXX, 13 –. Сравнивая изящную простоту и художественную отделку первых с безвкусием последних и с неумелостью их мастера справиться с подробностями, которыми он в излишестве уснащает орнамент, приходишь к двоякому заключению: или те и другие орнаменты принадлежат двум мастерам разных школ, или же, если они деланы одним и тем же, то для первых он пользовался лучшими образцами хорошего, старого стиля, а для вторых неумело копировал какие-то изделия, сильно тронутые влиянием такой западной орнаментации, в которой стилизация склоняется уже к живописному подражанию природе.

Этим объясняется крайняя невзрачность двух экземпляров буквы П –XXIX, 6, 7 (рис. 139) –каждый представляет две человеческие фигуры, безобразно начертанные и аляповато размалеванные: в
139. П – из боснийского Апостола XIV в. (собр. Гильфердинга, № 14, Имп. Публ. Библ.)
каждой паре они стоят, обратившись друг к дружке, и держат в руках как бы сучок, ветви которого распростерлись над их головами, будто зонтик. Удачнее писаны змеи и драконы, а также две птицы, отчасти в условном стиле металлических изделий с эполетами на крыльях, – но слишком обременены пестрыми подробностями –XXX, 11, 12, 2 –. Что же касается до орнаментов первого разряда, то некоторые из них по своему высокому достоинству могут быть причислены к самым лучшим болгарским старого стиля,

140. Д 141. С 142. Р
140–142. Из боснийского Апостола XIV в. (собр. Гильфердинга, № 14, Имп. Публ. Библ.)
каковы в БелградскомЕвангелии XII–XIII в. –табл. VII –, и, вместе с этими последними, могут дать такие же высокохудожественные образцы для промышленных изделий. Например, (рис. 140), буква Д – XXIX, 5 – представлена в самой простой форме, усвоившей толькообыкновенный чертеж этой буквы; он весь сделан из двух толстых черешков древесного сучка темно-желтого цвета, кое-где с накипью в виде почек; оба черешка внизу закругляются такой же почкообразной накипью, над которой горизонтально проведена прямолинейная планочка: это нижняя часть буквы Д; затем, оба эти черенка, образующие сучок, поднимаясь вверх, сходятся острым углом, который принял вид головы какой-то птички с глазом. Это вместе и настоящая буква Д, а вместе и птичка, крылья которой воображение может видеть в склонах обоих черенков. Еще (рис. 141) буква С –XXX, 8 –: она состоит, еще по византийскому преданию, из змеи; верхняя ее половина того же желтоватого цвета, что и сказанная Д, а нижняя – зеленого. Головка змеи вооружена бойко выгибающимся назад рогом, из пасти торчит красный завиток; зеленая половина внизу круто завилась хвостом, в который вонзилась красная стрела. Еще (рис. 142) буква Р –XXX, 6 –: состоит из столбика того же желтоватого цвета; левая его сторона гладкая, прямолинейная, а правая нарушает прямолинейность гнездом почек посреди и потом тоже внизу, давая таким образом столбику пьедестал. Вверху, в виде капители, налево высунулся рог или длинное ухо, соединяясь в вершине столбика со лбом, в котором красный глаз, а направо высовывается длинное рыло, из-под которого, для образования овала буквы Р, округлым выгибом идет широкий красный стебель, направляясь к столбику, и рассекает его посредине, расщепляя его прямой черной линией на две половины, и затем, высунувшись сзади, с левой стороны буквы, расширяется в красный же, большой, с вырезами, лист, который смотрит длинным, прищуренным глазом.
Черногорский орнамент в издании г. Стасова ограничивается лишь одной незначительной заставкой в византийском стиле, выведенной чернилами, из Жития св. Саввы, XVI в.
Один из наиболее заметных отделов этого первого выпуска составляет орнамент Патаренский, набранный из четырех рукописей XIV и XVвв., на двух таблицах –XXXIIиXXXIII–. С сильно отмеченным западным влиянием он соединяет некоторые характеристические особенности местного происхождения, впрочем, на постоянно предъявляющей себя основе византийского и ранних южнославянских стилей, болгарского и сербского. Каждая их четырех рукописей отличается от других своей школой, и в рисунке, и в колорите.
Орнаментация Никольского Евангелия XIV в. в Народной Библиотеке в Белграде – табл. XXXII –, очень изящная, предлагает искусный рисунок и богатый колорит, иногда украшенный золотом. Она разлагается на два стиля: один в заглавных буквах и двух заставках – 1 и 7 (рис. 143) – представляет изящное воспроизведение традиций византийско-славянских; другой – в остальных двух заставках – 8

143. Заставка из Никольского Евангелия XIVв. (Народн. Библ. в Белграде, № 112)
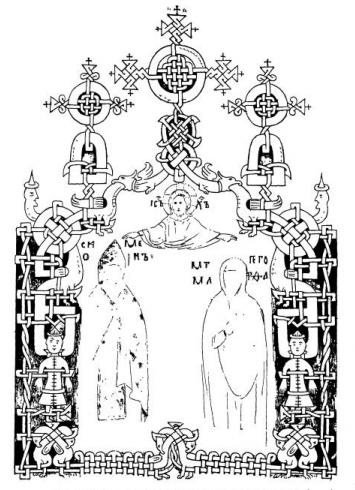
144. Заставка из Никольского Евангелия XIV в. (Народн. Библ. в Белграде, № 112)
(рис.144) и 10 и в букве П, составляющей как бы часть или придаток к одной из них, носит на себе характер западной орнаментики, как во фряжской листве, довольно натурально писанной, так и особенно в густом и сочном колорите с его теневыми переходами и отливами. В этих последних орнаментах богатство колорита доведено до роскоши в присоединении к нему золота.
Другое Евангелие из той же Белградской Библиотеки XIVвека – табл. XXXII –, при скромной раскраске, преобладающей киноварью, дает традиционным сюжетам славянской орнаментики новую отделку западного происхождения, состоящую в черных штрихах, усвоенных гравюрой, например, в киноварной фигуре орла – 16 (рис. 145) –, в буквах – 15, 20 –.
Хранящееся в библиотеке Болонского Университета Евангелие и Псалтирь Хвала Босняка 1404 г. – табл. XXXIII –, при меньшем разнообразии колорита, чем в Никольском Евангелии, отличается еще большей роскошью в украшении орнаментов золотом. По стилю оно относится к эпохе возрождения в славянской орнаментации.

145. Орнамент из Евангелия XIV в. (Народн. Библ. в Белграде, № 92)
Западный характер заглавных букв проявляется в длинных и тонких хвостах их, выведенных почерком в линиях с разными завитками – 5, 12, 15, 16 (рис. 146), 17 (рис. 147) –. На западный же манер орнамент заменяется картинкой; так (рис. 148) в букве П – 6 –, будто в окне или в двери, постановлена человеческая фигура, довольно натурально написанная.
Самый характеристичный из Патаренских орнаментов и один из замечательнейших во всем этом первом выпуске предлагает АпокалипсисXV в. в Библиотеке Пропаганды в Риме –XXXIII –. Здесь мы видим необычайную смесь элементов, начиная от ранних преданий византийско-славянского стиля до живописного в западном вкусе, с примесью разных фигур, в которых самодельщина боснийского мастера руководствовалась какими-то заносными извне или местными материалами, или же вкусом и привычкой, воспитанными наглядкой в окружающей мастера среде тогдашнего узорчатого производства разных фигурных изделий. В своем тексте г. Стасов, вероятно, даст ключ к решению этой загадки. Теперь же ограничусьтолько указанием на различные элементы в украшении этой рукописи. Во-первых, несомненно принадлежат к византийско-славянскому преданию многие из букв – 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 36 –: между ними, например, (рис. 149), буква И – 31 –, состоящая из двух змей, посреди между собой переплетенных для означения перечерка в этой букве; своими зубчатыми хвостами напоминают они гнезда бородавок или накипи древесных почек в Хиландарском Паремейнике XIIв. –III, 1, 20, 24, 25 –; две птицы(рис. 150), связанные по их шеям ремнем, для той же буквы – 36 –, ведут свое происхождение издалека, как свидетельствует в Белградском Евангелии XII–XIII в. болгарский орнамент – VII, 17 –, который уже в XIV в. был усвоен и в Боснии – XXX, 2 –. Во-вторых, под влиянием западных этот Патаренский орнамент принимает живописный характер картинки в изображении человеческой фигуры, которая занимается каким-нибудь определенным делом, причем некоторые подробности представлены в стилизованной форме, иногда и в стиле тератологическом. Вот, например,несколько картинок для изображения букв. Человек в красной одежде сидит на сплетении из ремней, от которых сзади, как бы для спинки стула, поднялись две змеи; сам же он трубит в рог – 23 –. Другой человек стоит и держит высокий сосуд с длинным горлышком и со стилизованным донышком в виде византийского листа – 24 –; еще тоже (рис. 151) стоит и держит жезл в виде стилизованного дерева – 37 –, или же прицепился к стволу колоссальной буквы В, которой овалы выведены двумя большими листьями – 33 –. В-третьих, два орнамента из человеческих фигур по своему архаическому стилю так необычайны, что могли бы быть отнесены к ирландскому самой ранней эпохи.

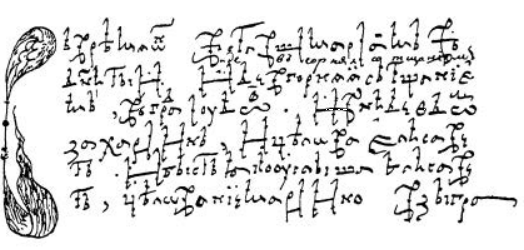
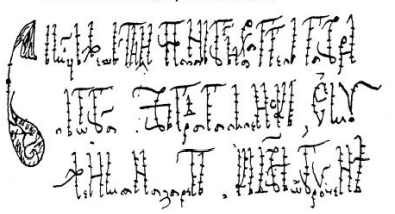
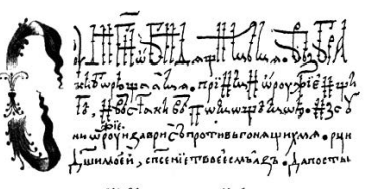
146. Б 147. О 148. П 149. И –
146–148. Из Евангелия и Псалтири Хвала Босняка1404 г. (Библ. Болоньского Университета)
149. И – из Апокалипсиса XV в. Библ. Пропаганды в Риме
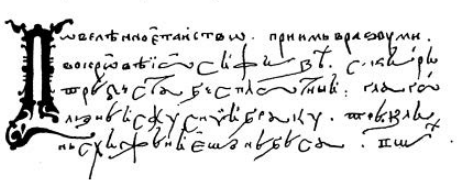
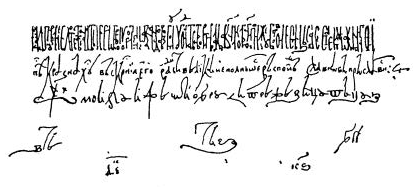
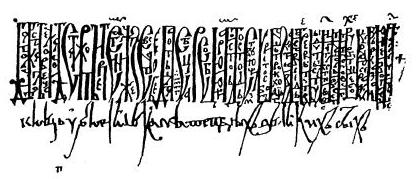
150–152. И – из Апокалипсиса XV в. Библ. Пропаганды в Риме
В одном (рис. 152) орнамент – 27 – две такие фигуры,тонкие и длинные, своими ногами переплелись в четвероугольной раме, на которой они сидят90. Стилизованный из разноцветных полос корпус другой фигуры – 30 – напоминает наивную, первобытную манеру драпировки в ирландских миниатюрах91. Наконец, в некоторых человеческих лицах этого Патаренского орнамента, останавливает на себе внимание одна характеристическая особенность, ни разу не встречающаяся ни в каком из прочих, изданных в этом первом выпуске; а именно – наивный способ представления одного и того же облика и в профиль, а вместе с тем – и с лица. Это принято в тех случаях, когда фигура писана сбоку, и лицу ее следует быть только в профиль, но, чтобы выразить все черты сполна, писец вырисовывает оба глаза и еще другой нос с губами на щеке, обращенной к зрителю. Встречается эта странная особенность всего три раза:дважды в замеченных уже буквах – 37 (рис. 151) и 33 –, и однажды в лице Боснийского краля Томаша, сидящего в креслах, в миниатюре, очень интересной для истории костюма.
Я нахожу излишним говорить об орнаменте молдаво-влахийском, так как об его свойствах и отношении к русскому сказано было уже выше. Здесь же мне остается только заявить, что обнародование этого важнейшего элемента русской орнаментики XV в. и начала XVI в. и приведение его в хронологический порядок от XV в. до XVII в. – табл. XXXIV–XXXIX – надобно отнести к числу археологии в этом первом выпуске.
III. Новости русской литературы по церковному искусству и археологии
Наше время в некотором смысле можно назвать эпохой Возрождения, только не классической древности, как это было в конце XV и в начале XVI столетия, а древностей христианских. Как тогда искали обновления литературному и художественному стилю в остатках классического мира, собирали рукописи греческих и латинских писателей, откапывали в Риме и других старых городах античные статуи, монеты, архитектурные обломки; так и теперь с не меньшим уважением и с такой же настойчивостью обращаются к старинным памятникам раннего христианского искусства. Составляются общества для сохранения их по крайней мере в том ветхом состоянии, в каком сбереглись до сих пор; издаются археологические описания монастырей, церквей, отдельных произведений живописи, скульптуры, утвари, одеяний раннего христианского стиля. Стоит перелистовать художественный каталог Вейгеля или литературный указатель при археологическом журнале Дидрона, чтобы убедиться, сколько ежемесячно выходит капитальных сочинений по этому предмету в Германии, Франции, Англии, и сколько возбуждено в образованной публике интереса к таким сочинениям, когда издатели надеются на сбыт их, несмотря на их дороговизну по причине рисунков, отлично раскрашенных, гравированных или фотографических, которыми такие сочинения обыкновенно снабжаются. Нашему времени наука и искусство обязаны отличнейшими изданиями римских катакомб, Константинопольской Софии, древнейших церковных памятников Нижней Италии, Скандинавии. Ясно, следовательно, что ни свобода мысли и религиозной совести, ни промышленные предприятия века, ни преобладание практического направления, не препятствует с должным вниманием и уважением относиться к церковной старине и дорожить ею, не щадя значительных издержек для ее сохранения в подлиннике и для воспроизведения в точных снимках.
Заметно распространяющийся на Западе вкус к древнехристианскому искусству не только готического и романского, но даже византийского стиля, не имеет в себе ничего одностороннего, что могло бы возбудить подозрение в ложном стремлении навязывать особенности этих стилей новому искусству. Возрождаться может только то, что потеряло жизненные силы для реального существования, но что может внести новые идеи в образование; и, без сомнения, не останется бесплодным для современности возрождение церковного стиля, в том же смысле, в каком история просвещения понимает эту эпоху так называемого Возрождения в XVI веке.
Мы, русские, не можем относиться с тем же беспристрастием не только к своей старине, но и вообще к средневековой, западной и византийской. Образованность, так недавно привитая на Руси, еще очень недалеко распространилась в массах населения и слишком мало забрала силы, чтобы одолеть средневековую старину, которая во всей свежести живет и действует перед нами воочию на все великом пространстве нашего отечества. Потому мысль о возрождении этой старины у нас не на месте: что живет в полной свежести сил, тому нечего возрождаться. Ясно, следовательно, что разумное, спокойное отношение к своей старине для нас еще невозможно: мы еще не отрешились от нее; она еще действует в нас, как господствующее начало.
Заговорит ли кто об истории расколов, он непременно или хвалит, или порицает; и это делается не с точки зрения исторического суда, а по пристрастному взгляду на современных нам раскольников; потому что один думает в них видеть задатки нашей будущей цивилизации; другие Евангелии XII–XIII в. – безобразную старину, которую надобно вырвать с корнем. Заговорит ли кто о древнерусском вече, ему уже непременно мерещится современное нам мужицкое самоуправство, перед которым он или набожно преклоняется, чая от него спасения Русской земле, или же преследует его с ревностью полицейского сыщика. Возьмется ли кто-нибудь за историю Малороссии, в нем непременно хотят видеть друга или врага современным москалям. Даже история русского народного быта стало словом и делом. Об одном говорят: он любит народ, следовательно, не воздает должного правительству; о другом: он слишком много останавливается на истории правительственных мер, следовательно, презирает народ. Но всего бестолковее современная литература относится к благочестивой старине. Доморощенные прогрессисты называют ее византийщиной, под которой наивно разумеют даже такие общеевропейские явления, как монастыри, богословские диспуты, поклонение местным угодникам и т. п. Видя громадную нравственную силу простонародных масс в благочестивом их настроении, более или менее свободном от суеверия, преследователи так называемой византийщины боятся, чтобы серьезная наука, возбуждая интерес к средневековой старине, не подала свою руку сторонникам всякого застоя и отупения. Они не хотят, чтобы наука поощряла то, что мешает их планам в современной действительности. Вместо археологии они хотели бы, чтобы все занимались физикой или физиологией, и этими науками, как противоядием, действовали на искоренение в народе суеверий, с ослаблением которых скорее наступило бы желанное ослабление средневекового благочестия. Но крайность преследований вызывает другую крайность в ревности защиты. Как преследователи всякую склонность к благочестивой старине встречали насмешкой; так защитники старины не в меру приходили в умиление при всякой ветоши, и порицание ее вменяли чуть ли не в смертный грех. Эта комедия – как и многие другие – разыгрывалась насчет простого народа, который одни хотели учить физиологии, другие – предохранить от тлетворного дыхания века сего; между тем как простой народ, не ведая этих отеческих забот о его благе, оставался и до сих пор остается при тех же убеждениях и верованиях, которые сложились, правда, очень давно, но и теперь приходятся ему как раз по плечу, будучи не столько крепки и самостоятельны, что пока еще не нуждаются в поддержке своих защитников, а, вместе с тем,, и не боятся нападения со стороны тех, которые грозят им полным поражением во имя здравого смысла, взятого напрокат из какого-нибудь перевода популярной естественной истории.
Впрочем, говоря в строгом смысле, ни те, ни другие благотворители русского народа вовсе не заботятся о науке. Для них она бессмысленный педантизм, который надобно преследовать свистом, хохотом и грязью; для других – зловредное умствование и анатомическое разложение того, на что посягать не подобает. Средневековая археология, и именно византийское и древнерусское искусство, больше всего прочего попадают в тиски между этими двумя крайностями. «Не смей говорить с уважением ни о чем, что кажется нам суеверием» – говорят одни. «Не смей критически разбирать то, о чем мы не привыкли рассуждать» – говорят другие. А между тем, пока мы размениваем по мелочи кое-какие ученые результаты и до сих пор не возьмем в толк, что такое византийщина и какой нам от нее прок, на Западе неутомимо трудятся за нас, не опасаясь ни площадных насмешек за византийщину, ни инквизиторских запрещений, чтобы не браться не за свое дело. Наши древние храмы по преданию ведут свое происхождение от Софии Константинопольской, а между тем в Германии немец Зальценберг издал монографию об этой византийской святыне с отличными, раскрашенными и золочеными снимками. Успели ли наши архитекторы и живописцы воспользоваться образцами, вывезенными г. Севастьяновым с Афонской горы, с которой Русь испокон века была в родственных связях? А Дидрон в одном из последних номеров своего журнала рекомендует уже для подражания католическим живописцам превосходную афонскую фреску, изображающую литургию, совершаемую ангелами, с приложением гравированного снимка с Севастьяновского рисунка, дубликат которого можно видеть в Московском Музее. Много ли у нас, и между литераторами и художниками, ценителей нашей русской иконописи и вообще церковного искусства? А вот и этому мы могли бы поучиться даже у французов, из которых, например, Шарль Кайе составил отличную монографию о символическом значении св. Софии, с приложением снимка с одного древнерусского рельефного образка92.
Если, с одной стороны, слишком практическое отношение к нашей старине делает для нас весьма затруднительным беспристрастное ее изучение; то, с другой, тем сильнейшее может оказать влияние на современность древнерусская археология и вообще историческая разработка русского быта и нравов. Для доказательства стоит припомнить, с каким живейшим интересом, вовсе не литературным, года два тому назад встречено было издание русских легенд г. Афанасьева, такая в сущности обыкновенная книга, какие десятками выходят в немецкой или французской литературе. Но, к сожалению, наша публика иначе не могла еще отнестись к этой книге, как к чтению, вредному или полезному в нравственном отношении, либо просто забавному. Интерес знания оставался далеко на заднем плане, не только для читающей публики, но и для журнальных рецензий.
Жизненное, практическое отношение к нашей монументальной старине дает самому вопросу о ее сохранении и воспроизведении в снимках, так сказать, официальный характер. Великолепное издание Древностей Российского Государства было предпринято и со значительными издержками исполнено самим правительством. Можно сомневаться, было ли бы учреждено без той же правительственной инициативы Императорское Археологическое Общество, полезный журнал которого, Известия, с любопытными снимкамицерковных и других древностей, кажется,так же мало оказывает влияния на образованную публику, как и на благочестивое простонародье. По той же правительственной инициативе, при Академии Художеств основан христианский музей, сочувствия к которому со стороны художников придется еще,кажется,долго ожидать в будущем. Самые собрания археологических предметов еще не высвободились от разных условий практического свойства. Так, известная коллекция г. Погодина, перешедшая в руки правительства вместе с библиотекой, помещена в Мироварной палате.
I
Несмотря на все неблагоприятные условия для разработки у нас церковной археологии, г. Прохоров решился с прошлого года издавать ежемесячный журнал под названием Христианских Древностей и Археологии, с присовокуплением очень хороших снимков с древнехристианских, византийских и русских памятников. Г. Прохоров сам удачно копирует подлинники и имеет свою литографию. Потому главное достоинство его журнала в снимках, которых он не скупится прилагать к каждому номеру. Что касается до текста к снимкам, то не вина издателя, если он, будучи обременен художественной стороной журнала, не может с таким же успехом заняться сам и учеными исследованиями, а где взять у нас специалистов по этому предмету? Впрочем, между статьями, особенно отличаются основательностью составленные академиком Срезневским. Очень хорошо сделает издатель, если постоянно будет помещать в своем журнале переводы таких статей, как «Императорский Константинопольский дворец» из Дидронова археологического журнала.
Снимки в журнале г. Прохорова взяты частью с русских «Подлинников», частью со снимков же, помещенных в дорогих и редких иностранных изданиях, что делает этот журнал вдвое интереснее и полезнее.
Чтобы дать понятие читателям о выборе снимков, я привожу здесь перечень главнейших из них, в некотором систематическом порядке, из разных номеров журнала (под руками я имею семь номеров).
Для иконописи чисто византийской VI в., из Софии Константинопольской: Григорий Богослов. Император поклоняется Спасителю (по изданию Зальценберга).
Для греческой миниатюры цветущего стиля: из знаменитых парижских рукописей: Григория Богослова IX в и из Псалтири X в. Иконописные изображения в порядке месяцеслова, из Менология Василия Порфирородного X в. (по редкому изданию 1727 г).
Для раннего периода русского церковного искусства: фрески Киево-Софийского собора XI в., рипиды ΧΙ в. в Новгородском Софийском соборе. Церковь св. Георгия в Строй Ладоге XII в.
Для русской миниатюры XVI и XVII столетий: из Царственной Книги, сцены из жизни великого князя Василия Ивановича и сына его Ивана Грозного (по рукописи Синодальной Библиотеки). Из Книги Бытия, сцены из истории Иосифа Прекрасного (по рукописи христианского музея в Академии Художеств). Наконец. Особенно любопытны и важны, и для ученых, и для художников, снимки «Лицевого Подлинника», т. е. с иконописных изображений в порядке месяцеслова.
Г. Прохороввоспользовался и Севастьяновской коллекцией, вывезенной с Афонской горы. В вышедших номерах помещены между прочим следующие снимки: церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, с присовокуплением архитектурных частей и подробностей, их которых особенно интересен тетраморф, или символическое изображение четырех евангелистов. Стенная живопись. Миниатюры из Греческой Библии XII–XIII столетий. Катапетасма, или завеса царя Ивана Грозного 1556 г., принесенная в дар Хиландарскому монастырю.
Из этого перечня видно, что желающие познакомиться с церковными художественными древностями очень много найдут для себя нового в журнале г. Прохорова; но тогда только можно надеяться, что с надлежащей пользой и с полным сознанием обратится русская публика к этому предмету, когда будут изданы у нас руководства, со снимками, вроде французского руководства Комона или немецкого – Отте. До тех пор издание того или другого снимка в журнале или в ученом исследовании будет для массы читателей отрывочным эпизодом, не имеющим настоящего смысла без того целого, которого он составляет существенную часть. Старинные иконописцы, не только в XVIII, даже в XVII и в XVI столетиях, имели же для себя руководство в иконописном «Подлиннике»: неужели современная наука и искусство дошли до такого разлада с существенными потребностями русской жизни, что не могут заменить старинных «Подлинников» чем-нибудь столь же достойным, но сообразным с требованиями современной науки и искусства? Французское руководство Комона к церковным древностям введено же в виде учебника не только в семинариях, даже в женских школах. Неужели русские, с их скромным образованием, новее должны относитсяк старине, нежели сама Франция, из которой по всему миру разлетаются всевозможные новости и моды?
II
К немногим русским специалистам, которые серьезно относятся к русской старине, презирая ребяческие насмешки над византийщиной, принадлежит граф Уваров. Русская археология, без всякого сомнения, обогатится его трактатом о византийской символике, к которой рисунки будут самым богатым источником для русской иконописи. Образчик обширных сведений и археологического такта этого ученого читатели могут найти в IV томе Известий Императорского Археологического Общества, в монографии, имеющей предметом сличение монет великих князей Владимира и Ярослава с современными им произведениями византийского искусства, в миниатюрах, мозаике, ваянии и т. д.
Основываясь на сравнительном изучении русских монет с византийскими памятниками искусства, автор выводит любопытные данные для древнерусского костюма. Эти выводы могут быть пополнены, видоизменены критикой; но самый путь исследования не подлежит сомнению.
При темных и сбивчивых понятиях, какие в наше время, в легкой русской литературе, пущены в ход о византийском влиянии, можно надеяться, что для многих будет новостью взгляд автора на этот предмет, взгляд, разделяемый и иностранными знатоками древнехристианского искусства. «Иконография византийская, говорит автор, как всякая стройная система, имеет свои твердые основания, от которых, как я заметил на основании самих памятников, она никогда не отступала. В другой какой-нибудь части византийских древностей, мы, может быть, встретим исключения или примеры произвола художника; но в иконографии, ставшей почти полубогословской наукой, произвол не мог допускаться, столько же по самому духу византизма и важности, придаваемой в Царьграде богословским прениям, сколько, наконец, и по тем мелочным подробностям, которые входили в состав этих прений. Богословское направление отдельных лиц и всего народа вылило особенную типическую форму для всего византийского и придало ему, таким образом. Черты совершенно отличительные от всего западного. Оттого византийские памятники столько же резко отличаются от западных, как резко отличается дух византийской древности от духа западной». То есть, благодаря богословию, византийский стиль выработал такие же постоянные типы религиозных сюжетов, как в эпоху классическую были выработаны и строго определены античные типы олимпийских идеалов. Бросая тень на стеснительное влияние богословия на искусство, обыкновенно забывают две вещи: во-первых, что богословие вовсе не вредило жизненности и натуральности фигур в лучшую эпоху византийского стиля, и, во-вторых, что дело идет о живописи религиозной, которая, как искусство церковное, подчинялась богословию, хотя и в меньшей мере, и на Западе, что можно видеть в знаменитом сочинении о церковном обиходе Вильгельма Дюрана или Дуранта, подвизавшегося во Франции и Италии в XIII в.
Примирение свободы художника с преданием, установившим определенный тип, должно быть установлено целью для русской иконописи. В сущности, это Евангелии XII–XIII в. – задача исполнимая, хотя трудная, если взять в расчет совершенную непопулярность археологических сведений и в русском обществе вообще, и в особенности между художниками, которые обыкновенно боятся посягательства на ландшафты и сцены из действительной жизни, когда им говорят и строгом иконописном стиле. Неужели каждому предмету не может быть своего места, и кто интересуется стилем иконы, тот уже непременно должен быть гонителем какой-нибудь остроумной сцены жанриста Федотова? А в какой степени исполнима упомянутая задача примирения художника со строгостью стиля, пусть любопытствующие узнают по лучшим византийским миниатюрам до Xвека, в которых много найдется такого, чем не побрезгал бы и сам Рафаэль. Воспроизводил же этот великий художник в своих произведениях античные группы и фрески, давая новую жизнь античному элементу, как бы отгадывая в нем новые стороны и самостоятельно развивая их, как, например, в своей прелестной фреске Галатея, в Риме, во дворце Фарнезине, произведении, которое с одинаковыми правами могли бы друг у друга оспаривать век Августа и век папы Льва X. Почему же и от наших художников, посвящающих себя церковной жизни, не позволительно было ожидать подобного же воспроизведения элементов византийского стиля и их дальнейшего развития при условиях выработанной техники и большого согласия с природой? Пора же, наконец, оставить застарелый предрассудок, будто бы сущность древнехристианского и старинного русского искусства состоит в изможденных, костлявых фигурах, наподобие мумий, с зачаделыми, страшными лицами.
III
Художественный элемент наложил свою печать и на письменность средних веков. Писец украшал свою рукопись миниатюрами, красивыми, цветными и золочеными заставками и такими же заглавными буквами. Этот обычай соответствовал наивным потребностям самой публики. Грамотный человек, читая написанное, живее принимал его в своем изображении, когда рассматривал соответствующие тексту рисунки; Безграмотный же довольствовался одной живописью, находя в ней для себя достаточное поучение. На Руси и в настоящее время можно встретить живые остатки этого первобытного отношения к писанию. Иные безграмотные, в праздничный день, в виде благочестивого упражнения, раскрывают перед собой книгу и внимательно перелистывают в ней листы. Это упражнение нельзя назвать вполне бессмысленным, если в книге есть миниатюры или красивые заставки.
При крайней бедности в монументальных остатках древнерусского искусства наши старинные рукописи с художественными украшениями должны со временем получить особенную цену и в ученом и в художественном отношении. Для этого предмета предлагает много интересных данных вышедшее на днях издание епископа Саввы: Палеографические снимки с греческих и славянских рукописей МосковскойСинодальной Библиотеки, VI–XVII века.
Находя неуместным в этой статье касаться собственно палеографической стороны изданных здесь снимков, обращу внимание только на художественную, а именно на заставки и заглавные буквы.
Стиль этих украшений вполне соответствует современному им стилю не только живописи, но и архитектуры, скульптуры, литейного и резного искусства. Это не более как воспроизведение на пергамент тех же форм, которые господствовали в данную эпоху в сочетании архитектурных членов. В барельефах или прилепах, в церковной утвари, даже в рисунках на ткани: кто желал бы составить себе понятие о господствовавших у нас в старину стилях, тот может судить о них по украшениям рукописей. В практическом отношении старинные заставки и заглавные буквы могут быть с пользой применены серебряных и золотых дел мастерами в рисунках рам на ризах, в украшениях не только церковной, но даже домашней утвари. Обыкновенно жалуются в этих изделиях на бессмысленность стиля и на недостаток оригинальности и национального характера. Указываем на заставки и большие буквы, как на один из самых верных источников для заимствования из них разных художественных подробностей.
Для этой цели было бы очень полезно составить руководство, собрав в него снимки из разных изданий и с рукописей еще не изданных.
Заставки и узорчатые буквы тем отличаются от миниатюр в собственном смысле, что своим сюжетом не соответствуют содержанию рукописи. Потому, в самом благочестивом, отвлеченном трактате о какой-нибудь богословской тонкости заглавные буквы могут изображать разныхзверей, птиц, человеческие фигуры, без всякого отношения к смыслу самого текста. Точно то же надобно сказать и о заставках.
Относительно исторического развития в заставках и узорчатых буквах русской письменности заметно отличаются три стиля: 1) древнейший, византийский, до XII века включительно; 2) так называемый романский, или точнее варварский, собственно средневековый, начала которого по нашим рукописям восходят уже к XII веку; у нас он особенно господствует в XIII и XIV веках и держится до концаXV в., тогда как на Западе уже в XIII веке заменяется он более изящным стилем готическим, и 3) новый стиль, с конца XV в. и до XVII включительно, смесь разных элементов, западных со своеземными, под влиянием украшений в старопечатных книгах.
Стиль византийский отличается архитектурным характером. Заставка имеет вид архитрава, поддерживаемого колоннами, иногда арки или купола, окна или двери. Мелочные украшения, цветные и золоченые, – в стиле византийских мозаик и эмали. В этих украшениях господствуют круги, с листвой внутри. (Смотри в издании епископа Саввы снимки на листах 3, 6, 7:8). Особенную принадлежность византийского стиля составляют (рис. 153) выступы на обе внешние стороны из-под оснований обеих горизонтальных полос заставки. Эти выступы – тоненькие полоски, оканчивающиеся поднимающимся вверх цветком или ветвью. (В издании епископа Саввы смотри листы 8 и 9). Буквы тоже имеют по преимуществу характер архитектурный: то форму колонны с перемычками и с капителью, то арки или какого другого архитектурного члена. Иногда и в заставках, и в буквах господствуют переплетенные ремни, в виде шнурка. Иногда украшение буквы получает некоторый смысл, например, в благословляющей руке (смотри лист 4). Известно, что еще в самых ранних памятниках христианского искусства, например, на надгробных надписях IV и V века, встречаются символические фигуры в виде голубя, павлина или какого другого животного. Остаток этого обычая сохранился и на заставках, как, например, в Сборнике Святославовом 1073 года, на заставке, вполне усвоившей византийский стиль (лист 20).
С XIII века начинается стиль собственно русский, средневековый, соответствующий романскому на Западе. В нем господствует самое причудливое сплетение ремней, захватывающеесвоими узлами животных и разные чудовищные фигуры. Все страшное и звериное преобладает. Это будто бы символическое изображение борьбы с темными силами природы, насильственно захватываемыми и уловляемыми в сети, сплетенные из самых фантастических извитий. Не только в буквах, но и в заставках линейная стройность архитектурных форм исчезает; но все же и этот стиль находит себе прямое соответствие с чудовищными прилепами и резьбой на зданиях романского стиля. Так, например, (рис. 154) заставка в русском Евангелии 1409 года (у епископа Саввы лист 35) вполне соответствует причудливым фигурам на романских капителях XII века, приложенных (см. выше, рис. 53) у Комона в снимке (в его руководстве, стр. 132). Тот же звериный стиль – и в рисунках тканей XII в. на Западе (Комон, стр. 254:255). Особенно характеристична (рис. 155) заставка 1400 года (у епископа Саввы лист 34), изображающая человеческую фигуру, у которой и руки, и ноги, и шея завязли в этих ременных сплетениях. Это точно будто бы символическое представление того стесненного, мрачного состояния духа, в каком находилось человечество в ту суровую эпоху, запуганное разными страшилами и опутанное суевериями. Тот же мрачный и чудовищный характер можно видеть в прилепах Димитриевского собра во Владимире, XII в., по изданию графа Строганова.
Нет сомнения, что большая часть этих чудовищных фигур более или менее может быть народной мифологией, средневековыми бестиариями, содержащими описания животных, народными и литературными баснями, легендами и т. п. Но, вместе с тем, нельзя не признаться, что фантазия доходит в этих украшениях часто до такой распущенности, что невозможно уловить в них первоначальный их смысл. Иногда в буквах действительно видите басню или притчу: то дерутся два животные, то лиса подходит к винограду; иногда видите человеческую фигуру в короне и с птичьим туловищем, как между прилепами Димитриевского собора. Иногда же сплетения фигур с животными выходят из границ всякого определенного смысла.

153. Заставка из греч. Сборника житий святых 1063 г (Моск. Синод. Библ., № 9)
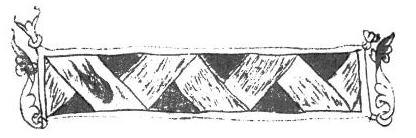
154. Заставка из Евангелия 1409 г. (Моск. Синод. Библ., № 71)
Один из самых замечательных образцов этого стиля (рис. 156) можно видеть в прологе XIV в., в Петербургской Публичной Библиотеке. Эта целая рамка на всем листе, обнимающая собой миниатюру с изображением Христа и двух Святых. Снимок с нее помещен в № 1 журнала г. Прохорова.

155. Заставка из Пролога 1400 г. (Моск. Синод. Библ., № 240)
Ничто лучше сравнительного изучения стилей не указывает нам, на сколько столетий постоянно отставала Русь от Запада. Этот чудовищный стиль, господствовавший у нас до XVвека включительно, своими причудливыми сплетениями восходит к самым ранним на Западе рукописям ирландского письма VIиVII столетий. Чудовищность на Западе уступает место нежной и роскошной листве стиля готического уже в XIII в.; у нас же эта замена стала возможна не раньше конца XVвека.Как живо чувствуется благотворное веяние этого нового стиля (см. выше, рис. 49) в заставке Новгородской Библии 1499 года! (У епископа Саввы лист 38). Нежная листва с цветами прохладно окружает спокойно сидящую посреди фигуру Моисея, который занят писанием. Человек уже освобожден и от страшных животных, и от чудовищных страшил, и от сетей дьявольских, которые когда-то в образе всяких сплетений и извитий связывали его по рукам и ногам и душили ему горло.
Это не только освобождение от звериного кошмара, несколько столетий обуявшего древнюю Русь; не только выход из романского стиля в готический, но и предвестие возрождения искусств, давшего полную свободу художественному творчеству. Потому этот новый стиль нечувствительно сливается у нас со стилем возрождения, в украшениях некоторых рукописей XVIIв., и особенно в гравюрах Ушакова и его школы, перенесшей древнерусское искусство в эпоху, обновленную уже петровской реформой.

156. Заставка из пергам. Пролога XIV в. (Имп. Публ. Библ.)
Образцы письма и украшений из Псалтыри с восследованием по рукописи XV века, хранящейся в Библиотеке Троицкой Сергиевой Лавры под № 308 (481)
Троицкую рукопись, из которой предлагаются здесь снимки, впервые оценил по достоинству Александр Васильевич Горский в отношении удивительного разнообразия и необычайной оригинальности, и затейливости письма и столько же разнообразных, единственных в своем роде и замечательно изящных украшений в заглавных буквах и заставках. Он же познакомил с ней и меня еще в пятидесятых годах, когда в его келье в стенах Троицкой Лавры работал я над тамошними рукописями для своих филологических изданий. Перелистывая драгоценную рукопись, мы любовались неожиданными переходами из одного почерка в другой, от одного стиля в украшениях к другому, и с интересом отгадывания загадок или шарад увлекались в распутывании перепутанных нитей хитросплетенного письма, добираясь в нем до смысла отдельных букв и целых речей. Издать в свете в точных снимках это богатое собрание почерков и украшений славяно-русского письма XV века казалось нам тогда несбыточной мечтой.
Желанию этому через четверть столетия дано было осуществитьсяв соответствующем драгоценному оригиналу роскошном издании Общества Любителей Древней Письменности, благодаря просвещенной щедрости графа Александра Дмитриевича Шереметева, имя которого этим изданием навсегда останется соединено в нашей ученой литературе с памятью об ученых предначертаниях и келейных досугах незабвенного описателя славянских рукописей Московской Синодальной Библиотеки.
Краткие сведения о Троицкой рукописной Псалтыри с перечнем содержащихся в ней статей, составляющих так называемое восследование, помещены в Описании Славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (Москва, 1878), во 2-ой части, на стр. 79–83, под № 308 (481).
Рукопись неполная, на 284 листах, на бумаге, в четверку, в величину издаваемых здесь снимков93. Время написания ее определяется следующими двумя местами:
Во-первых, на л. 283, в послесловии на греческом языке:
δεχου ἂγιε δημτριε ὴγνατιου πο
νος. ὴἒτου . . .94 μῆν. δεχ. ἂ.
δοξα ση. χἒ. δοξα ση ό θς μου αγιε
ἂγιε δημήτεριε πρεζβεηε ὴπε
ρ εμόυ, του αμαρτολου ήγνατιου.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
γραφημα του ὰμάρτολου ὴγνατιου η
σ ετου . . . .95 μην. ωχτοβριου ησ. β.
θὂυ τὸ δυρον χε ηγνατιου πὂνος:–
δεχου, τηυιε σταβρε. χε ελεηνσο με.
То есть: «Приими, святый Димитрие, Игнатия труд года 6938 месяца дек. 1. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе, Боже мой. Святый, святый Димитрие, помолись обо мне грешном Игнатии. Письмо грешного Игнатия начато года 693. . . (?) месяца октября во 2. Божий дар и Игнатия труд приими, честный Кресте, и помилуй мя».
Во-вторых, среди самой рукописи, на л. 202 крупной тончайшей вязью: «Книга сия по дару и по благости Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа написана в лето Великих Князей Ивана Васильевича и Ивана Ивановича Самодержцев руския земля».
По первой летописи рукопись окончена в 1429 году, по второй написание ее относится ко времени между 1462 и 1490 гг., которое определяется восшествием на престол Иоанна III и кончиной Иоанна Иоанновича. Противоречие должно быть объяснено тем, что первая списана с древнейшего оригинала, а вторая принадлежит писцу самой рукописи. Потому Троицкую Псалтырь следует относить, не означая года, просто ко второй половине XV века.
В XVI веке принадлежала она князю Пенкову или Пенькову, как значится в записи на обороте первого порожнего листа почерком того века: Княж Михаила Даниловича Пенкова. Над словом Михаила надписано Александра. В упомянутом описании Троицких рукописей объяснено так: «Боярин кн. Данило Александрович Пенько-Ярославский скончался в 1520 г.; Александр – сын его, о Михаиле ничего неизвестно».
Рукопись состоит из двух частей, существенно отличающихся между собою и по письму, и по стилю в украшениях. А именно: лл. 1–4 с чтениями из Евангелия и лл. 41–167 с текстом Псалтыри принадлежат одному писцу и выдерживают один и тот же стиль в своеобразных украшениях из листьев и цветов; что же касается до лл. 5–40 и от л. 168 до конца рукописи, то эта большая половина отличается от первой как письмом, представляющим смесь славянского почерка с греческим, так и киноварными, и разноцветными с золотом украшениями, в стиле славяно-русских орнаментов XV века. Эта половина – главная; в нее входит первая, как составная ее часть. Можно думать, что они соединены вместе случайно, только переплетом, который сам по себе не представляет ничего особенного.
Обе вышеприведенные летописи принадлежат к большей, второй половине.
Хотя по языку и системе правописания обе половины вообще представляют между собой большое сходство, однако так как в некоторых пунктах они и отличаются одна от другой, то я предпочитаю о каждой сказать отдельно, касаясь только самых характеристических примет96.
Сначала о первой, меньшей половине.
1. Постоянно употребляется большой ѫ, неиотированный, преимущественно в мелком письме, а не в крупном. Вообще употребляется правильно: например, мѫжь, на пѫти, гѫбитель, бѫдеть 41 неправдж, въ ѧмѫ 44 об. на широтѫ, пѫти 50 об. въсѧкѫ жрътвѫ 52 об. вынѫ 62 об. пагѫбѫ, бѫдѫть 63 об. клѧтвѫ 128. рѫка 128 об. 153. положѫ, на пѫти 129. сѫд̾бамь 133. пѫчиною 153. Впрочем, часто употребляется и неправильно, как например, съкрѫшитсꙗ 62 об. емѫ 149. по чиноу мел̾хисѣдековѫ 129. съкрѫши 153; или же не ставится там, где нужно; например, въпрашахоу 63 об. лоукаваѧ 63 об. лоукавѡ 86. лоукаваа 128. мл҃твоу мою 87. съмоутихсѧ 99 об. прѡкленоуть 128 об. силоу 153. Иногда в одном и том же слове или в согласовании двух слов и правильно, и неправильно; например, бѫдоу 50 об. ѡдеснѫю, ѡдесноуѫ 129. дꙋшѫ мою 128 об. Что касается большого юса иотированного, то за полным отсутствием его он заменяется неиотированным, согласно принятому в этой рукописи правилу опускать иотацию и при других гласных, о чем будет сказано ниже.
2. Малый ѧ принят тоже только неиотированный, и в употреблении его ничем не отличается эта рукопись от письма русского, т. е. с такими же ошибками; например, ѿꙗхсѧ 128. въсташа 63 об. рѣша, быша 86. повѣдаша 86, 101, вм. ѿꙗхъсѧ, въсташѧ, рѣшѧ, бышѧ, повѣдашѧ. Но вместе с тем содержит она такую характеристическую примету, которая принадлежит письму болгарскому, не только среднему, но и древнему. Это именно употребление ѧ вм. ѫ или ѭ, т. е. смешение их между собой; например, въскѫѧ 41 об. погрꙋженѫѧ дш҃оу мою 164 об., блⷵⷵкѧ 62 об., вм. въскѫѭ, погрѫжеиѫѭ, благословлѭ.
3. Полугласные ъ и ь ставятся по-болгарски после группы согласных, оканчивающейся на л или р, и притом по-болгарски же ъ употребляется вм. ь; например, исплънисѧ 1 (в Остром. Еванг. испъл̾нисѧ). съвръшилъ 44 об. пръстъ 44 об. връхъ 44 об. пръвыꙗ 99 об. исплънить 129. ѡплъченїе, пръсты, млънїа 149. въвръже, въ чръмнѣмь мори 153.
4. Особенно распространено сербское правописание с ь вм. ъ на конце слов; например, нечⷵтивыхь, грѣшныхь 41. ровь, всѧкь, връхь 44 об. врагь 47 об. своихь 48 въ оустнахь льстивахь 49. въ ꙋстехь моихь, ѿ всѣхь, ꙗзыкь ихь 62 об. законь, ѿ чадь ихь, намь, слышахомь 101. твоихь 129. въ вѣкь 133. застоупникь, ихь, основахь 149.
5. Хотя по новейшему правописанию ъ и ь опускаются, однако довольно часто удерживаются по древнему употреблению; например, съвѣтъ (совет) 41. сънидеть 44 об. възънесетсѧ 86. съмѫтисѧ 128. сън̾ма 129. възнесѫ 133. мьстника 44 об. вьси и въси (все) 98 и 99 об. въсѣ 41 и 45, вм. вьсѣ или вьсꙗ. въсѧкѫ 52 об., вм. вьсꙗкѫ. Заслуживает внимания съꙵ вм. сьи, сии, в тексте: съ ми есть бг҃ъ 153 (в испр. сей мой Богъ, Исх.15:2). Также переходит в о и е; например, сътрѧсохосѧ 128, вм. сътрѧсохъсѧ. нечествїи 41. оствердиша 86. левь 49 об. и 54, вм. львъ. весь 98. вернїе 51 об., вм. болгарской формы брьнїе или брънїе, через русскую бьрьнїе (брение).
6. Хотя против буквы ѣ постоянно встречаются ошибки, свойственные русскому и сербскому письму, например, стрелы 44 об., 149. възвещаѫщи 101. мел̾хисѣдековѫ 129; однако буква эта употребляется не только по древнейшему правописанию, как например, сътрѣлъ 153 от сътрѣти (стереть), но и заменяет собою букву ꙗ, как принято в болгарском наречии, древнем и среднем; например, волѣ 41. въсѣ елика аще творить оуспѣеть 41. въсѣ чюдеса твоа 45, вм. волѧ и вьсꙗ.
7. Сильно распространено после гласных употребление неиотированных гласных же, вместо иотированных, и именно, буквы а вм. ꙗ или ѭ, что противу свойств русского языка было введено и в нашу письменность XV и XVI вв., и буквы ѫ вм. ѭ; например, 1) а: цѣлованїа 1. моа 43 об. см҃рътныа 44 об. прѣпоасал 51 об. своа, моа, твоа 55 об. злаа 62 об. нечестїа 87. моа, лоукаваа 128. паденїа 129. твоа 133 и 149. млънїа, повинѫаи люди моа 149. 2) ѫ: поѫ 44 об. въспоѫ 47 об. твоѫ 52 об. провѣщаѫ 101. въстаѫщеи 128 об. ѡдесноуѫ, с тобѡѫ 129.
8. Из согласных, которые представляют очень мало особенностей, замечу только следующие: 1) по русскому говору ж вм. жд; например, поглажоу 51 об. съѕижеть 141. ѡдежꙋтсѧ 128 об.; 2) по ассимиляции ш вм. ж, в слове тѧш̾кос҃рдїи 42 об. 3) т вм. д, в собственных именах елисавеѳъ и назаретъ 1, 3 и 4 (в Остром. Еванг. елисавеѳь и назареѳъ), и 4) признак древнейшей фонетики в слове тоуждїи 51 и 72 (в Остром. Еванг. тоуждиихъ л. 72 в); слич. сербск. тудь.
9. К древнейшим грамматическим формам, которыми вообще изобилует описываемая рукопись, принадлежат, например, следующие: оцѣстиши 87. гордыни 98. прї исходищїихь 41. въ оустнахь льстивахь 49, вм. позднейших: очистиши, гордынꙗ, при исходищахъ, льстивыхъ.
10. Текст псалмов отличается во многих местах от ныне принятого; например, да въскрⷵиеть б҃ъ и разыдоутсѧ враѕи его 89, в испр. расточатсѧ LXVII, 1; пренеможе дх҃ъ мѡи 99 об., в испр. малодꙋшествоваше LXXVI:4; облыгаѭщих̾мѧ 128, ѡблыгающеи мѧ срамъ 128 об., в испр. ѡболгающихъ мѧ, оболгающїи мѧ въ срамотꙋ CVIII, 20. 29; жезлъ силы посли ти г҃ь 129, в испр. послетъти Пс.109:1;иудолэеши пос®э врагь твоих 129, в испр. господствꙋи CIX,2; юниыи 133, в испр. юнѣйшїй CXVIII, 9; на рѣцѣ вавѷлоньстѣи 145, в испр. на рѣкахъ Вавѵлѡнскихъ CXXXVI, 1.
11. Из замеченных мною ошибок указываю, например, не завѫть дѣ, не бѫть 101, вм. не завꙋдꙋтъ дѣлъ, не бꙋдꙋтъ LXXVII, 7 8; пѡккваша 128 об. вм. покиваша CVIII, 25. Из погрешностей, может быть допущенных в снимках, замечу л вм. а: свѣденїа его 133, вм. свѣденїа, испр. свидѣнїѧ CXVIII, 2.
12. В заключение хотя я обращаюсь опять к гласным, но замечание мое касается не языка и правописания, а условных приемов каллиграфии, из которых один состоит в связи с орнаментацией букв, а два другие в начертании буквы и. К орнаментации принадлежит в строчных буквах начертание о с крестом или точкой и ѡ с двумя точками, по точке в каждом кружке; а именно: о с крестом внутри принят в слове окрⷵтъ (т. е. окрест), л. 47 об., соответствующем по самому смыслу своему этому знаку; о с точкой для слова око, л. 60, в единственном числе, а для двойственного числа употребляется или два о, каждое с точкой: оочи 47 об., или ѡ, с точкой в каждом овале: ѡчи 99 об. Продолжение этой же иероглифики предлагается (рис. 157) в начертании слова многоочитїи, во второй половине рукописи на л. 243 об. Слово это дает сгруппированным в середине его снимкам с точками уже вид настоящего орнамента. Надобно заметить, впрочем, что о с точкой ставится, хотя и редко, в начале и других слов, как, например, оплъчитсѧ 62 об.

157. Буква О, л. 243 об.
13. Как в этой половине рукописи, так и в другой, иногда вместо и безо всякой причины ставится ѵ, с двумя над ней черточками; например, оꙋзрѷтъ 86, снимок 9.
14. Ныне принятый обычай ставить десятеричное ї перед гласными господствует во всей рукописи, как твердо установившееся правило школы, за весьма немногими описками и недосмотрами. Например, цѣлѡванїе 1. Їоудѡвъ 1. Марїамъ 1, 3, 4. Їѡсиъ 3 (в Остромир. Еванг. июдовъ, ариꙗ, иосифъ). гананїа 101. поношенїе 128. прїатнѫ 165об.
Вторая или бо́льшая половина рукописи по языку и грамматике, или школе правописания, во всем согласна с первой, ка это явствует из следующих за этим примеров, которые для удобства в справках я располагаю по возможности в том же порядке рубрик.
1. Большой юс, тоже только неиотированный. Употреблен правильно; например, дш҃ѫ лѫкавыⷯ 38 об. виѫтрь 181 об. ѫѕами 195. мѫкы, бц҃ѫ 201. Ошибки, например, ютробꙋ 192 об. вм. ѫтробѫ. ѿцѫ поклонимсѧ 194 об. вм. отьцоу. В согласовании слов правильное окончание стоит рядом с неправильным; например, несъздан̾иѫ и единосѫщ̾иѫ тр҃цꙋ 38 об. на рꙋкꙋ дв҃чѫ 212 об. (двойств. число).
2. Малый ѧ, тоже неиотированный, по-болгарски вместо ѫ; например, в слове ѧтроба вм. ѫтроба: ѧтробы твоеѧ 170. въ ѧтробѣ 217. бл҃гоѧтробнаго 189 об. бл҃гоѧтробенъ 207. В окончаниях: ѕвѣзѧ видѣвше 212 об. вм. звѣздѫ. дш҃ѧ свою 195, вместо дш҃ѫ. Особенно после гласных, вместо иотированного ѭ; например, въ древнюѧ красотꙋ бж҃ственноѧ добротоѧ смѣси 182, вм. въ древьнѭѭ

красотѫ бж҃ственоѩ добротоѭ смѣси. Иже бо аще хощеть дш҃ѧ свою сп҃сти погꙋбить ѧ, иже аще погꙋбить дш҃ѧ своѧ ѡбрѧщеть ю 195, вм. погѫбить ѭ, дш҃ѫ своѭ, ѭ. вѣроѧ 195, вм. вѣроѭ. поѧщаѧ 201, вм. поѭщаѩ волеѧ, славоѧ 207, вм. волеѭ, славоѭ. бго҃течнѫѧ ѕвѣздѧ видѣвше 212 об., вм. бго҃течьнѫѭ. дво҃ѧ 213 об., вм. дѣвоѭ. свѣтопрїемнꙋѧ свѣщꙋ 214 об., вм. свѣтопрїемънѫѭ свѣщѫ. работоѧ 217, вм. работоѭ блг҃овѣстꙋѧ ти радость 217, вм. блг҃овѣстоуѭ. припадаѧще 223, вм. припадаѭще. добротꙋ твоѧ бжⷵтнꙋѧ 259, вм. добротѫ твоѭ бжⷵтнѫѭ.
3. Полугласные ъ и ь употребляются в группе согласных с л и р так же по-болгарски, как и в первой половине; например, ѿврьгшеисѧ 26 об. ѿврьземь 27 об. трьпѣти, гръдынѧ 38 об. прьвыи 177 и 253. прьвꙋю 217. С буквой ъ по-болгарски же, вм. ь; например, дръжати 27 об. дръзновенїеⷨ 38 об. дръзнꙋ 172 об. дръжавꙋ 211 дръѕновенїе 213 об. съдръжащи 238. дръжав 253. Опущена полугласная: ѿвргъшиⷨ 6, т. е. ѿвръгъшимъ. државы 280 об., т. е. дръжавы; вместо ѿврьгъшимъ, дрьжавы.
4. По-сербски ь на конце слов, вм. ъ, так же сильно распространено, как и в первой половине. Например, намь, быхомь, любимь 26 об. намь, вамь, быхомь 35 об. источникь 169. грѣхь 174 об. многыхь, оумь 176. причаститиⷵ прчⷵтмь твоимь таинамь 177 об. иѕ̾ мрт҃выхь, намь 188. чл҃кь 129 об., 213 об. славимь 222 об. неѿстꙋпимь 223. оублж҃имь 238. възопїемь 245 об. въспоимь 253. храмь, прїемлемь 280.
5. Так же, как и в первой части, полугласные ъ и ь и употребляются по древней грамматике, и опускаются – по новейшей, равно и переходят в о и е; например, дол̾готрьпѣливъ 172 об. вм длъготрьпѣливъ. весь оуказъ 184 об. поклонимоⷵ 188, вм. поклонимъсѧ. исполнисѧ 189об., вм. исплънисѧ. вол̾сви 212 об., вм. влъсви. весь 213 об. в҃а невомѣстимаго вмѣстилище 213 об., вм. невъмѣстимаго въмѣстилище. во крѡвѣ весь 217. предотече 263 об. предостоѧ 280 об. – Замечательно употребление ъ вместо ь в слове аминъ, по греческому произношению, как оно писалось только в самых старых наших памятниках, например, в Остром. Евангелии, и потом очень рано перешло уже в аминь. Возвращение к древнейшему начертанию объясняется греческим влиянием погреченной школы славянских писцов, к которой принадлежит наша рукопись.
6. При правильном употреблении буквы ѣ очень часто встречается и замена ее буквой е, например, телесно 177. телꙋ 222 об. телеса 280 об. Заслуживает внимания слово вѣтїа 213 об., вм. витїѧ. Болгарское правописание ъ вместо ꙗ так же встречается, как в первой половине; например, забавлѣющимъ, сътворѣеть 6. исправлѣѫщиⷨ 38 об.
7. При столь же распространенном, как и в первой части, употреблении неиотированного а после ї других гласных, как например, прїателище 209, таковаа 211, – особенно заслуживает внимания переход малого ѧ, заменяющего ѭ большой, в неиотированное а, тоже после ; например, непокровенною мыслїа 5, мыслїѧ или мыслїѭ, вопїащиꙶ 213 об., вм. въпїѧщихъ или въпїѭщихъ. завистїа 217, вм. завистїѧ или завистѭ. вопїаще 223, вм. въпїѧще или въпїѭщи. кровїа 245 об., вм. кръвїѧ или кръвїѭ.
8. Очень заметную особенность южнославянского произношения буквы ы, как и, предлагают слова високыи и висота вм. высокыи и высота; например, високыи, къ висотѣ 213 об. висота 247 об. дивны висоты морьскы, дивенъ въ високыⷯ г҃ь 169.
9. С другой стороны, несомненный признак русского говора видим в полногласной форме володимере, и при ней на той же странице владимере 280 об.
10. В употреблении согласных заслуживает внимани: 1) по древнему со вставной д между з или ѕ и р: разⷣⷣрꙋщи 186 об. раѕⷣрѣшенїе 217. 2) Несмягченная группа ск вм. щ: ꙗко ѱоу бѣсноующюсѧ, искоущю кого поглотити 8, вм. ищѫщоµ. 3) Евга и Евва: прабабы евгы 184 об. ѕмїи прельсти еввꙋ 217. 4) к вм. х: застоупнице крⷵтьꙗномь 225. 5) Удвоение т в слове ит̾ти 195, вм. ити. 6) Смягчение д в ж, по русскому говору, вм. жд: стражеть 25 об. трꙋжающеи, чюжаѧ 27 об. стражющи 38 об. зижителю 169. прихожю 173, 177. жажꙋщꙋю, жажаи 185. одѣжа 213 об. рожиисѧ, преже 189 об. 7) По областному русскому говору с ч вместо ц написано слово стрⷵтотерпьча 280.
11. Как в этой половине рукописи, так и в первой гортанные слагаются как по древнему с ы, так и по позднейшему с и; например, кими хитростьми моукы избоудеⷨ 26 об. киева 280 об.
12. Из массы древнейших грамматических форм, которыми обилует и эта большая половина рукописи, для примера привожу следующие: нощию же и днїю 8, вм. дьньмь, т. е. днемъ. ѫзами темичнами 195, с кратким окончанием, вм. темиичиыми. вѣдѣ 177, 1-е лицо ед. числа вм. вѣмъ.
13. Из отступлений от принятого ныне текста, например, всѧ тѣмь быша: и беѕ него не быⷵ ничтоⷩ҇ еже быⷵ (в Остром. Еванг. и беѕ него ничьто же не бысть); в испр. и безъ него ничто же бысть, еже бысть Ио. I, 3. да въскрⷵнеть б҃ъ и разыдоутсѧ врази его 190, 193 об. 252, вм. расточатсѧ врази его. Пасха всеч҃тнаѧ намь восїа, Пасха радостїю дрꙋгъ дрꙋга приимемь 194. въскрсенїа днь, просвѣтимсѧ торжествомъ, и дрꙋгъ дроуга приимемъ 194, вм. обымемъ. хⷵъ въскр҃се из̾ м҃ртвыⷯ. смертїѧ на см҃рть настꙋпи 194, см҃ртїа на см҃рть настоупи 190.
14. Замеченные мною ошибки: иѕ̾ глꙋбикы 223, вм. глꙋбины (глѫбины). напрьснккъ 238, вм. напрьсникъ. на прьсв 238, вм. прьсн. да паачетсѧ 280 об., вм. да плачетьсѧ.
15. Вообще принять за правило тот же прием в начертании десятеричного ї перед гласными, что и в первой половине рукописи, например, ѿврьженїе, ѡчрьненїе, житїа, ѡдѣѧнїа 5. Заметное исключение из этого правила представляет лл. 6–23 об., в которых удерживается старый обычай употребления перед гласнымиосмеричного и. Так, например, на одной странице 6-го л. встречаем: оупокоение, стѧжаниꙗ, житию (bis), житиꙗ.
16. Вместо и и ї употребление ижицы ѵ, с двумя черточками над ней; например, семь раз в трех строках: сꙋпротивнѷка. ст҃мѷ твоимѷ молитвами цр҃ьствїю бж҃ѷю прѷчастнѷка мѧ сътвори. съ всѷми ст҃ми 222 об., снимок 53.
17. Вместо е иногда употребляется начертание, сходное с нашим оборотным э; например, на листе 217, снимок 52. Смотр. ниже примечание к транскрипции этого снимка.
18. Для характеристики письма следует заметить употребление единицы (I) вместо аза (а) в означении одного или первого: почасие .I. часа. рчеꙶ млт҃воу, и тут же на поле: I .а҃. л. 168, снимок 12.
19. В этой большой половине писец постоянно переходит от славянского почерка в греческий, как в самом тексте и заглавиях, так и в мелких приписках внизу страниц. Например, лл. 5, 188, 189 об., 190 и мн. др. Смотр. снимки 4, 13, 14, 50 (см. ниже, рис. 162). В этом отношении списываемая мной рукопись во всей очевидности представляется нам звеном, соединяющим некоторые из принятых в нашу скоропись букв с начертаниями скорописи греческой, каковы, например, а и д.
Наконец, 20. Письмо этой рукописи, по влиянию греческой грамматики, относится к той школе писцов, которые усвоили себе и распространили в славянской письменности греческий обычай, сверх затейливых сокращений и титл, уснащать письмо различными надстрочными знаками, каковы оксия, вария, слитная и другие разные черточки, и крючочки. Рукопись, мною разбираемая, принадлежит в этом отношении к тем, какие служили образцом для справщиков и корректоров славянских старопечатных книг, а через эти последние и доселе оказывают свое влияние на систему надстрочных знаков и в ныне принятой церковно-славянской печати.
Таким образом, рукопись эта по языку и грамматике предлагает нам искусственную смесь русского элемента с поглощающим его элементом южнославянским, а по почеркуи приемам письма относится к школе погреченной, греко-южнославянской.
Где была написана эта рукопись, в России или на Афонской горе, или же где в другом месте у южных славян, и кто были ее писцы, из русских ли, которые настолько подчинили свой родной язык искусственной смеси сербо-болгарских форм, что уже не могли вразумительно прочесть то, что писали, или же из южных славян, вероятно болгары, которые старались дать своему средне-болгарскому письму более правильный грамматический вид, то есть самый искусственный и самый далекий от живой речи: предоставляю эти вопросы решить другим. Не подлежит сомнению одно, что Троицкая Псалтырь между другими многочисленными вкладами южнославянского письма в нашу древнюю литературу составляет ее неотъемлемое достояние, как по упомянутой выше летописи, относящей ее написание ко времени Самодержцев именно Земли Русской, так и по внесенным в восследование Псалтыри церковным славословиям русским угодникам: св. Варлааму Хутынскому, св. Сергию Радонежскому и св. князьям Владимиру, Борису и Глебу, лл. 237 об., 280 и об.; смотр. снимки.
Впрочем, все достоинство описываемой рукописи и ее важное значение в истории нашей письменности состоит не в языке и грамматике, а в ее каллиграфических качествах и украшениях. В этом отношении она представляет явление небывалое, единственное в своем роде.
Из предлагаемых здесь снимков достаточно явствует каллиграфическое искусство писцов в изобретательности самых разнообразных, оригинальных и иногда замечательных по изяществу почерков. Это настоящее собрание прописей или образчиков каллиграфии.
Писец будто постоянно занят мыслью, как бы развлечь себя, позабавить и усладить в своей трудной и однообразной работе переписывания, постоянно замышляя, как бы ему на следующей строке перейти из одного почерка в другой, как бы изобрести какую-нибудь небывалую редкость. То он выводит строки из длинных голенастых заглавных букв, которые как великаны поднимаются из приземистого строя обыкновенных строчных букв, то расширяет их не в меру, так что они теряют характер кирилловского письма, получая стиль письма арабского или какого другого восточного. То он пишет самым тонким мелким шрифтом, замаскировывая славянское письмо крючковатой скорописью греческой; то задает новую задачу своим читателям в самой крупной вязи, в которой длинные буквы начинает десятками букв мелких, или ухищряется на полях страницы целую речь вместить в одну букву, которую, на так называемый волошский манер, вытягивает вертикальной полосой, наполненной сливающимися между собой линиями букв, до того затейливо сложенными, что некоторые из таких начертаний и до сих пор остаются неразобранными.
Все эти каллиграфические опыты разнообразных почерков разделяются на две группы по тем же двум половинам рукописи, которые я уже наметил прежде. Образцы первой предлагаются в снимках с лл. 1, 3, 4, 41, 44 об., 63 об., 86, 87, 98, 99 об., 101, 128, 128 об., 129, 133, 149 и 153. Образцы второй половины в снимках с лл. 5, 6, 23 об., 25 об., 26 об., 168, 188, 189 об., 190, 204 об., 207, 209, 211, 213 об., 217, 222 об., 223, 237 об., 238, 245 об., 253, 280, 280 об., 281 об., 282 и 283.
Чтобы облегчить прочтение более неразборчивых почерков, я даю здесь несколько транскрипций текста.
Лист 1, снимок 1 (рис. 158). Евангелие от Лк.1:39–56.
Въ врѣмѧ ѡⷱ҇ въставши марїамъ97 въ
дн҃и тыи. иде в горнѧѧ съ тщанїе
мъ, въ граⷣ їоудѡ. и вниде в дѡⷨ•
захарнинъ, и цѣлова елисаве
ть, и бысть ꙗко оуслыша елисаве
ть цѣлованїе мариино взыгра
сѧ младенецъ въ чрѣвѣ еѧ. исплъ
нисѧ дх҃а ста елисаветь. възѡпи
гласѻмъ велїимъ. и рече блⷵвена
ты въ женахъ. блⷵвенъ плѡⷣ
чрева твоего, и ѿкоудоу мнѣ се
да приидеть мт҃и га҃ моего кѡ мнѣ.
се бо ꙗко бысть гласъ цѣлованїа твоегѡ
въ оушїю моею. взыграсѧ младене
ць радощамї въ чревѣ моемъ. и
бл҃жена ꙗже вѣрѡвавши. ꙗкѡ боу
деть свершенїе. гл҃аннымъ еи ѿ га҃.
реⷱ҇ м҃риамъ. величить дш҃е моа
гаⷵ. и възрадовасѧ дх҃ъ мои ѡ б҃зѣ
сп҃сѣ моем. ꙗко призрѣ на смиренїе ра
бы свѡеѧ. се бѡ ѿ нынѣ блажат мѧ
вси рѡди. ꙗкѡ створи мнѣ величие силь
ныи. и ст҃о имѧ его. и пребыⷵ же
м҃риаⷨ с нею. ꙗко три мц҃а. и възврати
сѧ въ дѡⷨ свои.

158. Образец письма, л. I
Лист 3, снимок 2 (рис.159). Еванелие от Лк.1:26–29.
Въ мцⷵь же шестыи посланъ быⷵ архангелъ гаври
лъ ѿ б҃а въ граⷣ галилеискъ, емꙋ
же имѧ назаретъ къ дв҃ѣ обрꙋченѣ
и моужеви. емоу же имѧ їѡсиѳъ
ѿ домоу дв҃два и имѧ дв҃ѣ марїамъ
и вшеⷣ к неи аг҃гелъ реⷱ҇ роⷣуисѧ ѡбра
дованнаѧ г҃ь с тѻбѻю блⷵве
на ты въ женаⷯ ѡнаж ви . . .
Лист 44 об., снимок 35. Пс.7:12.
Бъ҃ сꙋдитель праведенъ и крѣпокъ и длъгѡ
тръпѣливъ. и не гнѣвъ навѡдѧ на всѧ . . .
Лист 63 об., снимок 36 (рис. 160). Пс.34:1–3.
Соуди г ѡбидѧщимъ мѧ възбра
ни бѡрющаа мѧ. прїими ѡроужїе и щи
тъ. и въстани въ помощь мѡю. изсꙋ . . .

159. Образец письма, л.3
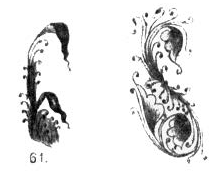
160. Образец письма, л. 63 об.
Лист 86, снимок 9. Пс.60:6–9.
оутвердиша себѣ слѻвѻ
лоукавѡ. пѻвѣдаша
съкрыти сѣть. рѣ
ша ктѡ оузрѷтъ и
хъ. испыташа
безакѡни
е исчезѡ
ша испыта
ющеи исъ
пытани
ѧ. пристꙋ
пить чл҃къ
и срⷣце глоубо
кѡ. и възъ
несетсѧ
б҃ъ. стрѣлы
младене
цъ быша ꙗ
звы ихъ+
съмоути
шасѧ въ
си видѧ. . .
+ изнемоѡⷢша въ нихъ ꙗзыци ихъ.
Лист 98, снимок 38. Пс.73:22.
понѡшеиие твое еже ѿ безоумнагѡ ве . . .
Лист 99 об., снимок 39. Пс.75:11,Пс.76:4–6.
испѡвѣстьсѧ тебѣ. ѡстанѡкъ пѻ . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и възвеселихсѧ. въскѡръ
бѣхъ и пренемо
же дх҃ъ мѻи. прⷣѣ
каристе стражъ
бы ѡчи мои.
съмоутихсѧ
и не гл҃ахъ
помыслихъ дн҃и пръвыꙗ. и лѣ . . .
Лист 128 об., снимок 11. Пс.108:25–31.
ша мѧ пѡкиваша главами свѡи
ми пѡмоѕи ми ги҃ бж҃е мои. и сп҃си
мѧ по милѡсти твоеи. и разоумѣ
ють ꙗкѡ рѫка твоа сиⷯ и ты сътво
рилъ еси ꙗ. прѡкленоуть тиⷩ, и тыⷩ
блвⷵши. въстажщеи на мѧ
пѡстыдѧтсѧ. рабъ же
твѻи възвесе
литсѧ. да ѡблекꙋ
тсѧ ѡблыгаю
щеи мѧ сра
мъ. и ѡдежꙋ
тсѧ. ꙗкѡ ѡде
жⷣею стоудѻм
свѡимъ. исп
ѡвѣмсѧ гв҃и ѕѣ
лѡ оустыⷩ моими.
и пѡсрѣдѣ многъ
въсъхвалю и.
ꙗкѡ ста ѡдесню оубѡгаго.
спасти ѿ гѡнѧщихъ дꙋ
шѫ мою.
Лист 217, снимок 52 (рис. 161).
Пѡвелѣнное таинство. приимь враѕоуми
во крѡвѣ їѡсифѻвѣ. скѡрѡ
пред̾ста бесплѡтныи. глагѡ
лꙗ неискуснѷи браку. преклѡ
нь схѡжениемъ небеса. вмѣ
щаэтьсꙗ98 неизмѣннѡ весь в тꙗ. егѡ
же видꙗ в лѡжеснехъ твѻихъ при
ѷмша равнѷ ѕракъ ужаса
юсꙗ ѕвати ти. радуисꙗ99 неневѣстнаꙗ.

161. Образец письма, л. 217
Что же касается до заглавий и разных приписок вязью и неразборчивым почерком во второй половине рукописи, то для облегчения в прочтении их предлагаю из сказанного Описания Троицких рукописей следующие транскрипции, которые составлены хотя без наблюдения строгой точности в передаче букв, но будут небесполезным руководством для тех, кто пожелает заняться разрешением этих каллиграфических загадок.
Предварительно замечу, что еще в то отдаленное время, когда была уже подписана новейшим почерком транскрипция при текстах, трудно разбираемых, между прочим и на лл. 1, 6 и 25 об., снимки 1, 5 и 7. Транскрипцию эту А. В. Горский приписывал монахам, трудившимся над описанием Троицких рукописей.
Л. 5, снимок 4. В самом низу последняя строка: милосерде помилуй мя падшаго и окаяннаго . . .100
Л. 168, снимок 12. Заглавие: почасие .I. часа. речет молитву.
Л. 188, снимок 13. Заглавие: в святую великую суботу вечер при часи 10-м клеплет сбравшеся. Внизу не разобрано, кроме слова: последования.
Л. 189 об., снимок 50 (рис. 162). Внизу три строки. Первая вязью: начало и поновление Христе Боже наш ты еси, обнови убо и мене окаяннаго, да возмогу угодная тебе творити владыко человеколюбче Господи, понеже убо твой есмь аз, Спасе спаси мя окаяннаго. Вторая строка: песнь красна Христувоскресения его, радости велики исполньшеся воспоим: славно бо прославися. Последняя строка с приписками отдельных слогов внизу: о Христе мой, дай же ми образ преже конца (?) покаятися к тебе.

162. Образец письма, л. 189 об.
Л. 190, снимок 14. На поле две полосы слов, набранных в одной букве. Одна полоса разобрана так: Последование в святую седмицу, другая не разобрана. Внизу последняя строка: слава воскресению твоему Христе Боже, слава царствию твоему Человеколюбче.
Л. 204 об., снимок 15. Первая вязь: Канун благовещению пресвятей Владычицы нашей Богородицы иПриснодевицы Марии. Другая вязь: Канон нося краегранесение азбуковицы101 глас 4, ирмос: отверзу уста моя, и проч. Последняя строка внизу: сия убо тако сбывшуся и тако сим бывающим нашему убо спасения пришедшу.
Л. 207, снимок 16. Вязью: в пяток пятыя недели поста святыя четыредесятница акафисто служба пресвятей Богородицы Приснодевы Марии, вечер поем по обыч.
Л. 209, снимок 17. Первая вязь: канун радостен пресвятей Богородицы имея краегранесие. Другая вязь, подстрочная: поем тя пресвятая и славословим рожество твое, умилосердися госпоже и удиви милость наубозем и окаянном, помощнице миру девая в женах Владычице помози госпоже моя. На поле полоса слов в одну букву – не разобрана.
Л. 211, снимок 18. Заглавие вязью: Кондаки и икосы пресвятей пречистей преблагословенней Владычицы нашей Богородицы Приснодевей Марии, глаголются откровенною главою чести ради ивеличества и любве ея к нам. Внизу подстрочная вязь не прочтена.
Л. 218, снимок 24. Против заставки волошской вязью: понедельник.
Л. 223, снимок 19. Заглавие вязью: правило молебно ко святей Богородицы, сице поется: Царюнебесный, трисвятое, по Отче наш Господи помилуй 12, приидите поклонимся. На поле вертикальной полосой в одну букву: вторник.
Л. 232, снимок 25. Против заставки: среда.
Л. 237 об., снимок 54 (рис. 163). Внизу крупной вязью, переполненной мелкими буквами, написан в одну строку целый стих: Да молчит всяка плоть человеча, и т. д. Под вязью: конец убо прииде канона преподобных великих святых.
Л. 238, снимок 20. Заглавие вязью: месяца септеврия на преставление Ивана Богослова, на Господивозвах стихиры, глас 2. На поле вертикальная вязь: четверток. Внизу под строками: да переписав лучши леностию убо преми. аз Дево святая Богородице под кров твой прибегаю веде яко обря.
Л. 245 об., снимок 21. Заглавие вязью: стихиры избранныя святым произволи. На поле в одной букве: пяток. Внизу, при очерках головы, рук и ног, написано вязью: на молитву призывающе.
Л. 253, снимок 22. Заглавие вязью: канун отцам преподобным глас 8. песнь 1. песнь 2. Внизу: творениеФеодора Студита. На поле против заставки вязью в овале буквы С: субота . . . вся.
Обращаюсь, наконец, к украшениям заставок и заглавных букв и к некоторым другим художественным подробностям.
Прежде всего должен я сказать, что вся эта художественная сторона рукописи состоит в теснейшей связи с самым письмом текста, и вместе с ним принадлежит к одному времени и одной школе. Это явствует из следующего анализа подробностей.

163. Образец письма, л. 237 об.
1. Заглавные буквы, как раскрашенные, так и киноварные, в большей части случаев изготовлялись прежде следующего за ними строчного письма. Это до очевидности замечается там, где писец подгонял строки к выступам и впадинам орнаментов заглавных букв, которым подчинял таким образом свое письмо. Смотр. лл. 5, 26 об., 41, 87, 168, 209, 213 об., 217, 233, 238, 245 об. и 253, помещенные в снимках: 4, 8, 34, 37, 12, 17, 51, 52, 19, 20, 21 и 22. Точно также и оба всадника, которыми означены буквы Я и А, на лл. 207 и 211, в снимках 16 и 18 (см. ниже, рис. 215 и 216), нарисованы прежде, чем были написаны строки текста, которыми писец бережно окружил эти фигуры, с видимым вниманием, чтобы не замарать их черными или киноварными буквами.
2. В некоторых случаях очевидно явствует, что заглавная буква, к которой прилаживался текст, была нарисована прежде заглавия, писанного над текстом. Так на л. 188, в снимке 13, под заставкой заглавие состоит из четырех строк: первая крупной и толстой вязью, а три следующие греческой скорописью, их которых верхние две выведены в прямую линию, а нижнюю в начале писец должен был пустить несколько к верху, чтобы не записать пурпурными буквами приподнятой верхушки раскрашенной буквы В.
3. Заставки и по рисунку, и по краскам представляют полное согласие в стиле с раскрашенными заглавными буквами, и потому должны состоять в одинаковом с этими последними близком отношении к письму текста.
4. Иногда можно заметить, что заставку мастер работал после того, как стоящая под ней заглавная буква была уже готова. Так на л. 190, в снимке 14, мастер слишком низко поместил заставку, почему находившаяся уже под ней раскрашенная буква В так столкнулась своей верхушкой с нижним краем заставки, что не оставила места для продолжения пурпурового бордюра, которым убран этот нижний край.
5. Иногда на страницах с заставками писец пишет заглавие вязью и скорописью, подстрочные и на полях приписки и даже самый текст тем же самым пурпуром, который употреблен в заглавных буквах и в некоторых из орнаментов заставки, как например на лл. 188, 204 об., 238, в снимках 13, 15, 20. На л. 209, в снимке 17, пурпур в заставке и раскрашенной букве несколько порыжел, приняв цвет шоколадный: такой же точно краской писаны и заглавие, и подстрочная вязь.
6. При одинаковой краске в письме и украшениях иногда можно прийти к очень вероятному заключению, что писец принимал участие и в рисовании и раскрашивании. Так на л. 190, в снимке 14, упомянутая выше, под рубрикой 4-й, недоконченная кайма, или бордюр, не только окрашена тем же пурпуром, каким писан текст и одна из приписок волошской вязью, но и составлена из повторяющейся в целом ряде буквы ѕ, по начертанию своему во всем сходной с тем, как она пишется в тексте. На л. 245 об., в снимке 21, очерки рук, ног и головы, и подпись вязью, на нижнем поле страницы, писаны одной и той же краской и, кажется, одним и тем же пером.
7. Некоторые орнаменты, как непосредственное продолжение работы писца, или входят в состав самого слова, как например (см. выше, рис. 157) куча оников с точками, на л. 243 об., в слове многоочитии, или же (рис. 164) в конце абзаца вместо точки, креста, черточки или какого другого заключительного знака, – изящная фигура двухвостого крылатого дракона с лапами, писанная киноварью, на л. 201. Смотр. снимки в самом конце киноварных букв.

164. Фигура дракона вместо заключительного знака, л. 201
8. Не смотря на очевидный натурализм украшений в первой половине рукописи, в них господствует одна и та же архитектоническая основа, как и в крупном, голенастом письме этой половины, как например на лл. 3, 44 об., 63 об., 86 и др., в снимках 2, 35, 36, 9, а частью и в том мелком письме, в котором писец не оставляет своей манеры букв голенастых, как например на л. 1, в снимке 1 (см. выше, рис. 158). Это основа состоит в тонкой вертикальной линии, которую перемыкают одна, две или несколько черточек. Этот одинаковый прием стиля, господствующий и в письме и украшениях, свидетельствует о солидарности школы писца со школой орнаментиста.
9. Теми же порыжевшими чернилами, какими писан текст, поставлены надстрочные знаки ( « и ̎) над буквой ἲ, в ее украшенных заглавных фигурах, на лл. 45, 121 об. и 146. Смотри снимки.
10. В первой же половине рукописи не раз случалось, что писец должен был принимать на себя дело орнаментиста. Так на лл. 1 и 3, в снимках 1 и 2 (см. выше, рис. 158 и 159), теми же чернилами, которыми писал он текст, бойко нарисовал и заглавные буквы; на л. 133 в снимке 42, (рис. 165), он начертил чернилами заставку и открасил ее той зеленой краской, которой кое-где покрыта и заглавная буква, тут же

165. Заставка, л. 133
находящаяся. Рисовальщик составлял сначала самое нутро заставки из листьев и так оставлял свою работу, не обведя ничем пучки листвы и травы, ни рамкой, ни даже полоской, как на лл. 129 и 149, в снимках 41 и 43 (см. ниже, рис. 167 и 169) – обстоятельство, о котором подробнее будет сказано потом. Но писец, имея уже такую недоконченную заставку на своем листе, прежде чем начать на нем писать текст, выводил киноварью заглавие и тем же киноварным очерком обводил линии со всех четырех сторон заставки, как на лл. 101 и (см. ниже, рис. 184) 153, смотр. снимки.
Из сказанного достаточно явствует солидарность между собой писцов и рисовальщиков определяемой мной рукописи. В приведенном анализе я вовсе не хочу доказать, что помимо писцов не могло быть еще и специальных мастеров, которым в этой рукописи принадлежат лучшие из украшений. Но в ней так много этих украшений в начале многочисленных глав и в абзацах самого текста, что не иначе можно дать себе понятие о составлении рукописи, как при одновременной и совместной работе писца и рисовальщика.
Эту тесную связь между письмом и украшениями следовало мне установить для того, чтобы определить их происхождение и характер. Если письмо носит на себе несомненные признаки южнославянского происхождения, с болгаризмами в языке, с искусственным правописанием и с погреченным почерком, то и самый стиль украшений должен принадлежать, вместе с письмом, одной и той же школе. Я не думаю отнимать у русских доли участия в орнаментации этой рукописи, но, на основании филологической и палеографической критики, эту долю могу допустить только в той мере, насколько она оказывается в языке и правописании.
Описываемая мною рукопись в своих украшениях предлагает в значительной полноте и разнообразии собрание художественных мотивов, которые дают славяно-русскому орнаменту в XV веке особенный, специально принадлежащий ему характер, решительно и резко отличающий его от украшений в русских рукописях XIV века. Для того чтобы яснее определить сказанное отличие, я признаю нужным предварительно поместить здесь общее понятие об этих последних украшениях из моей рецензии, составленной по поводу известной книги французского архитектора Виолле-ле-Дюка и критических рассмотрений ее в монографиях гр. С.Г. Строганова и аббата Мартынова102.
«Кому случалось перелистывать русские рукописи XIII столетия до начала XV, тот, конечно, не мог не обратить своего внимания на замечательную выдержанность общего им всем одинакового характера в стиле изукрашенныхзаглавных букв и заставок. Это – затейливое сплетение ремней и веток с разными фантастическими животными, с птицами, у которых иногда человеческие головы, со зверями, хвост которых извивается веткой, оканчивающейся листком, особенно с драконами и змиями, которые из своей пасти выпускают ветку же, а своим хвостом перевивают зверей и других чудовищ, наконец, с человеческими фигурами, руки и ноги которых вплетены в эти перевивы из ремней и змеиных хоботов. Существенной характеристикой стиля оказывается здесь нарушение или искажение и разложение естественных форм природы животной и растительной, при самом подчинении их целой группе, связанной извитиями, которые то насильственно рассекают эти формы, то с ними сливаются так незаметно, что глаз не может уследить, где оканчивается животное или растение и где начинается ремень, переходящий в змею. В этом хаосе сплетений всякая естественная форма принимает вид чудовища, которое, однако рассчитано не на то, чтобы пугать воображение, а на то, чтобы затейливостью группы, или, точнее, симплегмы, произвести игривое впечатление.Стиль этот вполне соответствует романскому на Западе103. XIVвек – есть цветущая его эпоха у нас, и именно в орнаменте русских рукописей. В течение целого столетия постоянное повторение одних и тех же сюжетов привело к замечательно художественной обработке этих фантастических групп, связанных игривыми линиями перевития. В тонком киноварном очерке, фигуры эти, – обыкновенно белые, со светло-желтыми нежными полосками и с черными кружками, чешуйками или черточками, – выступают на синем, красном или зеленом и даже на черном фоне.
Между изданиями Общества Любителей Древней Письменности хорошие образчики русского орнамента XIVстолетия предлагает факсимиль Требника, изданный в 1878 году под №XXIV. Достаточно даже беглого взгляда на украшения этой рукописи, чтобы ясно видеть и убедиться, что орнамент XV века в Троицкой Псалтыри ничего общего не имеет с этими украшениями XIV века и не состоит с ними ни в какой преемственной связи исторического развития.
Хотя обе половины описываемого мною письменного памятника одинаково представляют решительный контраст вышеизложенной характеристики русского орнамента XIV века; однако каждая из этих половин имеет свои специальные особенности в украшениях, и орнаментисты той и другой идут по разным путям, хотя и стремятся к одной цели создать новый стиль, отличный от того, который доселе господствовал. Потому, чтобы составить ясное понятие об этих украшениях, точное и раздельное в его элементах и вместе с тем полное в их взаимной совокупности, надобно рассмотреть каждую из сказанных половин в отдельности, с изложением по пунктам характеристических особенностей.
Итак, сначала обращаюсь к первой половине.
1. Украшения заглавных букв и заставок сначала нарисованы чернилами, а вместе с тем и оттенены чернильными же штрихами по способу, принятому в гравюре; затем, где следовало, слегка покрыты акварельной краской, более или менее тщательно, но всегда так, что сквозь нее пробивают сказанные штрихи. Эта манера новая, чуждая русскому орнаменту до XIV века включительно. Исключение в нашей рукописи составляет заставка на золоте с человеческой фигурой, на л. 41, в снимке 34 (см. ниже, рис. 186). Там орнаменты писаны цветной гуашью и оттенены цветными же штрихами и белыми бликами.
2. Замеченная выше тесная связь работы писца с работой орнаментиста, открываемая в буквах не раскрашенных, на лл. 1 и 3, в снимках 1 и 2, и в тонких и длинных вертикальных линиях с перемычками из черточек, должна дополнять характеристику приема, указанного в предыдущем пункте.
3. Сравнительно со второй половиной рукописи, мастер располагал небогатым запасом красок, употребляя только зеленую с вохрой и малиновую с бурой, которые все вместе на фоне выцветших чернил дают всем украшениям бедный и линючий колорит из желто-зеленовато-дикий и бурый, с переходами в малиновый. Это составляет также существенное отличие художественного стиля нашей рукописи от яркого колорита, вообще усвоенного русским орнаментом. Исключение представляет упомянутая в 1-м пункте заставка на золоте, в которой при большей яркости тех же красок прибавлены желтая и синяя, и еще (см. ниже, рис 185) заставка на л. 87, в снимке 37.
4. Не смотря на свою бедность, колорит этот вместе со штрихами гравировальной манеры, при замечательной выдержке во всех украшениях, рассчитан на эффект рельефности рисунка и на живописную светотень. Это еще новая черта, которой доселе не допускал и вовсе не знал русский орнамент.
5. В противоположность тератологическому стилю со зверями, птицами, змиями и чудовищами, насильственно сплетенными, здесь исключительно господствуют формы только растительного царства, и при том, соответственно бедности колорита, в самом ограниченном выборе, а именно: длинный лист с тонким и заостренным концом, по большей части узкий, из породы злаков, но часто и расширенный от стебля до средины; кроме того, еще лист (рис. 166) особой формы, широкий, со стилизованным вырезом полукружий по большей части на одной из его сторон, как например, в букве В на л. 101, в снимке 40; длинные усики или стебельки, вроде тычинок с шишечкой или головкой на каждой; иногда, впрочем редко, без этих шишечек, в виде травы, как например (рис. 167) в заставке на л. 129, в снимке 41. В своих этюдах мастер не пошел далее листвы и травы, с которыми хорошо умел сладить, и остановился перед цветком, воспроизведение которого было выше его сил и художественных средств. Потому, вероятно, цветка вовсе не хочет он знать, и для разнообразия иногда подкрашивает листву, обыкновенно малиновой краской, и только очень редко, как исключение, допускает колокольчик или кувшинчик с тычинками, как например (рис. 168) в букве Т, на л. 87, в снимке 37; но вообще старается обойтись только листом, обыкновенно широким, свертывая его чашечкой, иногда довольно удачно, как например в Б (см. ниже, рис. 180) и П, на лл. 69 об. и 77 (смотр. снимки); менее удачно в виде корзинок, как например (рис. 169) в заставке на л. 149, в снимке 43; по большей же части насилуя его форму до безобразия, как например в Д, Р (см. ниже, рис. 181), Т, W (рис. 170), на лл. 89, 78 об., 68 об. и 108 об. (смотр. снимки). Сверх того, как исключение, встречаются листы в форме: сердца, например, (рис. 171) в букве Г, на л. 55, Евангелии XII–XIII в. – кружка, например, (см. ниже, рис. 175) в букве Ж, на л. 112 об., Евангелии XII–XIII в. – косы или конского хвоста, в букве Г (рис. 172), на л. 114 (смотр. снимки).
6. Существенное отличие в стиле этих украшений от византийских и тератологических составляет очевидное стремление мастера к решительному материализму в воспроизведении растительной природы, столько же в рисунке, как и в рельефности посредством штрихов гравировальной манеры. Мастер не хочет знать ни традиционного византийского цветка, ни византийской ветки с завитком, составляющей достояние русского орнамента во все периоды его развития, и изыскивает новые сюжеты для своего творчества, почерпая их из природы.
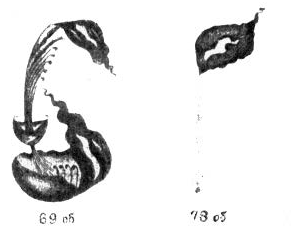
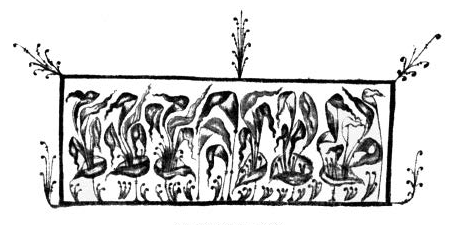

166. Буква В, л. 101 167. Заставка, л. 129 168. Буква Т, л. 87
Объем его наблюдений не широк и выбор сюжетов очень беден; глаз его преимущественно остановился на одной из множества разнообразных форм листвы; зато с особенным вниманием изучал он этот излюбленный им листок и с лицевой его стороны, и с изнанки, и во всех его изгибах и в легких извитиях его длинного заостренного конца.Чтобы быть верну природе, он должен был
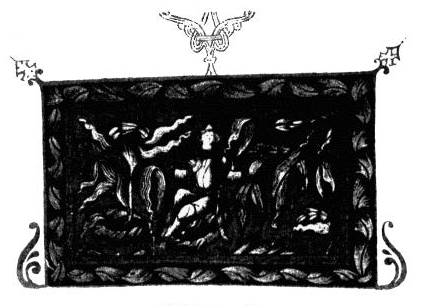
169. Заставка, л. 149


170. Буква Ѡ, л. 108 об. 171. Буква Г, л. 55 172. Буква Г, л. 114
отказаться и от ювелирных приемов византийской перегородчатой эмали, и от каллиграфических очерков киноварного узорочья русского тератологического орнамента, и изыскивал чисто живописные средства для передачи своих воззрений на природу. От того его украшения не блестят ни золотом, ни ярким колоритом, и не бросаются в глаза роскошью и затейливостью убранства. Они рассчитаны на удовлетворение уже новых требований эстетического вкуса, который в искусстве ищет природы и оценивает художественное ее воспроизведение в наиболее точном подражании ее формам. В этих же видах мастер отказывает себе в традиционных пособиях архитектурных форм рамки, столбика, базиса, капители, арки и т. п.; он не выводит при помощи этих форм самой фигуры букв, а бросает легкую ветку с листом и стеблем или гирлянду, которая, вырезываясь на белом поле бумаги, сама за себя должна говорить, означая ту или другую букву алфавита. Что касается до заставок, то, как увидим ниже, они даже сильно пострадали по отсутствию в них всякого архитектонического строя. Вообще у мастера господствует только принцип живописный, без всякого пособия форм архитектурных.
7. Этот новый творческий дух натурализма, впервые проявившийся на славяно-русском рукописном орнаменте, не мог в одинаковой степени удовлетворительно выразиться во всех своих художественных попытках. Мастер успел совладеть только с очень немногими формами растительной природы, и потому мог удержаться в пределах натурализма только тогда, когда воспроизводил каждую из них в отдельности. Но так как орнамент в заглавных буквах и заставках подчиняется особым специальным требованиям художественной архитектоники в размещении и соединении подробностей; то, чтобы удовлетворить эти требования, мастер, при очень ограниченном числе выработанных им натуралистических форм, должен был встречать непреоборимые затруднения, состоявшие в том, как бы разрешить все предстоявшие ему задачи в построении изящного орнамента только при посредстве этого слишком малого запаса новых форм, и при том никоим образом не прибегая к старой рутине традиционных сочетаний орнаментов, византийского и предшествовавшего славяно-русского. Впрочем, иногда эти трудности мастер блистательно побеждает, и тогда орнамент его поражает замечательным изяществом; но очень часто художник изнемогает в тщетных усилиях и прибегает к безобразному искажению тех же натуралистических форм, уродуя их настоящую фигуру или же неестественно их сочетая. Следующее за сим рассмотрение заглавных букв и заставок в отдельности Евангелии XII–XIII в. – должно выяснить сильные и слабые стороны этого нового в наших рукописных стилях. Все лучшее оказалось только в буквах; заставки же представляют одни неудачи новых попыток.
8. Уже сама фигура каждой из букв алфавита давала общий рисунок ее орнаменту и, вместе с тем, разнообразие, смотря по разнообразному начертанию каждой. Эту зависимость от каллиграфии до осязательности наглядно обозначил орнаментист тем, что усвоил себе из крупного почерка рукописи, как сказано выше, тонкую линию с перемычками, которой постоянно и пользуется в компановке орнаментов, за весьма немногими исключениями. Без всякого сомнения, он с большей бы безукоризненностью достиг своей цели, если бы был не столько смел в своих замыслах, и при бедности живописного материала не покушался бы на разнообразие вариаций в украшении одной и той же буквы, а ограничился бы самым малым числом рисунков для каждой буквы. Для примера укажу на некоторые из особенно изящных букв, в


173. Буква Б, л.61 174. Буква В, л. 41 об. 175. Буквы Ж, л. 112 об., и I, л. 45
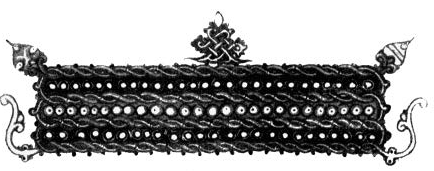
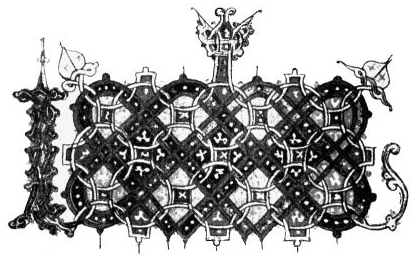
176. Буква К, л. 107 177. Буква О, л. 84 178. Буква С, л. 91 179. Буква Х, л. 150 об.
алфавитном порядке, как они изданы в снимках: Б лл. 61 (рис. 173) и 104; В лл. 41 об. (рис. 174), 42 об. и 115 об.; Г лл. 42, 42 об., 43 об., 44, 114 (см. выше, рис 172) и 147; Ж л. 112 об.; I лл. 45 (рис. 175), 70, 121 об. и 146 об.; К лл. 107 (рис. 176) и 139 об.; Н лл. 52, 59 об. и 65; О лл. 49 и 84 (рис. 177); Ѿ л. 72 об.; Р лл. 64 об. и 135 об.; С лл.56 об. и 91 (рис. 178);Т л. 136 об., и Х лл. 150 об. (рис. 179) и 152 об. Сверх того, в снимках с целых страниц: Г лл. 44 об. и 99 об., снимки 35 и 39; I л. 98, снимок 38, и С л. 63 об. (см. выше, рис 160), снимок 36. Орнамент оказывался неудачным всякий раз, как мастер искажал принятые им натуральные формы, или, когда он растягивал и расширял лист, свертывая его чашкой или корзинкой без всякой симметрии, как например в Б л. 69 об. (рис. 180), Д л. 89; или разрывал его, в виде тряпки с дырой посреди, как в Р л. 78 об. (рис. 181), Т л. 68 об.; или, когда в одной и той же букве соединял такой рваный лист с бесформенной корзинкой, и такой орнамент, не смотря на натуральную рельефность частей, в целом представлял невзрачную фантастическую фигуру, как (рис. 182) в В л. 79об. Кроме того, мастер не всегда удачно умел сочетать вместе принятые имнатуральные формы, именно листок с пучками травы или тычинок и завитков с шипочками. Особенно неудачно помещал он эти пучки на листах, как например в М лл. 110 и 117 об. (рис. 183), О л. 52 об., И л. 104 о., Р л. 61 об. Располагай мастер некоторым запасом разных форм цветка с веткой, ему бы не пришлось так беглом обозрении, эта смесь изящных фигур, поражающих своей натуральностью и красотой, с какими-то уродливыми формами, будто недоносками или эмбрионами, как в рисунках микроскопических наблюдений анатомии животных и растений, Евангелии XII–XIII в. – эта смесь безукоризненно прекрасного с безобразным, по своей новости и беспримерной у нас в старину оригинальности, производит с первого раза изумление и недоумение, и при всех наших сведениях в истории славяно-русского орнамента приходится отказаться от разгадки происхождения и смысла этой небывалой новизны. Только подробный анализ форм и их более или менее удачное приспособление к фигурам
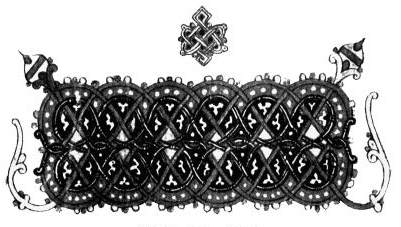
разных
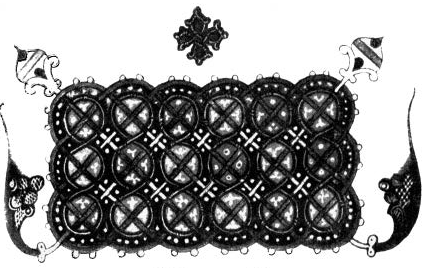
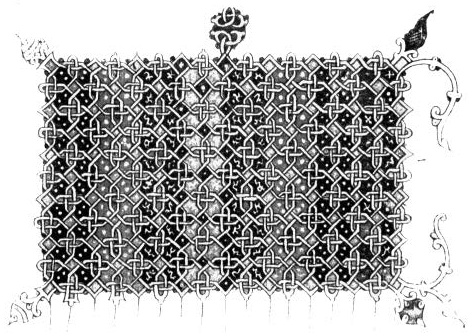
180. Буква Б, л. 69 об. 181. Буква Р, л. 78 об.182. Буква В, л. 79 об. 183. Буква М, л. 117 об.
букв дало нам возможность ориентироваться в этой смеси прекрасного и безобразного и усмотреть в ней целый ряд артистических попыток мастера, который, пробуя свои силы, с большими затруднениями достигал предполагаемой им цели – создать натуралистический орнамент.Этот принцип, воодушевлявший его творчество, должен был дать нам мерило для критики его оригинальных созданий. Опыт такой критики можно было сделать только над украшениями букв, а не заставок, потому что наиболее самостоятельное и обильное разнообразием творчество проявляется в рукописном орнаменте преимущественно в заглавных буквах.
9. Теперь обращаемся к заставкам. Если бы мастер не обнаружил своего высокого таланта в заглавных буквах, или если бы от его работ остались одни только заставки, то, судя по этим последним, мы должны бы были составить себе вовсе не лестное понятие о его бессильных попытках в натурализме, приведших к результатам самым неудовлетворительным. Все недостатки в украшении заставок подводятся к двум пунктам: к подробностям, составляющим их содержание, и к сочетанию этих подробностей в одно целое. В первом отношении оказывается, что мастер, как нарочно, наполнял свои заставки преимущественно теми неудачными, искаженными формами, которые, как замечено выше, были причиной безобразия в орнаментации и многих букв. Чтобы занять большее пространство, он предпочел широкие листы, разбухшие, свернутые в форме корзинки, или распластанные, разодранные, иногда имеющие вид попорченных под прессом лепестков цветка, когда они раскрашены у него разными красками, как (рис. 185) на л. 87, в снимке 37. Более удачен подбор листвы с травой в заставке (см. выше, рис 167) на л. 129, в снимке 41, но и тут примешались два листка уродливые. Во-вторых, что касается сочетания подробностей в одно целое, то мастер, лишенный поддержки алфавита, которым он до известной степени руководился в буквах заглавных, предоставлен был самому себе в архитектонике заставок и оказался вполне беспомощен. Когда он принимался за сочинение заставки, видимо, не имел он в своем воображении ничего определенного и цельного, что должно иметь свои определенные границы, очеркнутые рамкой; потому он оставил иные заставки вовсе без рамок, как на лл. 129 и 149 (см. выше, рис. 167 и 169), в снимках 41 и 43; из них некоторые, как замечено выше, случайно очерчены уже потом киноварными линиями, как на лл. 101 и 153 (рис. 184), в снимке 40 и с л. 153. С видимым расчетом на симметрию и единство в целом, представляются заставки в рамках на лл. 41 и 87, в снимках 34 и 37; но в первой (см. рис. 186) единство зависит только от помещения человеческой фигуры посреди набросанных в беспорядке листов, и только (рис. 185) во второй заставке мастер догадался сгруппировать листву в букет, но выбрал для нее самые неудачные экземпляры.
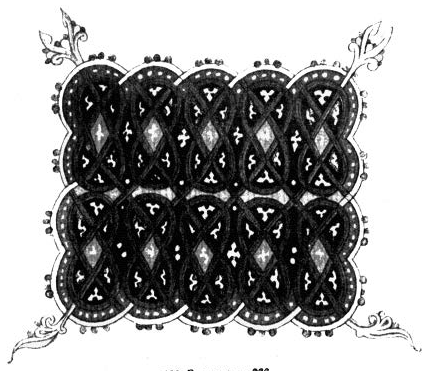
184. Заставка, л. 153
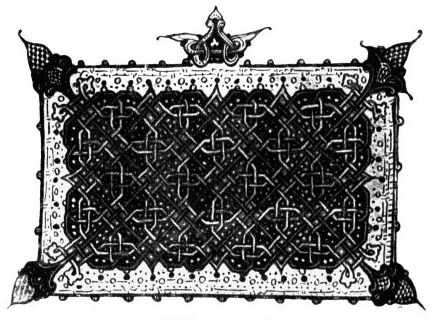
185. Заставка, л. 87
Обе рамки четырехугольные, массивной работы, вроде тех, какие бывают для картин. Одна из них по черному фону украшена, согласно принятой в рукописи орнаментации, желтыми пучками травы, другая – по синему фону, будто по мрамору с белыми жилками, тоже в стиле прочих украшений, убрана внизу белыми веточками, сплетенными в гирлянду; эту синюю рамку окружает другая, черная с желтыми крапинами и пятнами, на манер тоже мрамора. Хотя обе они тяжелы и неуклюжи, но существенно отличаются от общепринятых в нашей рукописной орнаментации тем же натурализмом, который господствует во всей рукописи.
10. Только дважды сделал мастер отступление от усвоенного им орнамента из трав и допустил изображение человеческой фигуры, именно (рис. 186) на л. 41, в снимке 34, в упомянутой выше заставке и в соответствующей ей (рис. 187) заглавной букве Б. В Описании Троицких рукописей первая фигура названа Соломоном, а вторая Давидом. Обе эти фигуры, как и две другие во второй половине рукописи, о которых будет сказано в своем месте, отличаются своим иконописным и живописным стилем от фантастических сплетений с обезображенными человеческими фигурами в орнаменте тератологическом. Что касается до особенностей в типе Давида, состоящих в венце на образец шишака и в отсутствии сияния, или нимба, то этиособенности его типа встречаются и в других позднейших памятниках русской старины104. Соломон, тоже без сияния, отличается от Давида отсутствием бороды и колпаком на голове. Кроме того, сверх подира на нем верхнее одеяние с рукавами, которые короче и шире, чем обыкновенно у нас в старину принято.
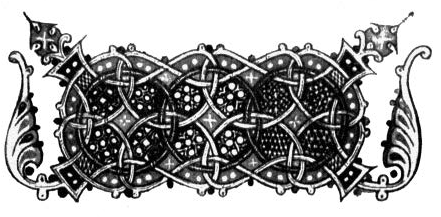
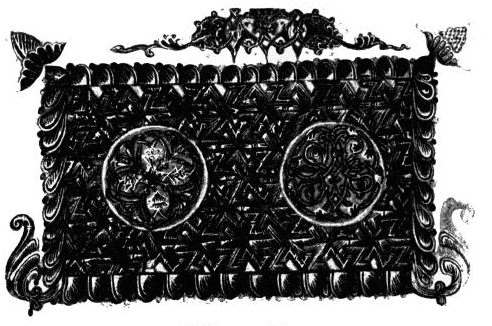
186. Заставка, л. 41 187. Буква Б, л. 41
11. По общему распределению и по подробностям, состоящим из листвы, окружающей человеческую фигуру, эта заставка принадлежит к одному стилю с заставкой, которой начинается знаменитая Геннадиевская Библия 1499 г., хранящаяся в Синодальной Библиотеке105. Но Троицкая – представляет только одни разрозненные элементы, даже разбросанные как ни попало, с намеренными искажениями формы листов, для пестроты раскрашенных разными красками, между которыми на одном из них, будто на копне, сидит человеческая фигура. Напротив того, заставка Геннадиевской Библии имеет вид как бы цельной картины. «По золотому фону из одного корня идут четыре ветви зеленого куста: две крайние широко раскидываются по обе стороны со своими цветами и листвой, а две средние образуют овал, в котором на седалище восседает Моисей перед столом и пишет книгу. При корне этого куста изображена какая-то красная масса, которая в виде пламени расходится красными же лучами, подернутыми по концам серебром, будто языки пламени: подробность, может быть, намекающая не неопалимую купину»106. То, что в Троицкой заставке остановилось только в смутных, невыясненных зачатках, то при других, более благоприятных условиях, но с меньшей смелостью в попытках к натурализму, дало более прочные результаты, оправдавшиеся живучестью в их последующем развитии.
Итак, из всего сказанного явствует, что в украшениях первой половины описываемой мной рукописи XV века повеяло таким новым духом, о котором до тех пор в нашей старине и намека не бывало, да и потом не осталось от него никакого следа. Это было явление исключительное, стоящее особняком от проторенной дороги общего течения. Непосредственно ли из натуры черпал орнаментист свои сюжеты, или, по обычаю наших старинных мастеров, он перелистывал западные инкунабулы с так называемыми «кунштами», и какой-нибудь лицевой гербарий или лечебник надоумил его воспользоваться для рукописного орнамента новыми, более натуральными формами растительного царства, во всяком случаев его работе нельзя не признать самостоятельной личности, которая в длинном ряде попыток пробует свои силы на новом, дотоле неизведанном поприще. Может быть, не он один в то время пролагал себе новую дорогу, и немудрено, что между южнославянскими рукописями той же эпохи найдутся и другие столько же необычайные орнаменты, так как наша старина далеко еще не исследована вполне; но и теперь уже, при наличных наших сведениях, не подлежит сомнению, что в украшениях первой половины Троицкой рукописи история славяно-русского искусства заносит на свои страницы тот громадной важности факт, что в XV веке в среде рутинной школы предания могла уже народиться и с энергией проявить себя свободная личность художника. Но такое явление было преждевременно. Новизна, выходящая из ряда вон, не была признана и не могла увлечь за собой последователей. Для своего времени она разве имела только тот смысл, что протестовала против господствовавшего дотоле орнамента тератологического, который за выслугой лет должен был быть заменен другим, но таким, который, не продолжая дальнейшего развития узорочья украшений XIV века, все же основывался б на предании, и вместо живописных форм свободного творчества усвоил бы себе тот же принцип условной стилизации. Для этого следовало только очистить ранние византийские основы орнамента от внесенных в него тератологических сплетений и произвести в истории орнамента эпоху возрождения византийского стиля, хотя и при некоторых новых художественных приемах. И возрождение это тем легче можно было совершить, что византийские основы предания и в орнаменте, как и в иконописи, не прекращали своего бытия, и шли рядом с тератологическими узорочьями, особенно в письменности южнославянской, состоявшей в большей связи с греческой.
Таков именно орнамент XV века во второй половине Троицкой рукописи. Греко-южнославянское происхождение его определяется, как показано, южнославянским правописанием и погреченной школой письма, состоящего в связи с послесловием, писанным по-гречески.
В общих очерках и в главнейших подробностях это тот же самый орнамент, образцами которого из разных рукописей исчерпывается весь XV век истории русского орнамента в известном великолепном издании г. Бутовского, на девятнадцати таблицах L–LXVIII, к которым по стилю следует отнести еще четыре таблицы, LXXXV–LXXXVIII, с украшениями XVI века, вероятно первой его половины, так как две из этих таблиц взяты из Евангелия 1535 г. Того же стиля смотр. в снимках с рукописей, выпускXV и XVI вв., г. Хрущова, в Памятниках Древней Письменности, выпуск III, 1880 г., снимки 1 и 2. В той же рецензии, из которой я привел характеристику тератологического стиля, так определяю я стиль орнаментации XV века: «Хотя он происхождения византийского и встречается и в рукописях и старопечатных книгах греческих, но преимущественно усвоен он в заставках южнославянских и русских рукописей, а также в славянских старопечатных книгах, изданных в Венеции, Кракове, Угровлахии и в южнославянских типографиях, потому и имеет право называться более болгаро-сербским, или южнославянским, нежели византийским. С первого взгляда заставки эти напоминают стиль тератологический, особенно в угровлахийских изданиях: то же сплетение, только не змеиных хвостов, а ремней и веток; но звери, чудовища и человеческие фигуры отсутствуют. Но одушевленные живыми существами, сплетения эти можно бы было отнести к тем ранним византийским заставкам, из коих потом развился наш стиль тератологический, мало-по-малу населяя переплеты изображениями животных и людей, если бы только этот болгаро-сербский орнамент не усвоил себе однообразной господствующей формы вплетающихся друг в друга кружков, иногда очень туго стянутых узлами, в один ярус или в два, даже и в три, и притом каждый из рядов или ярусов также друг с другом сплетаются. Иногда, но реже, заставка состоит из решеток, образуемых прямолинейными ремнями, которые, однако, по краям или сгибаются, или же закругляются, переходя в овалы. Что касается до заглавных букв, то, согласно стилю заставок, они состоят из ременных же сплетений, впрочем, не всегда»107.
В этой характеристике предложен только общий вид орнаментации XV века, в главных ее очертаниях, которые, за опущением живописных подробностей и игры колорита, не доступных резцу гравера, и могли только в этом общем виде перейти из рукописи в старопечатную книгу. При согласии в главных очертаниях, состоящих в сказанных кругах и решетках, рукописный орнамент существенно отличается от старопечатного именно тем, что наполняет и окружает эти геометрические фигуры разными подробностями, которые расписаны красками и иногда золотом и серебром. Потому подробный разбор заглавных букв и заставок второй половины Троицкой рукописи должен дать более полное понятие о славяно-русском орнаменте XV века. Начну с букв киноварных, а о буквах расписных буду говорить в связи с заставками, с которыми они состоят в прямой зависимости, выраженной наглядно уже и тем, что они писаны преимущественно только в заглавиях под заставкой, и потому число их ограничено, тогда как буквы киноварные встречаются почти на каждой странице рукописи, и иногда по нескольку, так как они ставятся в красной строке каждого абзаца.
1. Киноварные буквы, не смотря на разнообразие в подробностях, в общей фигуре соответствуют обыкновенному в славянском алфавите начертанию, несколько видоизменяемому замечательно изящным извитием линий и умеренным употреблением традиционного завитка с листком и столько же традиционного дракона или змия, ведущего начало от раннего византийского орнамента, и, наконец, не менее традиционного же человеческого лица, восходящего к Остромирову Евангелию и Болгарским рукописям XII в108. Смотр. в снимках: А л. 222 (рис. 188), В л. 231, Ж л. 279 (рис. 189), З л. 225, Ꙗ л. 208 об. (рис. 190) и знак препинания или заключительный на конце страницы на л. 201 (см. выше, рис. 164); сверх того, в снимках целых страниц: В л. 213 об., в снимке 51, А л. 222 об., в снимке 53. Фигуры букв в один киноварный тон вырезываются на поле белой бумаги, как силуэты, чем они уже по самому приему рисования существенно отличаются от сквозных очерков тератологического орнамента. Не смотря на сплошную манеру раскраски, киноварный змий (рис. 191) не только отделяется от киноварного же ствола с ветками, но, как виноградная лоза, грациозно вьется вокруг него, повиснув на нем закинутым в кольцо хвостом и спускаясь головой к нижней ветке, на которую разевает свою пасть, между тем как над его головой фонтаном брызжет киноварная струя из одного из тонких побегов того ствола, как это изображено на букве В л. 231 (смотр. снимок). Двухвостому змию (рис. 192), изображающему букву З л. 225 (смотр. снимок), дано человеческое лицо в профиль с роскошным гребнем на манер каски с перьями, и все это, в противоположность сплошной массе киноварных хвостов, очеркнуто тонкими линиями по белой бумаге, в изящном рисунке. Не достает только разноцветной эмали с золотыми перегородками, чтобы в этих киноварных фигурах видеть полное возрождение лучшего византийского стиля, дававшего орнаменту живописное подражание природе, впрочем, подчиненное некоторой типической стилизации.
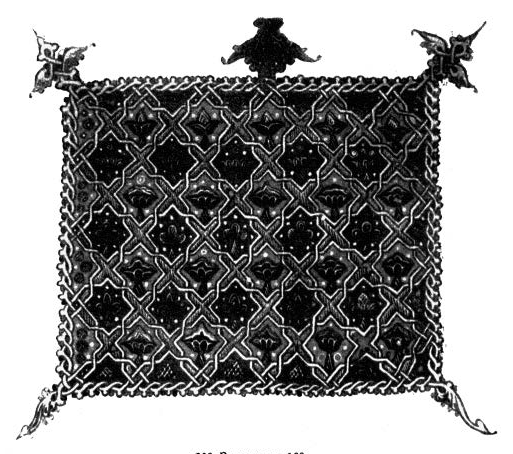
188. Буква А, л. 222 189. Буква Ж, л. 279 190. Буква Я, л. 208 об.
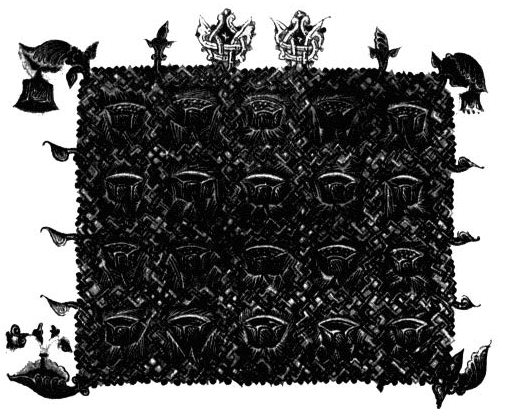
191. Буква В, л. 231 192. Буква З, л. 225
2. Господствующую форму заставок составляют сказанные выше круги и решетки, но есть также заставки в виде полос или лент, жгутов и плетенок, и одна (см. ниже, рис 205) на л. 211, в снимке 18, состоит из веток с цветами в перепутанных гирляндах по золотому фону, окруженному, как картина, рамкой. Чтобы составить себе полное и точное понятие обо всех этих орнаментах, я разделяю их на три главные группы, из которых к первой отношу полосы или ленты, жгуты и плетенки, ко второй круги и решетки и к третьей разноцветные ветки на л. 211, в снимке 18.
3. Особенно очевидно возрождение византийского орнамента в XV веке в орнаментах первой группы, как это явствует из сличения заставок Троицкой рукописи на лл. 5, 23 об. (рис 193), 245 об. и 241, в снимках 4, 6, 21 и 25, с заставками византийскими X–XII веков, например, в упомянутом издании Бутовского в таблицах VII, IX и XVIII. Возрождение это в славяно-русском орнаменте воспоследовало не путем возвращения непосредственно к тем ранним оригиналам византийского стиля, а при посредстве позднейших греческих рукописей, которые по преданию удерживали тот же ранний стиль, не только в XIV и XV веках, но даже и в XVI, как это можно видеть, например, в Палеографических Снимках Архиепископа Саввы, табл. 14–17109. В этой группе обращаю внимание (рис. 194) на заставку Троицкой рукописи на л. 239, в снимке 25,
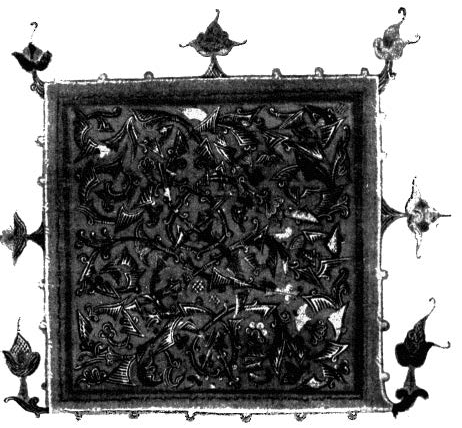
193. Заставка, л. 23 об.

194. Заставка, л. 239
выведенную лентой из сплошных плетенок или жгутов, с тремя рядами беленьких кружков, которым в среднем ряду дан вид жемчужин: при этом подражание природе оказалось не только в дырочках, которыми жемчужины прикреплены к ленте, но и в живописном приеме дать рельефность каждой жемчужине, оттенивши их все снизу зеленоватым отражением фона, на котором они выступают.
4. Во второй группе орнамент из кругов или также сплетенных овалов и из решеток принадлежит к тому разряду украшений рукописей XV века, который отличается сплошным фоном, переполненным разными подробностями, а не сквозным рисунком, оставляющим под собой белые полосы и пятна писчей бумаги или ровный одноцветный фон какой-нибудь краски. Сверх того, группа эта подразделяется на два отдела: к одному принадлежат орнаменты геометрические, именно в заставках на лл. 6 (рис. 195), 26 об. (рис. 196), 207, 223 (рис. 197), 200 (рис. 198), 218, 250, 258, 270 об. и 266 (рис. 199), в снимках 5, 8, 16, 19, 24, 26 и 27; к другому – орнаменты с подробностями живописными, в заставках на лл. 168, 188, 190, 204 об., 209, 238, 253, 181, 196, 232 (рис. 200) и 247, в снимках 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24 и 25. Этот последний отдел особенно отличается сплошной массой подробностей, по которой располагается общий рисунок орнамента, и по своей оригинальности и изяществу составляет существенное дополнение к образцам XV века, изданным у г. Бутовского. Эту живописность при богатстве сплошных фонов, может быть, надобно приписать к дальнейшим успехам искусства в развитии славяно-русского орнамента в XV веке, как переход уже к новому стилю, принятому в рукописях XVI века110.
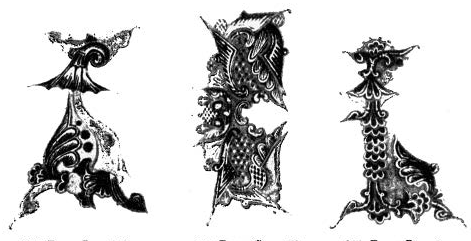
195. Заставка, л. 6

196. Заставка, л. 26 об.
5. Потому заставка из разряда живописных в Троицкой рукописи имеет уже вид не фантастического герба или загадочного иероглифа тератологического, а воспроизведения действительной ткани, ковра или рогожки, иногда ситца или набивки мелкого разноцветного рисунка; например, на лл. 168, 181, 188, 190, 204

197. Заставка, л. 228
об., 209, 238, 247 (рис. 201), 273, в снимках 12, 23, 13, 14, 15, 17, 20, 25 и 27. Иногда (рис. 202) эти лоскуты ковра или цветной рогожки оторачиваются в виде оборки из языков, как на л. 188, в снимке 13, на тот же манер, как оторочены поручи обеих рук на лл. 281 об. и 282, в снимках 57 и 58. В иных местах можно догадываться, будто мастер с намерением дает знать, что он воспроизводит свою узорчатую ткань, как камку или парчу, на одноцветной канве, как в заставке на л. 190, в снимке 14, которую он с левой стороны оторочил рядом мелких петель пурпуровой нити, а с правой пустил такой же ряд ее оборванных кончиков, с нижнего же края заставки эти кончики он несколько протянул, в виде бахромы, которую поднизал фигурками буквы ѕ с двумя черточками между каждой; что же касается до верхнего края, то он оторочил его оборкой из тех же языков. Итак, во всех своих живописных приемах наш орнамент XV века

198. Заставка, л. 200

199. Заставка, л. 266
возвращается к художественному стилювизантийскому, который в заставках и заглавных буквах воспроизводил геометрические сочетания мозаичных полов и стен и перегородчатую эмаль ювелирных изделий.
6. В противоположность тератологическому стилю, разноцветная орнаментация второй половины, пользуется сюжетами только из царства растительного, за исключением двух букв, о которых будет сказано ниже. Господствующим элементом принят цветок, вроде колокольчика, и как в первой половине рукописи мастер живописует свой лист и с лица, и с изнанки, натурально перегибая его и оттеняя изгибы, так и здесь цветок, обыкновенно синий, писан не только с наружной его стороны, но и с внутренней, красным или зеленым цветом, насколько природа цветка позволяет заглянуть внутрь его в том положении, как он срисован. Иногда колокольчик красный, тогда его нутро – синее, встречается и зеленый с желтой подкладкой. Эти цветы наполняют заставку в несколько рядов, обыкновенно с отверстием колокольчика, обращенным вверх, и только однажды вниз; смотр. лл. 190, 204 об., 209 и 253, в снимках 14, 15, 17 и 22; в заставке на л. 168 (рис. 203, в снимке 12, колокольчики заменены рядами трилистника; сверх того, на лл. 209

200. Заставка, л. 232

201. Заставка, л. 247
и 253, в снимках 17 и22, встречаются колокольчики и чашки с шишками, о которых подробнее скажу сейчас. Особенно грациозно рисуется сказанный колокольчик на белом фоне бумаги, когда он, как подвеска серьги, свешивается вниз на своем стебельке, выходящем из загибающейся вниз лиственной чашки, как например (рис. 204) вверху с левого угла заставки на л. 204 об., в снимке 15. Кроме того, допущены ветки и листья, а также и та характеристическая шишка, поднимающаяся из лиственной чашки, которая потом принята была и в орнаментации наших старопечатных книг111. В Троицкой рукописи она введена, как показано, и внутрь заставки, а также помещается и снаружи, наряду с другими формами, каковы цветок, лист, завиток и ветка, – и именно в выступах по краям заставки, ведущих свое начало от орнаментации византийской. В своем развитии эта фигура шишки представляет в нашей рукописи следующие видоизменения. Во-первых, она является в стилизованной форме, геометрические очертания которой удаляют ее от натуры, как на лл. 6, 26об., 200, 223 (см. выше, рис. 195–198), 239, 247 (см. выше, рис. 201), 250 и 273, в снимках 5, 8, 24, 19, 25, 26 и 27; во-вторых, согласно общепринятому стилю, уже в натуральном виде чашки из листвы с выходящей изнутри шишкой, которая покрыта или штрихами, или решеткой, как на лл. 188, 196 и 232 (см. выше, рис. 200 и 202), в снимках 13, 24 и 25; и, наконец, вместо более или менее стилизованной шишки, из такой же лиственной чашки выходит пирамидкой кучка ягод, может быть, слабое подобие виноградной кисти, напоминающее очень сходный с этим рисунок в раскрашенном орнаменте Гуттенберговой Библии по Майнцкому изданию 1455 года112. Такая именно фигура помещена (рис. 205) в Троицкой рукописи на л. 211, в снимке 18, в одном из семи выступов заставки, идущем от середины левой рамки; что же касается до прочих шести выступов, то они предлагают ряд вариаций той же вышесказанной шишки.

202. Заставка, л. 188

203. Заставка, л. 168

204. Заставка, л. 204 об
7. Я рассмотрел две группы орнаментов в заставках; остается третья. Хотя в нашей рукописи к ней относится только один экземпляр, то он имеет право на целую отдельную рубрику, как по особенностям, отличающим его от прочих групп, так и потому, что подобный же орнамент нередко встречается в других рукописях не только XV века, но и XVI. Сверх того, отличительный характер его стиля замечается, как увидим сейчас, и в разноцветных буквах этой второй половины рукописи. Итак, представительницей третьей группы оказывается та самая заставка с семью выступами, на л. 211, в снимке 18, на которую только что было указано. В переплетенных гирляндах из веток, стеблей и цветов, составляющих орнамент заставки по золотому полю, заслуживает внимания самая форма листвы и способ сочетания отдельных ее частей в целые гирлянды. Несмотря на разнообразие в разветвлении и в стеблях или побегах с завитками, каждый из отдельных членов этого лиственного орнамента, отличаемый от другого, с ним соединяемого, своим собственным колоритом, имеет в общих очерках форму трубы или рога, а иногда и колокольчика, состоящую в постепенном расширении тонкого стебля в широкий раструб, как отверстие трубы, обыкновенно отрезанное вровень, но иногда принимающее форму колокольчика с овальной выкройкой лепестков. Это как бы рог изобилия, приноровленный к стилю рукописного орнамента. Таким образом, гирлянда состоит из отдельных коленьев, из которых каждое отличается своим цветом; а соединены они между собой так, что одно колено своим тонким концом выходит из раструба другого колена и потом, расширяясь в раструб, в свою очередь служит вместилищем для тонкого конца еще нового колена. Этот же

205. Заставка, л. 211
самый стиль в заставке XVIвека можно видетьу Бутовского в таблице XCV; смотр. снимок внизу таблицы в правом углу, а рядом и букву с теми же коленьями, выходящими из раструбов.
8. Разноцветные буквы с золотой оправой вполне соответствуют и по стилю, и по роскоши рисунка и колорита вышеописанным заставкам. Мне остается только указать в буквах на те же главнейшие приметы, которые уже были замечены мной в заставках, и именно в тех, которые я назвал живописными, в отличие

206. Буква Б, л. 196 207. Буква А, л. 172 208. Буква В, л.26 об.
состоящих из кругов и решеток, и прибавить к этому еще некоторые сличения. Сначала замечу, что в этих буквах принята та же мера, что и в заставках, производить впечатление обилия и роскоши густым набором подробностей для сплошного орнамента, как это можно видеть в снимке 23 в буквах Б л. 196 (рис. 206), В л. 178, Е л. 176 об. и С л. 170. Из подробностей обращаю внимание на следующие. Во-первых, колокольчик, обыкновенно обращенный отверстием вниз, например, в В л. 5 (см. ниже, рис. 211), снимок 4, в В л. 190, снимок 14; иногда соединяются вместе два колокольчика, один отверстием вверх, другой вниз, на соединении подпоясанные перевязью: в Д л. 204 об., в А л. 172 (рис.207), снимок 23, в В л. 199, снимок 23. Во-вторых, коленья с раструбами, складывающиеся друг с другом по способу, объясненному выше; например, в В л. 26 об. (рис.208), снимок 8, в К л. 209, снимок 17, в Б л. 196, снимок 23, в С л.170, снимок 23; иногда из раструба, как из рога изобилия, выходит роскошная ветвь, как в Б л. 168, снимок 12; еще роскошнее изображен (рис. 209) в В л. 188, снимок 13, рог изобилия, выходящий своим тонким концом из колокольчика и выпускающий из своего раструба другой колокольчик, из которого в свою очередь выходит стебель с листвой и цветком. В-третьих, замеченные выше языки, из которых, в виде оборки, выведены бордюры заставки, можно видеть, например, (рис. 210), в С л. 170, снимок 23; еще лучше можно видеть, как в других рукописях бордюр из языков окружает очерк буквы; например, в Снимках с рукописей XVиXVI вв. буква П,113 или у Бутовского на таблице XCV из рукописи XVI в., тоже П. В-четвертых, рассмотренная выше в заставках та форма шишки, которая отличается решеточкой, замечается в украшении посреди колонки буквы К л. 209, снимок 17, и посреди же особенно роскошно убранной спинки той же буквы С, на которую только что было указано, л. 170, снимок 23.

209. Буква В, л. 188 210. Буква С, л. 170 211. Буква Б, л. 5
Есть еще одна подробность, очень заметная в украшении букв, но ускользающая от внимания в заставках между более резкими, бросающимся в глаза формами. Это полоска, составленная из трилистника, так что один листок налагается на другой, оставляя только его крайний из трех овалов вырез, а, чтобы одинлисток резко отделялся от другого, они отличены

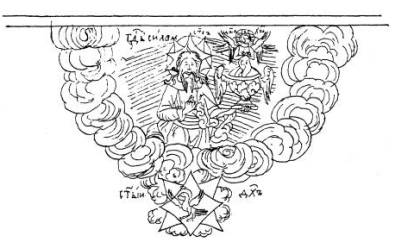


212. Буква К, л. 223 213. Буквы Д, л. 204 об. 214. Буква В, л. 172 об.
своей краской и очеркнуты золотом. В заставке на л. 190, в снимке 14, такими полосками обведены все четыре стороны; в буквах же смотр. на столбике буквы В (рис. 211), л. 5, снимок 4; оба столбика буквы П сделаны из двух таких полосок, л. 6, снимок 5; в букве А л. 23 об., снимок 6, так же украшен прямо стоящий столбик, тогда как откос сделан из так называемого рога изобилия; еще буква W л. 171, снимок 23. Наконец, встречается (рис. 212) и дюжинная форма традиционного орнамента из переплетенных ремней и веток с побегами и завитками, принятая у нас в XV веке; такова, например, буква К л. 223, снимок 19.
9. Родственную связь разноцветных букв с киноварными выдают в очень заметной очевидности следующие два случая. Во-первых, на л. 204 об., в снимке 15, под расписной из цветных колокольчиков буквой Д начертана (рис. 213) еще заглавная буква, тоже Д, тем же пурпуром, которым тут же писаны вязь и скоропись. По общему очертанию пурпуровая буква близко подходит к разноцветной, только нижний колокольчик замаскирован снизу клиньями, а верхний, без ветки, более похож на чашку, которой прямое подобие находим в другой разноцветной букве, именно (см. выше, рис. 207) в А на л. 172, в снимке 23; что же касается до двух веток в нижней части пурпуровой буквы, то они, соответствуя в общем рисунке обеим веткам расписным, вместе с тем, в своих подробностях напоминают подобные же нижние ветки букв киноварных, например, в букве В с указанными выше змием и фонтанчиком на л. 231 (см. выше, рис. 191). Во-вторых, буква В (рис. 214) на л. 172 об., в снимке 23, наполовину писана красками и киноварью: один колокольчик со стеблем – темно-зеленый с желтыми полосами и штрихами, а другой, ракурс, в виде перемычки – киноварный, и вся нижняя часть не что иное, как фрагмент одной из киноварных букв, с которым сходные экземпляры смотр в снимках. Так как, на основании выше приведенных наблюдений, киноварные и пурпурные буквы и украшения должны принадлежать той же руке, которая писала и самый

215. Буква Я, л. 207 216. Буква А, л. 211
текст; то указанная тесная с ним связь букв разноцветных, во всем согласных, с заставками, делает очень вероятной догадку, что и все эти превосходные украшения составлены не только в одно время с написанием рукописи, но и принадлежат к художественным досугам самого писца.
10. Мне остается сказать о двух заглавных буквах Я и А, изображенных в виде всадников на лл. 207 (рис. 215) и 211 (рис. 216), в снимках 16 и 18. Здесь орнамент переходит уже в живописца, и настолько искусного, что имеет право занять видное место в истории нашей иконописи, как по своему изящному мастерству, так и по нововведениям, которыми он нарушает принципы нашего иконописного предания. В Описании Троицких рукописей оба всадника названы просто воинами. Но между ними та существенная разница, строго соблюдаемая в нашей старинной иконописи, что первый всадник без сияния, а второй – в красном сиянии вокруг головы: так что в этом последнем надобно видеть или олицетворение из разряда тех аллегорических фигур, которые в древних памятниках византийского искусства были отличаемы сиянием, или же скорее ангела, и тем более потому, что эта фигура означает букву А, которой начинается слово Ангел, и как бы живописно означает собой это понятие; а так как словом Ангел в тексте поименован Архангел Гавриил, то в этом крылатом воине можно видеть и тип архангела. Во-вторых, воин просто протягиваетсвою левую руку с раскрытой ладонью, тогда как крылатый всадник простирает благословляющую десницу, как лицо, уполномоченное на то священным саном. Впрочем, описатель или описатели Троицких рукописей имели полное право удержаться от сказанного предположения, на том основании, что в этой фигуре все, начиная от костюма и до атрибутов, противоречит не только принятому типу архангела, но и вообще преданиям нашей иконописи. Во-первых, этот Пегас с крыльями; потом, на древке, оканчивающемся золотым крестом, бунчук из конского хвоста, такой же, как и у другого воина114; далее – крылья всадника и по форме, и по колориту отступают от усвоенных в нашей иконописи ангелам; наконец, обоим всадникам дана такая принадлежность костюма, которая, будучи чужда нашей старине, относится к обычаям западным: это именно перья на шапках. И само собою разумеется, что такой формы шапка с перьями была бы особенно неуместна на голове архангела. Тем не менее, эту фигуру мастер относил к свято чтимым лицам, снабдив ее священными атрибутами – золотым четвероконечным крестом на древке знамени, сиянием вокруг головы и благословляющей десницей, и если он хотел написать ангела или архангела, то в своих артистических замыслах слишком смело нарушил иконописное предание чуждыми ему нововведениями. Не буду распространяться об изяществе обеих этих миниатюр, заменяющих буквы, ни о натуральности и живости в движениях и поворотах фигур, ни о других качествах рисунка и колорита. Замечу только одну живописную подробность, с которой вообще не умели ладить наши старинные мастера, но которая исполнена здесь с видимым вниманием и со значительным успехом: это именно более правильное, подходящее к натуре воспроизведение кисти руки, в ее различных видах, когда она распростирается ладонью, сжимается в кулак или, когда протягиваются и сгибаются пальцы. Как кажется, по возможности правильное изображение оконечностей рук и ног, в их различных положениях и в ракурсах, как задача века, занимало украсителя нашей рукописи. Это видно (рис. 217) на л. 245 об., в снимке 21, из набросанных на нижнем поле страницы этюдов отдельных рук и ног, с намерением придать им разные положения и ракурсы, даже до того, что одна ступня нарисована со стороны подошвы. Выше уже замечено, что рисунки эти, писанные пурпуром, вместе

217. Очерки рук и ног, л. 245 об.
с находящейся подле них вязью того же цвета, должны принадлежать одной и той же руке. К сказанному следует присовокупить, что и другие рукописи XV века в своих орнаментах допускают довольно правильное начертание благословляющей десницы, например, в одной из букв на табл.LX в издании Бутовского. Эта подробность относится к сюжетам, которые, за падением стиля тератологического, были вызваны у нас возрождением византийского орнамента, который уже в VIII столетии предлагает нам в заглавной букве Е благословляющую десницу115. Таким образом, в истории нашего художества с византийским возрождением совпадают попытки к натурализму.
Сравнивая между собой живописные приемы в украшениях той и другой половины Троицкой рукописи, подробно мной разобранные, мы замечаем в обеих тот же художественный стиль значительно развитого искусства в наблюдении рельефности и некоторой перспективы ракурсов, при видимой наклонности мастеров к воспроизведению натуральных форм природы, как в рисунках, так и в колорите, с переливами тонов из одного в другой, со светотенью и штрихами. Только мастер первой половины, располагавший бедным колоритом, все свои силы устремлял к подражанию природе в рисунке и тенях, со всей наивностью первых попыток смелого новатора, тогда как мастер второй половины, твердо коренясь на почве многовекового предания византийского, при новых художественных средствах своего времени ставил себе задачей возрождение древнего изящества византийского орнамента во всем блеске его колорита и с натуральностью в той только мере, в какой орнамент допускал натуру в свои искусственные стилизованные формы. Потому под каждым украшением нашего мастера XV века, как бы оно ни казалось оригинальным, можно усмотреть стилизованную подкладку, выработанную в течении многих столетий на почве византийской; например, вышеупомянутые языки, приноровленные к бордюру в виде оборок, ведут свое начало от полос какой-то листвы с вырезами в орнаменте византийском уже VIIIвека, равно как и тот колокольчик, и тот рог изобилия, которые занимают такое важное место в орнаментации нашей рукописи116. Мастер первой половины свои тонкие очерки наводит прозрачным колоритом акварели, придающей природную мягкость его любимым листикам, которые будто на свободном воздухе, а не на белом поле бумаги, грациозно перегибаясь, извиваются волнистыми линиями в своих нежных оконечностях, тронутых легким ветерком. Напротив того, разноцветный орнамент второй половины рукописи, как сказано, имеет вид тяжелой парчи или ковра, с плотным рисунком позолоченного фона, по которому заткан блистательный орнамент. Все тут необыкновенно богато и массивно; даже выступы по сторонам заставок и заглавные буквы, при натуральности отдельных подробностей, имеют прочный вид ювелирной работы. Роскошному рисунку с преизбытком подробностей вполне соответствует густой и сочный колорит гуаши с золотой оправой и золотыми обрезами, которые, покрывая линии очерков, должны намекать на перегородчатую эмаль византийских изделий.
Оканчивая разбор Троицкой рукописи, собираю все разнообразные наблюдения мои к тому общему выводу, что рукопись эта должна иметь для нас особенную цену, как один из лучших документов, свидетельствующих о самостоятельной, богатой своими средствами, развитой и ученой школе рукописного дела в XVвеке, которой главную характеристическую черту составляет замечательное согласие, по сродству происхождения и развития, между грамматикой текста, почерками письма и украшениями. Искусственное возрождение древних форм грамматики и намеренная искусственность в разнообразии почерков, с примесью письма погреченного, состоит в прямой связи с художественностью украшений, вызванной искусственным же возрождением византийского стиля, вместе с проблесками самостоятельного творчества в артистических попытках к созданию новых художественных форм.
* * *
V. Из Рима. Письма на имя председателя Общества Древнерусского Искусства
I.
Для изучения древнехристианских памятников мне посчастливилось найти себе здесь очень сведущего и усердного руководителя. Это один немецкий ученый, из Лейпцига, доктор Жан Поль Рихтер, еще молодой человек, прилежный и усидчивый, как все немцы, и с основательными сведениями, какие может дать немецкая наука, соединяющий искусство хорошего бойкого рисовальщика, – условие, необходимое для всякого дельного исследователя по истории искусства. Так как византийская старина, которую немецкие ученые до сих пор обходили, становится день ото дня вопросом первой важности; то доктор Рихтер посвящает себя преимущественно изучению искусства византийского, в его отношении к древнехристианским памятникам времен катакомб. Он исследует византийские миниатюры и делает с них снимки в библиотеках: Ватиканской, Барберини, Корсини, Минервы и др.; снимает планы с подземелий и срисовывает стенные изображения таких из катакомб, которые еще не исследованы, или которые вновь открываются, и таким образом готовит себя к кафедре по истории христианского искусства, время от времени посылая свои корреспонденции в специальные, по этому предмету, журналы Шнаазе и Лютцова. Состоит он здесь при Германском Институте археологической корреспонденции, что на Тарпейской скале, так как по новому положению в круге деятельности этого учреждения, доселе ограничивавшегося только древностью классической, введено изучение и памятников искусства древнехристианского, которыми Рим так богат. Потому-то и сам Командор де-Росси состоит членом этого института.
На этот раз сообщу вам, по указанию доктора Рихтера, кое-что о некоторых из миниатюр в рукописях здешних библиотек.
1. Изображение Ада (при псалме 9), в греческой Псалтыри XII века, в библиотеке Барберини, № 217. Обнаженная фигура, юношеский тип, без бороды, сидит на земле; в руке держит душу в виде младенца. По своей позе и по подробностям вполне напоминает силенообразного Плутона Лобковско-Хлудовской греческой Псалтыри, с которого снимок (см. выше, Сочинения, т. I, стр. 113) помещен в Сборнике Общества древнерусского искусства на 1866 год.
2. Ветхозаветный Змий, искушающий Еву. В греческой Палее XIV века в Ватиканской Библиотеке, №746 Cod. Gr., изображен в виде четвероногого животного с длинной шеей и головой, похожей на птичью. В латинской рукописи Speculum veritatis XIV в., в библиотеке Корсини, в том же сюжете, Змий изображен в виде птицы, с двумя ногами, с крыльями, тоже с длинной шеей, но с головой человечьей. По известной легенде, Змий лишается ног и превращается в пресмыкающегося гада, как скоро Господь Бог его проклял. Легенда эта удерживается до позднейшего времени в гравюрах, изображающих историю первых человеков. Меня особенно интересует лебединый тип ветхого Змия-соблазнителя. Не состоит ли он в связи со всесветными преданиями о водяных девах, арийских Апсарис, с лебедиными или утиными сорочками, которые надевают и скидают с себя Валькирии и другие вещие девы? Наконец, не имеет ли он какого отношения к тому болгарскому преданию, сообщенному мне профессором Дриновым для одной из моих статей, которые в прошлом году печатал я в Русском Вестнике117. По болгарскому преданию, гусыня снесла яйцо, из которого вывелась Сивилла-Мария, возмечтавшая себя богоматерью. В этой гусыне, зачавшей в себе яйцо от греховного семени, не возрождается ли крылатый, лебединый тип ветхозаветного соблазнителя, создающий Анти-Марию, в том же смысле, как создал он Антихриста?
Как бы то ни было, но во всяком случае ветхозаветный Змий находится в соответствии, – с одной стороны, с тем водяным змием, которому на съедение обрекают человеческие жертвы, или который, как в скандинавской космогонии, вместе с морем облегает всю землю, а с другой стороны, с водяными птицами, как в лебедином типе рукописи библ. Корсини. Другой вариант этой легенды, усвоенный для символа ветра или духа, носящегося над водами, предлагает один барельеф на слоновой кости, между другими барельефами, украшающими алтарь в Салернском соборе. Над водами носится голубь и, как в известной Карпатской колядке, творит мир. Он уже отделил свет от тьмы, которые и обозначены над водой в двух кругах с латинскими надписями: lux и nox.
3. Древнехристианский тип доброго пастыря. При этом сообщу вам одно очень любопытное соображение доктора Рихтера. В Ватиканской греческой рукописи Космы Индикоплова, IX в., нашел он одно из самых изящных изображений Авеля. Это юношеская прекрасная фигура, обнаженная; только середина торса прикрыта коротким одеянием. По обеим сторонам овцы. Над фигурой греческая надпись: Αβελ ποιμὴν άγαθὸς. Все это изображение до того тождественно с древнехристианским типом доброго пастыря, что, когда г. Рихтер, показывая однажды эту миниатюру самому Де-Росси и закрывши надпись, спросил его: что это должно быть такое; то Де-Росси с первого же слова назвал ему доброго пастыря живописи катакомб и скульптуры саркофагов. Такое любопытное совпадение дало Рихтеру мысль проследить тип авеля по миниатюрам, и он нашел соответственные этому изображения в греческой Палее XIV в. в Ватиканской Библиотеке, № 746 Cod. Gr., где Авель представлен также между овцами, и в латинской библии IX в. Ватиканской Библиотеки, где, как настоящий добрый пастырь, держит он на плечах барашка. Замечательно, что во всех этих миниатюрах стоящий Авель кладет одну ногу на другую, – обыкновенная античная поза юных фавнов, иногда усвояемая древнехристианскому типу доброго пастыря.
4. Та же греческая Палея XIV в, в Ватиканской Библиотеке, № 746 Cod. Gr., предлагает любопытный образчик античного предания в изображении Ноя, упивающегося вином. Посреди винное точило под виноградной лозой. Два мальчика, обнаженные, стоя в точиле, топчут ногами гроздья. Из среднего точила, в котором они стоят, вино выливается в другой, больший сосуд, который окружает его. По одну сторону женщина цедит вино в сосуд, по другую сторону Ной пьет из сосуда. Обнаженные мальчики в точиле вполне напоминают гениев, собирающих виноград на саркофаге св. Констанцы.
Еще замечание об этой же греческой рукописи. Известно, что в греческих миниатюрах небо изображается в виде голубого полукруга, высоко над фигурами поднятого к одному из верхних углов картинки, как бы с тем мистическим намеком, что горнее божье небо далеко отстоит от юдоли человеческой. Напротив того, в миниатюрах греческой Палеи, изображающихсотворение мира и райскую жизнь первых человеков, синее небо почти сливается с землей, и только после грехопадения оно замыкается в круг, отделяясь от оскверненной земли, и поднимается вверх на то место, которое уже потом навсегда удерживает. Новейшие исследования более и более убеждают в той мысли, что языческие памятники самого раннего времени по Рождестве Христовом предлагают любопытную смесь противоречивых элементов, из которой потом мало по малу выделялись не только формы, но частью и содержание памятников древнехристианских. Распущенность нравов и бедствия в семье и обществе так понизили цену земного существования, что характеры решительные искали освобождения от него в самоубийстве, а души нежные, боязливые утешали себя чаянием лучшего будущего, предаваясь мечтательности, в которой находили себе единственное утешение. Многие из надгробных надписей того тяжелого времени дышат предвкушением того неземного успокоения, которое потом указали отжившему язычеству первые проблески героического мученичества первых христиан. Мистицизм и символизм, прежде чем были усвоены древнехристианским искусством, должны были служить естественным исходом боязливой мысли, запуганной крайней ненадежностью земного бытия и разочарованной в тех богах, которые стали игрушкой для беспутного самообожания наследников Кесаря. Когда надобно было непрестанно трепетать за свою земную оболочку, которой человек состоял от роковой зависимости от господствовавшего тиранства, и не оставалось другого прибежища, как обратиться к собственной душе и в надгробных надписях над любимыми особами утешать себя чаянием вечного ее успокоения. Душа, таким образом, становится героиней трогательного эпоса надгробных надписей и находит себе пластическое выражение в символическом союзе Амура и Психеи. Капитолийсктй саркофаг, с изображением Прометея, который творит человека, и с представлением души в виде Психеи с крыльями бабочки, давно уже принята в истории искусства относить к переходному периоду от язычества к христианству. Нет сомнения, что памятник этот не единственное исключение, а только уже очень сильно кидающийся в глаза образчик того смешения понятий, которое более или менее дает себя знать и во многом другом, относящемся к тому смутному времени.
Веду речь к тому, чтобы сообщить вам одно любопытное предположение доктора Рихтера. Между стенными изображениями в Помпее обратил он внимание на очень странный вариант довольно часто встречающегося сюжета – суд Париса (region VII, insula II, № 14, tabl. налево). Сидящему Парису Меркурий подносит яблоко. Направо от зрителя три богини, ожидающие суда, а налево, на дальнем горизонте – два креста. Де-Росси, которому г. Рихтер показывал это изображение, полагает, что кресты начерчены кем-нибудь потом; но, при тщательном наблюдении, не остается сомнения, что эта подробность одновременна всему изображению, и белая краска крестов, проведенная по синему небу, окрепла в течение тех же веков, как и вся эта стенная живопись. Таково, по крайней мере, убеждение опытных живописцев, с которыми г. Рихтер по этому поводу сносился.
Трудно определить в точности, какой новый оборот мысли хотел дать живописец суду Париса, противопоставив чувственности и тщете языческих богинь идею о распятии плоти. По крайней мере не подлежит сомнению, что эта Помпеянская картина относится к разряду тех произведений переходной, от язычества к христианству, эпохи, которая так ясно выразилась в упомянутом Капитолийском саркофаге и, как в этом последнем памятнике, должна выражать в крестах какой-нибудь символический знак, а не осмеяние Распятия, которое археологи видят в известном начертании, найденном на одной из стен в развалинах на Палатине.
14/26 декаб. 1874 г.
II.
Эту корреспонденцию посвящаю я исключительно миниатюрам греческой Псалтыри в библиотеке Барберини, № 217, в 4-у. Эта Псалтырь приписывается к XIV столетию, но как по письму, так и по миниатюрам должна быть отнесена столетия на два ранее.
В древнехристианском мире из всех книг Ветхого Завета самое сильное действие на умы и воображение оказала Псалтырь, как по своему пророческому отношению к Новому Завету, так и по первенствующему своему значению в молитвах и богослужении первых христианских общин до IV века, когда окончательно была установлена литургия. Потому, надобно полагать, от самых первых веков христианства ведут свое начало те из древнейших миниатюр Псалтыри, в которых оказывается замечательное сходство со стенописью катакомб и барельефами ранних саркофагов, как по смеси языческих форм с христианскими идеями, так и по параллелизму между событиями и представлениями Нового и Ветхого Завета.
Между известными мне древнейшими редакциями лицевых псалтырей особенно выступают две, резко между собой отличающиеся столько же по сюжетам миниатюр, сколько и по способу понимания самого текста псалмов. Обе эти редакции соответствуют двоякому способу понимания и толкования св. Писания, так что, изучая их в художественном отношении, мы вместе с тем как бы входим в образ мыслей и представлений тех лиц, которые сопровождали свои молитвенные бдения чтением и песнопением псалмов по той или другой редакции. Одна из них, представительницей которой я называю знаменитую греческую Псалтырь IX–X столетия в Парижской Национальной Библиотеке, ограничивается кругом идей и представлений ветхозаветных, избирая сюжетами для миниатюр события из жизни царя Давида и вообще из истории Еврейского народа. Другая лицевая редакция, к которой я отношу разбираемую мной Барберинскую Псалтырь, выработалась уже в связи с толкованиями св. отцов на Псалтырь, и по своему происхождению и развитию принадлежит ко времени составления так называемой Толковой Псалтыри. Миниатюры этой редакции, присовокупляя к сюжетам ветхозаветным новозаветные и вообще из истории христианской церкви, объясняют текст псалмов, как пророчество о Христе и Его церкви, и относятся к лицам и событиям, упоминаемым в псалмах, как к прообразованию лиц и событий новозаветных. Миниатюры первой редакции имеют характер более общий, изображают вообще сюжеты ветхозаветные, не входя в отдельные тонкости текста псалмов; миниатюры последней редакции, соответствуя богословским толкованиям текста, относятся именно к отдельным выражениям псалмов, и потому разными значками, помещаемыми над миниатюрами и в тексте псалма, читатель отсылается от текста писания к его лицевому объяснению, как в печатных книгах звездочка или цифра указывает на примечание, внизу страницы помещенное. Вследствие сказанного, миниатюры первой редакции могут занимать отдельную от текста страницу, как это видим в Псалтыри Парижской; миниатюры последней редакции, в виде примечаний к классикам в старинных изданиях, помещаются на полях страницы кругом текста, как это принято в Псалтыри Барберинской. Первую редакцию я буду называть Парижской, вторую – Барберинской.
В художественном отношении редакция Парижская выше Барберинской и в общем составе древнее ее; но по отдельным миниатюрам и эта последняя, пользуясь ранними древнехристианскими преданиями, восходит к первым временам христианства, но потом, подчинившись толковым книгам, более и более осложняется и получает эластическую способность вносить в свои миниатюры привходящие с течением времени разные интересы в истории церкви и христианской догматики, каковы, например, изображения мучений христианских великомучеников, изображения таинств церковных, св. отцов IV века, даже сюжеты из истории иконоборства, чем Псалтырь Барберинская вполне соответствует находящейся у нас в Москве Лобковско-Хлудовской, подробно описанной Ундольским в Сборнике Общества древнерусского искусства при Московском Публичном музее на 1866 г. Есть многие другие родственные точки соприкосновения между обеими этими рукописями, как увидим впоследствии118. Кроме этого, к разряду же Барберинской редакции, сколько мне помнится, относятся многие из Севастьяновских копий с афонских и вообще греческих миниатюр, хранящиеся в Московском Публичном Музее. Наконец, сюда всей своей тяжестью тяготеет иконописное предание русских лицевых псалтырей, как это может видеть читатель из сличения следующих за этим подробностей с рисунками, приложенными в моих «Исторических очерках».
Особенный интерес представляет нам Барберинская редакция потому, что к самым ранним древнехристианским сюжетам присовокупляет она целый цикл византийской иконографии, как он установился впоследствии и потом был принят у нас в иконописных Подлинниках, то есть, в изображении Благовещения, Рождества Христова, Крещения, Преображения, Воскресения Христова в виде сошествия во ад, в изображении типов апостолов, отцов церкви и пр.
Понятно, что такая осложнившаяся редакция должна иметь свою историю. Так, например, в некоторых рукописях есть миниатюры из иконоборства, в других нет; в одних помещается изображение притчи из Варлаама и Иоасафа царевича о единороге и двух мышах при корне древа, в других не помещается. Когда подробно будут описаны лицевые псалтыри этой редакции, то, без сомнения, ясно обнаружатся последовательные слои ее исторического развития.
Теперь обращаюсь к самому описанию миниатюр Барберинской Псалтыри. Сначала замечу вообще, что большая часть из них и по рисунку, и по колориту отличаются замечательным изяществом отделки, идеальной красотой и вместе с тем натуральностью, – качествами, которые в эстетическом отношении так много говорят в пользу византийского стиля, до сих пор еще не довольно оцененного не только в публике, но и в науке. Лица дышат красотой и выражением, красивые одеяния, при своем интересном разнообразии для истории костюма, изящно драпированы и кое-где, по античному преданию, подчинены свободному движению фигур. Чувствуется эстетический такт в драматической постановке действующих лиц и в их группировке. Животные писаны с решительной тенденцией натурализма, например, петух, своим пением обличающий апостола Петра (л. 64 об., к псалму 38), – сюжет, бесподобно трактованный и в одной из Севастьяновских копий. Деревья рисованы не в аляповатом стиле дюжинной неуклюжей орнаментики, а сообразуясь с натурой: темный ствол, в свободном росте, поднимаясь от земли, в своих ветвях ландшафтно прикрывается прозрачной листвой, сквозь которую по краям чувствуется движение воздуха; например, бесподобное дерево, с замечательно натуральным изображением свитого на нем гнезда, в котором так же натурально писаны птички, замечательные по своей грации (л. 138 об., к псалму 83). Несколько хуже

218. Д из Псалтири Барберини, л. 263 об.
повторен тот же сюжет на л. 240, иеще хуже на л. 237. Из фантастических сюжетов укажу (рис. 218) на изображение буквы Д на л. 263 об., состоящей из птицы, постановленной на извивающуюся змею. И по натуральности, и по изящному стилю рисунка, и по яркости колорита, с тонким вкусом усиленного позолотой, я ничего изящнее не видывал в арабесках Рафаэловой школы. Наконец, эта Барберинская рукопись особенно важна для истории византийской архитектуры, образцы которой она воспроизводит в миниатюрах, со всем ее великолепием из разноцветных мраморов и восточных алавастров, с арабесками и разными позлащенными украшениями. В пример укажу на несколько миниатюр, особенно интересных по архитектурным сюжетам. Великолепное четырехэтажное здание, с открытыми портиками под колоннами вдоль 2-го и 3-его этажей (л. 84), башня (л. 93 об.), столп для столпника, замечательно красивой постройки (л. 101), церковный портал (л. 101 об.), внутренность храма с иконой Знамения Богородицы (л. 143), наружность церкви с алтарной частью (л. 152 об.); наконец, на одной миниатюре изображено, как строят храм и как на блоках поднимают колонны (л. 158). Для истории церковной утвари заслуживает внимания различная форма досок, употребляемых для икон. Сначала надобно заметить, что на иконах встречаются изображения только Христа и Божией Матери. Иконоборцы разрушают только икону Спасителя. Общепринятая форма для иконы, – щит или медальон, с грудным изображением, удержанная в иконописи, господствует и в Барберинской Псалтыри, по преданию от древнейших времен, когда на саркофагах в медальоне изображали портреты усопших. Кроме того, в этой рукописи встречаются и в форме четвероугольника, и притом, или просто четвероугольника без всяких прибавлений (л. 133 об.), или с ушком посреди верхней линии четвероугольника (л. 22), или, наконец, вместо ушка, овальный подъем (л. 21). Замечу при этом одну подробность символического значения. Когда Христос благословляет, то от Его десницы исходят голубые лучи и стремятся вон из медальона или из четвероугольника, на благословляемых (л. 17 об., к Пс.12:22). Точно так и в Лобковско-Хлудовской Псалтыри господствующая форма иконы щит, и только как исключение, – четвероугольник.

219. Крест с изображением Иисуса Христа в медальоне, Псалтырь Барберини, л. 5 об.
Теперь обращаюсь к отдельным миниатюрам, в том порядке, как он следует в рукописи, и важнейшим из них сделаю перечень с краткими описаниями и замечаниями.
1 л. Император и императрица по сторонам их царственного наследника, в великолепном византийском костюме, блестящем пестротой красок и золотом.
5 л. об. (Пс.4). Крест (рис. 219), в перекрестии которого щит или медальон с поясным изображением Иисуса Христа, точь-в-точь как в Лобковско-Хлудовской Псалтыри, где это изображение помещено именно также при псалме 4-м. В Барберинской встречается оно еще на л. 142 об.
12 л. об. (Пс.9). Ад в виде Плутона с типом античного Силена; лысый, волосы только на висках. Обнажен; только нижняя часть живота прикрыта драпировкой. Принимает душ в виде младенцев. Точно также (см. выше, Сочинения, т. I, рис. 23) и в Лобковско-Хлудовской Псалтыри и при том же псалме.
28 и 28 л. об. Апостолы проповедуют разным народам, каждый апостол своему народу.
32 л. Иисус Христос распят в длинном синеватом или пурпурном хитоне, спускающемся до самых оконечностей ног; по хитону идут две золотые полосы; руки обнажены, потому что хитон без рукавов. Точно также и в Лобковско-Хлудовской Псалтыри, только не помню, есть ли там по хитону золотые полосы.
33 л. (Пс.21). Иисус Христос между рогатыми людьми и зверями, и потом (рис. 220) Он между людьми с песьими головами То и другое удержано как в Лобковско Хлудовской Псалтыри, так и в русских

220. Иисус Христос между людьми с песьими головами, Псалтырь Барберини, л. 33

221. Разрушение иконоборцами иконы Спасителя, Псалтырь Барберини, л. 39 об.
рукописях, на которые я ссылаюсь в моей монографии в Сборнике Общ. древнерусского искусства (см. выше, Сочинения, т. I, стр.114).
37 л. (Пс.23:9). В кругу, означающем небо, два ангела держат перед собой золотые половинки небесных ворот, так что из-за них видны только их головы. Ниже, но соприкасаясь с кругом неба, – овальный ореол, в котором Иисус Христос; овал поддерживают по обе стороны два, парящие по воздуху, ангела. Внизу распростерся по земле Давид.
39 л. (Пс.25) Иконоборцы (рис. 221) разрушают икону Спасителя, изображенную в щите или медальоне. Около сидят император на престоле, между придворными и духовенством. Лица и одеяния императора и придворных особенно изящны, при натуральности в рисунке и колорите и при разнообразии пышных костюмов. Это изображение написано на нижнем поле страницы, а выше, на боковом, Никифор патриарх, который, проповедуя иконопочитание, держит подобный же щит с иконой Спасителя. То же самое, с незначительными изменениями, найдете и в Лобковско-Хлудовской Псальыри, как описано мною в Сборнике (см. выше, Сочинения, т. I, стр. 110). Далее повторяется тот же сюжет.
44 л. (Пс.29). Воскресение Лазаря. Иисус Христос подошел к трупу Лазаря, который, согласно с преданиями ранних саркофагов, помещен в гробу стоймя. Только что Христос благословлял безжизненный труп на восстание из мертвых, в тот же момент к воскрешающей деснице Его по красной полосе поднимается из ада душа Лазаря с головой в сиянии, а по сторонам ее два беса, которые, замечу мимоходом, изображаются в этой Псалтыри вообще сходно с типом, принятым в русской иконописи. Ад изображен так же, как на л. 12 об., только совсем со звериным рылом, в виде зверообразного Пана или Сатира.Плешив; волосы седые, только на висках; ноги скованы цепью, которая заперта замком, по своей форме имеющем интерес для истории быта.
56 л. об. (Пс.35). Иисус Христос и жена Самаряныня по сторонам колодца. Фигура этой женщины замечательно красива и по своему лицу и грациозному стану, и по оригинальному и очень изящному одеянию, которое так и просится на страницы истории византийского костюма.
68 л. Тайная Вечеря. Стол, за которым, по древнему обычаю, возлежат, имеет форму полукруга, будто стоит в полукруглой же нише, как в триклиниуме золотых палат Нерона.
75 л. об. Под распятием Иисуса Христа помещена глава Адамова.
80 л. об. (Пс.49). Солнце в виде Аполлона на колеснице, везомой четырьмя конями. Все изображение красное. То же и в Лобковско-Хлудовской Псалтыри.
81 л. об. (Пс.49). Троица в виде трех ангелов, угощаемых за столом Авраамом. Изображена так же, ка на знаменитой иконе в Троице-Сергиевой Лавре. Внизу у стола лежит агнец. Сара выглядывает из-за двери.
92 л. (Пс.57). Человек трубит в трубу перед змеем-аспидом.
103 л. и 103 об. (Пс.65). Несколько групп мучеников, подвергаемых разного рода мучениям. Между прочим, (рис. 222), замечательно изображение смерти в виде темной фигуры, которая со змеей стоит позади одного мученика в момент его убиения.

222. Убиение мученика, Псалтырь Барберини, л. 103
105 л. (Пс.66). Иисус Христос извлекает из ада Адама и Еву. Ад, тоже античная фигура, весь черного цвета, повержен стремглав вниз головой. Так же в Лобковско-Хлудовской Псалтыри.
105 л. об. (Пс.66). То же изображение, только ад зеленого цвета и лежит навзничь. Над изображением надпись: αναστασις.
110 л. (Пс.68). Двое разрушают икону Иисуса Христа в медальоне; внизу чаша, как обыкновенно изображается она в сценах иконоборства и в Барберинской и вЛобковско-Хлудовской Псалтыри (см. выше, Сочинения, т. I, рис. 21). Надписано: ειχονομαχ.
117 л. (Пс.72). Двое с красными языками, выпущенными до земли, как и в Лобковско-Хлудовской Псалтыри.
120 л. Крещение Иисуса Христа в Иордане. Внизу со стороны вод Иорданских изображена черная голова; еще ниже два змия перевиты своими хвостами, синие.
124 л. об. Два синих потока реки идут от двух синих же человеческих фигур.
129 л. об. (Пс.77:43). Кровавый Нил красного цвета; но человеческие фигуры, его олицетворяющие, цвета тельного, приодеты. Одна фигура в царском венце выливает реку, другая держит ее конец.
137 л. (Пс.80:17). Большой камень (рис. 223), с подписью внизу: πιτρα; на нем стоит Иисус Христос. Напротив, от зрителя, Моисей (тоже с надписью: Μωυς) ударяет по камню жезлом, а налево от камня исходит источник, от которого две фигуры пьют воду. Изображение в высшей степени важное по

223. Изведение воды Моисеем, Псалтырь Барберини, л. 137
отношению к некоторым древнехристианским памятникам, которым Де-Росси приписывает особенное значение по вопросу о папском наместничестве на римском престоле св. Петра. Объясняя памятники, хранящиеся в Христианском Музее Ватикана, этот ученый со рвением католического пропагандиста любит останавливаться на всякой подробности, которая могла бы быть приурочена ко главенству апостола Петра, как основателя вселенской церкви, предания которой вверено охранять римским наместникам св. Петра. Так, между прочим, в Ватиканском Христианском музее с особенным усердием останавливается он на одном расписанном стеклышке из катакомб, на котором изображен Моисей, источающий из камня воду, – именно потому, что при фигуре Моисея начертана надпись: Petrus, причем он приводит цитату из Тертулиана о том, что вода крещения исходит от камня. Еще в 1868 году в своем Бюллетене (от стр. 3 и след.) он собрал несколько соображений, в объяснение символического смысла, данного в Риме типу Моисея в значении св. Петра, этого нового Моисея, который народу новому отворяет источники духовных вод веры и жизни вечной. Теперь, в последнем, только что изданном, номере того же журнала119 дает он новое подтверждение своей мысли в статье о стеклянной чаше, найденной в Подгорице, в Албании. Изображения, начертанные на белом сткле чаши, вполне согласуются с циклом сюжетов, усвоенным древнехристианской иконографией стенописи катакомб и рельефов на саркофагах. А именно: в центре чаши – жертвоприношение Авраамово; кругом по краям: Иона, Адам и Ева, воскресение Лазаря; затем идет тот сюжет, который для католического направления особенно нужен господину Де-Росси и о котором скажу потом. Далее: Даниил между львами, три отрока в пещи и, наконец, Сусанна, с воздетыми руками, как молящаяся фигура в древнехристианской иконографии. При всех этих изображениях грубо начерчены латинские надписи, поименно обозначающие каждый сюжет. Что же касается до того сюжета, который я пропустил в перечне, то он соответствует Моисею, источающему из камня источник воды. Только вместо камня изображено здесь дерево и около – фигура, протягивающая к нему руку с жезлом. По сторонам неразборчиво начерчена курсивом надпись, длиннее всех прочих. Можно прочесть только: Petrus virga perc(utit)… fonts ciperunt qua(e)rere, вероятно gentes или populi. Таким образом, в Подгорицкой чаше Де-Росси находит полное соответствие с упомянутым выше стеклышком Ватиканского музея, выводя отсюда новое подтверждение своей мысли, что в Моисее, источающем воду из скалы, древнехристианская символика изображала не Иисуса Христа, как вообще подателя живой воды спасения и вечной жизни, а специально апостола Петра, этого нового Моисея, так что в сане римского папы на этом основании соединяется во едино с новозаветным наместничеством св. Петра и ветхозаветное – законодателя Моисея, символически прообразовавшего в себе старейшего из римских первосвященников. Теперь, возвращаясь к Барберинской миниатюре, мы видим решительное противоречие католическому толкованию г. Де-Росси. На камне стоит сам Христос. Это и есть тот камень (πιτρα), из которого не Петр, а Моисей источает источник воды. Итак, если – как учит г. Де-Росси –еще в древнехристианской иконографии римского происхождения к символу Моисея была приноровлена личность св. Петра, то в древнейшую же эпоху иконография византийская, очищая христианские догматы от посторонних примесей, местных или личных, совершенно устраняет апостола Петра из этого символа.
137 л. (Пс.81). Иисус Христос, окруженный ореолом, сходит в ад; по сторонам Его Адам и Ева, которых Он оттуда извлекает. Ад – известная уже нам фигура, но с головой зверя.
154 л. (Пс.91). Единорог подбегает к девице (подпись: παρ.), сидящей на стуле. Над ней медальон с изображением Богородицы с младенцем Христом на самой середине груди, как у нас принято на иконе Знамения. Это сопоставление дает разуметь, что девица с единорогом символически означает Богородицу с Христом младенцем. Фигура девицы замечательно изящна по рисунку и колориту. Внизу один из отцов церкви в епископском облачении, с надписью: Τραιανος. В нижней части здания предают мучениям Игнатия мученика.
160 л. об. Св. Евстафий (означенный греческой надписью) с оленем, у которого между рогами медальон с Иисусом Христом.
188 л. Тайная Вечеря. Иисус Христос стоит у жертвенника, и шести апостолам, подходящим к нему, предлагает вино; другим шести Он уже предложил хлеб. То же изображение встречается в Лобковско-Хлудовской Псалтыри и в русских рукописях, а также на древних Киевских мозаиках. Только я не помню, встречается ли в этих памятниках одна подробность, удержанная в Барберинской Псалтыри от древнехристианской символики, именно присутствие Мельхиседека по одну сторону апостолов, а по другую, для соответствия ему, – Давида.
191 л. (Пс.113). Крещение Иисуса Христа. Внизу от вод Иордана отворачивается в сторону синяя человеческая фигура: это олицетворение реки, которая бежит. Но особенно замечательно по красоте античного стиля изображение моря в виде женщины, помещенное под крещением. Стоит великолепно одетая, красивая женщина в золотой короне и держит в руке, украшенный золотыми орнаментами, темного цвета рог, из которого через голову женщины изливается поток, окружая своей полосой эту женскую фигуру. Под ней еще извивающаяся полоса реки Иордан.
231 л. об. (Пс.143). Известная притча из истории Варлаама и Иоасафа царевича о человеке, спасающемся на дереве от единорога, и о двух мышах, подгрызающих корень того дерева. Изображение, встречающееся в русских рукописях Псалтыри. Не могу припомнить теперь, есть ли оно в Лобковско-Хлудовской Псалтыри.
242 л. В отличие от прочих миниатюр, эта наполняет собою всю страницу, и, что в высшей степени замечательно, – того же самого содержания и, тоже из ряда других миниатюр, наполняет всю страницу и в Лобковско-Хлудовской Псалтыри (см. выше, Сочинения, т. I, стр. 163). При общем сходстве изображений, этот признак, очевидно не случайный, говорит в пользу, несомненно, одного общего происхождения обеих рукописей. Это юный Давид, пастух и псалмопевец. В середине изображен он сидящим с инструментом в руках, а по сторонам он же защищает свое стадо от хищных зверей. Замечательно также, что эта миниатюра, не в пример другим, стоит вне текста псалмов и тем свидетельствует о своем происхождении, не имеющим общего с так называемыми толковыми псалтырями, которым соответствуют все прочие здесь описанные мной миниатюры, кроме первой, с изображением византийской царской фамилии. Ясно, что миниатюра с юным Давидом-пастухом относится к другой редакции, и вероятно – древнейшей, еще не подвергавшейся богословскому толкованию. Это последнее предположение, мне кажется, получит силу достоверности, если мы припомним миниатюру решительно того же содержания в упомянутой выше Парижской Псалтыри IX–X века.
243 л. Пляшущая Мариам между музыкантами. Далее толпа Евреев с Моисеем впереди. То же изображение и в Лобковско-Хлудовской Псалтыри.
Из предложенного мною сличения оказывается, что мы имеем уже теперь в руках довольно надежные нити, держась которых можно будет распутать, наконец, сложные элементы византийско-русских лицевых псалтырей, а также и вообще восточной иконографии. Такое поразительное сходство двух рукописей, какое здесь показано, не могло быть случайным. Общий источник, от которого обе они идут, должен был положить основание целой редакции, которая, как свидетельствуют копии в русских рукописях, получила авторитет повсеместного на Востоке признания и была освящена силой предания, идущего на расстоянии многих столетий, вплоть до XVII-го и даже до XVIII-го веков включительно.
16/28 января 1875 года
VI. Для иконографии души
Хотя я пользуюсь в этом сообщении очень поздними памятниками русского искусства в миниатюрах XVII и даже XVIII столетия, но надеюсь указать в этих источниках на явные следы самых ранних представлений древнехристианской и византийской иконографии.
Русские памятники, на которых буду основываться, – это жития Василия Нового и Андрея Юродивого, с миниатюрами.
В житии Василия Нового обращаю внимание на тот эпизод, в котором изображается, – как душа Феодоры, носимая ангелами, посещает мытарства.
Все известные мне лицевые рукописи этого жития, по представлению души Феодоры, делятся на два главные отдела. В одних рукописях душа изображается в виде поясного портрета, в натуральную величину, на щите или медальоне, поддерживаемом двумя парящими ангелами; в других, – в виде младенца, носимого тоже ангелами, но на пелене, как носят маленьких детей.
Первое представление души Феодоры – древнейшее, и рукописи «Жития» с таким представлением принадлежат к древнейшей редакции. Прилагаемый здесь (рис. 224) рисунок взят из древнейшей и лучшей из всех находящихся в моей библиотеке лицевых рукописей жития Василия Нового.

224. Изображение души св. Феодоры из Жития Василия Нового XVII в. (имп. Публ. Библ F. I. № 725)
Это, очевидно, след древнейшего представления иконы – или усопшего, или лица святочтимого, – усвоившей себе раннюю форму портрета и известной в археологии под именем: imago clypeata, scutum fidei и др120. В щитах, или медальонах, обыкновенно изображаются портреты почивших на саркофагах, иногда поддерживаемые гениями; щиты часто имеют форму раковины. Совершенно в том же виде, как на предложенном здесь рисунке из моей лицевой рукописи, изображается Иисус Христос на щите с ангелами – на диптихах (scutum fidei)121. Иногда, вместо Иисуса Христа, в щите помещается его монограмма, например, на мозаике в церкви св. Виталия в Равенне.
Икону в форме щита или медальона встречаем на мозаиках св. Софии Константинопольской, в римской церкви S. Stefano Rotondo (над крестом). По миниатюрам греческой Псалтыри Лобковской122, иконоборцы разрушают иконы, имеющие форму медальона. По византийскому преданию, та же форма иконы удерживается в славянских миниатюрах Псалтыри XIV в. в Румянцевском Музее123. Иконы в форме глории, а также в форме четвероугольника, как кажется, относятся уже к позднейшему времени, именно в том виде, как они представляются на миниатюрах греческого Акафиста в Синодальной Библиотеке, XII–XIV в.
Таким образом, представление души Феодоры, в наших позднейших лицевых рукописях жития Василия Нового, ведет свое начало от древнейших саркофагов, диптихов и мозаик V и VI столетий и, по преданию, удерживается до самого позднего времени. Впрочем, русские миниатюристы, без всякого смысла, машинально передавая древнее предание, естественно должны были искажать его. Это искажение в худших рукописях той же первой редакции оказалось в двояком виде. Во-первых, хотя и изображается щит с зубцами раковины, но фигура Феодоры своей головой иногда выступает из круга щита, так что является уже как бы не в щите, а впереди щита; и во-вторых, щит с бордюрами иногда переходит в какую-то неопределенную форму облака, поддерживаемого ангелами.
Другое и притом собственно представление души в виде младенца также очень рано было принято у нас, как это явствует из иконы Успения Пресвятой Богородицы, – из иконы, предание о которой в Киево-Печерском монастыре восходит до XI века.
В миниатюрах жития Василия Нового душа Феодоры, в виде младенца, принята во второй, позднейшей редакции, и это представление, как более понятное для наших предков, было особенно распространено в лицевых рукописях этого жития в XVIII столетии.
Но русская иконография и для изображения души в виде младенца представляет любопытные данные, которые могут обогатить науку о христианской археологии. Для этого я указываю на одну миниатюру, с надписью на ней: Святая душа Христова, в лицевой рукописи жития Андрея Юродивого цареградского, принадлежащей мне, начала XVIII века, но без сомнения – копии с древнейшей редакции.
Это одно из самых поздних византийских житий, потому что сам Юродивый цареградский относится ко времени императора Льва Мудрого (886–911).
Древнейшие списки этого жития в славянском переводе редки; но от XVII века осталось их очень много, и вообще надобно заметить, что, вместе с житием Василия Нового, житие Андрея Юродивого было одним из любимейших чтений наших предков.
Интерес к нему, кроме занимательной личности Юродивого, особенно поддерживался чествованием праздника Покрова Пресвятой богородицы, который в видении был указан Андреем его ученику Епифанию во Влахернском храме (в 909 г.). Так как ради этого видения и прославился особенно Андрей Юродивый в православных святцах, то и память его (октября 2) помещается вслед за празднованием Покрова Пресвятой Богородицы (октября 1-го). Так как помещено это житие в Макарьевских Минеях124.
Как обыкновенны рукописи жития Андрея Юродивого XVII и XVIII вв., так редки они с миниатюрами. Я знаю только одну, принадлежащую мне.
Судя по символическим изображениям, а также по изображениям греческих божеств и по другим данным, эти миниатюры – происхождения византийского, хотя и не без примеси влияния русского, как, например, это видно из бревенчатого храма, в котором совершается сошествие Св. Духа.
Общий тип и склад миниатюр – позднейший. Так, например, Бог Отец изображается уже не в виде ангела, а старцем с длинной бородой и в многоугольном сиянии.

225. Миниатюра из Жития Андрея Юродивого нач. XVIII в. (Имп. Публ. Библ. F. I. № 1143)
Каково бы ни было вообще значение миниатюр этой рукописи, одна из них (рис. 225), предлагаемая здесь в рисунке, заслуживает самого полного внимания.
Это – шестикрылый младенец стоит в крылатой же чаше, которую держит в левой руке Господь Силам; младенец – в крестном сиянии; над ним надпись: Святая душа Христова; внизу – в сиянии Дух Святый в виде голубя.
Изображение это относится к числу других, объясняющих беседу св. Андрея с его учеником Епифанием, начинающуюся по рукописи с 46-й главы (по изданию Археограф. Комм., с столб. 180). Беседа касается разных вопросов богословских, особенно интересных по полемике против апокрифов, так, например, по поводу происхождения грома (по изд. Археограф. Комм., столб. 188 и след.).
Явления природы приписываются силе заведывающих ими ангелов, которые называются Духами и в миниатюрах изображаются в виде обнаженных фигур с крыльями, каковы: Дух Кроткий, Дух Громный; иногда в одеянии, с крыльями же, например – Дух Белоснежный.
Что касается собственно богословского учения, то оно в беседе главнейшим образом касается догмата о Св. Троице и направлено против Ария. Один из вопросов значится так: «Епифаний рече: како есть родитель Отец и рожденный Сын и Дух Святый?»
Приведенное выше изображение объясняет один из эпизодов трактата о Св. Троице, по поводу объяснения одного текста: «Епифан рече: что есть сказание слова сего: яко чаша в руце Господни не растворена исполнь растворения, и уклони от сея во ину; обаче дрождия его не искидашася, испиют вси грешнии земля? Святец рече: Господь наш рече: жадая да приидет ко мне и да пиет. Чаша бо есть Господь наш Иисус Христос, свершенный человек; вино сухо есть слово Божие; двегубе бо беяше Бог и человек Господь Иисус; чаша есть человечество его; вино сухо есть божество его без лести. И без сосуда бо несть льзе вина держати, тако и без плоти Божия мудрость невидима сущи, не хотяше примеситися. Да в руце Отца есть сын человечь; той бо рече: в руце Твои предаю дух мой» и т. д. (по изд. Археограф. Комм., столб. 192).
Итак, по толкованию текста, крылатая чаша в руке Бога Отца, это –человечество Иисуса Христа, а вино сухо – Его божество, которое в миниатюре изображено в виде шестикрылого младенца, в надписи означенного святою душою Христовою.
Так как по древнехристианской символике, и особенно по византийско-русской, душа изображается в виде младенца; то изображение Иисуса Христа в чаше, в виде младенца, должно означать не Христа, уже воплотившегося, а только Его божество, то есть Его душу, как и значится в надписи над нашей миниатюрой.
Исходя от разбираемого мной иконографического сюжета, мы должны видеть и в других изображениях чаши с младенцем-Христом ту же символику, то есть сочетание человечества с божеством: чаша – человечество, младенец – божество, душа Христова.
А именно:
1) Чаша с младенцем-Христом в руке Иоанна Предтечи крылатого. В этом виде Предтеча как бы вековечно проповедует об Агнце, вземльшем на себя грехи мира. Это и есть собственно византийское изображение Агнца, так как по византийскому догмату в этом случае возбранялось представлять Христа в виде ягненка. Отсюда:
2) Когда нужно было символически изобразить Агнца, как знак евхаристии, – то с точки зрения той же византийской символики следовало принять те же самые символы, которые мы видели на миниатюре жития Андрея Юродивого, то есть, чашу (человечество) и в ней младенца – Христа (божество ил душу Его), как это действительно мы и встречаем на древнерусских дискосах, например – на деревянном, приписываемом св. Сергию Радонежскому.
Вероятно, остаток той же символики сохранился на Западе в изображениях Благовещения. В тот же момент, как архангел благовестил Деве Марии, с неба ниспосылается младенец-Христос, или в руках Бога Отца, или окруженный ангелами. С точки зрения разбираемой рами византийско-русской миниатюры, этот младенец есть только божество Иисуса Христа, его душа, низводимая с неба во чрево Девы Марии; потому что в Деве Марии, как в символической чаше, Христос воплотился. Согласно с этим именуется Богородица Чашей спасения, как поется в богородичные праздники: «Чашу спасения прииму, имя Господне призову» и пр.125
Вероятно, к этому же разряду символов относится на некоторых иконах Благовещения изображение Богородицы с начертанным на чреве Ее младенцем-Христом.
Итак, с точки зрения византийско-русской символики, в младенце-Христе, находящемся в чаше, должно разуметь божество Иисуса Христа, наивно именуемое Его душой, в противоположность Его человечеству, символически знаменуемому чашей, иногда простой, иногда крылатой.
Из приведенных мной образцов русской иконографии, даже по позднейшим рукописям XVIIиXVIII столетий, достаточно явствует, что этот предмет стоит на твердой и широкой основе древнехристианских преданий. Этим значительно облегчается ее изучение в России по руководствам и пособиям, уже разработанным на Западе; это же даст ей высокое значение и вообще в науке христианской археологии, когда западные ученые познакомятся с нашими иконографическими сокровищами.
VII. Несколько заметок при чтении одного церковно-археологического труда. (Н.В. Покровского: «Евангелие в памятниках иконографии, преимущественно византийских и русских» С.-Пб. 1892 г)
I. Письмо. Не умею достаточно выразить всей полноты и силы моей сердечной благодарности за то наслаждение, какое доставили вы мне, дорогой Николай Васильевич, чтением вашего превосходного исследования об иконографии Евангелия. Доказательством тому, как внимательно я изучал эту книгу и поучался, находя в каждой главе наставительную для себя новизну, может служить одновременно с этим письмом посылаемая к вам целая тетрадь заметок, которые я делал при самом чтении книги, в течение лета и всей осени. Заметки эти я набирал в последовательном порядке страниц вашего исследования как разрозненные члены целого, для изготовления обстоятельной рецензии; но, по слабости зрения, у меня не хватает ни сил, ни возможности скреплять подробности необходимыми справками в разных источниках и пособиях. В помощь себе для этого дела, я должен бы держать в своем рабочем кабинете только такого специалиста как вы, или же одного из учеников ваших или моих, а такого в Москве не обретается. На всякий случай, чтобы распределить разрозненные мелочи моих заметок в общие группы, нахожу нелишним сообщить вам те главные выводы о характере и значении вашего исследования, которые я думал положить в основу моей рецензии.
За двадцать пять лет до выхода вашей книги, на первом археологическом съезде в Москве была заявлена мысль о необходимости ввести преподавание древнехристианской и византийско-русской иконографии в духовных академиях. Конечно, потребовалось не мало времени, чтобы мысль эта вкоренилась и созрела на той благотворной почве, возделанной русским духовенством, о которой свидетельствует еще в XVIвеке Стоглав, возлагая на священнослужителей обязанность охранять святочтимые предания русской православной иконописи. Вы блистательно оправдали чаяния и надежды археологического съезда и даете теперь русскому духовенству уже не краткие и голословные статьи Стоглава, полагавшиеся некогда в основу наших старинных иконописных Подлинников, а всестороннее и глубокомысленное обозрение евангельской иконографии во всех ее мельчайших подробностях. Когда высказывалась и объяснялась нами на первом московском археологическом съезде мысль о водворении христианской иконографии в учебных заведениях русского духовенства, мы имели в виду преимущественно пользу учащихся. Вы своей книгой доказали, что это великое дело в области народного просвещения оказало громадное влияние и на успехи самой науки, далеко двинув ее вперед теми средствами, которые дала нам духовная академия основательным изучением источников и пособий самого полного и обильного богословского материала. До сих пор занимались у нас древнехристианским и византийско-русским искусством только люди светские и потому ограничивались более художественной и технической стороной предмета, а не прямым и непосредственным отношением его к учению отцов церкви, к текстам литургий, к акафистам и вообще к церковной службе. Вы первый возвели у нас эти коренные и незыблемые основу в стройную систему и вложили в науку «душу живу». До сих пор иконография разрабатывалась только на Западе, начиная от Бозио и Аринги до Мартиньи, Пипера, де-Росси и многих других, и, разумеется, в пределах римского католичества и протестантства. Вы первый внесли в эту науку обильные материалы православного восточного происхождения и на их прочной основе утвердили ее стройное здание. Потому сказанная односторонность западных исследователей должна быть восполнена целой половиной материалов, которые до сих пор были им недоступны. Отсюда само собой разумеется, что для дальнейших успехов в разработке иконографии ваша книга должна будет получить известность между западными учеными, которым вменится в обязанность сосчитываться с новыми для них тезисами и доводами в ваших исследованиях.
II. Заметки. Особенного внимания заслуживают исследования проф. Покровского по следующим вопросам:
1. Отношение иконографии к апокрифам и к древнейшим преданиям, которыми мастера могли пользоваться независимо от апокрифов.
2. Двоякое Благовещение – на воде и за работой – оправдывается свидетельством св. отцов и церковной службой.
3. Автор разъясняет противную эстетическому вкусу непристойность в изображении чреватыми Елизаветы и Марии при их целовании. При этом – указание на целомудренность в картинах Рафаэля и Альбертинелли, и, наконец, историческая картина Хирландайо.
4. Автор оспаривает мнение де-Росси о контроле церкви для древнехристианских мастеров. Воспитанные в идеях церкви, они не нуждались в принудительных предписаниях (стр. 51).
5. Эпоха саркофагов предшествует расцвету византийской иконографии.
6. Указывается влияние светского искусства (египетский обелиск и миниатюра Виргилия) на композицию поклонения волхвов, святую, таким образом, с действительных церемониалов Востока (стр. 118). Солунская арка Константина Великого с изображением восточных народов, сходных с волхвами в мозаиках Марии Маджиоре.
7. Для упадка иконографии на западе, следовало бы указать на картину Беато-Анжелико, где Иосиф играет роль царедворца, который ласково принимает царей, заискивающих его расположения (стр. 136).
8. Пропущена капелла во флорентийском дворце Риккарди, в которой все стены исписаны приездом царей с огромной свитой, их поклонением Богородице и Христу и возвращением назад. Самое торжественное и вполне живописное из всех известных мне представлений этого сюжета (стр. 136).
9. Низвергающиеся идолы Египта объясняются у автора словами акафиста: «Радуйся ниспадению бесов» (стр. 139).
10. В дополнение к акафисту Пресвятой Богородицы автор приводит слова из акафиста Иисусу Христу: «идоли бо, не терпяще Твоея крепости, падоша» (стр. 141).
11. Анахроническое несоответствие: «Бордоне и Ван-Эйк» (стр. 145).
12. В западном искусстве особенно замечательна картина избиения младенцев Гвидо-Рени в Болонской пинакотеке – в самом трогательном драматизме отчаяния и скорби.
13. Автор вносит новый самостоятельный взгляд на ангелов при крещении Иисуса Христа в смысле восприемников древнейшего ритуала в этом таинстве.
14. С замечательно тонким эстетическим вкусом автор объясняет взволнованное расположение духа самарянки от поучения Спасителя в иконографии византийской ссылкой на текст Псалтыри (стр. 212).
15. В византийском Подлиннике о милосердном самарянине не позднейшая фантазия в параллелизме между ветхим и новым законом вроде западных изображений в Библии бедных (стр. 215).
16. В греческом Подлиннике о блудном сыне очевидный знак позднего западного влияния в изображении ангелов, играющих на разных инструментах. Это самый обычный мотив представлений небесного ангельского ликования в итальянской живописи XVиXVI столетий (стр. 215).
17. Не худо бы указать на западное растление притчи о блудном сыне в изображении пляски, прогулок и других общественных удовольствий в саду, нарядных кавалеров и дам в костюмах позднейшего времени, как, например, в знаменитой гравюре Луки Лейденского.
18. С тонким эстетическим вкусом автор определил скульптурный стиль в изображении сущности чудес Иисуса Христа в немногих чертах, схватывающих самое зерно сложных событий, которые впоследствии получали подробную разработку (стр. 223).
19. Блистательная мысль – объяснить краткие намеки древнехристианских скульпторов сближением претворения воды в вино в Кане Галилейской с учением святых отцов о таинстве евхаристии (стр. 223).
20. Мастерски исследовано автором развитие сюжета в изображении чуда в Кане Галилейской по памятникам византийскимс указанием на случайный произвол копиистов, которые сокращали оригинал (стр. 224 – 226).
21. Остроумное сближение терминов князь и княгиня, которыми чествуются на Руси новобрачные, с царственными особами византийского церемониала (стр. 225).
22. В Ипатьевском Евангелии № 1, как и в некоторых других произведениях русской иконописи позднейшего времени, – по моему мнению, стиль русской архитектуры и русские костюмы введены под влиянием западного искусства, которое стало заслонять нашим предкам исконные предания Византии. Это замечается во множестве русских лицевых рукописей XVI, XVII и XVIII веков (стр. 226).
23. Здесь надобно было бы указать на великолепную картину венецианского живописца Paolo Veronese, которая послужила образцом для Рубенса в изображении пиршества в Кане галилейской с гостями в роскошных венецианских костюмах, с громадными меделянскими и сан-бернардскими собаками, с чернокожими арабскими служителями, и все это в великолепной галерее с колоннами, к которой ведет широкая лестница (стр. 227).
24. Указание на новых художников сомнительного достоинства излишне (стр. 235).
25. Не худо бы сличить греческий Подлинник с мозаикой Джиотто на портале св. Петра в Риме (стр. 235).
26. В подкрепление мысли о западном происхождении изображений ветров в виде животных не худо бы прибавить, что это писано в стиле романском тератологическом (стр. 236).
27. Хорошо сказано об иконописном шаблоне, пустившем глубокие корни в стиле византийском (стр. 245 – 246).
28. Меткое выражение, обнаруживающее в авторе эстетическое чутье: евангельский материал о воскресении Лазаря в русских позднейших памятниках превращен был в калейдоскоп с яркими блестками апокрифического характера (стр. 250).
29. «Саваном перетянутым пеленками», – не лучше ли сказать свивальником? (стр. 250).
30. Очень важное замечание проф. Покровского о первоначальности то краткой композиции, то сложной в памятниках иконографии (стр. 258).
31. Здесь указан Антифонарий Линда. Надобно было бы назвать его Зальцбургским, по месту нахождения его в библиотеке Петровского монастыря в Зальцбурге. Эта лицевая рукопись заслуживает особенного внимания по византийскому стилю миниатюр, несколько искаженному вследствие непонимания некоторых подробностей византийского оригинала (стр. 262).
32. Живописец Тинторетто, очень поздний и незначительный, не заслуживает упоминания, а Таддео-Гадди, двумя столетиями ранее Тинторетто, значительно важнее, упоминается не на своем месте.
33. В Россанском Евангелии, по моему мнению, миниатюрист не изобразил Христа, изгоняющим продавцов из храма, руководствуясь замечательным тактом нравственно-религиозного приличия и классически изящным, эстетическим вкусом, а не потому, что не пожелал изобразить Иисуса Христа дважды. Он представил только результат или следы изгнания продающих и покупающих, а не самое действие (стр. 265).
34. Рыба ιχθυς – не просто Христос, а таинство евхаристии, соответственно текстам писания, оттого в стекле хрустального потира, одного из самых древнейших, если не самого древнего, хранящегося в Христианском Музее Ватикана, изображены во множестве рыбки вроде дельфинов, которые представляются плавающими, когда сосуд этот наполняется жидкостью (стр. 267)126.
35. Очень дельное опровержение мнения Мартиньи о различии вечери евхаристической и небесной (стр. 269).
36. В изображении символической евхаристии точно и ясно указана проф. Покровским связь миниатюр Лобковской и Барбериновой Псалтырей с мозаиками равеннскими св. Виталия и св. Аполлинария (стр. 279).
37. Замечательна мысль автора об идеальной, а не исторической постановке сюжета в помещении вместе с апостолом Петром и апостола Павла, который должен бы отсутствовать в таких евангельских событиях, каковы: тайная вечеря, вознесение Господне, сошествие Святого Духа на апостолов (стр. 280).
38. (Стр. 281–282). Раскрыто отношение церемониального изображения тайной вечери в соответствие литургическому действию алтаря; объяснена мозаика Киево-Софийского собора; отсюда переход к Божественной литургии (стр. 285–286). Первоначальное зерно символики.
39. В статье о Божественной литургии особенно важное исследование автора, касающееся дальнейшего развития этого византийского представления в русской иконописи преимущественно в объяснении всей литургии в лицах (стр. 287–288). Все это на основании объяснений слова, приписываемого Григорию Богослову (стр. 290).
40. Символика евхаристии под видом мельницы и точила в связи с древненемецкой песней о мельнице (Мühlenlied), вероятно, относится к эпохе готического стиля, когда мастера каменщики для измышления своих замысловатых композиций пользовались средневековыми богословскими исследованиями и вообще результатами возникшей тогда университетской науки в Париже и в других городах юго-западной Европы (стр. 293). Что же касается до церкви Бараля в Па-де-Кале (стр. 294), то необузданная ухищренность символических вымыслов относится к разряду бесчисленного множества иллюстрированных изданий под названием символов и эмблем, особенно в XVI и XVII столетиях. Сюда же относится и живопись на стекле, сюжеты которой измышлялись теми же строителями готических храмов: такова живопись на стекле в Saint-Etiennedu Mont.
41. Вместо курьезной французской миниатюры поздней рукописи, следовало бы указать на в высшей степени замечательное изображение Гефсиманского события на иконе страстей Господних Duccio di Buon Incegna XIII века, находящейся в Сиенском соборе. Это знаменитое произведение давно уже издано в нескольких гравюрах, составляющих целый альбом.
42. (Стр. 308). Дельное указание на изображение страстей Господних Альбрехта Дюрера. Его знаменитые гравюрына дереве, под названием больших и малых страстей (т. е. коллекций большого и малого размера), оказали влияние на русских граверов школы Симона Ушакова, что очевидно в серии гравюр конца XVII века, составленных для русских рукописных кодексов страстей Господних. На странице 312 есть указание на этот оригинал касательно Вероники.
43. (Стр. 311–312). Здесь оказываются два крупных недосмотра относительно западной иконографии несения креста: а) Семь падений или остановок Иисуса Христа, изнемогающего под тяжестью креста. Этот сюжет разделялся на семь отдельных изображений, помещаемых в скульптурных барельефах на столбах, которые отделялись один от другого значительными промежутками настолько, чтобы можно было утомиться несущему непосильную тяжесть. В барельефах изображались разные моменты утомления, начиная от падения на колена и от согбения и до падения навзничь. Эти, так называемые, станцы или станции, т. е. остановки, оканчивались изображением трех распятий громадного размера: Иисус Христос посредине и по сторонам два разбойника. Такие изображения можно видеть, например, при часовне в Zelle-am-See, в Тироле, по дороге от Зальцбурга к Инспруку, в Бамберге, на подъеме долины между соборной площадью и горой с Бенедиктинским монастырем, но особенно в Нюренберге, по пути к загородному кладбищу, знаменитое произведение Адама Крафта XV века (?). Такую же остановку изобразил Рафаэль в Spasimodi Cristo. б) Вероника, в смысле изображения Иисуса Христа, упоминается Дантом в Божественной комедии: Рай, песня 31, стих 104, и объясняется у комментаторов, как слияние двух слов в одно, vera и icon, т. е. истинное изображение. Отсюда развилась целая легенда о некоторой девице Веронике. Эта сострадательная личность непосредственно входит в состав сказания и семи остановках голгофского восхождения. Таинственное обаяние, которым древнехристианские мастера в катакомбах облекали скорбное чувство, внушаемое этим событием, западная иконография заменила сентиментальным трагизмом, который должен возбуждать плач и рыдание. В связи с таким развитием сентиментальности стоит и окровавленный лик Иисуса Христа на убрусе Вероники, как явление изнеженного направления умов, в отличие от светлого, торжествующего и чудодейственного образа, который исцелил эдесского царя Авгаря от неминуемой смерти. Та же сентиментальность позднейшей эпохи создала и тип Скорбящей Богородицы над мертвым телом Иисуса Христа в западной композиции, известной под именем Pieta2, о которой упомянуто в статье о литургии (стр. 295). Богородица стоит над мертвым телом Иисуса Христа, как, например, в картине Гвидо-Рени в Болонской пинакотеке, или сидя держит его перекинутым навзничь на своих коленях, как в знаменитом изваянии Микель-Анджело в римской базилике св. Петра. Сюда же принадлежит и окровавленный тип Иисуса Христа, стоящего во гробе, с особенной энергией воспроизводимый западными мастерами и преимущественно доминиканским монахом Беато Анджеликом фьезолийским, как, например, в монастыре св. Марка во Флоренции.
44. Две птицы (голуби) на перекладине креста не поддерживают лавровый венок, а клюют листики, вкушают от него святую пищу (стр. 318).
45. Автор критически разбирает и опровергает мнения Штокбауера, Пипера и других ученых об историческом развитии изображений Иисуса Христа (стр. 323).
46. Мастерский анализ, иконографически художественный и богословский, изображений распятия в Псалтырях, начиная от Лобковской, Барбериновой и других древнейших до Хлудовской (стр. 332–335).
47. В трактате о распятии автор внес русские, сложные композиции: «премудрость созда себе храм и София Премудрость». Это важно для системы всей книги, в которой нераздельно сливаются русские позднейшие иконографические композиции символического характера с древнехристианскими символами катакомб и ранних византийских мозаик, начиная от храмов равеннских и некоторых других (стр. 374).
48. Франциск Ассизский чествуется на Западе не одними итальянцами, потому называть его только по-итальянски Франческо не следует, точно также, как мы называем другого основателя монашеского ордена Домеником, а не по-итальянски: Доменико (стр. 379).
49. При символе Пеликана следовало бы указать на связь измышления готических мастеров с позднейшими лицевыми изданиями символов и эмблем (стр. 384).
50. Очень любопытно исследование автора о западном влиянии изображений снятого со креста Иисуса Христа на антиминсах и о московских соборах XVII века по этому предмету.
51. Опущено имя Беато-Анджелико фьезолийского при указании стенной живописи в рефектории флорентийского монастыря св. Марка. Надо было бы указать следующее знаменитое произведение на Западе этого же мастера снятия с креста во Флоренции с замечательными подробностями, по-моему, лучшее воспроизведение этого же сюжета из всех мне известных; самым лучшим изображением плача и рыдания и неутешной скорби Божией Матери, святых дев и жен, и апостолов над распростертым телом Иисуса Христа признается картина Перуджино во Флоренции же. . . Что же касается до несения Иисуса Христа апостолами, то следовало непременно указать картину Рафаэля в галерее Боргезе в Риме: в этом изображении замечается сходство с подробностями византийского Подлинника: Никодим поддерживает главу Иисуса Христа, Иосиф – голени, Иоанн Богослов – ноги, Богоматерь обнимает тело (стр. 390).
52. В исследовании обе иконографии воскресения и сошествия Иисуса Христа во ад, такой поздний и незначительный живописец, как Бронзино, решительно не должен иметь места (стр. 413).
53. Проф. Покровский решительно опровергает мнения Гарруччи и непонимание итальянского ученого изображений ада при сошествии в него Иисуса Христа, в западных памятниках раннего времени (стр. 423).
54. Уместно приведено и верно оценено изображение сошествия во ад Иисуса Христа во фреске Беато-Анджелико в монастыре св. Марка во Флоренции (стр. 425).
55. Важная заметка о том, что Джиотто первый сообщил легкость композиции вылетающего из гроба Иисуса Христа (стр. 425).
56. Кстати приведена гравюра Альбрехта Дюрера, изображающая Иисуса Христа перед Магдалиной в виде садовника в шляпе (стр. 427).
57. Очень важно, для характеристики западных новшеств в позднейшей русской иконографии, проведенное проф. Покровским сближение музыкального хора ангелов у Перуджино с русскими изображениями вознесения Христова. При этом приведена и богословская основа такого сближения из свидетельств византийской и русской письменности и православной церковной службы (стр. 442).
58. Мастерский прием расширения свидетельств Евангелия церковными преданиями и церковной службой в изъяснении присутствия Божией Матери при вознесении Иисуса Христа, равно как и при явлении Иисуса Христа святым женам по воскресении (стр. 443).
* * *
Имя автора, не означенное на книге, было обнародовано во французской ученой литературе.
Дмитриевский собор во Владимире на Клязьме. Москва. 1849.
Взгляд на архитектуру XII века в суздальском княжестве, в 1-м томе Трудов Первого археологического съезда. Москва. 1871.
Предмет этот и без того слишком много занимает места в книге Виолле-ле-Дюка, не приводя к положительным результатам, за отсутствием исторических и местных данных, коими бы связывались сравнения русского искусства с туранским или индийским. Некоторые указания на внесение иранских элементов в византийский и романский стили см. в моей рецензии на сочинение профессора Коссовича Inscriptiones Palaco-Persicae (см. т. I, стр 528–552).
По изданию г. Викторова. См. первый выпуск Фотографических снимков с миниатюр греческих рукописей Синод. библ. Издание Московского Публ. Музея. Москва. 1862.
См. атлас к Древней Русской Истории Погодина, 1871, на листе 57, № 15.
По изданию графа Строганова, табл. V.
Caumont, Abécédaire ou rudiment d’Archéologie. 3-еизд., 1854, стр. 94, 97, 125, 136, 183.
Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque de Laon, par Ed. Fleury. Laon. 1863. Pl. 11 bis к 80 стр. и Pl. 1 к стр. 4, I тома.
См. снимки в атласе, приложенном к Трудам Первого археологического съезда, табл. 38–41.
См. снимки с букв и рисунков в издании г. Будиловича: XIII Слов Григория Богослова. С.-Петербург. 1875.
По изданию графа Строганова, табл. V.
По изд. Флери, табл. 12 bis, к 88 стр. 1-го тома.
Caumont, Abécédaire, стр. 137.
В издании графа Строганова, табл. IV и XXIII; слич. у Комона в Abécédaire, стр. 22,23.
См. снимок в атласе к Древней Русской Истории Погодина. 1871.
См. архиепископа Саввы Палеографические снимки с греческих и славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Москва, 1863, табл. 24.
У архиепископа Саввы, табл. 11 (рис. см. ниже, в рецензии на книгу Стасова).
Снимки с этой заставки см. у архиепископа Саввы, табл. 25, и у Калайдовича в Иоанне ексархе Болгарском, Москва, 1824, табл. 8; описание рукописи на стр. 60 и след., два послесловия из нее на стр. 164–166.
Abécédaire, стр. 132.
Крылатое чудовище, изображается то четвероногим, как зверь, то двуногим, как птица, и притом или с птичьим клювом или звериной пастью. Переходу животного в змия в орнаментах соответствует легенда о ветхом змие, который будто бы до грехопадения первых человеков был четвероногим животным, а по их падении стал змием, будучи проклят Господом: «на персях твоих и на чреве ходити будеши». Так легенда эта изображена в миниатюрах греч. Библии XII в. См. статью Виноградского в Сборнике на 1873 г. Общества древнерусского искусства, стр. 145.
Палаузов. Век Болгарского царя Симеона. С.-Пб. 1852.
См. мою монографию О влиянии христианства на Славянский язык; также Миклошича, Die Fremdwörter in den Slavisch. Sprachen, Wien, 1867.
Напиерского, Грамоты, касающиеся до сношений Северо-западной России с Ригой и Ганзейскими городами в XII, XIII и XIV вв. С.-Пб. 1875. – Новгородская легенда об Антонии Римлянине, говорящем на готском языке, в связи с церковной утварью западной работы в Новгородских церквах. – Легенда о Варяжской божнице в Новгороде и свидетельство Кирика, XII в., о варяжских в Новгороде попах, к коим православных детей носили на молитву. – Бронзовые врата, так называемые Корсунские, Новгородского Софийского собора, произведение Магдебургских мастеров, относящееся ко времени Магдебургского архиепископа Вихманна (1156–1192). См. Adelung, Die Korssunschen Thüren. Berlin, 1823; Otte, Handbuch d. Kirohl. Kunst-Archeologie, 4-еизд. 1863 г., стр. 664.
У Комона, Abécédaire, стр. 80, 114. Слич. вместо того звериные головы под фризом купола Дмитриевского собора, у гр. Строганова, табл. III.
На Дмитр.cоборе, у гр. Строганова, табл. XIV.
В рукоп. Лаонской библиот., у Флери, табл. 12 bis, к стр. 88.
На стенах Покровской цнркви близ Боголюбова монастыря, 1158–1160 г., человеческие головы вылеплены отдельно каждая, см. у гр. Строганова в изд. Дмитриевсеого собора, табл. XXII. Любопытна по самому процессу перевода головок из букв в заставку одна рукопись праздничной Минеи XIV в. в библ. Сергиевой Лавры, № 1999–7. Писец в красной строке украсил несколько букв человеческими головками и под влиянием той же фантазии поместил такие же головки под сплетенным орнаментом заставки. См. в снимках Ундольского, экземпляры которых, к сожалению, доселе остаются в Московском Публичном Музее невыпущенными в свет.
У архиепископа Саввы, табл. 34.
У Комона, Abécédaire, стр. 97, 179.
Любопытное дополнение к этому предлагает одна позднейшая рукопись XVI в., без сомнения, в копиях с древнейшего оригинала. Это Евангелие 1544 г., Боголюбова монастыря. Человеческие фигуры, коими украшены буквы, предаются различным занятиям: два держат одну книгу; одна фигура в обеих руках держит по книге, другая – по шару или дискосу; одна пишет рукопись; двое несут сеть и пр. См. Древности Московского Археол. Общества, в I томе, табл. IV и V.
Снимок см. в моей монографии в Материалах для истории письмен, изд. к юбилею Московского Университета. Москва, 1855, табл. 15.
Например, в англо-саксонском барельефе VII в., изображающем грехопадение; в рукописи Кедмона X в., см. Twining, Symbols and emblems. London, 1852, табл. LXXV; у Комона, стр. 97, 179, 190; в рукописи XII в. Лаонской библиотеки, у Флери, табл. 11 при 77 стр. 1-го тома; в рукописи XII в. Штуттгартской библиотеки, у Куглера Kleine Schriften, 1, стр. 58 и 59; в болгарских рукописях XII в. проф. Григоровича, в сербском Шестодневе 1263 г.
Например, у Комона, стр. 22, 23, 90, 97. В стенной живописи на лестнице Киевско-Софийского собора, у грифонов и у птиц в медальонах. Ошейники встречаются в орнаменте византийском; у нас еще в Изборнике Святославовом 1073 г.
Так невнимательно автор-художник смотрел на эту нашу заставку, что не передал в своем снимке характеристических кружков и четрочек, коими русский мастер усыпал туловище птиц и ремни узорочья.
Rapport sur l’Exposition de Vienne par Natalis Rondot. Paris, 1874.
В Сборнике на 1866 г., изд. Обществом древнерусского искусства при Московском Публичном Музее, стр. 157 и след.
Предоставляю исследования об иконописи стенной и об иконах на дереве специалистам, больше меня сведущим в этом деле.
См. в моих Исторических Очерках (Сочинения, т. II, стр. 287:340).
Например, Сказания о св. Борисе и Глебе, по списку XIV в., изд. Срезневского, С.-Пб. 1860; Житие Сергия Радонежского, по рукописи XVII в., изд. в литографии Сергиевской Лавры 1853 г.; Житие Алексея Митрополита, XVII в., изд. Обществом древней письменности 1878 г. См. также снимки в моих Исторических Очерках.
См. снимки в моих Исторических Очерках.
Например, для иконографии души, см. в Трудах Первого Археологического съезда в Москве, II, стр. 848 и след. См. также в настоящей статье ниже, где говорится о русской лицевой Псалтыри XIV в., в библиотеке г. Хлудова.
Это слово курсивом у автора. Оно нам пригодится впоследствии, именно в его подчеркнутом тоне.
Описаны архимандритом Амфилохием в Древностях Московского Археологического Общества, том III, с приложением снимков.
См. мою корреспонденцию из Рима, в Вестнике Общества Русского искусства 1875, 6–10, в Смеси, стр. 67.
Снимки с греческих миниатюр обеих редакций см. выше, Сочинения, т. I, стр. 117 и 163.
Архиепископ Генуэзский IacobusaVoragine, во второй половине XIII столетия, говорит в своей Legenda Aurea: «In evangelio Nicodemi legitur, guod Carinus et Leucius filii Simeonis senis cum Christo resurrexerunt et Annae et Cayphae et Nicodemo et Ioseph et Gamalieli apparuerunt et ab iis adjurati, quae Christus apud inferos gessit, narraverunt». 2-е изд. Graesse, Лейпциг, 1850, стр. 242.
В Сборнике Ундольского XVI века, в Московском Публичном Музее № 1254: Личеш, вм. испорченного же Лицеош, л. 59 об.
См. историю этих инструментов и их изображения у Вейсса, Kostümkunde, II, стр. 852–856.
Например, в греческой Ватопедской Псалтыри, при псалме: Блажен муж иже не иде, изображен царь Давид, в короне, играющим на скрипке, по струнам которой он водит смычком. См. Снимки Севастьянова, в Московском Публичном Музее, № 536.
Снимок в моих Исторических Очерках (Сочинения, т. II, стр. 336).
Didron, Annalesarchéol. IV, 31. – Otte, Handbuchd. KunstArchäologie, 4-еизд. 1863 г., стр. 226.
Оно приведено архимандритом Амфилохием в описании миниатюр Хлудовской Псалтыри XIII–XIV века, Древности, III, стр. 6.
Описание со снимками издано Трамониным.
Обзор русской духовной литературы, Харьков, 1859 г., стр. 159. В этих словах архиепископ Филарет предлагает краткий вывод из подробнейшего исследования Геннадиевской Библии, составленного Горским и Невоструевым в Описании рукоп. Синод. библиотеки, Москва, 1855, стр. 1–164.
Палеографические снимки, табл. 33.
Палеографические снимки, при описании старопечатных книг библиотеки графа Толстого. Москва, 1829, табл. 2.
Палеографические снимки, при описании старопечатных книг библиотеки Царского. Москва, 1836, табл. 8.
Палеографические снимки Царского, табл. 1. Отличный экземпляр этой редчайшей книги 1512 г. для Московского Публичного музея приобрел на днях директор его, В. А. Дашков.
Палеографические снимки графа Толстого, табл. 6.
Румянцева, Сборник памятников, относящихся до книгопечатания в Москве. Издание Московской Синодальной типографии. Москва, 1872 г., табл. 5.
Архиепископа Саввы, Палеографические снимки, табл. 19.
Сюда не должно отнести и таблицы 58 и 59, кои Виолле-ле-Дюк называет византийскими. В них тот же орнамент; потому то я называю его также византийско-славянским.
Снимок см. в моей монографии, помещенной в Материалах для истории пиьмен, изд. к столетнему юбилею Московского университета, 1855 г., табл. 15.
Несколько сходные по стилю с этой заставкой см. у Бутовского на табл. 95, 97 и 100.
Noel Humphreys. A history of the art of printing. London, 1867, табл. 14 и 17.
В издании г. Румянцева, Сборник Памятников и пр., на табл. IV, под литерой е. То же и в Острожской Библии 1581 г., у Румянцева табл. XXIII; слич. также в Львовском Апостоле 1574 г., во всю страницу орнамент из листвы с гроздьями вокруг герба города Львова; внизу подписано Иоанн Федорович – друкарь Москвитин, табл. XX. Орнамент, указанный мною в Гуттенберговой Библии и Московских старопечатных книгах, ведет свое начало на Западе еще от стиля готической листвы с цветами, и выработался он там как в рукописных миниатюрах, так и особенно в скульптурных рельефах. Из многих памятников искусств, с коими сходствует занимающий нас теперь орнамент, укажу на рельефы второй половины XV в, украшающие лестницу гигантов во дворце Дожей и памятник дожа Андрея Вендрамино. См. Antonelli, Collezione de’migliori ornamenti antichi sparsi nella città di Venezia. Venez., 1843, табл. 3, 5 и 22. Орнамент, одинаково сходный и с Гуттенбергским, и с Геннадиевским, и с Московско-печатным, и даже с болгарским (в упомянутой уже рукоп. Болгарского Евангелия XV в., в Румянц. Муз., № 123, л. 103) – в изданиях Венецианских доходит до XVII в., например, в издании Cartari, Leimaginideglidei, Venez., 1626, орнамент буквы Д на 1-й стр. В других итальянских типографиях, например, в Миланск. изд. Жития Франциска Ассизского 1513 г.; смотр. у Румянцева, табл. I, № 2; в Генуезском издании LaGerusalemmeliberata 1590 г., на 5-й стр. в заставке, между прочим, окруженная веткой виноградная гроздь, и в букве С, вместо грозди, только ее лиственное гнездо с вьющимися из него побегами.
О Симоне Ушакове см. у г. Филимонова в Сборнике на 1873 г. Общества древне-русск. искусства. См. также в моих Историч. Очерках, II (Сочинения, II, стр. 421–434).
Слич. у Румянцева на табл. XXV, № 1, из Евангелия Московской печати.
Снимки см. у архиепископа Саввы на табл. 40, и у меня в издании к юбилею Московского Университета, табл. 16 и 17.
Gazette des beaux-arts, Mars 1878, стр. 284.
В монографии аббата Мартынова, стр. 52–56.
Графа Строганова, Дмитриевский собор. М. 1849 – Графа Уварова, Взгляд на архитектуру XII века в Суздальском княжестве, в Трудах археолог. Съезда. М. 1871 г., I, стр. 252 и след. – Сверх того, здесь пользуюсь я мнениями, изложенными архитектором К. М. Быковским в одном из заседаний Общества древнерусского искусства в 1879 г.
Дарсель, в упомянутой уже выше статье в Gazettedesbeaux-arts, подвергает сомнению происхождение суздальского листка от индейского, приводимое г. Виолле-ле-Дюком, и доказывает, что не Россия, а Византия непосредственно брала из Азии восточную орнаментацию и уже потом передала се нам. Для наглядного доказательства Дарсель рядом с обоими листиками, суздальским и индейским, помещает византийский, сходный с обоими и служивший посредником между ними, стр. 280–281. Слич. выше, в моей первой статье, стр.8.
Снимок в моих Истор. Очерках, II, стр. 149.
Вторую половину своей книги г. Виолле-ле-Дюк посвящает будущему русского искусства (стр. 153–261). Об этом предмете не умею сказать ни слова, потому что, как я думаю, сначала надобно основательно знать настоящее и прошедшее, чтобы позволить себе серьезно судить о будущем.
Факты из издания г. Стасова я означаю двумя цифрами – римской для показания таблицы, и арабской – рисунка на той таблице.
Edouard Fleury, Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque de Laon. Laon. 1863. Pl. I–III. См. Также в рукописях лонгобардских и визиготских у Вествуда в Paleographia sacra pictoria.
Архиепископа Саввы Палеографические снимки. Москва, 1863. Табл. 11.
Из издания Бутовского, см. снимок у Виолле-ле-Дюка, L’artrusse. Paris. 1877, табл. IX, стр. 80–81.
За исключением раскрашенного в Добриловом Евангелии фронтисписа.
См. по изданию Общества любителей древней письменности, лист 129.
Подобную орнаментацию см. в греч. Акафисте Пресвятой Богородице по рукоп. XII–XIV вв. в Синод. Библиотеке, в миниатюре при кондаке 11-м, в Фотографических снимках, изд. Викторовым, в 1-м выпуске, Москва 1862 г.; а из западных у Эдуарда Флери, в рукописях XII в. Les manuscrits à miniatures de la bibliothèque de Laon. Laon. 1863; Pl. 11 bis, 15.
См. снимок в табл. XVII при моей монографии в Материалах для истории письмен, изданных к столетнему юбилею Московского университета. Москва. 1855.
Paleographia artistica di Montecassino. 1884. Табл. XXVIII.
Westwood, Paleographia sacra pictoria.
В тексте к этой XVI таблице, на стр. 6, перемешаны номера орнаментов, так как заставка, означенная в таблице под № 6, отнесена в тексте к № 1, вследствие чего буквы очутились под чужими номерами и получили другие названия.
Калайдович. Иоанн экзарх Болгарский. Москва. 1824, см. табл. 3.
В шлеме или шишаке этих головок не нужно искать местного костюма, сербского или вообще славянского. Почти такая же головка в шлеме встречается в орнаментации Алкуиновой библии, именно в той же букве Р, в которой указаны мной два щита для сравнения с орнаментом Мирославова Евангелия – XIV, 3 –.
Слич. нечто подобное в ирландском орнаменте VII в. у Вествуда, Paleographia sacra pictoria: Book of Kells.
У того же Вествуда, Facsimiles of the miniatures and ornaments и проч., ирландская миниатюра около 820 г., в табл. 16.
W. Salzenberg, Altchristliche Baudenkmale von Constantinopel. Дидрона Annales Archéologiques. 1832 г. № 1. Cahier et Martin, Mélanges d’Archéologie. 1847–1856. Том I, стр. 127.
Снимки изданы Обществом Любителей Древней Письменности, №№ LII–LXXIV. Здесь в рисунках воспроизводятся только некоторые из них. Ред.
Означение года греческими буквами.
Означение года греческими буквами.
Чтобы не пестрить печать, не ставлю надстрочных знаков в приводимых примерах, кроме титл и знака при опущенной полугласной.
В этом почерке ъ и ь редко отличаются между собой.
В этом слове перевожу оборотным э очень похожее на эту букву начертание в подлиннике.
Здесь выноска на поле, где крайне неразборчивым почерком написано: невесто.
Точками в транскрипции означено неразобранное.
Как здесь, так кое-где и в других местах письма вязью ставится знак препинания в виде ферта.
См. выше, стр. 9–10.
Этот стиль, с крайней неточностью называемый романским, господствовал с самых ранних средних веков во всех европейских странах, видоизменяясь в каждой, характеристическими особенностями. Потому и наш рукописный орнамент XIV, XIII и частью даже XII века, относясь к общему средневековому стилю, существенно отличается своими местными приметами от ирландского, англосаксонского, вестготского, лонгобардского и пр. Не касаясь вопроса о происхождении этого стиля, замечу, что он проявился уже в полной своей энергии в орнаментах ирландских рукописей даже VII века. Смотр.: West-wood, Fac-similes of the miniatures and ornaments of anglosaxon and irisch manuscripts. London. 1868. Таблицы 7–10.
Например, в миниатюрах, которыми, по древнему обычаю, иконописец украсил поля старопечатной Псалтыри с восследованием 1628 г., в моем собрании.
Снимок смотр. выше, стр. 63, рис. 49.
Смотр. выше, стр. 62.
См. выше, стр. 57–58.
Подробности смотр. выше, стр. 4–5.
Палеографические снимки с греческих и славянских рукописей Московской Синодальной Библиотеки. Москва, 1863.
В предупреждение недоразумений, нахожу не лишним заметить, что некоторые остатки тератологических форм, как залежи старины, могли кое-где застрять в русском орнаменте не только XV века, но и XVI, но уже в позднейшей обстановке стиля, принадлежащего этим векам. Так, например, в Евангелии XV века, в С.-Петерб. Публичной Библиотеке, № 13, не только в заставке, но даже и в киноварных буквах, см. у Бутовского, табл. LII и LV; в Евангелии 1544 года Боголюбова монастыря, смотр. снимки в 1-м томе Древностей Московск. Археологич. Общества, 1865 г., табл. IV и V, со снимками букв; в моем юсовом лицевом Апокалипсисе XVI века, пометы глав в раскрашенных снимках в изготовляемом мною издании о Славяно-русских лицевых Апокалипсисах, смотр. 8-ю копию красками.
Смотр. о происхождении и развитии этой подробности, а также и стоящей с ней в связи виноградной кисти, выше, стр. 64.
Снимок см. в издании: Noel Humphreys, A History of the art of printing. London, 1867, в таблице 14. Виноградные лозы с гроздьями в довольно натуральном подражании стали распространяться в готическом стиле в XIII веке. См. Album de Villard de Honnecourt, architecte du XIII siècle, par Alfred Darcel. Paris, 1858, снимок со старинного оригинала на табл. LVI.
Смотр. ту же статью Хрущова в «Памятниках Древней Письменности» 1880 г., выпуск III.
В нашей старой иконописи принята на стягах или знаменах челка, а не бунчук. Смотр. между миниатюрами, украшающими «Сказание о Борисе и Глебе», по изд. Срезневского, на иждивение Археографической Комиссии. С.-Петерб., 1860, стр. 58.
См. мою монографию в «Материалах для истории письмен», изданных к столетнему юбилею Московского Университета. Москва, 1855, табл. 2.
Именно в той же греческой букве, в которой помещена только что упомянутая благословляющая рука.
Сравнительное изучение народного быта и поэзии. Русск. Вестн. 1873 г., IV, стр. 601–602.
О сродстве обеих рукописей вкратце замечено уже было мною в том же Сборнике Общества древнерусского искусства. См. мою статью «Общие понятия о русской иконописи» (Слчинения, т. I, стр. 114)
Bulletino di Archeologia Cristiana. Anno quinto. № IV, стр. 153 и след. Чашу эту видел в Скутари у итальянского консула Perroch’a господин Dumont, директор Французской Археологической Школы в Риме, называемой Афинской, и издал ее с рисунком в Bulletin de la societé des antiquaries de France. 1873 г., стр. 71.
См. Martigny, Diction. Des Antiquités chrétien. 1865, стр. 297.
Mrs. Jameson, The History of Our Lord. London. 1864. I, 1.
Рисунок см. выше, Сочинения, т. I, стр. 111.
Рисунки см. выше, Сочинения, т. II, стр. 339, рис. 91–93.
См. по изданию Археогр. Комиссии, октябрь, столб. 80–237.
Дмитревского, Изъяснение на Литургию, изд. 5-е. М. 1812, стр. 123.
Такое объяснение предложено было ученым де-Росси, при нашем посещении вместе с гр. С. Г. Строгановым Христианского Музея в Ватикане.
