Посвящается протоиерею Петру Извольскому
Фаворский свет
Господи, добро есть нам зде быти (Мф. 17:4).
С тех пор, как встретились мы с батюшкой отцом Никифором, не проходило дня, чтобы долгих часов не просиживал я на убогом темноватом чердаке, что служил ему кельей. Хорошие, ясные были дни…
Едва слышным голосом рассказывал мне тихий старичок про свои великие странствия по лицу земли. Говорил о далеких Соловках, что у Белого моря, о Саровской пустыни, где поныне ласково светится кроткий облик преподобного Серафима, о чудной Горе Афонской, где растут кипарисы и творится непрестанная Иисусова молитва. Говорил о Святой Земле, где ступали пречистые ноги Спасителя, о синайских обителях, откуда к небу простерлась незримая духовная лестница, о десятках, сотнях мирных пристанищ, где только и живется настоящей жизнью, только и дышится чистым воздухом, где только и радуются люди настоящей безоблачной радостью. Но больше всего любил он рассказывать про пустынников святой Афонской Горы.
— Как вам сказать, — говаривал отец Никифор, — понятно, люди они как люди, другие у них только лица, вот что. Те, да не те. Знаете, как говорится: Федот, да не тот. Да… Лежит на них печать неподдельная и неподменимая, а в ней-то вся суть и кроется. Иной человек, бывает, про самые высокие вещи толковать примется: ум, талант, красноречие, хоть отбавляй! А стоит на лицо его поглядеть, и будто все впустую. Впрочем, если желаете узнать, поезжайте, посмотрите…
Поехать я никуда не поехал, но, помнится, с того самого дня, как впервые услышал я от старичка иеромонаха о «печати неподменимой», стал я к нему тщательно приглядываться. Бывало, говорит отец Никифор, вглубь себя смотрит, а я уже, не так слушаю, как осторожно, боком гляжу на него.
Под иконами он сидит высокий, чуть согнутый; при шестидесяти годах у него нет седин: прозрачная русая бородка и большая лысина. Но главное — это лицо! Само главное, когда говорит отец Никифор или думает, лицо его, немного, как бывает у слепых: оно не отзывается на внешние впечатления, и ни один мускул в нем не движется. Почти всегда глаза у него полузакрыты и опущены, но зато, когда он подымает их, вырывается оттуда голубой поток детской, чуть удивленной, хорошей радости. И сама за себя говорит эта радость, и нужды нет спрашивать: о чем это вы, отец Никифор, радуетесь?
Как-то раз не утерпелось:
— Батюшка, — говорю, — вот вы уже не раз сказывали мне о какой-то печати на святогорских старцах…
— Сказывал.
— Так вот, батюшка, мне бы еще хотелось об этом послушать…
Чуть улыбнулся отец Никифор: — Да я же говорил: поезжайте сами…
Смутился я и замолчал, а батюшка, перекрестившись, приступил к своему повествованию.
Теперь, несколько лет спустя, когда смиренный иеромонах Никифор переселился в блаженные обители, хочется мне по возможности точно пересказать беседу того незабвенного для меня вечера.
— Случилось как-то, пригласили меня, грешного, в один богатый дом, — так начал отец Никифор, — сам не знаю, зачем пригласили, только оказался я в этом доме. Произошло все это вскоре после моего вдовства, был я еще белым священником, преподавателем столичной семинарии. Высокопреосвященный, вечная ему память, прочил меня в профессора академии. Да…
Должен сказать вам, что дом этот, куда пригласили меня, славился не в одной столице, а почти что и во всей России. Собирались там мыслители, ученые, литераторы, живописцы, словом, — избранный мир, которым гордилась наша страна перед лицом всего света. Признаюсь, странно мне было идти туда. Сами знаете, в избранное общество нашего брата не очень-то приглашали… Подумал я, подумал и все-таки пошел. Ну… дом такой, что и рассказать трудно: паркеты зеркальные, ковры, стулья золоченые, колонны ясписовые… Помнится, все мне какой-то фарфор показывали, будто и цены ему нет. Говорят, пил из него кофе французский маркиз, который, сдается мне, не то духи придумал, не то каких-то особых собак разводил. Неловко мне стало: смотрел, смотрел я на посудину эту и, правду говоря, мало что понял.
— Интересно, — говорят, — что вы, батюшка, в этом сервизе видите?
— Чашки, — говорю, — вижу, блюдца…
Народу было много самого разнообразного, все нарядные, душистые. Дамство, можно сказать, в каменьях самоцветных переливалось. Когда пригляделся, вижу — многие лица будто давно знакомые: сообразил я потом, что видывал их в журнальных и книжных иллюстрациях. Хозяйка дома Елизавета Никитишна — как пышный розан, и вся золотом искрится.
Встретили меня радушно, мигом вокруг меня образовался порядочный кружок, и завязалась оживленная беседа. Не помню точно, о чем толковали, знаю лишь — хорошо мне было, и душа радовалась. Радовали ясные лица, радовала задушевная простота. Посмеялся я над своими страхами. Поверьте, десяти минут не прошло, как от всего сердца полюбил я людей этих. Нет, думаю, напрасно говорят, что в этих кругах духовенство не жалуют, — росказни все, сплетни бабьи…
Долго ли, нет ли продолжалась беседа наша, но, видно, преждевременна была моя радость; суждены мне были великие испытания. Как уж это со мной случилось, а перешел я незаметно на духовное, стал распространяться о таинственной природе Церкви, о благодатном духе, что из нее изливается. Доверился своим чувствам, забыл я, видно, скудоумный, где нахожусь: распахнулась душа моя, развязался язык, вообразилось мне, что окружает меня возлюбленная православная паства. Господь ведает, чего только не наговорил! Скажу вам, кстати, что обладаю дурной привычкой: как заговорюсь, непременно глаза закрываю. Возможно, что и сами вы подметили это мое глупое свойство. Ну вот и подвела меня привычка…
Не смогу объяснить, что собственно произошло, только вдруг, меня словно холодком обдало. Будто нехорошее дуновение прошло. Точно подсекло меня.
Остановился я с разлету и кругом оглядываюсь: что за притча! Или со мной неладное творится, или кто его знает… не то в зале чуть потемнело, и все эти лица, недавно еще ясные и приветливые, теперь глядят словно покойники.
Вижу, напротив меня тучный господин с бородкой клином как-то криво усмехается.
— Батюшка, — говорит, — неужели вы, как ученый академик, будете отрицать, что влияние церкви построено прежде всего на массовом самогипнозе?
Почудилось мне, что палкой меня по голове хватили. Не от слов этих почудилось, а от той ехидны, что в словах сквозила. Ответил я, кажется, нечто невразумительное, потому что вокруг странно улыбнулись.
— Да мы, батюшка, нисколько и не думаем отрицать, что христианство — интереснейшая доктрина, — сказал кто-то: — посмотрите, какие богатые сюжеты оно продолжает давать для искусства! Иван Федорович, как публицист и человек знающий, доказывает, что в современных условиях вы только выиграете, если оставите за религией ее морально-воспитательную сторону, освободив ее от средневековых элементов чудодейственности… что же касается до последнего, то, согласитесь, массовый самогипноз сомнению не подлежит!
— Я хочу сказать, — произнес тучный господин, которого назвали Иваном Федоровичем, — что эта очистка религии от исторических и локальных суеверий является прежде всего полем деятельности культурной части духовенства. Иисус, как учитель высокой морали, был несомненно одной из идеальнейших фигур в истории человечества… Как идеолог, возможно, что Он кое-чего оставляет желать, но как моралист — безупречен. Если Он пользовался при распространении своих принципов некоторыми гипнотическими приемами, что в те времена могло казаться чудом, ничего удивительного не представляет… Всякий использованный природный феномен, еще не расшифрованный положительной наукой, всегда носит, если хотите, несколько чудодейственный характер…
Старичок в золотых очках, все время кивавший головой в такт словам Ивана Федоровича, стукнул пальцем об ручку кресла и перебил его: — Будьте господа уверены, — сказал старичок, — что способы лечения, которые я употребляю для своих пациентов, пятьдесят лет тому назад доставили бы мне славу чудотворца, а как зовут меня Николай, то получился бы из меня новый Николай Чудотворец, так сказать, номер второй …
Слова эти вызвали шумное веселье, а старичок казался в восторге.
— А поэтому, батюшка, — продолжал Иван Федорович совсем уже наставническим тоном, — вам, как представителю академически просвещенного духовенства надлежало бы этими вопросами подзаняться…
— А батюшка преподобный Серафим, — ответил я, — наказал, что прежде всего надлежит заниматься стяжанием благодати Святого Духа.
Показалось мне, что слова, сказанные мною, озадачили все собрание. С полминуты все молчали.
Иван Федорович вдруг рассмеялся: — Ну уж это, батюшка, предоставьте преподобному Серафиму. Кстати, не он ли это во времена Гете и Пушкина спасал мир тем, что несколько месяцев стоял на камне?
— Преподобный говорил не для себя, а для нас с вами, Иван Федорович.
— Простите, для меня это авторитет недостаточный, — немного раздраженно отрезал мой собеседник.
Не он один, — возразил я: — вся Церковь в лице святых отцов говорит об этом.
Заметил я, что Иван Федорович чего-то все больше раздражался. И сказал он нехорошие слова:
— Видите ли, Дорогой батюшка, в приложении к вашим святым отцам, которых по недостатку времени не имею чести близко знать, все это очень хорошо, и поупражняться на камне тоже не плохо, или, как там у вас — на столбах стояли… Но признайте, что одно дело ваши святые отцы, а другое дело мы… культурные люди современности!
— Святые отцы, — говорю, — были высококультурными людьми…
— Положим так, уступаю, — опять криво усмехнулся Иван Федорович, — но они были отшельники и монахи… Вы не имеете права требовать, чтобы все стали монахами!
Тяжело мне было вести этот разговор, а еще тяжелее то, что по мере слов моих я все более ощущал свое одиночество. Заметьте, друг мой, этим всегда начинается искушение. Под напором человеческой неприязни забываете вы, что незримо присутствуют вам сонмы чинов ангельских…
— Ничего я от вас не требую, Иван Федорович, — опять говорю ему, — святой Иоанн Златоуст свидетельствует, что всякий христианин ничем не отличается от инока, кроме обета целомудрия…
Как только сказал я, кругом шепот поднялся, из дальнего угла послышался сдавленный смех, и кто-то сказал по-английски: «А забавный субъект»!
Не думали, по всей вероятности, что известна мне английская речь.
Грустно было, дорогой мой. Словно пропасть великая и непроходимая разверзлась между мною и всеми людьми этими. Чуждым и далеким был я для всех, для всего этого избранного, изысканного мира. Я ли, впрочем? Протоиерей ли Николай Тимофеевич Прудентов, как звался я тогда, или же вообще христианский православный священник? Об этом боязно как-то было думать. Не скрою от вас, жуткий смысл виделся мне за этими неестественно улыбающимися лицами, за этими взглядами — не то любопытными, не то насмешливыми. Холодом веяло на меня, друг мой. Невольно искал я глазами хотя бы одно лицо, хотя бы одну душу, которая бы здесь, в этом доме оказалась со мной… Осекался взор мой, как об каменную стену.
Доложу вам, однако, что с самого прихода моего в дом этот обратил я внимание на одну молодую девушку. Уж очень миловидное у нее личико было: прямо ангелок писанный. Неужто, думаю, и за этими голубыми глазками такая же пустыня безводная? И вот вижу, глядит на меня ангелок этот, будто мысли мои читает, и, чуть подсмеиваясь, с задорцем спрашивает:
— Скажите, почему это вы все отрицаете красоту жизни и все про монахов говорите? Ведь это так мрачно, так скучно!..
— Для христианина… — было пустился я в изъяснение, только она сразу перебила меня, точно врасплох застать хотела.
— А что по-вашему быть христианином?
— Быть христианином, — отвечаю, — значит веровать во Единого Бога в Троице покланяемого и исповедывать Господа Иисуса Христа Сына Божия во плоти пришедшего, распятого за грехи наши и воскресшего со славой, совоскресив с Собою падшее естество наше, согласно непререкаемому свидетельству Священного Писания и Священного Предания, свято сохраняемых в Православной Церкви…
— Ну, батюшка, — резко остановил меня молодой человек с копной волос на голове, который, как заметил я, давно порывался вступить в спор, — насчет Евангелия уж вы оставьте! Там свободы не оберешься: «Кто вместит, да вместит». А вот касательно этого самого предания, как я знаю, имеется там немало легендарности…
— Священное предание есть внутренняя жизнь святой Церкви, — строго сказал я, — и стыдно вам, молодой человек, с подобной непочтительностью о нем выражаться.
— Прошу извинить! — воскликнул юноша и вскочил со стула, — но согласитесь, вы должны согласиться, что эта самая жизнь нередко отклонялась, отклоняется и будет откланяться от того же евангельского учения, и притом в значительной дозе!
— Миша, — сказала молодая девушка, — не увлекайтесь!
Однако молодой человек обратил на нее мало внимания.
— Господа, я нигде не читал, — воскликнул он, размахивая волосами, — чтобы Христос требовал, как говорит Иван Федорович, стоять на столбах или ходить каждое воскресенье в церковь!..
— Совершенно верно! — подтвердил чей-то голос.
— Больше скажу, — по-видимому подзадоренный одобрением, продолжал косматый юноша, — учение Христа прямо противоположно всяким церковным обрядам, поверьте, господа, если бы Христос вошел в теперешнюю церковь, хотя бы в Казанский собор, вы думаете он не выкинул бы все эти иконы с бриллиантами?..
— Молодой человек, — говорю ему, — не берите на себя в ваши годы тяжкого греха гордыни. Не уподобляйтесь безумным людям, которые тщатся ставить свое мнение превыше авторитета Святой Апостольской Церкви. Помните, тяжелый конец ожидает их, поверьте иерейскому слову и подумайте о душе своей…
— Ну уж извините! — запальчиво крикнул молодой человек, — в душу мою никому залезать не позволю, ни иерею, ни архиерею!..
Почуял я, что сам закипать начинаю. Досада взяла меня и жесткое слово сказал я мальцу этому. Покинула меня видно иерейская степенность, а тут и возликовал лукавый: поймал меня в окаянный свои сети. Как только раздражился я, словно молния воздух прорезала. Неистовый, верите ли, крик поднялся в комнате.
— Да что, инквизиция это что ли! Свободного слова сказать нельзя?..
Ужас охватил меня. Вижу, какой неописуемой злобой исказились лица, чувствую, словно булавки, впиваются в меня обозленные взоры. Вижу я, Иван Федорович, весь красный, ворочает глазами навыкате. Глядит на меня с истинной яростью и в кресле ерзает.
— Я вам докажу, докажу, — кричит и потрясает кулаками, — что все ваши Серафимы могут быть уличены в прямых противоречиях с тем же Евангелием. Да, да!.. А злоупотребления во всех церквах! На это что скажете? А порабощение личности?..
Иван Федорович задыхался от волнения.
— Толстой говорит! — перекрикивал всех молодой человек с волосами: — я лучше знаю…
— Как-с! — почти хрипел Иван Федорович, — вы думаете, общественность будет молчать! Ошибаетесь! Не угодно ли полюбоваться: половина Волжского края погибает от голода, страна нуждается в ответственном министерстве, а они… они занимаются фабрикацией святых, как это было недавно, и сам царь туда едет…
— Успокойтесь! — говорю ему.
— Нет извините-с, извините-с! Я буду говорить и должен говорить, и если на то пошло, берусь доказать вам, как дважды два, что то же христианство явилось тормозом античной культуры, а ваша церковь, которая ничего общего не имеет даже с христианством, до сегодняшнего дня продолжает бороться со всяким проблеском цивилизации!..
— А я знаю, — перед самим лицом моим кипятилась пожилая барыня, — что все эти книги сочинили в средние века и все это совсем не так!..
— Господа, Иван Федорович, Марья Васильевна, ради Бога, да перестаньте же! — раздавался поминутно чей-то отчаянный вопль и пропадал в общем гаме.
Истинно говорю вам, что я перестал соображать. Дикая волна лилась на меня, опрокидывалась над головой и мутила сознание. Насквозь пронизанный холодом, смотрел я на этих людей, потерявших человеческий облик. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, так полагается разговаривать в мирском обществе, но только дрожал с ног до головы, как случается в ознобе.
— Господи, Господи, — думал, — и зачем только я попал сюда?
Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не поднялся вдруг в углу высокий худой человек в странном одеянии. Не то была это поддевка, не то халат бархатный. Удивительно, что не приметил я прежде человека этого. Все сразу умолкли.
— Полчаса слушаю вас, — густым басом сказал высокий, — и одного не понимаю: господин священник не ответил, во-первых, на вопрос Ивана Федоровича о гипнотизме, а во-вторых, вместо ответа употребил малопонятное выражение, которое я дословно воспроизвожу…
Высокий человек вынул из кармана записную книжку и прочел: «Надлежит заниматься стяжанием Святаго Духа». Так ли, господин священник?»
Вижу я, с хозяйкой дома невесть что творится.
— Ах, батюшки мои! Не обращайте внимания! — захлебываясь шепчет мне на ухо, — Леонид Михайлович — поэт… большой оригинал… Ах, Боже мой… очень славный в душе, уверяю вас…
Встал я во весь рост. Почуяла недоброе душа моя.
— Совершенно справедливо изволите говорить, — отвечал я, обращаясь к поэту, а сам с чего-то наперсный крест ладонью прикрываю.
— То-то я и вижу, — стоя во весь огромный рост свой на другом конце залы забасил высокий, — так раньше чем затевать шумиху, надлежало человеческим языком разъяснить, что вы прикажете понимать под архаическим выражением «стяжание», и что подразумеваете под термином Святой Дух. И есть ли это та птица, которую на иконах рисуют, или нет.
Друг мой, друг мой! Нашлись, отыскались люди, которые и здесь могли засмеяться…
Не знаю, не помню, как я ушел оттуда. От последних слов «высокого» сотряслось все естество мое. Кажется, пытались потом утешать меня, уверять, что мол все это шутки, принялись чаю предлагать… Господь ведает, Он рассудит. Только верьте, никогда еще мир сей не раскрывался передо мной в подобной срамной наготе своей. Никогда еще жуткий лик князя мира сего не приобретал в глазах моих столь явственных очертаний…
Пришибленный, разбитый брел я по улицам. Тоска и уныние овладели мною. Горько, обидно было. То ли плакать хотелось, то ли гроза в сердце собиралась. Точно в голове засел кто-то и в виски гвоздь за гвоздем вколачивает.
А кругом город в огнях. За слепящими фонарями звезд не видать. Эх, думаю, да нужны ли кому звезды!.. Больно стало за творения Божии.
Мечется, бурлит пучина людская: лихачи, автомобили катят, гогот, галдеж стоит, из кабаков столбом смрад подымается. На углу меня чуть не сшибли.
— Ваше преподобие, стаканчик со мной!
Отшатнулся я. Пьяная размалеванная девка с папиросой в зубах прямо мне в лицо тычется.
— Брось его, Глашка, не видишь — поп! — слышу хриплый смех.
Как-то выбрался на мост и остановился. Нехорошо было мне. Стою на мосту, вниз гляжу на черную воду.
За мостом, думаю, начинаются важные, выметенные улицы… дома там тяжелые, особняки… и вот Глашку эту самую туда не пустят… а меня, меня-то, служителя Престола Божия, пускают?
— Господи, Господи милосердный! — восклицаю мысленно, — две тысячи лет с воскресения Твоего, две тысячи лет, как в мир великая бескровная жертва приносится… и что же, что же видим! На сотни, тысячи, сотни тысяч верст кругом раскинулось жуткое вселенское кладбище заживо умерших людей… Разве коснулась их благодать Твоя? Разве восприняли они хоть частицу Твоего, Господи, животворящего Духа? Гордые, самодовольные тлеют они под открытым небом, заражая воздух смрадом своего разложения. Страшен тлетворный дух гниющего тела, но что сравнится с зловонием гниющего духа?..
Прав, трижды прав был «высокий»: о Духе Святом здесь не знают.
Жуткие минуты пережил я. Гнев, скорбь, омерзение воплем неистовым сотрясали существо мое. Горькой желчью захлестнула меня безблагодатная пучина. Беснующийся город, Глашка пьяная, Иван Федорович с глазами навыкате, малец с копной волос, поносящий Церковь, «высокий», хулящий Святаго Духа, — все это сборище, грозящее Богу, и тысячи других им подобных по всей поднебесной завертелись, задергались, стали в мглистом желтом тумане над черной водой. Смрад льется в ноздри, в груди молотом колотит, и нарочно будто, в ушах звенит, поет, отзывается:
Хвалим Тя, благословим Тя, Кланяемтися, славословим Тя, благодарим Тя, Великая ради славы Твоея…
— Господи Христе, зачем воплотился, зачем проповедовал, зачем воскрес Ты?! — криком вырывается из души моей. — Для чего послал нас? Это ли Твоя нива? Стоит ли этот мир, Господи, единой капли Твоей пречистой Крови?!..
Не дай вам Господь пережить то, что пережил я тогда. В бездны преисподней устремился дух мой. Какими словами объясню вам, какими образами начертаю отчаяние? Смогу ли повторить вам, что поднялось в душе моей? Сомнение, неверие, разочарование, кто знает!.. Все мое пастырство, вся моя проповедь, нет, наша общая, могучая церковная проповедь, которая девятнадцать веков потрясает землю, Боже мой! — бессильной, разбитой, поверженной в прах представилась мне перед этим торжествующим миром, этим смердящим царством Христова врага… Ревом исступленным вырвались к небу из сердца моего непотребные глаголы гордыни и малодушия: «Боже, где же плоды Твои? Боже мой, дай же знамение! Бог мой, покажи Себя!.. Где Дух Твой, Царь Небесный, Дух благодати и спасения?!..»
— Э-эх, батя! — из нутра моего раскашлялся вдруг сиплый отвратительный голос: — неужто теперь только додумался?
И вперились глаза мои в черную, скользкую, уплывающую воду.
— Вот, вот оно, спасение твое, — хрипит, кашляет сиплый мерзкий голос, и пресная пустота ширится под сердцем.
До крови вцепился я в железные перила. Вихрем понесло меня с мостом вверх о течению. Яростная борьба в голове идет. Силится лукавый из побежденной головы моей проникнуть в самое сердце…
Хвалим Тя, благословим Тя, Кланяемся, славословим Тя, благодарим Тя…
— Богородице, спаси!..
Никак полем пахнуло?..
* * *
…широкое, благовонное, — шепчут мои губы, — и трава там высокая… цветы яркие…
Не знал, что говорил, только теплое во мне что-то подымалось, к самой гортани подступало.
И вдруг слезы хлынули.
Услышала, услышала меня, гибнущего, Матерь Божия! С небесных высот ниспослала мне росу слезную.
Льются они — блаженные слезы — и вся скорбь, вся желчь моя с ними выливается. Сердце прожигается ими, омывается душа и в горнее воспаряет. Плачьте, плачьте, друг мой, почаще, не удерживайте слез ваших, не стыдитесь их! Плачьте, ибо блаженны плачущие; плачьте, ибо слезами царство Божие познается. Пуще огня лукавый слез человеческих боится.
Тихая, великая грусть со слезами снизошла в мою душу.
Утихли ветры, миновала буря, на сердце слезные капли повисли и заиграли лучей умного солнца. Думал я о мире слепорожденных людей, что мыслят жизнь возможной без этого Солнца Правды — Христа Господа, Сына Божия. Много, много их, дорогой мой, мятущихся, жалких, обманутых, беспомощных, отравленных дурманом пития мира сего. Полнится ими вселенная: страны, грады и веси. Каждая паперть церковная — рубеж этой мертвой безблагодатной пустыни. Словно заперся Господь Бог в Своих храмах, ибо в мире, за церковной оградой, его не хотят. Жутко сказать, но порой и в храмы Божии внедряется пустыня мирская. Голая пустыня с миражами… Не дай Бог, не дай Бог!..
А думаете, хорошо этим людям? Нет, батюшка, не хорошо: ползет за ними глухая тревога, сверлит она денно и нощно самые гордые, самые бесчувственные сердца. Не смотрите, что беспечны они бывают, что отмахиваются, заглушают в себе жуть, верно вам говорю: еще в этом мире обоняют они мертвый воздух смерти бесконечной. Гляньте-ка на дела их, на искусства, на премудрость: отдыхает разве сердце ваше, полнится ли миром душа? Не криком ли отчаяния звучит самое безудержное их веселие?
Всуе грозящие небу, знают ли, Кому грозят? Всуе отрицающиеся Церкви Божией, знают ли, чего отрицаются? Страшно подумать, но воистину все познают своим смертным часом. На миг единый откроется им то неизреченное блаженство, которое было уготовано для них от начала мира, и которое они добровольно оттолкнули. Единый миг этот стоит же вечной муки. Никогда не забывайте, друг мой, что секунда на грани жизни равна бесконечности. Потому-то и разбойник благоразумный единым мигом стяжал вечность, потому-то и Церковь наша особенно молится о «христианской кончине живота нашего и добром ответе на страшном судищи Христове». Размыслите и поймете, что христианская кончина и есть добрый ответ.
Но смотрите, не презирайте этих слепцов, не брезгайте ими. Помните всегда, что и за них умер Христос. Помните, что великий ответ лежит на нас не за себя только, но и за каждого из них, за каждую душу христианскую потерянную, скорбящую и озлобленную, милости Божией и помощи требующую. Вспоминайте учение Церкви: всякая душа человеческая — христианка по природе. Не ждите, не смотрите, если и мы нерадивые пастыри стада Христова позабыли о них, всех подобает привести, все да услышат глас Сына Божия и «услышавши, оживут». Идите к ним, не смущайтесь, не бойтесь испачкать ваших одежд, запылить вашей обуви, возложите на них руки, как возлагали апостолы. Истинно говорю: если руки ваши чисты, исцелеют они и прозрят.
Не пренебрегайте «впавшим в разбойники» на дороге иерихонской, первым перевяжите его раны, и назовет вас ближним своим, и не скажет, что христианин остался к нему равнодушен. Не забывайте, какими путями покоряло христианство мир: когда одни в пустынях достигали лицезрения Божия, другие на своих постелях отогревали чумных и прокаженных. Несите, несите благовестие Христово словом, молитвою, делом, примером, всем, чем можете, всем, что только в ваших силах и даже сверх сил. Уповайте, Господь поможет. Возвещайте, проповедуйте, что Жизнь явилась нам, что завет она всякого, что для всех есть место, для каждого есть утешение. Грейте их огнем духовного Солнца, без страха черпайте из церковной сокровищницы: вовеки не оскудеет она. С избытком дал в нее Господь Святого Своего духа, с избытком положили святые, дивные угодники Божии. Проверяйте себя жаждой благовестия. Есть она — все хорошо, нет ее — все пусто. Подобно молитве, Это дыхание веры нашей.
Немыслима христианская жизнь без ежечасного благовестия, как невозможна без ежечасной молитвы. Любовь к Богу источает молитву, любовь к человеку рождает благовестие. А уж таково свойство любви, говорит преподобный Исаак Сирин, что не может она ничего хранить в тайне от возлюбленных своих.
* * *
Поздно ночью возвратился я восвояси. В комнате моей была бархатная тишина, ни звука не долетало из ночного города.
Спать не хотелось. Опустился я в кресло и принялся глядеть перед собой. Как хорошо, легко мне было. Какой-то особенно близкой и хорошей показалась моя комната, какими-то особенно дорогими стали вдруг все предметы…
Странное чувство! Вот эта самая мысль, которой мы живем и рассуждаем в каждодневной жизни, как-то отступила, отошла назад, словно растворилась, и на месте ее обозначилось что-то другое, легкое и невесомое. Чудилось мне, что сознание мое работает необычайно явственно и четко, в то время как мозг погружается в сон. Словно кто-то новый, настоящий пробуждается во мне и принимается мыслить. И вот, все предметы, все, что окружает меня, начинает постепенно проясняться, принимать какое-то свое неповторимое значение. Будто видишь уже не столько предметы, не столько вещи сами по себе, как осязаешь какою-то неизведанной своей глубиною их многоречивый и торжественный смысл.
Ах, не знаю, как изъяснить вам: со щемящим, жалостливым восторгом постигаете вы, что каждая пылинка занимает какое-то свое особое место! И судьба этой ничтожной пылинки неотделима от твоей судьбы, и ты — кровный родственник всей поднебесной твари. Ты — между Богом и тварью, каждый шаг твой к Богу есть уже великое событие для всей вселенной: миллиарды тварей вслед за тобой движутся к Богу…
В углу, напротив меня, мирный красноватый свет разливается от лампады. Там, в тусклом золотом сиянии риз, смутно видятся иконные лики, там открывается таинственный мир несказанных чудес, тихо плещется теплое море благодати.
Непорочная кроткая Царица Небесная — «нерушимая стена», обуреваемых пристанище небурное, в безмолвной молитве простирает свои пречистые руки. В строгом молчании предстоят ей пророки, апостолы, мученики, великие и пречудные угодники Божии. Кого только нет здесь! Тут и благостный тихий Никола Чудотворец святитель Мир Ликийских, и Спиридоний Тримифунтский, и строгий Пахомий Великий в схимническом кукуле, тут и страстотерпец целитель Пантелеймон с многоценным елеем, Федор Стратилат в сверкающих доспехах, Иван-воин, великомученик Георгий победоносец, поражающий дракона, тут в богатой ризе, шитой жемчугом, величавый и благодатный святитель Алексий, митрополит московский, спокойный и просветленный Сергий, Радонежский Чудотворец, заступник и молитвенник Земли Русской, и Дмитрий Ростовский в сияющей мирте, и Сергий и Герман, валаамские чудотворцы, и Тихон Задонский, и Митрофаний Воронежский, и ласковый добрый батюшка Серафим Саровский, и многое множество иных, тех, кого весь мир не был достоин, что скитались в вертепах и пропастях земных… тех, чьей любовью еще не попален мир гневом праведного Божия прещения. В едином молитвенном вздохе созерцают эти непорочные лики страшное тайнодействие, что, запечатленное на иконе древнего письма, творится над их головами, куда Божия Матерь простирает свои длани.
Там Христос, Спаситель мира, Агнец Божий в борении молится перед гефсиманской чашей. Он, Господь наш, только что перед тем в сионской горнице претворивший вино плода лозного в Свою пречистую кровь, молит Отца Своего и Отца нашего, Бога Своего и Бога Нашего — да не будет! Да мимо идет Его чаша с этой самой пречистой Кровию, которая завтра спасет мир.
Страшное, непостижимое чудо! Неизглаголанное таинство… Единый миг, в сравнении с которым, — ничто все высочайшие трагедии, какие только имели место на земле. Казалось, вся вселенная притаила дыхание, в испуге и недоумении взирали силы небесные на Иисуса Христа, Создателя мира, припавшего к Отцу, как слабый немощный ребенок припадает к своему родителю… Тот, кто еще пять дней тому назад вызвал из гроба четырехдневного, уже смердящего Лазаря, Тот, Кто единым словом иссушил смоковницу, Тот, Кого трепетали бесы, слушались ветры, Тот, Кто предрекал ученикам Своим муки, страдания и смерть за имя Свое, томится, ужасается и скорбит о Своих предстоящих мучениях и молит Бога, да мимо идет Его чаша сия…
Как возможно это? Как возможно, когда сотни и тысячи христианских мучеников не только не ужасались и не скорбели, но с радостью, с хвалебными песнями шли на самые нечеловеческие муки? А Он, уже заранее знающий о Своем славном воскресении из мертвых, проливает кровавый пот. Что это значит? Чего ужасается Господь? О чем скорбит, о чем молится Отцу Своему?..
Слушайте меня об этом, внимайте тайнам искупительных страданий Христовых, и многое, чего не понимает ум ваш, соделается вам ясным. Созерцайте мысленно моление Господне о чаше, приведите в молчание ваши чувства, идите за мной осторожно, но твердо.
Нет, не предстоящие страсти ужасали Господа, не жуткая тень креста пугала Его, не подумайте и того, что наперед знающий о Своем восстании из мертвых и вознесении к престолу Отчей славы, Господь принимал на Себя только видимость страданий, дабы снизойти к немощному естеству человека. Не помыслит также, как говорят некоторый, будто ужасался и тосковал Господь о том грехе, который готовились принять на себя предающие и распинающие Его люди, нет, не сыны погибельные вызвали кровавый пот на челе Господнем. Нечто большее, гораздо большее томило и ужасало пречистую душу.
Вы знаете, друг мой, также, как и все мы, что вплоть до крестной смерти Господа, страдание, всякое страдание было печатью проклятия. Ветхозаветное человечество было право: страдание и смерть не от Бога. Бог есть полнота вечной жизни, вечного блаженства, в Боге, слышите, не может быть ни страдания, ни смерти. Человек не был бы человеком, не был бы образом и подобием Божиим, если бы природа его была подвержена страданию и смерти. Подобно Господу своему обладавший бесценной способностью свободной воли, призванный владеть землею, он был, если так можно сказать, дух от духа Своего Бога, Творца Вселенной. В Царстве Божием рожденный, человек был уготован для Божия Царства. Духовные очи человека были открыты: он познавал мир, как познает его Бог, ибо в эти дни он был с Богом едино. А созерцание мира в Боге и есть царство Божие, рай, как говорили ветхозаветные люди. Этот рай и потерял человек, самовольно преступивший заповедь Божию, потеряв его, отдался в рабство дьяволу, вовлекая во власть его всю тварь земную, над которой был поставлен. Страшное проклятие земли «в делах человека», чем было иным, как не разрывом человека с Творцом?
Самовольно отдавший свою волю дьяволу, с этой минуты тал человек предметом жуткого дьявольского измышления: страдания, смерти, распада, разложения. Дьявол, имущий державу смерти, он — ее начальник, он — ее создатель. Не смущайтесь слов моих и не говорите, что дьявол не властен созидать, — согласен, дьявол никогда не созидает, но смерть и не есть создание. В ней разрушение и только разрушение, в ней вечное дьявольское «нет», в ней исконное отрицание Бога, у Которого, по слову апостола, все — только «да» и «аминь». С этой минуты истинное человеческое естество погрузилось в летаргический сон и от имени человека заговорил поселенный в нем грех. Вот оно — это гордое «я», над которым столько бились философы, имя этому «я», отделяющему себя от Бога и от людей, верующему в себя, утверждающему себя, — грех, живущий в человеке и обманным образом выдающий себя за самого человека. Об этом писал апостол Павел, но этого-то до сих пор не могут или не хотят понять люди, срам сказать: христиане.
Но и тут человеколюбивый Господь не оставил свое создание. Он обещает Искупителя-Мессию, который разбудит Человека в человеке от этого летаргического сна. Ожиданием этого Мессии-Искупителя живет ветхозаветный Израиль, смутно жаждет Его и весь языческий мир.
И наконец совершается несказанное чудо: Бог является в мир. Царь вселенной рождается от Девы в вертепе. Мир не уделил Ему даже скромной, последней лачуги. Тот, Кто зажег миллионы светил, грядет в мир через убогие ясли бессловесных… Друг мой, одно это способно заставить вострепетать все небесные и земные силы… Но и этого мало, сам воплотившийся Бог, в котором все совершенство, Чья плоть непричастна первородному греху, а значит, непричастна и его детищам: страданию и смерти, сам Иисус Христос — полный Бог и полный человек, обрекает Себя на то, что чуждо Его божественной природе: на страдания, на смерть. Чистое и безгрешное естество, воспринятое Господом от той, чья утроба «вместила Невместимого», должно подвергнуться одинаковой участи с богоотступным, падшим человеческим родом, запечатленный страшной печатью сатаны. Божественная душа Его, которая сама есть вечная жизнь, должна, хотя бы на какой-то миг, лишиться лицезрения славы Божией — умереть. Страшное слово «умереть», страшное даже для нас, грешных, ибо и в нас еще теплится искра Божия Духа, и смерти не приемлет. А Бог, Безгрешный Христос, как бы отдает Себя во власть дьяволу, ибо подвергает Себя его измышлению. Поймите это — вот в чем заключается вся невыразимая глубина гефсиманского борения. Нет, не удивительно и не странно, что человеческое естество Господа было в смущении и в тоске. Соединенное Богу, чуждое греха, оно должно было воспринять в себя расплату за грех.
Всколыхнулись все силы ада, пораженные возможностью этой небывалой победы. Посрамленный в пустыне дьявол, отошедший от Господа до времени, с дерзновенной наглостью явился снова пред очи Иисусовы. Нет, уже не льстецом, а торжествующим победителем появился сатана.
— Нет, Ты не Сын Божий! — в диком злорадстве восклицал дух тьмы: — дело Твое погибло, все оставили Тебя! Смотри, даже любимые ученики Твои безмятежно спят, когда кровавый пот течет с чела Твоего. Нет, Если бы Ты был Сыном Божиим, не ожидал бы Тебя позорный крест, не ожидала бы Тебя сама смерть!.. А если правда, если Ты, действительно, Сын Божий и идешь на смерть, то я победил Бога!..
Вот какие слова слышал Господь, когда молил Отца Своего, да мимо идет его чаша сия… Но не долговременно было мнимое торжество сатаны и всего сатанинского иудейского сборища. Ни сам враг человеческого рода, ни верные слуги его не знали великой тайны, что всё, к чему бы не приобщался Господь, — все становилось благословенным. Никто из них не знал о великом таинстве Святого Духа, исходящего от Отца через Сына. Не знали они, что достаточно было Господу приобщиться страдания, как само страдание из проклятья соделалось благословением, достаточно было человеческому естеству Христову вкусить смерти, как сама смерть потеряла свою силу и превратилась в простое изменение вида. Страдания, вознесенные Господом на крест, стали залогом спасения, смерть во Христе — залогом воскресения в жизнь вечную.
Вот это ломимое в страданиях Свое Тело, эту пролитую на кресте Свою Кровь Господь оставил нам в великом и страшном таинстве Евхаристии, которое знаменует примирение с Богом через освящение страдания, через победу над смертью смертью крестной, наше искупление, нашу свободу от обязательного рабства греху, от обязательной смерти.
После искупительных страданий Господа, после славного Его воскресения каждому человеку открывается доступ к вечной жизни, к вечному блаженству, и сатана уже не имеет силы над тем, кто добровольно не хочет ему предаться. Царские врата, открываемые в пасхальную ночь и отверстые всю светлую седмицу, возвещают всему миру, что уже не существует преграды между Небесным Царством и человеком, что Господь, безгрешный Господь, Агнец Божий, Отчее Сияние, Слово Божие, звучащее прежде начала мира, человек Иисус Христос, подвергшийся ради нас, ради каждого из нас страданиям и смерти, Господь, Который ради каждого из нас проливал кровавый пот перед гефсиманской чашей, требует от нас только одного: доброй воли.
Да, батюшка мой, нашлись, отыскались люди, достойные капель крови на челе Спасителя. Выросла на крови этой единая, святая, соборная, апостольская Церковь, собор святых, отдавших волю свою гефсиманскому Страдальцу. Хлынули на нее волны благодати Святаго Духа, засияла она, как солнце незаходимое, как свет невечерний, отблеск неприступной славы Троицы в вышних трегубо песнословимой. Пали цепи, сокрушились преграды, проснулся Человек в человеке, невидимые лествицы соединили Небо с землей… лествицы, незримые для врага человека. Знаете, как говорит преподобный Симеон: «Христианин, делаясь причастен божественного естества во Христе Иисусе, Господе нашем, через приятие благодати Святого Духа, превращается и изменяется в богоподобное состояние». Мир остается миром, стихии остаются стихиями, больше скажу: дьявол остается дьяволом, но только духовные очи христианина отверзаются, и постигает он тот мир, который скрыт от всяких очей непросвещенных благодатию Святаго божественного Духа. Архангел с огненным мечом не преграждает пути его к эдему, всюду, где бы ни находился христианин, он живет в Царстве Божием, в этом таинственном мире, который называется Церковью.
Слабо колышется красноватый свет лампады, тусклым золотом искрятся ризы святых икон, глядят на меня глубоки очи строгих, просветленных ликов, там открывается таинственный мир несказанных чудес, тихо плещется теплое море благодати.
И словно легкий сон восхищает меня. Тонкий звон встает в голове и будто зуд какой разливается по телу… Как-то растет, ширится, приближается ко мне божница, чудится расписными вратами, через которые надлежит мне пройти…
…и как-то расплывается, тает в красноватом свете, лики угодников становятся прозрачными, как небо перед рассветом… и вот уже нет божницы, и я стою один, и вокруг меня в строгом безмолвии бархатное ночное небо, затканное золотом звезд. Да, всюду оно, это высокое небо: над головой, по бокам, под ногами, со всех сторон горит золотыми огнями вселенная.
Господи, да где же это я? На чем стоят мои ноги?.. Или нет, не то… ведь это я сам в иерейском облачении стою перед престолом, и семью алмазами горят за ним звезды-огни семисвещника…
Царица Небесная, да ведь наша это семинарская церковь, только просторнее словно… и как же это я не приметил, что пол-обедни отошло!.. И разве теперь великий пост, что литургия-то святого Василия?.. И откуда эта царственное облачение… как будто не видал я такого в ризнице нашей?.. И как-то вдруг смутно понимаю, что эти золотые звезды живописаны в куполе алтарного свода.
В синеватой дымке ладана искрятся золотом святая чаша и дискос, где только что хлеб и вино претворились в пречистое тело и кровь Христовы…
И встают вокруг мягкими, теплыми, ласковыми созвучиями, и ложатся плавно, качаясь в голубых волнах фимиама святые глаголы сладкопения:
О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род, Освященный храме и раю словесный, Девственная похвало. Из неяже Бог воплотися и младенец бысть, Прежде век сын Бог наш: Ложесна бо твоя престол сотвори, И чрево твое пространнее небес содела: О тебе радуется, Благодатная, всякая тварь…
Поют, заливаются чистые голоса, детские хоры славят Богородицу, тысячи свеч-звезд мерцают… полнится благолепием Господень храм. Чудится мне, что там, позади, за царскими вратами затворенными, едиными усты и единым сердцем молится купно вся православная Христова Церковь. Словно в морском прибое набегают к престолу молитвенные волны, всплескивают брызгами навстречу теплым лучам благодати и, превращенные в ароматные пары, возносятся, воспаряют в горнее. И подъемлет меня на волнах этих, и, преклонив голову, произношу в полголоса привычные святые слова, и каждое из них благовонной каплей падает мне на сердце:
«…Святого Иоанна пророка, предтечи и крестителя. Святых всехвальных апостол и всех святых Твоих, их же молитвами посети нас, Боже, и помяни всех, прежде усопших о надежди воскресения жизни вечныя… Еще молимся, помяни, Господи, святую Твою соборную и апостольскую Церковь, юже от конец, даже до конец вселенные, и умири ю, юже наздал еси честною кровию Христа Твоего, и святый храм сей утверди даже до скончания века. Помяни, Господи, иже дары сия Тебе принесших, и о них же, и ими же, и за них ж сия принесоша. Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах, и поминающих убогия. Воздаждь им богатыми Твоими и небесными даровании. Даруй им вместо земных небесная, вместо временных — вечная, вместо тленных — нетленная. Помяни, Господи, иже в пустынях, и горах, и вертепах, и пропастях земных. Помяни, Господи, иже в девстве и благоговении, и постничестве, и в чистом жительстве пребывающих. Помяни, Господи, благоверного и Христолюбивого государя нашего, его же оправдал еси царствовати на земли, оружием истины, оружием благоволения венчай его, осени над главою его в день брани, укрепи его мышцу, возвыси его десницу, удержави его царство, покори ему вся варварские языки, брани хотящия: даруй ему глубокий и неотъемлемый мир, возглаголи в сердце его благая о Церкви Твоей и всех людях Твоих, да в тишине его тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.»
Друг мой, будут вам в жизни вашей много толковать про соотношения церкви Божией и человеческого государства. Только, слышите: пустое все это. Вслушайтесь в глаголы божественной литургии и поймите, что Господу угодно благоустроенное тихое жительство.
«Помяни, Господи, всякое начало и власть, и иже в палате братию нашу, и все воинство. Благие во благости соблюди, лукавые благи сотвори благостию твоею. Помяни, Господи, предстоящие люди, и ради благословенных вин оставльшихся, и помилуй их и нас по множеству милости Твоея. Сокровища их исполни всякого блага: супружества их в мире и единомыслии соблюди, младенцы воспитай, юность настави, старость поддержи, малодушные утеши, расточенные собери, прельщенные обрати, и совокупи святой Твоей соборной и апостольской церкви, стужаемые от духов нечистых свободи, плавающим сплавай, путешествующим сшествуй, вдовицам предстани, сирых защити, плененные избави, недугующие исцели, на судищи, и в рудах, и в заточениях, и в горьких работах, и всякой скорби, и нужде и обстоянии сущих. Помяни, Боже, и всех, требующих великого Твоего благоутробия, и любящих нас, и ненавидящих, и заповедавших нам, недостойным, молиться о них, и все люди Твои помяни, Господи, Боже наш, и на вся излей богатую Твою милость, всем подая, яже ко спасению прошения. И их же мы не помянухом неведением, или забвением, или множеством имен, Сам помяни Боже, ведый коегождо от утробы матере его: Ты бо еси, Господи, помощь беспомощным, надежда безнадежным, обуреваемым Спаситель, плавающим пристанище, недугующим врач. Сам всем вся буди, ведый коегождо, и прошение его, дом и потребу его. Избави, Господи, град сей, и всякий град и страну от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменных и междоусобной брани».
И громким голосом возглашаю:
«В-первых помяни, Господи, Святейший Правительствующий Синод, их же даруй Святым Твоим церквам в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, и право правящих слово Твоея истины.»
«И всех, и вся, — отвечает церковь громовым гласом.»
«Помяни, Господи, по множеству щедрот Твоих и мое недостоинство, прости ми всякое согрешение, вольное и невольное: и да не моих ради грехов, возбраниши благодати Святаго твоего Духа от предлежащих даров.»
Помяни, господи, пресвитерство, еже во Христе диаконство, и весь священнический чин, и ни единого же нас посрамиши, окрест стоящих святаго твоего жертвенника: посети нас благостию Твоею, Господи, явися нам богатыми Твоими щедротами. Благорастворенны и полезны воздухи нам даруй: дожди мирны земли к плодоносию даруй. Благослови венец лета благости Твоея. Утоли раздоры церквей, угаси шатания языческая, еретические восстания скоро разори силою Святаго Твоего Духа, всех нас приими в царство твое, сыны света и сыны дне показавый, Твой мир и Твою любовь даруй нам, Господи, Боже наш!..»
И снова велегласно возглашаю:
«И даждь нам едиными усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков…»
И сквозь закрытые царские двери, которые теперь распахнутся перед явлением Царя царствующих и Господа господствующих, таинственной и страшной иерейской властью преподаю Церкви верующих благословение Господним именем:
«…И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами…»
И вот, позади, с амвона слышится мягкий бас отца диакона, возносящего молитвы людей:
«Вся святыя помянувши, паки и паки миром Господу помолимся…»
— Вся святыя, — повторяю про себя: — собор святых, согласное созвучие святости — вот она небесная музыка, истинное наименование Христовой Церкви…
И вдруг словно покрывало ниспадает с глаз моих: в этом высоком торжественном ночном небе, которое как-то необъяснимо слилось со сводом алтарного купола, между огнями миллионов солнц, происходит какое-то движение: как будто мелькание бесконечных точек света наполняет небо.
«…Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию,» — несется где-то далеко важный голос отца диакона.
— Господи, по-ми-луй…
Из-за царских врат, из храма и со всего неба грянули слова эти.
Трепет прошел по душе моей. Понял я разом, ощутил всем сознанием своим то, о чем прежде лишь смутно догадывался мой немощный человеческий ум: — ныне силы небесные с нами невидимо служат.
Все явственнее, все сильнее мелькание света в фиолетовых пространствах неба. Нет, это уже не звезды, затмеваются и меркнут небесные светила перед сияние славы небесных воинств. Полнится небо блеском невыносимым, трепетом ангельских крылий, открываются, видятся моим грешным очам неизведанные бесконечные миры, только не те, что может постигнуть человеческий разум, в бездонную глубь уходит мое сознание.
Все стало ясно, все видно, все открыто: новый мир, новая вселенная, новая земля, новое небо! Неизъяснимым сознанием осязаю великую и таинственную сущность чего-то бесконечно огромного, перед чем смолкают все человеческие чувства, затмевается всякий разум, исчезает всякое мышление. Видишь иными очами, слышишь иным слухом, воспринимаешь иным сердцем…
Все они здесь, все они со мною, вижу и чувствую каждого, сливаюсь духом с каждой душой, с каждым естеством. Да, друг мой, новая вселенная, новая земля, новое небо…
Вот она, вот она, Церковь вселенская, Церковь единая, Церковь истинная! Совокупленные Церкви небесная и земная в едином дыхании, в едином устремлении приносят Богу жертву хвалы. Нет больше времени, нет пространства, нет малого, нет великого: море радости, море жизни, море любви!
Все они здесь, все они со мной в едином беспредельном ликовании, сердце мое вмещает их: вот они, эти ангельские силы, молнией блистающий чин, в глубину бытия уходящие непорочные миры благости: вот они, эти пресветлые, богомудрые апостолы, чьи глаголы прошли от конца до конца вселенной, вот они, сонмы чистых Христовых мучеников, на чьей крови яко крин процвела пустыня: юноши, девы, старцы, младенцы, воины, монахи, епископы, что на аренах языческих цирков, в огне костров, на дьявольских орудиях пыток завоевывали для нас, недостойных, драгоценное право всенародно исповедывать распятого Христа, те мученики, чей дух содрогается доныне при виде того, как христиане, эти призванные люди обновления, упорно забывают их муки и погружаются в такую тьму беззакония, в которою, быть может, не погружались их мучители, те самые мученики, убиенные за слово Божие, чьи души провидел с Патмоса божественный Иоанн, что громким гласом взывали к Агнцу: «Доколе, доколе, Владыко святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» Вот они — тихие благостные святители, величавые архипастыри Христова стада, вот оно монахов множество, высоких подвижников, предивных угодников Божьих, что презрели славу мира сего ради лицезрения славы небесной, с ликованием и радостью, в песнях и пениях духовных стяжавшие в пустынях благодать Святого Духа, вот они, все безымянные други Божьи, их же имена и возраст Ты, Господи, веси: трудолюбивые иноки, благоговейные пастыри, добрые и милостивые владыки, любящие отцы и матери, безропотные страдальцы, невинно убиенные и умученные, все труждающиеся и обремененные, пришедшие ко Христу искать упокоения, все в скорби или радости призвавшие Его Святое Имя. Все они, преставльшиеся и еще живущие на земле, вкусившие сладости Царства Божия, блаженные други — братия Христова, радостные, светлые, любящие, — вселенская Христова Церковь, горний Иерусалим!
И чудится мне — еще в большую глубь сознания уходит, погружается существо мое: как будто самое пространство сливается с самим сознанием. Как объяснить вам, то, что я сам, грешный Никифор, не в силах охватить своим умом то, что я сам постиг каким-то неповторимым осязанием глубины моего духа, как повторить вам?.. По мере этого плавного погружения, как будто все кругом отождествлялось в чем-то едином, приходило к чему-то единому, как будто затуманивались и таяли образы, и вместо них вставал непостижимый единый смысл, от которого все естество мое исполнилось молчанием.
Нет, нет: здесь уже не было стремления, не было того, что люди называют экстазом! Была тишина, было тихое ликование, было благоговейное изумление человека, стоящего перед лицом всей вселенной.
И в глубине, в самой сущности этого несказанного смысла, виделось подобие голубовато-золотистого, спокойного, немерцающего сияния, нежного и тихого, как незаходимая звезда, и, словно теплое дуновение, благоговейное облако исходило оттуда. И когда все естество мое напиталось этим благоуханием, как будто еще одна завеса ниспала с глаз моих, и по всей душе моей прошел трепет изумления.
Из глубины вселенной, из глубины бытия, из глубины вечности смотрели на меня глубокие очи Пречистой.
Друг мой, брат мой, возлюбленный мой: какими красками живописую вам мой восторг, мое умиление перед открывшимся мне, недостойному, неизреченным образом Царства Божия!
Вижу, вижу ее, Пречистую Владычицу, зарю неведомого дня, вижу, как тихо и радостно улыбается непорочный лик ее, взирая туда, куда не смеют поднять очей своих бесплотные небесные воинства, перед чем трепещет торжествующая небесная Церковь. Вижу, как возносятся к ней молитвенные волны, вижу, с какой неизъяснимой любовью приемлет она, чистая, благодатная Мария, наши скорби, наши слезы, вижу и знаю, на Кого взирает она, Кого молит о грешном мире. И, словно белые серебристые голуби, светлым венцом воспаряют вокруг главы ее тьмы тем и тысячи тысяч чинов ангельских.
Волна любви, бездна умиления — вот он, тот единый смысл, в котором потонуло мое сознание! Той любви, от которой теряется всякая граница между «я» и «ты», той любви, чьей силой сердце человеческое с легкостью вмещает всю вселенную, дышит с Божиим миром одним дыханием, сорастворяется всему творению и тотчас постигает великую тайну Отчего Дома.
На один миг, на одно мгновение достаточно вздохнуть этой любовью, чтобы навеки, навсегда все познать и все постичь. На самые страшные, нечеловеческие муки с ликованием и торжеством пойдет человек, если от них в какой-либо мере может зависеть хотя бы одно мгновение этого блаженства. А что сказать, если там это одно мгновение равно бесконечности!
Помните преподобного Исаака Сирина? Помните, что говорил несравненный подвижник христианской Церкви? «Горение сердца о всем творении, о людях, о птицах, о животных, о демонах, о всей твари. От воспоминания о них и созерцания их очи источают слезы. От великой и сильной жалости, охватывающей сердце, умиляется оно и не может вынести, или услышать, или увидеть вреда какого-нибудь, или печали малой, происходящей в твари. И, вследствие этого, и о бессловесных, и о врагах истины, и о вредящих себе — ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы они были хранимы, и чтобы им быть помилованными — от великой жалости, возбуждаемой в сердце человека безмерно по подобию с Богом».
Вот, друг мой, любовь истинная, несравненная!.. Нет в ней тени страха или подозрения: все светло, все ясно, все открыто. Не смущайтесь, что поминает преподобный о демонах, — не о сатане, не об отце зла говорит он, но о тысячах страждущих подвластных ему душах, живущих в его рабстве, и со скрежетом зубовным творящих его волю. О них молится «сердце милующее», как о всей поднебесой твари, которая стенает и мучится по вине человека, перед которой человек, слышите, всякий человек — неоплатный должник. Всех ожидает Царство Божие, всех — по роду своему и естеству. Рай Господень, эдем сияющий сотворен Создателем для всей вселенной. Не забывайте этого никогда, а меня, грешного Никифора, не судите за то, что за каждой литургией поминаю все живущее, все сотворенное Отцом бытия.
Как же не плакать, не рыдать о людях, которые не знают, не видят и не слышат о Царстве Божием, о небесных жилищах неветшаюших! Как не положить всей своей жизни, чтобы хоть одного привести к познанию истины, как не взывать ко Господу денно и нощно, да просветит, да облистает их огнем своей благодати! Как не восклицать подобно апостолу Павлу: «Молилбыхся от Христа отлучен быти ради братии моей»!
Как внушить, какими словами рассказать им, что только здесь, только в Церкви Христовой жизнь, и радость, и веселье? Что только здесь счастье без огорчения, свет без тьмы, дерзание без страха. Воистину без страха, как свидетельствует всемирно ученик егоже любляше Иисус: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх».
«И мы познали, — говорит сей ученик Христов, — мы познали любовь, которую имеет нам Бог, и уверовали в нее». Слышите: уверовали в любовь, в этот единый смысл, единую правду бытия. «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Но только, сын мой, помните мой завет: нет больше соблазна, нет большего оскорбления Богу, как Христова Любовь, проповедуемая одними словами. Нет любви в сердце — молчите, молитесь Богу о ней, но молчите, не говорите о ней. Да не хулится ради вашего лицемерия имя Божие!
— Господи, помяни их, Господи, вразуми их, прости им всем! — восклицал я, протягивая руки горе: — Господи, отверзи им очи! Осени их покровом Твоей благодати! Пречистая Богородица, посети их всех, всех до последнего! У каждого ты найдешь, только пробуди! Каждого помилуешь, только настави! В глубокой тьме, обольщенные сладким ядом, посмотри, они толпами устремляются к своей гибели… Господи сил, с нами буди!..
— Во-он-мем! — трубным гласом прозвучал голос диакона, и словно гром прокатился по вселенной.
В моих руках Пречистый Агнец, Тело Христово, Агнец Божий «раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогдаже иждиваемый».
Наступает страшная минута. Чудится мне, что во всей вселенной воцаряется ненарушимая тишина… Мир притаил дыхание…
Сейчас произойдет величайшее: Сам Господь и Царь Мира откроется для всех, напитает всех приходящих к Нему Своим пречистым телом и Своею пречистой кровию, приобщит Свое творение Своего Божества. И я, недостойный, многогрешный служитель Его престола, всему миру, всей Христовой Церкви преподам эту чашу, в которой содержится Тот, перед чем меркнет слава бесконечности миров.
— Святая святым! — возглашаю я, преломляя пречистый Агнец.
— Един Свят, Един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь! — отвечает вселенная. И остались в ушах моих эти звуки.
Больше я ничего не знаю, ничего не помню. Помню только од— но, как вкусил я от божественного причащения.
Страшно мне говорить вам об этом, страшно вспомнить, что я ощутил… Нет, нет, я ничего не видел, никаких видений передо мною не было. Да разве нужно видеть тому, кто восприял в себя Христа?
Об этом да молчит всякая плоть.
* * *
Отец Никифор давно уже умолк.
Опустивши глаза, не смея шелохнуться, я украдкой, боязливо взглянул на него.
Высокий, чуть согнутый, бледный, он неподвижно сидел под иконами, и голова его с полузакрытыми глазами поникла.
Сердце мое учащенно билось. Я почему-то не мог оторвать глаз от лица батюшки Никифора; мне виделось явственно, что это бледное лицо постепенно изменяется, и вокруг него начинает изливаться чудный свет. Все сильнее, все ярче льется этот белый, серебристый свет; наконец мне больно смотреть, и я зажмуриваю глаза. Моя душа горела от неизъяснимого восторга.
Порывом ветра распахнуло окошко. Отец Никифор встрепенулся, как будто от глубокого сна, и пристально взглянул на меня.
Я до сих пор себя спрашиваю: «Не горело ли во мне сердце», когда мне почудился свет?
Под иконами отец Никифор сидел такой же, как всегда, и только на челе его лежала высокая печать, невозмутимая, как чистое небо.
1928 г.
Единая Церковь
Передо мной номера прекрасных католических изданий, посвященных Соединению Церквей. Я недавно прочел талантливую статью митрополита графа Шептицкого, статью о двух миросозерцаниях востока и запада, и мне хотлось бы поделиться кое с кем некоторыми мыслями, возникшими по поводу этой статьи.
Ведь митрополит униатов как будто говорит то самое, что говорим мы. Пожалуй, впервые для католика он переводит вопрос Соединения Церквей в область различия психологий, различия духовных подходов к Христовой истине. Тонкими духовными парадоксами галичский митрополит показывает, что главное отличие православия от католичества находится именно там, где этого отличия нет вовсе…
Он смотрит на две копии леонардовского Христова лика, и ему чудятся два различных произведения, хотя он видит единый лик Христов. У него возникает вдруг странная мысль: как обе копии, обе христианские церкви далеки от Подлинника!..
И в представлении митрополита вырастает неосязаемый, невидимый крест. Его вершина сливается с небом, края его теряются за горизонтами. И митрополиту вдруг делается ясным: ведь католики видят только горизонтальную линию этого креста, покрывающего всю поверхность земли, тогда как православные видят только вертикальную, ту, которая соединяет землю с Небом.
И в сравнительно немногих, но всеобъемлющих ярких образах митрополит Шептицкий рисует картину обеих психологий. Слышится голос католиков о социальном могуществе Церкви, о величии правового единства, возглавляемого римским Первосвященником; слышится голос православных о глубинах христианского чувства, об одной душе, могущей перед Божьими очами воссиять неизмеримо большей славой, нежели множество душ.
И вот, когда явственно начинает осязаться в статье нечто сверхпсихологическое, неожиданно меняется ее тон: митрополит граф Шептицкий, как будто сам попадает в тот психологический круг, в котором о только что упрекал католическое мышление. Он уже говорит об исторических причинах, об эволюции церквей в различных бытовых, политических, национальных атмосферах. Тысячелетний путь нужно пройти обратно, чтобы придти к единой Церкви IХ века. Бывают, однако, минуты, — пишет почтенный прелат, — когда в историческом ритме в один год человечество делает шаг, для которого потребны сотни лет. История знает эти вулканические извержения: нашествие варваров, переход от средних веков к новой эре, французская революция, революция русская… И как часто современники видят последний мировой катаклизм там, где зарождается семя новаго бытия. Семь веков потребовалось, чтобы привитый Константином церазепапизм привел к окончательному бедственному расхождению. Потребутся ли для обратного пути также семь веков?
И митрополит Шептицкий не сомневается, что отлив уже начался.
Как странно! Ведь нам только что казалось, что высокоталантливый автор статьи понял основное, понял дух православия, усмотрел эту невидимую лествицу, которая ведет из Православной Церкви в Церковь Небесную! Зачем же после этого исторический ритм? Зачем же бытовые, политические и национальные атмосферы? Как странно слышать о французской революции и о законах социологии…
И мне внезапно вспомнилась иная картина. Я вижу маленькую церковь среди выжженой, бурой кастильской пустыни. В чахлом саду, перед крытой галереей настоятельского домика со мной беседует старенький испанский священник. Он только что говорил мне о святой Терзе из Авила, о ее жизни с Богом, о ее провидении Бога даже в самых маленьких, незначительных вещах, о ее всегдашней осиянности божественным Духом, от которого солнце казалось тусклым. Он рассказал мне о Екатерине Сиенской, которая молила Бога убавить силу ее любви, об Ассизском Бедняке, для которого земля сливалась с небом.
А я взял и рассказал ему о посещении Мотовиловым Саровского Чудотворца.
Помню светлое лицо старика.
— Друг мой, — после долгого молчания сказал священник: — неужели вы думаете, что эти принадлежали к различным Церквам?
И вот теперь, глядя на эти номера изданий, где написано столько умных, ученых статей, где столь разносторонне, столь тонко освещены вопросы, глубокие вопросы богословия, церковной психологии, почему, спрашиваю, столь настойчиво вспоминается мне этот старый испанский священник?
Так ли? Путем ли богословских споров, путем ли глубочайших психологических анализов мы приблизимся к решению вопроса? На верном ли пути стоит? Ученейшим ли академикам-богословам поручим это дело? Нет ли во всем этом какой-то ошибки? Основной трагической ошибки?
И вот, смутно чудится еще иной образ. Там, «идеже празднующих глас непрестанный», — дух пресветлый того самого апостола Петра, того камня, о который столько сотен тысяч разбилось, который стольким тысячам тысяч послужил камнем соблазна и разделения, иным же камнем утончения, камнем прозрения. Того самого Петра, о котором одна милая прихожанка нашего храма воскликнула в порыве благочестивого неведения: «И на что он родился этот Петр, что столько из-за него споров!..»
Скажите, разве с этим пресветлым Петром, чей голос доныне «умоляет пастырей не господствовать над наследием Божиим, но подавать пример стаду», разве с ним не ликовствуют преподобные души святой Терезы, Екатерины Сиенской, батюшки Серафима Саровского, Сергия Радонежского Чудотворца?
А ведь у них были разные психологии!
Что же из так соединило, их, которые никогда не занимались вопросом Соединения Церквей? Их, чьи современники, как и в сей день, безрезультатно писали трактаты, то обвиняя друг друга в ереси, то изыскивая духовные 1компромиссы 0ради соединения.
И опять отвечает тот же апостол Петр: «Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу; потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией» (1Пет. 4:9).
И вот мне уже ясно, что трижды прав старенький испанский священник и, прежде всего прав, что, говоря со мною, любит меня. И те слезы, которые усмотрел я в глазах его, тому свидетели неложные. Эта любовь и открыла ему, где находится истинная плоскость, в которой происходит Соединение Церквей, может быть… произошло. Не там, где веками бесплодно ищут ученые богословы; там, где ежесекундно находят святые, а ведь только ими и ценна и жива Церковь.
И теперь я спрашиваю: — а любит ли нас митрополит Шептицкий, и любим ли мы его?
Много раз я присутствовал на съездах по Соединению Церквей. Вдел много почтенных католических деятелей, видел и самого митрополита Львова и Галича. Видел я много учености, много тонкой иронии, много юмора, много элегантности утонченной мысли, много блестящих мысленных фейерверков. Но люди и тут пытались тщетно, хотя бы из самых добрых побуждений, соединить Церкви в той плоскости, где они несоединимы. И нет сомнения, если в один прекрасный день это соединение произойдет по формальному призаку, результаты будут равны нулю.
И по всем этим причинам я уже не могу вдаваться в критический разбор статьи митрополита Шептицкого, и говорю совсем о другом, хотя еще раз утверждаю, что статья эта прекрасна, одна из лучших, что приходилось по этому вопросу читать.
Но хочется ждать и верить, что появится в некое время иная статья или иной голос, исходящий от кого бы то ни было, который прозвучал бы слезами искренней скорби о том, что «дети разлюбили друг друга», в то время как «мы имеем от Христа (все, кто исповедуем Его во плоти пришедшего) заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего» (1 Иоанн 4, 21).
И это есть единственная проповедь, та проповедь, которая Божией волей неизменно, во всех случаях, сопровождается знамением, ибо тому, кто свято любит, Бог кладет на лицо его печать, которую видят все.
Кто идет к ней, кто бежит от нее — мы знаем. И старенький испанский священник это также знает.
1927 г.
Антиминс
Хоть, говорят, другое было время и будто бы земля иная, люди были те же, и о них идет наша речь. Впрочем, и людей там, почитай, не было: из-под обугленных бревен ноги торчали, а то немногое, что осталось в живых, как-то в грудах мусора ютилось.
Третий месяц шел, как неведомо откуда прокатилась по земле Суздальской дикая волна. На низкорослых косматых лошадях и на верблюдах двигалось, ползло косоглазое людское море, и дрогнула, побежала Русь. И как неведомо откуда пришло в леса керженецкие, так и ушло неведомо куда бесовское воинство, и повисло в лесном смолистом воздухе страшное, доселе неведомое слова: таурмен — татарин.
И от тех лесов, что на всю Русь дышат сосновой прохладой, где сорок лет тому назад поселился иеросхимонах Софроний, до самого Суздаля — княж-города — мертвая легла пустыня.
Господь хранил старца. Слышал угодник Божий степное ржание тьмы коней, слышал в чаще лесов крики и говоры басурманские, слышал скрипучее пение повозок, треск сучей. Около самой кельи лесное пожарище пробушевало, только черное дымное облако скрыло келью. И когда замолкло все, вышел старец Софроний из кельи и вместо леса пни обгорелые и бесконечное поле увидел, и с поля едкий дым подымался.
Схимник перекрестил поле и к себе возвратился.
— Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит! — сказал схимник и сел корзину плесть. — Жили с лесом, поживем и с полем.
И вот время прошло, и как-то поздней ночью постучали.
— Мир ти, — сказал вошедший и низко поклонился.
— И духови твоему мир, — ответил схимник, — за кого Бога молить прикажешь?
Не отвечает гость, в углы косится: — брашно-то есть?
— Порыщь в печи, что найдешь, то и потребляй с Богом.
Распоясался гость, порылся в печи, нашел сухие лепешки и съел. Дочиста глиняную миску очистил. Поевши, повеселел гость Софрониев.
— Спаси Бог, святый отче, — сказал, — заутреню-то, чаю, служить будешь, аль прямо к обедне готовиться велишь?
Как на бесноватого вскинулся отец Софроний: — рехнулся ты, человек Божий? Да нешто здесь храм? Сорок первый год, как Церкви Божией своими очами не видывал. До ближнего храма шестидневен путь; оттоли поп прихаживал раз в лето бедню служить, а ныне… Господь знает.
А гость будто не слышит и в красном углу, помолившись, на армяке раскладывается. Зевнул громко: — Уморился с пути, — говорит, — соснуть охота. Уж не преминь, отче, правилце прочитать: заутра литургисать будем. На клиросе я тебе паче всякого певца воспою.
Звать-то как? — спросил старец.
— Федором, — ответил гость и заснул.
Дивится схимник, что за гостя такого Господь послал. Стал было лапти стаскивать, а у самого будто по телу зуд прошел: — а и стань на правило, стань на правило…
Свернул схимнк тряпки и на воглавие положил, а гость словно во сне бормочет:
— Аще обрящеши возглавницу мягку, остави ю, а камень подложи Христа ради; аще ти спящу зима будет, потерпи, глаголя: яко инии отнюдь не спят.
Устыдился схимник и тряпки в угол кинул.
— Бесы нешто, — подумал и перекрестился. И вот поплыло в памяти: «И постився дней четыредесят и нощий четыредесят, последи приступил искуситель»…
Сорок долгих лет пребывал отец Софроний в посте и молитве, и миловал Господь от рода сего.
Сорок дней провел Господь в пустыне, и не приближался искуситель…
— На сорок первый, — подумалось схимнику, и стало жутко.
Вспомнил себя еще юным диаконом, когда из родимого Киева пришел в Суздальскую землю к господину пресветлому великому князю Всеволоду Юрьевичу, и в Ростове великом граде рукоположил его владыка Мелетий, сам роду цареградского, во смиренные иеромонахи.
— Помни, Софроние, — сказал владыка в напутствие, — день ныне святого Феодора варяга, первомученика земли Киевской. Феодор же на языку цареградском — Божий дар есть. Се жалуется тебе дар Божий, Софроние, молитвами святого мученика Феодора.
Прошло время, и попутал бес. Вкусил иеромонах Софроний от сладкого меду в самую ночь перед божественной литургией и после сего литургию совершил и Святых Даров восприял.
Только на другой день, протрезвившись, к владыке пошел, что княж-городе Владимире в ту пору обретался.
Больно прибил его владыка кнутовищем и на тридцать лет к служению запретил. Посхимился тогда отец Софроний и в дремучие леса керженецкие ушел на великое молчание, и сорок долгих лет прошло.
Государыня матушка пустыня, что о святых почиваеши, похвала тебе! Государыня матушка пустыня, что грешников разумляеши, похвала тебе! Государыня матушка пустыня, что тлен умерщвляеши, похвала тебе! Государыня матушка пустыня, что дух восхищаеши, похвала тебе! Государыня матушка пустыня, что жизнь указуеши, слава тебе!
И не заметил, как уснул. Чудный сон схимнику привиделся.
Видит великий благолепный храм. Горят паникадила, свечи огнем потрескивают, ярым воском благоухают, лампады пред лики угодников теплятся, и полон храм народу самого разного, будто со всего мира христианского собранного. Стоят певчие на клиросах, дьякон с кадилом у жертвенника, и еще кто-то, только лица никак не разберет отец Софроний, а вот словно знакомое.
Священника лишь не видит отец Софроний и дивится: — как же без иерея служить будут?
И вот, подходит к отцу Софронию тот, чьего лица разобрать не может, бьет челом и благословения просит: — Честный отче, — говорит, — со всей Руси народ собрался к обедне, только Божьих иереев не осталось у нас долу. Сделай милость, пожалей народ православный!
И чувствует отец Софроний, у самого слезы навертываются; только не те, что в лесной келье проливал о грехах своих, а чище, слаще!
Помолился перед вратами.
— Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения, — сказал, принимая подризник от мальчика. И вдруг остановился.
— Обождите, отцы, братия, — сказал, правило-то не прочел…
Отошел к аналою и встал на правило.
Когда первые лучи ударили в келью сквозь щели и легли на полу золотыми полосами, проснулся святой схимник, стоя пред аналоем, и договаривал язык его последние слова: «Вечери Твоея тайныя, днесь, Сыне Божий, причастника мя приими…»
Гость сидел на скамье:
— Что ж, батя, благословишь службу править?
— Миленький, — сказал схимник, — и рад бы, да антиминса нет у меня, чтоб обедню служить…
Светит гость глазами:
— Нешто святость твоя, отче, антиминсом не послужит?
— Ой, молчи! — возопил схимник и задумался.
Видно, надоть в самый Суздаль княж-город али Ростов идти за антиминсом к архиерею… — сказал схимник.
— Пути твоего, старче, день тридцать будет…
— К зиме, ежели Господь сохранит и назад буду, — сказал схимник — и все, как во сне.
Взял дубинку, лапти, и сухие лепешки в суму сунул.
А гость говорит: «Отче святый, как лепешки-то уносишь, чем я кормиться буду до возврата твоего?»
Положил схимник суму на лавку и пошел, как есть.
И вот страшная, голая пустыня. Видит схимник леса порубленные, пожарища лесные, видит падаль конскую и верблюжью, видит кости человеческие, видит села пожженые, и ни души христианской. Великое свято-русское кладбище до краю земли раскинулось.
Пять, шесть ден идет святой схимник пожарищами, болотами, по пояс в трясину вязнет, кореньями питается, а как слишком подводить станет, Иисусову молитву шепчет.
И вышел к Волге. Пустынная течет великая река в великой пустыни. Нет в ней броду ни перевозу. Живой души не осталось.
Вопросил Господа схимник и в овраге до первых морозов поселился. И когда снегом покрылась земля и крепким льдом реку сковало, дальше пошел. На двадцатый день промеж сугробов крыши мелькнули. Миновала, видно, сила вражия христианское жилье.
— Куда идешь, странничек? — говорят ему.
— В Суздаль княж-город, православные, к господину архиерею-епископу, да на поклон ко пресветлому государю великому князю Всеволод Юрьевичу, обладателю земли Суздальской.
Смеются люди:
— Да князя-то Всеволода, странничек, тридцать лет, как в живых нет; Юрия Всеволодовича на реке Сити татаровья скромсали, а княгиню с княжатами да с владыкой Митрофанием в храме Божием живьем спалили… ныне князь Ярослав всеволодович под каблуком таурменским, почитай, на ладан дышит…
— Вот оно что, — сказал схимник.
— Видно с неба свалился странничек, — говорят люди, — князи-то наши хуже поганой татарвы пошли. Татарва пройти не успела — воеводы княжьи, дружинники нагрянули: подавай им до последнего. Бают: дань татарве платит. А нам что? Нешто мы их вои воевать просили? Самих побили, сами платите…
Дивится странным речам черноризец. Не по сердцу ему речь народная…
К Суздалю подходить стал, начали татарские воины на конях встречаться; странника не трогают, только промеж себя непонятное лопочут. Постучался иеросхимонах Софроний у врат монастыря, что под Суздалем на холме белеется. Встретил его старый игумен, и страшные речи услышал от него схимник.
— Нет больше земли Русской, — сказал игумен, — нет больше племени русского; всему конец пришел, сыновья наши и русскую речь позабудут. Нагрянули татаровья, взяли грады наши и пожгли, князей и княгинь поубивали, мужей и жен, и младенцев, чернецов и весь чин иерейский мечами рассекали, иных стреляли стрелами, иных в огонь вметали… С других сдирали кожу, иным иглы и щепы за ногти вбивали, поругание над черницами и попадьями, над женами и девицами пред матерями и сестрами чинили. В нашем Суздале княж-городе всех людей старых и трудоватых, слепых и хромых ножами иссекли, а юных да пригожих босых и беспокровенных увели в свои станы. Нет с той поры епископа-митрополита в земле Русской: мерзость и запустение и уныние великое.
Ушам своим не верит отец Софроний:
— Да как же, коль епископа нет, попов-то ставят?..
Вздохнул старец игумен:
— Как не быть епископов, не всех побили, да и не все в греческую землю утекли… иные, прости, Господи, вроде что, как бы с татарвой побратались… не понять мне…
— В Суздале-то, чаю, здравствует архиерей?
— Нет, старче, архиерея Суздальского. А вот, позапрошлым месяцем пришел во Владимир-град, Господь ведает откуда, епископ Роман, галицкого боярского рода, да Бог с ним, старче…
— Что такое?
Встал игумен, старцу в ноги поклонился:
— Прости, брат, согрешаю. Пьяница и непотребник епископ Роман, и не ведаем, кто его во святители ставил, и по какому праву на Митрофаниевой кафедре во Владимире уселся…
— А Ростов-то великий град?
— Ростовский владыка в Орду пошел с татарским князем ряды рядить… ой, старче, помяни слово мое: погибла земля русская, погибнет и церковь Божия…
— А как же Господь-то?
— Господь-то?..
Игумен наклонился к самому лицу Софрониеву:
— Слышно, брат, что Господь Бог люд православный вроде что живьем в Свое Царство переселяет… Ходят слухи, в Китеже-граде великое чудо случилось…
Поклонился схимник игумену. Проводил его игумен до самых врат и сказал на прощание:
— А может, какой угодник Божий сыщется, и спасет Господь землю… только мало их, старче, в наши дни…
И отправился схимник в самый Владимир.
— Чего тебе, чернец, нужно? — вопросил владыка Роман. И рассказал ему отец Софроний, как умел, про житие свое и во грехах покаялся.
— Антиминс тебе, вишь ты, — сказал владыка Ромн, — многого захотел, схимонаше; во грехе своем довольно ли покаялся? А что, ежели повелю тебя в сыр-подвал посадить, Господа умилостивить?
Говорит владыка, а сам отца Софрония за бороду дергает, по волосику вырывает.
— Твоя воля, святитель Христов…
И долгие, сырые, холодные дни потекли. Сидит в глубоком подвале иеросхимонах Софроний, руки и ноги в цепи закованы.
Зазвенели ключи, затрещали, запели засовы, петли крякнули, и ударило в глаза светом.
— Вставай, поп, владыка кличет.
Повели старца.
Видит Софроний, глазам не верит, — сидит в горнице владыка, развалился, а кругом люди в парчовых кафтанах, вороты порастегнуты, у иных головы плоские, глаза раскосые. Гогот идет, крик хмельной стоит, а у владыки лицо красное, как свекла.
— А ну-тка, святый отче, Божий мучениче, пройдись в присядку промежь столов!..
Повалился старец архиерею в ноги:
— Помилосердствуй, владыко святый, отроду не плясал!..
— Вишь, чернец упрямый, — загоготал большой протопоп соборный, а толстый боярин — хвать старца за волосы пошел подергивать: Батенька, поскачи, Батенька, попляши!..
И пошла вокруг пьяная свистопляска. И кто-то ногой в спину пихнул, и почти что замертво старца в погреб отнесли.
Взмолился Господу иеросхимонах Софроний: «Господи! Что ся умножиша стужающии ми, мнози восстают на мя!»
И вдруг вспоминается, словно живой, странный гость Софронев: «Нешто святость твоя отче, антиминсом не послужит?» светит пречудными глазами гость.
— Господи, неужто из рук непотребника повелеваешь святой антиминс принять? — слезно возопил отец Софроний, и скребуче сомнение поползло в душу.
— А не из рук ли Иудиных крестное торжество Господь стяжал? — шепнул кто-то.
— Истинно, Господи, изыди, сатана! — твердо сказал узник и успокоился.
Сколько еще дней сидел, Бог сосчитывал. Выйдя на свет Божий, глядит метелью заносит.
— Преподаю тебе, иеросхимонахе, отпущение грехов, снимаю с тебя соборным решением запреты великие и прещения; жалую тебе святый антиминс с мощами первомученика земли русской Феодора, — встретил схимника благостный итихий владыка Кирилл, законный митрополит Владимирский всея Руси. — А за собрата нашего, за епископа за Романа, что яко тать и разбойник во двор овчий забрался, великое у тебя прощение испрашиваю…
Поклонился старец в ноги митрополиту, принял святыню и пошел.
Волки в лесах выли, метель крутила, снег глаза запорашивал, мороз кости сводил. На лыжах днями и ночами пробирался старец с великой святыней на груди. Дал бы Господь до оттепели Волгу перейти.
И прешел Волгу, и пригревать стало, заблистал снег синими искрами, а из-под снега ручейки побежали. Видит, и сердце радуется: места знакомые, только молодым ельником по пояс поросли. Неужто домой добрался?
Кончился ельник. Господи, да что же это?
Смотрит: за новеньким частоколом белый храм высится. Огнями горит, разливается золоченый купол. Видит, люди суетятся, ему в пояс кланяются, и все они — светлые, красивые, радостные…
И пробудилась пустыня снежная голосом медным, и запели серебристые подголоски. Загудел благовест: заклепали в многие била.
Смотрит отец Софроний, — над вратами вяз золоченая из посланий апостольских: «Послушлив же был до смерти, смерти же крестныя».
Входит отец Софроний. Видит великий благолепный храм: горят паникадила, свечи огнем потрескивают, ярым воском благоухают, лампады пред лики угодников теплятся, и полон храм народу самого разного, будто со всего мира христианского собранного. Стоят певчие на клиросах, дьякон с кадилом у жертвенника и еще кто-то, только лица никак не разберет отец Софроний а вот словно знакомое.
Только священника не видит отец Софроний и дивится: «Как же без иерея служить будут?»
И вот подходит к отцу Софронию тот, чьего лица разобрать не может, и бьет челом, и благословенья просит: «Честный отче — говорит, — со всей Руси народ собрался к обедне, только Божьих иереев не осталось у нас долу. Сделай милость, пожалей народ православный; отслужи литургию во имя святого мученика Феодора Киевского, ему же и сей храм возведен.
И увидел отец Софроний своего странного гостя, и нечего отцу Софронию спрашивать.
— Правильце-то след почитать, — говорит схимник.
— Правильце твое давно Богу исправлено, язвами цепными на руках твоих написано
Облачился отец Софроний, совершил проскомидию.
— Бла-го-сло-ви, Вла-ды-ко!
— Благословенно Царство! — запел отец Софроний, и залились на клиросах голоса ангельские.
Служит старец с ангелами литургию, слушает пение херувимово и самому чудится, будто в воздухе все повисли, и слезы градом из очей Софрониевых льются.
И отошла литургия. Идет отец Софроний из храма… что такое?
Стоит посреди своей кельи в своем стареньком облачении. На столе антиминс свернут. Горят тускло две лучины; на другом столике деревянные сосуды, что по дороге у игумена Суздальского испросил. Позади гость стоит странный.
— С праздником, отче! — говорит.
Одет в армяк, как в ту осень.
— Дождался тебя, святый отче, улыбается гость, — отслужили с тобою обедню, причаститься от тебя удостоился.
Молчит отец Софроний, вышел из кельи. Глубокий снег и следы лыжные, и ни души.
Вернулся в келью — никого.
— Феодор, а Феодор!
Как ни бывало.
Только антиминс на столе, и потрескивают лучины.
К ночи, тихо преставился святой схимник, иеросхимонах Софроний, а в ангельских мирах благая весть прошла: не погибнет земля Русская, ибо великий преставился Господу подвижник, и за окаянный свой народ оправдался.
1926 г.
Торжество Ангелов
Звезда бо от звезды разнствует во славе (1Кор. 15:41)
Это имение пожаловано Фердинандом Арагонским одному из предков Хуаниты. В старинной дарственной грамоте именуется оно «Торжество Ангелов» и с тех пор сохранило имя.
Издали, это беспорядочная груда кубических бурых камней с квадратной башней среди сожженной, мертвой Кастильской степи застывшей угловатыми каменными волнами. Там несколько тополей пепельно серых. Кастильская степь сторожит молчание и в «торжестве Ангелов» никто никогда не говорил громко.
Хуанита с шести лет — единственная хозяйка; в доме была при ней старая тетка донья Энкарнасион, которая никогда не улыбалась и аббат дон Эузебио, который всегда молчал.
Около чугунных ворот усадьбы, на перепутьи трех дорог есть крест выше тополей; вечером тень его убегает в степь. Когда Хуанита была маленькой, она боялась этого креста, но украдкой прибегала с цветами к его подножью. Ханита думала, что этот крест Тот, настоящий; поэтому и страшилась дотронуться.
Когда Хуаните исполнилось семнадцать лет, тетка и аббат велели ей надеть лучшее платье и идти в оружейный зал со сводами, где Хуанита была только раз, потому что зал был заперт.
Аббат развернул желтую бумагу с гербами и сказал: «Это воля покойного маркиза», — а тетка закрыла глаза.
Аббат продолжал: «Дон Эзекиэль Убаго де Эчаварриета ваш будущий муж».
Хуанита не мыслила мира вне «Торжества Ангелов». Когда ее увозила тетка, она не плакала. Закоченела будто. Перед самым выездом впервые рукой до креста дотронулась осторожно: крест теплый. Хуанита, конечно, не обратила внимания, что с зенита пудовым зноем палило июльское солнце, но и не удивилась, потому что не допускала мысли о холодном кресте.
Зимой в степь с Гударрама ледяной ветер дует; летом пустыню выжигает чудовищное солнце. В «Торжестве Ангелов» никогда не было весны.
Когда Хуаниту увезли, дом заколотили, тетка умерла вскоре, а аббата за ненадобностью отправили в монастырь.
Зачатие Иеронимово. На этой улице Мадрида дом, сложенный из тяжелого камня. Этот дом построен при Филиппе IV. Тогда жили Веласакес и Торквемада.
С улицы: серо-бурая стена и пять высоких окон за тяжелой чугунной решеткой. Вроде балкончиков между окнами и решеткой. Дверь дубовая, окованная медью, и бронзовая рука на двери в панцырной перчатке. Этой рукой надо стучать, и тогда глухие удары во всем доме слышны.
Комнаты огромные и почти пустые. Распятья со стен созерцают каменные полы. Шаги отдаются в потолке гулко, и идет долгий трескучий шорох.
Посреди дома — дворик с фонтаном и мирты. Вода не бьет, а сочится и разбегается по желобкам из желто-синей керамики.
Когда Хуаниту привезли в этот дом, ей было семнадцать лет, а дону Эзекиэлю — сорок пять. Дон Эзекиэль — отставной гражданский губернатор Арагона. Хуанита с первого дня испугалась его желтых глаз и остроконечной бородки.
На следующий день после свадьбы дон Эзекиэль сказал: «Ввиду того, что я обыкновенно обедаю в клубе, желательно ли вам иметь dame de compagnie?
Тогда Хуанита чуть испуганно поглядела на него, и испуганное выражение застыло на ее лице навсегда.
Через месяц она робко спросила: «А что, если навестить «Торжество Ангелов»?
Дон Эзекиэль, не поворачивая головы, ответил: «Этот сарай я продал; мы приобретем виллу у моря».
Он не повернул головы и поэтому не видел, как Хуанита побледнела смертельно. Только на следующий день за ужином он спросил: «Вы, кажется, нездоровы?»
От спальни Хуаниты вторая комната — капелла; она посвящена Непорочному Зачатию Пречистой Девы. Там Хуанита любит проводить время и украшать статуи миртами. Там мерно идет особая жизнь, о которой тихим шепотом передает Хуанита своему древнему духовнику.
Дон Эзекиэль туда не заходит. Говоря о религии, он делает покровительственное лицо и замечает: «Долг всякого государственного человека — уважать и содействовать религии, ибо в ней залог общественного порядка».
С тех пор, как увезли Хуаниту из «Торжества Ангелов», она разучилась плакать. Заплакала она в первый раз на склоне дней, и произошло это так: дона Эзекиэля, который уже восемь лет в параличе, привезли из клуба, и он послал за женой.
— Сядьте, — сказал дон Эзекиэль, когда Хуанита вошла в кабинет.
Дон Эзекиэль объявил: «Я предполагаю ликвидировать лошадей и приобрести автомобиль».
Тогда с Хуанитой сделалась истерика, и дон Эзекиэль в первый раз смягчился. Вероятно от удивления.
Осталось старое лондо и две розовые лошади.
На следующий день в жизни Хуаниты произошло большое событие. Рано утром она вызвала своего старого духовника для исповеди. Священник заметил сразу, что руки Хуаниты холодны, и губы вздрагивают.
Когда Хуанита произнесла первые слова, все тело ее дрожало.
— Отец мой, я виновна в тяжком грехе…
Священник выжидал молча.
— Отец мой, мне страшно… мне страшно молиться Богу… Я иновата перед доном Эзекиэлем…
— Давно? — спросил священник.
— Давно.
Лицо старого духовника потемнело: «Да, это тяжкий грех…»
И, помолчав немного, спросил чуть слышно: «С кем же, дитя мое, вы изменили синьору?..»
Хуанита нервно выпрямилась: «Как!.. Вы могил подумать?!..»
Священнник вздоргнул от этого восклицания. Недоумевающе он поглядел на свою духовную доочь: «Так что же, что же тогда?..»
Лицо Хуаниты было мертвенно.
— Отец мой, я слишком долго скрывала от Бога и от вас, что мне… плохо в этом доме…
Если бы Хуанита подняла голову, от нее не утаилась бы тонкая улыбка на губах священника.
— Дочь моя, я давно это знаю, и Господь также, — тихо и участливо сказал патер, — успокойтесь…
— Но разве это не смертный грех? — широко открыв глаза, прошептала Хуанита. — Ведь я роптала против дома моего мужа!..
— Чего же вам хотелось?
— Торжества Ангелов…
Старик не понял слов Хуаниты, и потому в глубоком волнении воскликнул:
— Верьте мне, ангелы торжествуют, взирая на вас!..
В свою очередь, вряд ли Хуанита поняла слова священника. Но почему-то с этого дня ей стало хорошо.
Когда дон Эзекиэль умер, Хуанита решила съездить туда, где протекло ее детство, но, подойдя к коляске, вдруг остановилась и сказала: «Нет, не надо».
Теперь Хуанита — пожилая дама. Ее можно видеть по воскресеньям в соборе Nuesta Senora de Atocha. Она всегда одета в черное и держится прямо. Лицо ее бледно и строго; странный контраст — чуть испуганные глаза.
В доме на Иеронимовом Зачатье всегда тихо. От крикливого Мадрида ограждают толстые камни. Те же самые, что в Кастильской степи сторожат молчание.
1925 г.
Неотосланное письмо
Вспоминается мне, как, возвращаясь с одной требы, пришлось нам пробираться чере центральную часть города. Было около двенадцати часов горячего летнего дня, тот самый час, когда главные улицы больших европейских городов закипают стремительными круговоротами людей и железа. Нелепыми и лишними, вероятно, казались мы в наших широких рясах, созданных для степенной и неторопливой жизни… С двумя клетчатыми узелками шел с нами псаломщик; в узелках были завернуты наши облачения, сосуд со святой водой и кропило.
На углу большой улицы, где в этот час образуются заторы и звериным ревом ревут автомобильные гудки, пришлось остановиться, ждать, пока властная рука в белой перчатке не отановит сплошного громыхающего потока металлических самокатов.
— Обратите внимание, — сказали вы, — каждый раз, как я прохожу здесь, невольно останавливаюсь. Посмотрите на эти два мира…
Я стал смотреть. По той стороне улицы тротуар был пуст. Там тянулись строгие, серые здания и на них лежала печать ветхости и умирания; по стенам змеились трещины, штукатурка во многих местах облупилась; почерневшие от времени высокие двери, как будто никогда не отворялись. Это — дворцовые и правительственные учреждения; только пристально вгядываясь, возможно было различить коронованные гербы. Как-то было ясно, что все это уже никому не нужно.
Зато здесь, по этой стороне трескучего потока, кипело и бурлило: крутились и шипели огромные зеркальные двери, принимали и выбрасывали сплошные толпы озабоченных торопящихся людей. Дома были новые, свежие, самодовольные и великолепные. На мгновение почудилось мне, что лицо их (а у них всех было одно лицо) до жуткости похоже на лица каждого из толкущихся. Сквозь зеркальные стекла виделись мраморные залы, и в них такой же неудержимый человеческий поток. Здесь были здания банков и биржевых учреждений. Отсюда было жизнью и властью, как будто здесь решалась судьба земли.
— Мне давно хочется, — сказали вы, — чтобы кто-нибудь объяснил, кому нужна царственная роскошь на этих великолепных уродах? Тем ли, которые сидят там и ничего не видят, кроме бесконечных цифр, или же тем, которые туда приходят с единым желанием поскорее получить, что нужно, и уйти?
Я смотрел сквозь большие окна на яшмовые колонны, на потолки, выложенные богатой мозаикой. С этих потолков спускались массивные бронзовые люстры, которые, вероятно, почти никогда не зажигались, потому что банки закрываются не позже пяти часов. Не знаю, почему, но мне отчетливо и явственно казалось, что эта роскошь предназначена не для человека.
Некоторые люди, говорят, по нервности боятся темных комнат. Вероятно то, что я испытывал здесь, было в этом же роде. Странно, еще до бегства из той страны, которая теперь на месте России, когда мне приходилось бывать в их учреждениях или сидеть запертым в подвале, меня всюду преследовал неуловимо тонкий и скользкий запах. Когда я вспоминаю об том запахе, мне всегда кажется, что я перед обмороком. Так вот, здесь мне померещился тот же запах. Возможно, что именно поэтому стало жутко.
— А не думаете ли вы, что это он требует роскоши? — сказал я, отвечая на ваш вопрос и на свои мысли.
Рука в белой перчатке повелительно взмахнула в воздухе. Послышался визг многих сотен тормазов. С толпой пешеходов мы поспешно перешли улицу и повернули в узкий боковой переулок, зажатый между двумя закопченными стенами. Здесь, в этой деловой части города нас оглядывали с видом снисходительного сожаления; иногда за спиной слышались смешки. Это ведь было так естественно: что может быть для делового человека более ненужного, более досадного свей бесполезностью, нежели священник?..
Переулок выводил на старинную площадь, где высилось строгое здание готического собора.
— А вот третий мир, — сказал я, — который многим ещё более ненужен, чем те сырые облупившиеся здания, в которых наши отцы и деды видели символ земной мощи и земной справедливости. Посмотрите на этот собор, в который тринадцатое и четырнадцатое столетия вложили все, что они могли вложить, чтобы воспеть хваление Творцу и дать человеку прибежище. В течение дня вы увидете там нескольких старушек, которым все равно идти некуда или любопытных путешественников. Между прочим, мне недавно рассказывали, что в одной из газет возмущались количеством места, занимаемым этим собором, в то время как в городе столь дорога земля. Предлагали будто бы снести эти боковые постройки, которые не нужны, потому что построены в 18-м столетии и не гармонируют с общим стилем…
— А разве вам ещё не известно, — отвечали вы, — что церковь всегда мешает? В особенности если это церковь христианская… Поверьте, была бы здесь площадка для футбола или помещение для танцев, никто бы не вспоминал о дороговизне городской земли…
Помнится, мы долго стояли перед собором. Молчаливый и сосредоточенный он как-то поражал своей одинокостью. Как-то обидно было и жутко смотреть на эту громаду, где каждый камень положен с молитвой в то недолгое на земле время, когда человек не умел отличать созидания прекрасного от славословия Богу. Жутко сознавать было, что эту рукотворённую каменную молитву беззастенчивые глаза мира разглядывают в лучшем случае, как архитектурный шедевр. И только. Такое же произведение искусства зодчих, как античный цирк, палаццо флорентийского авантюриста, пусть даже эллинский или египетский храм.
В себя ушёл христианский собор, внутрь себя обратил свои очи. Стыдно ему, непонятно ему и больно, что его созидатели могли назвать возрождением то время, когда людям надоел Христос?
Однако назвали и порешили снова жить без Христа; постановили загнать своего Спасителя на задворки своего человеческого царства.
«Уйди — сказали, — не мешай нам жить по-своему. Мы не хотим видеть твоего лица, потому что лицо Твоё — один постоянный укор. Мы хотим жить, как жили древние, не знавшие о грехе, о которых Ты Сам сказал, что не виновны. Зачем же Ты пришёл и открыл грех? Уйди, уйди скорее». И Христос ушёл.
Между тем, в церквах продолжали читать о том, как ушел Господь из пределов Гадаринских, когда предпочли Ему свиное сало; о том, как ушел в тот день, когда «совет сотвориша вси архиерее и старцы людстии на Иисуса, Яко убити Его», а народ предпочел Ему Варавву. Люди ще продолжали не есть мяса в страстную седмицу; но все то не помешало гикам и покиваниям, когда Сын Божий пошел на новое духовное распятие.
Вновь изгнанный человеком, Царь мира, ради человека Своего мучителя покорно согласился жить на задворках человечьего жилья. Торжествующее Возрождение властно указало Христу Богу то же место, где Он был в ночь Свего пришествия к людям, когда для Царицы Небесной на всей земле не оказалось места, кроме стойла для бессловесных.
Воистину трудно вообразить себе более жуткую картину, чем этот вечер в Вифлееме Иудейском накануне Рождества Христова: толкущаяся грязная толпа грубых галдящих людей; ругань и брань стоят в воздухе, как это всегда случается при больших народных скоплениях, когда все устали, все раздражены, все требуют отдыха, а места не хватает. Локтями отпихивают Пречистую Марию с ее драгоценной ношей. Святое семейство попадается людям на пути и вызывает в них ожесточение. Всякий стремится оттеснить в сторону святую Богоматерь с Иосифом, чтобы достигнуть первым ночлега, захватить себе свободный угол и не оказаться тем, кто бы уступил ей место. Думается, даже явление небесного ангела не смягчило бы толпу, где каждый только и думал захватить для себя удобное место.
Но ангел не явился, и ничего не было в святом семействе, что могло бы отличить его от всего иудейского сборища, прибывшего в Вифлеем. Что же сказать о толпе христиан времени Возрождения, которые решили оттеснить Христа со своего пути, когда не только ангелы являлись во всей своей славе, но Сам Господь явил миру Свое воскресение из мертвых?
— Посторонись, не мешай нам идти, — кричали на Господа люди, — мы не позволим никому становиться на нашем пути!
И Христос, Который бережет, как неоценимое сокровище, свободу человека, кротко ответил:
— Хорошо, Я посторонюсь, идите…
И, как только ушел Христос, мир начал жиреть; стал покрываться лоснящейся красной кожей, и сквозь красоты и великолепие Возрождения выглянуло брюзглое, слюнявое лицо сластолюбивого античного чревоугодника. Взрывом восторга встретили оживший труп; Решили, что с этим наступит золотой век. Постарались сделать все возможное, чтобы забыть Христа, и сделали страшное дело: античному уроду стали приносить с одинаковым вдохновением похотливых венер, апофеозы чревоугодия — изображения базарной снеди и… Голгофские страдания. Христово Евангелие стало таким же сюжетом для творчества «возрожденных людей», как смакование вакхического срама. Те же люди, той же кистью писали Христов лик и голых вакханок, и все это с тем же чувством посвящали новому божеству.
Прошло несколько столетий, и распухший со времени Возрождения мир — лопнул. Вошедшему под знаком «красоты» дьяволу потребовалось несколько столетий, чтобы растлить тех, кого он соблазнил. Очень скоро в красоту перестали верить, потому что увидели ее оборотную сторону. К красоте, выросшей в великолепие, стали относиться враждебно. То, что называют французской революцией, было громовым ударом по торжествующему культу великолепия. Когда с эшафота скатилась голова невинной жертвы, заплатившей за Возрождение, голова короля Людовика, произошло еще одно событие, которое заметили не все и не сразу: рухнул и в пыль разбился истукан оборотня Диониса с брюзглым слюнявым лицом сластолюбивого античного чревоугодника.
Сатана, связанный страшным и непостижимым законом своего вечного самоистребления, захватывая невинных жертв, яростно истреблял свое собственное создание.
Человечеству (тут впервые заговорили о человечестве) кто-то шепнул, чтобы оно искало спасения в знании. Все узнать, все измерить, все вычислить — и человечество спасено. До всего дойти своими человеческими путями, подчинить мироздание неумолимой логике своего человеческого рассудка, заковать Бога (если какой-либо отвлеченный Бог еще существует) в непреложность и неподвижность Его же собственных законов, подчинить Творца твари, сделать Его частью природы, поставить Господа и Создателя Вселенной в зависимость от человеческой мозговой ограниченности.
Тот, кто шепнул, слишком хорошо знал одно из свойств человека: стоит только заставить его приложить свою мозговую мерку к тому, что выскальзывает из круга мозговых понятий — человек принимается исступленно отрицать. Сначала сатану, потом Бога, потом, непременно, — самого себя. А здесь дьявольская цель достигалась.
Сатана сделал немногое: он просто внушил, что понятие божеского и вечного вполне умещается в человеческом круге понятий, который есть и Бог, и вечность, и дьявол. Результат сказался тут же, потому что понятие о нем самом немедленно стало относительным. Он оказался не вечен, не реален. Этим он открыл себе новые пути.
Вот что записал сатана в своем дневнике: «До смешного они стараются переотрицать друг друга, и мне известны случаи, как некоторые из них вообразили уже самих себя относительными. Во всяком случае, я не думаю, что мне придется беспокоиться до той минуты, когда кто-либо из них не догадается наконец, что величайшая победа черта — заставить отрицать самого себя».
Но вот, в то самое время, когда он писал эти строки, нюх его уловил нечто не совсем обычное. Пристально вперив глаза в землю, он увидел двух древних старичков на разных концах христианского мира. И вот, как только открывают уста старички или становятся на молитву, туман заволакивает глаза сатаны, и нет сил его рассеять.
Померещилось вдруг, что земля совсем маленькая стала, а старички с двух сторон ее в руках держат и к сердцу прижимают; дуют на нее, словно согреть хотят, и обливается земля их слезами. И кажется: еще немного, и всплывет она в слезах.
Топну ногой сатана, и страшная мысль дух прорезала: «Неужели опоздал?.. Если только эти старцы прежде него украли мир»…
Это было время, когда за гибнущую землю, на двух концах христианского мира, молились преподобный Серафим и Арский священник.
Взором ужаса следил сатана. Чуял: борьба идет страшная, и вот еще миг, и вознесутся старцы, и земля с ними.
И вдруг усмехнулся. Старцы вознеслись без земли. Победила людская злоба. Расчет дьявола был пока что верен.
Люди, подчинившие в своем представлении Творца твари, очень скоро убедились в тварной немощи, сочли немощным Бога и перестали в Него верить; так же, как несколько столетий перед тем, перестали верить Христову пути.
Однако не спасло и знание, как не спасла красота. Человечество запуталось в своей ограниченности и никак не сумело разобраться, кто же ограничен: мир или человеческий мозг? И вот, почти две тысячи лет спустя после Христова пришествия на землю, открыли великую истину, что ни красота, ни нание не спасут, если не изменить как-то… хотели было сказать: «человека», но опять кто-то подсказал: «человечество». Сделать какие-то огромные перемещения, написать много листов буаги и назвать это новыми законами и конституциями, собирать собрания, богатых сделать бедными, бедных — богатыми, белых черными, черных белыми, подчинить немногих многим, или многих немногим. И когда из этого опять ничего не вышло, и опять все окончилось кровью, когда из-за самого понятия «человечества» проглянула оскаленная пасть зверя, осторожно некоторые заговорили о человеке, и даже кое-кто воспомнил о Христе, и боязливо осмелился предположить: «А что, если Он был прав»?
Вспомнили, но поторопились тотчас же поправиться: «Да, о Иисусе Галилейском, о великом Учителе, но только не произнося ненавистного миру слова — церковь». И развалившийся в кресле человек решил, пожалуй, кое-что пересмотреть из учения Галилейского Учителя.
И пока все это происходило в передних залах мира, на задворках людского царства, куда мало кто заглядывал, неугасимой лампадой продолжала ровно светиться Христова Церковь. Там все было ясно, все понятно, тихо и невозмутимо. Там хранился мир, который Сын Божий принес с неба; там была тишина, потому что там была Божия Церковь — согласный собор святых Божиих угодников, которые знали, что для спасения мира нужно только одно — любить Христа. Там ежедневно приносилась бескровная искупительная жертва; туда дьявол не имел доступа. Туда притекали со всех концов земли труждающиеся и обремененные, которым в мире, как Христу, не было места; но не успевали переступить этих мирских задворок, как превращались они в сияющий чертог, и оттуда открывался свободный путь в живую вечность. Там вместе с этой живой вечностью, с Церковью вечно живущей, они не переставали молить Христа не покидать мира. Они молили Его о гнавшем их мире, потому что сами были такие же, как Христос. И ради их молитв мир существовал.
— Нет, нет, а как же эти вечные распри в церкви? Какой же мир, какая же тишина, когда церковь не переставала раздираться своими раздорами? Какое же это Христово царство? — сколько раз задавал себе этот вопрос сатана, а за сатаною — люди. Но ведь бес одного не знает, и эти люди — также: не знают, не знали и, может быть, никогда не узнают, а если узнают, то не поймут, что в Церкви борьбы быть не может, и все, что они видят, происходит только на внешней стороне церковных стен. В непостижимой глубине светится непорочная Христова Церковь, куда взоры их не достигают. Светится в сердцах Божиих детей, в дальних обителях, в скорбных душах, в незаметных семьях; светится на церковных престолах, в неизреченных глубинах совершаемых таинств. И нет такой силы, которая бы проникла туда; разбивается всякая сила о несокрушимые стены Нового Иерусалима. Самая ожесточенная, самая яростная борьба творится именно там, на стенах церковной ограды. Всей мощью своей хлещет прибой мира о церковные стены и разбивается, и стонет так же, как эти химеры, застрявшие в камнях церковных стен. Нет, в Церкви борьбы не бывает; всякая церковная вражда — только крик химер на церковных стенах.
Вот о чём думалось, глядя на христианский собор затерянный среди языческого мира.
Не подумайте из слов моих, что хочется мне во что бы то ни стало утверждать, что средние века были эпохой христианского совершенства. Утверждать такой вещи нельзя. Ни для кого не тайна, что и в средние века, и в те немногие столетия, что им предшествовали в христианской эре, даже в 4 веке, когда десятилетия не проходило, чтобы где-нибудь не просиял новый подвижник, когда, словно чудными цветами, покрывалась земля Божьими угодниками — зло не прекращалось. С этим нельзя не согласиться, но и другое следует помнить: в эти времена, именно в эти, люди стремились, плохо, быть может, но все же стремились создать человеческое общество Христовым именем. Христос Бог и Его Святая Церковь были на первом, на почетном месте. Так было на востоке, так было на западе; а этого-то пуще всего боялся враг человеческого рода.
Что, если эти грубые, невежественные люди, недавние язычники, иные недавно пришедшие из лесов, неумело, неуклюже, но все же Христа приявшие и верующие Ему, вдруг добьются своего и создадут на земле с Божьей помощью Христово царство? Что тогда делать дьяволу?..
И сатана решился идти напролом. Знал ведь, как мы теперь знаем, что то драгоценное здание христианской Церкви, которое мы получили на свое попечение, почти целиком создалось именно в то время, которое закончилось мраком Возрождения. Знал сатана, что слишком много святости было в воздухе, потому что люди в Бога верили, знали, что Бог — это Христос, а дом Божий — святая Церковь. Эта Церковь наполняла собою жизнь, повсюду проникали её лучи, и могла наступить минута, которую так жаждал Иоанн Златоуст — когда «домы станут церквами».
Отравить воздух и рассеять святость — вот что требовалось дьяволу. Он принялся искать уязвимое место и нашёл. Нашёл то место, через которое было возможно поражать верующий в Бога христианский мир.
И вот, глядя на всё это, мне почему-то делается ясным, что ведь мир-то не ограничивается тем местом, где живём мы и небольшой круг однородных с нами людей; что между нами и «тем» есть какая-то постоянная, невидимая внутренняя связь. И еще стало ясно, что как ни далеки мы с вами от всего этого внешнего, чуждого мира, а ни «им» без нас, ни нам без «них» не прожить. И до этих банков, что мы видели, и до этих уходящих в прошлое серых зданий, и до этих улиц чужого мира, и до этого готического собора чужого исповедания — нам есть дело. И большое дело. И то самое, что от этих банков исходит тот-же запах, что от тех мест, где, как будто бы, эти банки более всего ненавидят, и то, что в этом соборе, где сходятся люди, почитающие нас часто отступниками и врагами, живет и пребывает Тот же Христос, Который повсюду от всех просит того же и Которого всюду одинаково гонит мир — все это, как будто бы чуждое и не наше, каким-то внутренним образом озарило свое. Чужое за свое ответило. Вот почему я начал письмо с воспоминания об этом летнем полдне, о котором вы, может быть, уже позабыли.
Думается мне, что вы достаточно хорошо осведомлены о многочисленных вопросах, которым столько трудов посвящено было за последнее десятилетие в нашем русском мире изгнания. Думается, что подобно каждому из нас, глядя на все это, вы нередко задавались волнующей мыслью: правда ли, означает ли все это, что наступила, наконец, долгожданная пора, и русское общество, прошедшее через страдания, увидело истинный свет и обратилось в согласный собор православных христиан? Наступило ли время торжественного благовеста великой победы? Есть ли все это верный залог возрождения христианства хотя бы в нашем русском мире?
Еще недавно я старался как можно внимательнее перечесть все, что было написано по этим вопросам; старался увидеть, прочувствовать во всем этом истинное пробуждение Христова духа, истинное воскресение Христовой согласной общины. Хотелось уверовать, что поворот совершился, и люди двинулись навстречу Христу.
О чем же говорилось больше всего в этих писаниях, где сквозило столько знания, столько учености, столько разума? Говорилось, главным образом, об отношениях, долженствующих установиться между Церковью и государством, между философией и христианством, между православием и социальным порядком; разбиралось, должны ли христиане интересоваться общественной жизнью — политикой; следует ли им заниматься строительством христианского общества людей или же, памятуя Апокалипсис (зная, что мир все равно останется миром, а спасутся избранные), уйти в свое внутреннее христианство, не заботясь о жизни мира; спорилось о том, хорош или плох был «константиновский период», когда христианская вера, взятая под защиту земной власти, будто бы приобретая в количестве, стала терять в качестве; говорили о том, желательна ли опять эта защита или предпочтительнее Церковь гонимая; нужно ли бороться с миром, стремящимся поглотить Церковь, или, ища совершенства, «бежать в горы» и молиться о спасении своей души; нужно ли каждому стремиться к совершенству Серафима Саровского и в тишине создавать в себе духовного человека, или, уповая на Божие милосердие к нашей немощи, таковыми, как есть, вступать в духовную брань.
О, каким холодом веяло от этих рассуждения!.. Как бывает в сырой нетопленной комнате, когда сводит пальцы на ногах… И чем болше, чем дальше читал я, тем холоднее становилось на душе. И вот теперь, озадаченный всем этим, я хочу задать вам один вопрос: «Не думаете ли вы, что все рассуждения о «христианстве и…», о «соотношениях христианства с чем-либо иным» являются каким-то странным недоразумением? Что все это излишне, преждевременно и ненужно, пока не пронизано одним единственным вопросом: «А любит ли человек Христа и отдает ли Ему с радостью всего себя телом и душою»?
Ведь от этого вопроса зависит все.
Может быть, нам скажут, что это подразумевается само собою; что не станет писать и говорить о христианстве не отдавший себя всецело Христу? Нет, не подразумевается. Ежели подразумевалось бы, то не веяло бы холодом.
Когда блудный сын возвращается к отцу, разве же о том он думает, каковы соотношения между отцом и его подчиненными, или домом отца и тем обществом, что его окружает? Да нет же! Он просто кричит: «Отец мой, я люблю тебя, потому что я сын твой»! И об этом говорит всякому встречному, потому что не может говорить о другом. Вот отчего, вероятно, и угодники Божии меньше всего писали и говорили о всех этих холодных вопросах и на самых вершинах святости не переставали взывать о любви к Христу. И не находили, что это недостаточно.
Разве не ясно, что все вопросы, как отношение Церкви к государству, отношения между количеством и качеством, между христианством и политикой, противлением или непротивлением злу — все это только жизненные следствия степени человеческой любви к Христу? Какова любовь, таковы и отношения, таковы и следствия. Те следствия, что возникают мгновенно и о которых предрешать заранее нельзя и нет смысла. Нужно ли повторять об этом после двух тысяч лет христианской истории?
Нужно ли говорить о том, что жизнь мира многогранна, что «ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам», что христианство не пришло в мир, чтобы сделать всех людей одинаковыми, что жизнь будет всегда идти по законам многообразия, что человек, призванный к общественному строительству, всегда будет строить, а призванный к молитвенному созерцанию — созерцать, и что все это хорошо, и что требуется только одно — чтобы сам-то человек был Христов.
Антоний великий был пустынником и через пустыню шел к Христу. Василий Великий был строителем церковного здания и через строительство шел к Христу. Константин великий охранял это церковное здание и через эту охрану шел к Христу. Всех троих назвала Церковь «великими» и уже наверное никогда не раздумывала: что хуже, что лучше. Допустить возможность таких размышлений — оскорбительно для Церкви. Знала святая Церковь, что все трое, прежде всего, любили Христа и во имя этой любви творили то, что каждому надлежало творить. Ведь ни для тех, ни для других, ни для третьих распялся Христос. Распялся и воскрес для каждого человека в отдельности, для всех людей вместе; для каждого и для всех, одаренных тем дарами, что при рождении получили от Бога. И во всем этом многообразии единое только одно: любовь к Христу и любовь Христова, безбрежный океан любви, одно сплошное сияние благодати.
Во всем своем божественном обличии даже Христова истина, Христова правда, открывающаяся сознанию человека, не властна вывести его из состояния духовной лени. Человек поймет, изумится, приклонится, но останется тем же, что был прежде; разве что переменит убеждения.
Во всем своем несказанном свете, даже вера и надежда не властны сдвинуть человека с места и заставить стать другим человеком. Человек будет верить, будет надеяться, но останется тем же, чем был прежде. Ради Христа, в Которого верит, возможно, не откажется от своего мягкого удобного кресла.
Но лишь только придет любовь, лишь только коснется края сердца, мигом совершится таинственное перерождение: перед глазами человека откроется мгновенно новый мир, а перед миром явится человек. В этой любви, и только в ней, таинство учения Христова.
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас», и только «потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
И ученик, которого возлюбил Христос, и который, быть может, более всех возлюбил Христа, созерцая таинственную глубь неприступного света, взывает: «Кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь».
Любовь к Христу, любовь к человеку, которого любит Христос, любовь к твари, которая страждет ради нашей злобы, все один вздох любви, один порыв сердца, одно могучее, стихийное и тихое горение. Там, где этого нет, всегда будет торжествовать враг человека, и человек, борющийся против него, будет бессознательно служить ему. Там, где этого нет, противление злу превратится в самоистребление — торжество дьявола, а непротивление злу в бессмысленное самоубийство — опять торжество дьявола. Там, где нет любви, высочайшее и мудрейшее обращается на службу зла. Всякая церковность там превращается неминуемо в ханжество, лицемерие, каноничество или изуверство; всякая вера вырождается в отвлеченные, мертвые умозаключения; всякая надежда извращается в прикрытие греха: «Ничего, мол, Бог простит. Я и так хорош с грешками; другие-то побольше нагрешили».
Там будет холод, будет скорбь, будет вечное умирание, вечное торжество князя мира сего — царства бесов.
Там не будет благодати Святого Духа, как без воздуха не бывает огня. Любовь — воздух Христова царства. В этом воздухе вспыхивает и светится благодать, сами собою возгораются лампады святых сердец.
Пало христианство средних веков, потому что истощилась благодать. Не было благодати, потому что не было воздуха, в котором пламенеть ей. Понял лукавый уязвимое место средневекового христианского мира — любви-то не хватало.
Заело законничество, заела школа, поредел воздух, оскудела любовь и полезли из всех углов античные языческие уроды, могущие жить только в безвоздушной, безблагодатной пустоте. Вылезли и с наслаждением вздохнули пустоту.
И когда только на дне глубоких долин осталось чуть-чуть благодатного воздуха, на высотах мира явился дьявол в своем подлинном виде и потребовал власти на «человечеством» и жертв.
Сказано, что Церковью мир спасется. Среди нас как будто бы видится возврат к ней, но нам-то особенно следует помнить после страшного урока средних веков — да, Церковью мир спасется; но только Церковью подлинной, понимаемой, прежде всего, как царство Христовой любви.
1928 г.
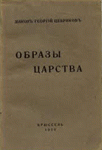
Комментировать