- От переводчика
- Часть I
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Глава пятая
- Глава шестая
- Глава седьмая
- Глава восьмая
- Глава девятая
- Глава десятая
- Глава одиннадцатая
- Глава двенадцатая
- Глава тринадцатая
- Глава четырнадцатая
- Глава пятнадцатая
- Глава шестнадцатая
- Глава семнадцатая
- Глава восемнадцатая
- Глава девятнадцатая
- Глава двадцатая
- Глава двадцать первая
- Часть II
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
- Примечания автора
- Примечания
Посвящается Джой Дэвидмен
Любовь слишком молода, чтобы знать, что такое совесть
От переводчика
Это последнее большое произведение известного английского писателя и апологета христианства Клайва С. Льюиса (1898–1963). Многие полагают, что и самое лучшее. Хотя мир Льюиса настолько разнообразен (как говорит один критик, писатель мог бы трижды сменить свое литературное имя и никто бы из почитателей не догадался, что и «Хроники Нарнии» и «Просто христианство» написаны одной рукой), что всякие хвалебные оценки здесь вряд ли уместны.
Существует красивая легенда: Льюис писал эту книгу, когда его жена Джой (сама история их отношений вполне могла бы стать другой легендой) умирала от рака, и читал ей готовые главы. Когда была написана и прочитана последняя глава, случилось чудо — болезнь отступила. Эта легенда не случайна — ведь в «Пока мы лиц не обрели» речь идет об искуплении Любовью. И об искуплении Любви.
На самом деле роман был написан весной 1954 года, еще в счастливые для Льюиса и Джой времена, а сам миф о Психее и Амуре заворожил Клайва (как и многих других писателей и художников до него), когда он был еще школьником: он наткнулся на краткий пересказ этой чарующей истории, листая «Мифологический словарь» Уильяма Смита. Неоднократно он возвращался к этому сюжету: пытался написать то балладу, то поэму и даже пьесу, но всегда бросал свой труд на середине. Может быть, для того, чтобы эта книга обрела свое лицо, нужно было самому столкнуться лицом к лицу с Любовью.
Илья Кормильцев
Часть I
Глава первая
C тех пор как я стала старухой, месть богов более не страшит меня. Разве боги в силах повредить мне? У меня нет ни мужа, ни сына, ни друга, на которых мог бы обрушиться их гнев. Моя иссохшая плоть по привычке желает, чтобы ее мыли, питали и не по разу в день облачали в нарядные одежды, но мне не жаль моего тела — боги властны отнять у него жизнь, когда им заблагорассудится. Я уже позаботилась о наследнике — корона моя перейдет к сыну моей сестры.
Вот почему я не страшусь гнева богов, и вот почему я решилась написать эту книгу, ибо человек, которому есть что терять, никогда не осмелится написать подобную. В книге этой я буду обвинять богов: в первую очередь того, который обитает на Седой горе. Словно перед строгим судьей, я расскажу без утайки обо всем том зле, что этот бог причинил мне. Увы! Нет в мире такого суда, который рассматривал бы тяжбы между богами и смертными людьми, а бог Горы — я уверена — не ответит на мои обвинения. Болезни и страдания, которыми он волен меня наградить, — разве это достойный ответ? Я пишу на греческом языке, которому меня обучил мой наставник. Может случиться, что какой-нибудь странник из Греции посетит наш дворец, прочтет эту книгу и перескажет ее у себя на родине, где людям не возбраняется вести вольные речи даже о бессмертных богах. И может статься, тамошние мудрецы разберутся, справедливы ли мои обвинения, и удалось ли бы оправдаться богу Седой горы, снизойди он до ответа.
Меня зовут Оруаль, и я старшая дочь Трома, царя Гломского. Город наш Глом расположен на левом берегу реки Шеннит, в дне пути на северо-запад от Рингаля, селения у южных пределов нашего царства. Сам город отстоит от берега на расстояние, которое женщина проходит за треть часа; ближе к реке строить нельзя, ибо Шеннит по весне разливается. Летом же она пересыхает, и на илистых берегах, поросших камышом, во множестве гнездятся дикие утки. На том же удалении от Шеннитского брода, что и город, но на другом берегу реки стоит священный Дом Унгит. За ним на северо-востоке начинаются отроги Седой горы. Бог этой горы, возненавидевший меня, приходится Унгит сыном. В доме матери он, однако, не живет — Унгит там всегда одна. Она восседает в дальнем углу храма, окутанная мраком, и ее почти не видно. Только летом, когда свет высокого солнца проникает в капище через дымовые отверстия, богиню можно рассмотреть. Она из черного камня, и у нее нет ни головы, ни рук, но это могущественная богиня. Мой старый учитель, которого прозвали Лисом, утверждал, что греки зовут ее Афродитой, но я решила оставить все имена так, как они звучат на нашем языке.
Я начну повествование с того дня, когда умерла моя мать и мне обрили волосы на голове, как велит обычай. Лис (впрочем, тогда он еще не жил у нас) говорил, что этот обычай позаимствован нами у греков[1]. Батта, наша нянька, вывела нас за ограду дворца, в сад, устроенный на склоне холма. Пока она брила голову мне и Редивали, младшей сестре моей, дворцовые рабыни толпились вокруг, причитая и бия себя в грудь — так они оплакивали смерть царицы. Редиваль была младше меня на три года: других детей, кроме нас, у царя тогда не было. В перерывах между рыданиями рабыни щелкали орешки, хихикали и перешептывались. Когда сверкнула бритва и золотые кудри Редивали упали на землю, все рабыни вздохнули и сказали: «Ах, какая жалость!» Когда же стали обривать голову мне, ни одна из них не проронила ни слова. Но больше всего мне запомнилось, как холодна была выбритая кожа на моей голове и как солнце пекло мне открытый затылок, когда мы с Редивалью копались в грязи на берегу реки вечером того же дня.
Наша нянька Батта была крупная женщина со светлыми волосами и грубыми большими руками. Отец купил ее у торговцев с Севера. Когда мы изводили ее своими проказами, она ворчала:
— Ну погодите! Вот приведет ваш отец в дом новую царицу, тогда узнаете! Поживете с мачехой, наедитесь прогорклого сыра заместо медовых пряников, да напьетесь кислого молока заместо красного вина…
Но не успела еще во дворце появиться новая царица, как наша жизнь уже изменилась. В тот день, помню, стоял ужасный мороз. Редиваль и я даже надели сапожки (обычно мы ходили босиком или в легких сандалиях). Мы катались по льду на заднем дворе в старой части дворца, там, где стены сложены из бревен, а не из камня. От двери стойла и до большой навозной кучи все заледенело, но лед был неровным от отпечатков копыт, застывших луж молока и свежих коровьих лепешек, так что кататься нам было нелегко. И тут на двор вышла Батта; кончик носа ее пламенел от мороза. Она крикнула нам:
— А ну-ка, замарашки! Умойтесь и идите к Царю. У него для вас кое-что есть, чтоб мне провалиться! Скоро у вас начнется совсем другая жизнь!
— Неужто мачеха приехала? — спросила Редиваль.
— Нет, куда хуже! — ответила Батта, утирая Редивали нос краем своего фартука. — Ну и достанется вам шлепков, щипков и зуботычин! Вот уж наплачетесь вдоволь!
Затем она отвела нас в новую часть дворца, туда, где стены все из побеленного кирпича, а на каждом углу — дворцовые стражи, облаченные в доспехи. В Столбовой зале, у очага, над которым висят звериные шкуры и охотничьи трофеи, стоял наш отец и с ним еще трое. Эти люди в одежде путников были нам знакомы; трижды в год они являлись во дворец с товарами. Торговцы укладывали в мешок весы, на которые отвешивают серебро, и мы поняли, что только что состоялась сделка. Один из них сворачивал цепь, на которой водят пленников. Мы увидели стоявшего рядом низенького щупленького человечка и поняли, что наш отец купил нового раба. На ногах раба были язвы от колодок, но в остальном он ничуть не походил на тех рабов которым мы привыкли. Глаза у него были совсем голубые, а волосы — там, где: еще не тронула седина, — рыжие.
— Скоро в моем доме появится наследник, — сказал, обращаясь к рабу, наш отец.
— Я хочу, грек, чтобы ты передал ему всю премудрость твоего народа. А покамест можешь поучить вот этих (тут он показал на меня с Редивалью). Если ты сумеешь вбить хоть что-нибудь в голову девке, то ты и верно учитель.
Перед тем как отослать нас, отец прибавил: — Займись в первую очередь той, что постарше. Может, она хоть будет умной — ни на что другое она не годна.
Я не поняла, что именно имел в виду отец, но уже привыкла к тому, что люди всегда говорят обо мне как-то странно.
Я полюбила Лиса (такое прозвище дал греку мой отец) так, как не любила до той поры никого другого. Можно было ожидать, что человек, рожденный в Греции свободным, но попавший на войне в плен и проданный в рабство варварам, должен был отчаяться. Отчаяние действительно временами завладевало Лисом, и, может бы гораздо чаще, чем я, маленькая девочка, могла заметить. Но я никогда не слышал чтобы он роптал на судьбу, никогда не слышала, чтобы он хвастал, как это дела другие рабы, высоким положением, которое занимал у себя на родине. Он часто утешал себя высказываниями вроде «Весь мир — одна деревня, и мудрец в нем нигде изгнанник» или же «Вещи сами по себе ни дурны, ни хороши — мы только мним таковыми». Но я полагаю, что бодрость духа он сохранял не благодаря этим рассуждениям, а потому, что был необычайно любознателен. Я никогда не встречала другого человека, который задавал бы столько вопросов. Он словно хотел знать все свете не только о нашей стране, языке нашего племени, наших богах и предках, даже о цветах и деревьях, растущих в нашем краю.
Вот как получилось, что я рассказала ему об Унгит, о девушках, которые жили в ее доме, о подарках, которые невесты приносят богине, и о том, что, если страну постигает какое-нибудь бедствие, мы перерезаем горло жертве на алтаре богини и окропляем Унгит человеческой кровью. Он содрогнулся, когда услышал это, и что-то пробормотал в сторону, но затем сказал вслух:
— И все-таки она — Афродита, хотя в ней больше сходства с Афродитою вавилонян[2], чем с нашей богиней. Послушай, я расскажу тебе про Афродиту греков.
Тут голос его стал глубоким и нежным, и он поведал мне, как греческая Афродита влюбилась в царевича Анхиза[3], пасшего стада отца на склонах горы Ида. Когда богиня спускалась по травянистым кручам к пастушьей хижине, львы, рыси, медведи и прочие твари подползали к ее ногам, покорные, как собаки, а затем расходились парами и предавались любовным утехам. Но Афродита скрыла свою божественную природу и явилась в хижину Анхиза в образе смертной женщины и возлегла с ним на ложе. На этом, как мне показалось, Лис хотел закончить рассказ, но, поддавшись очарованию предания, поведал, что было дальше: Анхиз, проснувшись, увидел Афродиту — богиня стояла в дверях хижины, сбросив с себя обличье смертной женщины. Тогда царский сын понял, с кем он провел эту ночь. Он в ужасе закрыл глаза рукой и вскричал: «Лучше убей меня сразу!»
— Конечно, ничего этого на самом деле не было, — поспешил прибавить он.
— Все это выдумки поэтов, дитя мое. Такое противоречит природе вещей.
Но и того, что он сказал, хватило мне, чтобы догадаться: хотя богиня греков красивее, чем наша Унгит, она так же жестока.
Таков уж был Лис — он словно стыдился своей любви к поэзии. («Все это сказки, дитя мое!» — не уставал повторять он.) Мне приходилось немало корпеть над тем, что он называл «философией», для того чтобы уговорить его почитать мне стихи. Так, понемногу, я познакомилась с песнями греков. Превыше всего мой учитель ставил стихотворение, которое начиналось словами «Труд человеку стада добывает и всякий достаток»[4], но я знала, что он кривит душой. По-настоящему он волновался, когда декламировал «В стране, где в ветках яблонь шумит прохлада» или же:
Луна и Плеяды скрылись,
А я все одна в постели…[5]
Когда он пел эту песню, глаза его блестели, а в голосе почему-то звучала неподдельная жалость ко мне. Лис любил меня больше, чем мою сестру, потому что Редивали не нравилось учение, и она постоянно осыпала Лиса издевками и насмешками и часто подговаривала других рабов против нашего учителя.
Летом мы обычно занимались в саду, сидя на маленькой лужайке в тени грушевых деревьев; там мы и попались как-то раз на глаза Царю. Разумеется, мы тут же вскочили на ноги, скрестили руки на груди и опустили глаза долу. Так было положено встречать повелителя детям и рабам. Царь дружелюбно похлопал Лиса по спине и сказал:
— Радуйся, грек! Волей богов тебе скоро доведется учить наследника! Возблагодари небо, ибо не часто простому греческому бродяге выпадала столь великая честь. Мой будущий тесть — великий человек. Тебе-то до этого, конечно, и дела нет. В величии ты понимаешь не больше вьючного осла. Все греки — бродяги и оборванцы, верно?
— Разве не одна и та же кровь течет в жилах у всех людей, хозяин? — спросил Лис.
— Одна и та же кровь? — изумился Царь, выпучив глаза. Затем он грубо захохотал и сказал: — Пусть я сдохну, если это так!
Вот и вышло, что не Батта, а сам Царь известил нас о скором появлении мачехи. Мой отец очень удачно посватался. Ему отдавали в жены третью дочь царя Кафадского, самого могущественного властителя в наших землях. (Теперь-то я знаю, почему властитель Кафада снизошел до нас. Единственное, что не перестает меня удивлять, — как сам царь Гломский не заметил, что сосед согласился на этот брак не от хорошей жизни.)
Свадьбу сыграли очень скоро, но в моей памяти приготовления к ней тянулись целую вечность. Дворцовые ворота выкрасили в ярко-красный цвет, в Столбовой зале по стенам развесили новые шкуры, а за брачное ложе мой отец заплатил куда больше, чем мог себе позволить. Ложе было сделано из редкого дерева, которое привозят с Востока. Говорили, что оно обладает волшебными свойствами и что из каждых пяти детей, зачатых на нем, четверо — мальчики. («Все это сказки, дитя мое! — сказал мне Лис. — Такие вещи зависят от естественных причин».) День свадьбы приближался; во дворец сгоняли целые стада, двор был уже залит бычьей кровью и завален шкурами, а бойне все, казалось, не будет конца. На кухне варили и жарили мясо, но нам, детям, не удавалось даже толком поглазеть на эти увлекательные приготовления, потому что Царь вбил себе в голову, что Редиваль и я вместе еще с двенадцатью девочками из благородных семейств должны будем петь свадебный гимн. И не обычный, а греческий, на зависть всем окрестным царям.
— Но, хозяин… — пытался спорить Лис со слезами в глазах.
— Грек, ты должен научить их! — неистовствовал отец. — Зря я, что ли, набивал твое греческое брюхо вином и мясом? Я хочу греческих песен, значит, они у меня будут! Никто не заставляет тебя учить их греческому. Зачем им понимать слова — главное, чтобы пели погромче. Берись за дело без промедления, иначе я велю порезать твою шкуру на ремни!
Это была безумная затея. Позже Лис не раз говорил, что он окончательно поседел, пытаясь обучить варваров греческому пению.
— Я был рыжим, как лис, — вздыхал он, — а стал седым, как барсук.
Когда мы наконец разучили гимн от начала до конца, отец пригласил во дворец Жреца Унгит, чтобы тот послушал, как мы поем. Я боялась Жреца, но совсем не так, как боялась своего отца. Ужас внушал мне запах, который источал Жрец. Это был запах святости, запах храма, запах жертвенной крови (обычно голубиной, но иногда — человеческой), запах горелого жира, паленых волос и прогорклого ладана. Это был запах Унгит. Еще ужаснее были одежды Жреца, сделанные из звериных шкур и сушеных рыбьих пузырей, а на груди у служителя Унгит висела страшная маска в виде птичьей головы. Казалось, что клюв растет у этого человека прямо из сердца.
Разумеется, он не понял ни слова, музыка тоже оставила его равнодушным. Он спросил только, будем ли мы петь с покрытыми лицами или нет.
— Ну и вопрос! — воскликнул отец, громко захохотав по своему обыкновению.
— Неужто ты думаешь, что я хочу насмерть перепугать невесту? — и с этими словами он ткнул пальцем в мою сторону. — Конечно, они покроют лица. И я сам позабочусь, чтобы нигде ничего не просвечивало.
Одна из девушек захихикала, и, кажется, именно тогда я в первый раз поняла, что родилась уродиной.
После этого я стала бояться будущей мачехи еще пуще прежнего. Мне казалось, что из-за моего уродства она будет обходиться со мной строже, чем с Редивалью. Дело было не только в том, что нам сказала Батта: и от других мне доводилось слышать страшные рассказы о мачехах. В ту ночь, когда мы столпились под портиком дворца и пели гимн, стараясь петь, как учил нас Лис, — ужасные вещи, которые творили мачехи с падчерицами в этих сказках, проносились у меня в голове. Мы ничего не видели, ослепленные ярким светом факелов, а Лис бегал перед нами, кивая нам в знак одобрения или вздымая руки, когда мы делали что-то не так. Снаружи доносились приветственные крики, затем принесли еще факелов, и мы увидели, что невесту поднимают с колесницы и ведут во дворец. Она была укутана в покрывала еще плотнее, чем мы, и я смогла понять только, что это — крохотная женщина, почти ребенок. Страхи мои от этого стали только сильнее, ведь у нас говорится, что маленькая змея жалит злее. Затем, не прекращая петь, мы проводили невесту на брачное ложе и там сняли с нее покровы.
Теперь я понимаю, как она была хороша собой, но тогда я этого не заметила. Я только поняла, что невеста испугана еще больше, чем мы сами. Ее маленькое личико не выражало ничего, кроме ужаса. Я догадалась, что она увидела моего отца, когда тот вышел навстречу свадебному поезду к воротам, увидела его грубое лицо, мощное тело, услышала его громкий голос, и все ее девичьи страхи разыгрались тут же с новой силой.
Мы сняли с невесты бесчисленные одежды, отчего она стала еще меньше, оставили ее дрожащее бледное тело на царской постели и выскользнули из опочивальни, чувствуя на себе взгляд ее огромных испуганных глаз. Пели мы в тот вечер, надо сказать, ужасно.
Глава вторая
Я не могу рассказать почти ничего о второй жене моего отца, потому что она не прожила в Гломе и года. Она понесла сразу же после свадьбы, отчего Царь пришел в наилучшее расположение духа. Встречая Лиса, он никак не мог удержаться, чтоб не поговорить с ним о еще не родившемся царевиче. Каждый месяц отец приносил Унгит богатые жертвы. Я не знаю, как ладил он с Царицей, и только однажды мне удалось подслушать их разговор. Я сушила волосы на солнце после купанья, выставив голову в окно, выходившее в сад. Царь и Царица в это время прогуливались под окном.
— Похоже, девочка моя, меня крупно надули, — говорил отец. — Мне сказали, что тесть мой потерял уже два или три города, хотя сам он пишет мне, что дела идут как нельзя лучше. С его стороны было бы честнее сказать мне сразу, что лодка идет ко дну, прежде чем приглашать прокатиться.
Так или иначе, люди говорили, что Царица томится от тоски по своей южной родине и с трудом переносит нашу суровую зиму. Она бледнела и сохла, и я окончательно убедилась в том, что мачеха не представляет для меня никакой угрозы. Наоборот, первое время дочь Кафадского царя сама очень боялась меня, но потом привыкла и даже полюбила робкой сестринской любовью. Она вообще казалась мне скорее сестрой, чем мачехой.
Когда настал день родов, никому из нас не позволили лечь в постель. Поверье гласит, что, если в доме будут спать, душа родившегося младенца не сможет проснуться и он умрет. Мы собрались в большой комнате, между Столбовой залой и опочивальней Царицы. На потолке плясали отблески факелов, постоянно шипевших и гаснувших от жуткого сквозняка, потому что в доме были настежь открыты все двери. Двери нельзя закрывать, иначе может затвориться чрево роженицы[6]. Посреди залы развели огромный костер. Каждый час Жрец Унгит девять раз обходил вокруг очага и что-то бросал в огонь. Отец сидел неподвижно в своем кресле. Он даже ни разу не пошевелился за ночь.
Я сидела рядом с Лисом.
— Дедушка! — шепнула я ему. — Мне страшно!
— Не следует бояться того, что в природе вещей… — тоже шепотом ответил он мне.
Должно быть, после этого я задремала и проснулась только оттого, что вокруг меня женщины выли и били себя в грудь, как это они делали, когда умерла моя мать. Все кругом переменилось, пока я спала. Костер погас, кресло Царя опустело, дверь опочивальни наконец закрыли, и оттуда уже не раздавались ужасные крики и стоны. Видимо, пока я спала, совершили жертвоприношение, потому что на полу была кровь, а Жрец Унгит деловито обтирал свой священный нож. Я была сама не своя после тяжелого сна, и мне почему-то пришло в голову пойти и навестить Царицу. Но не успела я дойти до двери, как меня настиг и остановил Лис.
— Доченька! — прошептал он. — Не надо, я прошу тебя. Ты сошла с ума. Ведь Царь…
В это время дверь распахнулась и на пороге показался мой отец. Лицо его ужаснуло меня, оно было бледным от дикой ярости. Я хорошо знала, что, когда лицо Царя краснеет от гнева, он может кричать и топать ногами, но ничего страшного не последует. Но если от гнева он становился бледным, кому-то это могло стоить жизни.
— Вина! — сказал он тихим голосом, что тоже было дурным знаком. Перепуганные рабы вытолкнули вперед мальчика-слугу, любимца моего отца. Отрок, одетый в роскошное платье (мой отец одевал слуг весьма богато), был, пожалуй, даже бледнее своего господина и повелителя. Он схватил кувшин вина и царскую чашу и устремился с ними к моему отцу, но поскользнулся в луже крови, зашатался и выронил из рук свою ношу. Быстрее молнии Царь выхватил из ножен короткий клинок и вонзил его под ребра неловкому слуге. Мальчик рухнул в лужу вина и крови, в предсмертных судорогах толкнул кувшин, и тот с грохотом покатился по неровному полу. (Никогда до этого я не замечала, что пол в нашем дворце так плохо вымощен; став царицей, я немедленно повелела вымостить его заново.
На мгновение мой отец уставился на окровавленный клинок; взгляд его казался удивленным. Потом он тихо подошел к Жрецу Унгит и вкрадчиво спросил:
— Что ты теперь попросишь у меня для своей богини? Пусть она лучше вернет мне то, что у меня забрала. Или, может, ты мне заплатишь за весь мой добрый скот?
Затем, помолчав, он добавил:
— Скажи мне, прорицатель, что ты будешь делать, если я повелю раскрошить твою Унгит молотом в порошок, а наковальней сделаю твое тело?
Но Жрец оставался бесстрастно-спокойным — казалось, он совсем не боится Царя.
— Унгит слышит тебя, повелитель, даже сейчас, — сказал он. — Унгит ничего не забывает. Ты уже сказал довольно для того, чтобы проклятие легло на весь твой род.
— Мой род? — переспросил Царь. Он не повысил при этом голоса, но видно было, что его всего трясет от гнева. — Ты говоришь о моем роде?
В этот миг краем глаза он заметил лежавший на полу труп мальчика.
— Кто сделал это? — спросил он, оборачиваясь к нам. Разглядев в толпе меня и Лиса, он не выдержал и наконец заорал голосом таким громким, что, казалось, крыша вот-вот рухнет на наши головы.
— Девки, девки, девки! — рычал он. — Мало мне их, так боги послали еще одну! Будет ли этому конец, я спрашиваю? Неужели бабьих душ на небе как дождевой воды? Ты… ты… ты… я… — и, задыхаясь от ярости, он схватил меня за волосы и рванул так, что я отлетела в другой конец залы и там упала. Я не заплакала: бывают такие мгновения, когда даже ребенок понимает, что лучше не подавать голоса. Когда я очнулась, я увидела, что мой отец уже вцепился в горло Лису и трясет изо всех сил бедного грека.
— Старый мошенник! — кричал отец. — Сколько времени ты жрал мой хлеб, а толку от тебя меньше, чем от собаки! Завтра же отправишься на рудники, бездельник! Неделю протянешь — и то польза!
Никто не проронил ни слова. Тогда Царь в гневе воздел руки к небу, страшно затопал ногами и заорал еще громче прежнего:
— Да что вы на меня все уставились, подлые рожи! У меня от вас на душе тошно! Прочь отсюда! Вон! Чтобы ни одного не видел.
Мы выбежали из залы, толкаясь и падая в дверях.
Я и Лис выскользнули через маленькую калитку, выходившую на огород, и оказались снаружи. Уже светало, накрапывал мелкий дождик.
— Дедушка, — сказала я, всхлипывая, — бежим! Прямо сейчас, пока они не пришли за тобой!
Старик покачал головой.
— Я слишком стар, — сказал он. — Далеко мне не убежать. А что делает наш Царь с беглыми рабами — не мне тебе объяснять.
— Но они отправят тебя на рудники! Бежим, я убегу вместе с тобой. Если нас поймают, я скажу, что я тебя подговорила. Стоит нам оказаться там, и они нас уже не догонят!
С этими словами я показала на кряжистую вершину Седой горы, темневшую в тусклом свете дождливой зари.
— Не говори ерунды, доченька, — ответил учитель и погладил меня по головке, как маленькую. — Они подумают, что я украл тебя, чтобы продать в рабство. Нет, если уж бежать, так в такую страну, где им меня не поймать. Ты должна мне помочь. Послушай, у реки растет трава с красными пятнышками на стебле[7]. Мне нужен ее корень.
— Это яд?
— Разумеется. Ах, дитя, да не плачь ты так! Разве я не говорил тебе, что человек вправе расстаться с жизнью при определенных обстоятельствах? Разве я не объяснял тебе, что это не противоречит природе вещей? Мы должны смотреть на нашу жизнь как на…
— Говорят, что те, кто поступает так, там, в стране мертвых, осуждены вечно барахтаться в вонючей грязи.
— Ну что ты! Это все варварские предрассудки. Разве я не объяснял тебе, что после смерти мы распадаемся на составные элементы? Неужели я рожден на свет только для того, чтобы…
— Я знаю, я знаю все это, дедушка! Но разве ты не веришь хоть чуточку во все, что говорят о богах и нижнем мире? Я знаю, что веришь — иначе отчего ты дрожишь?
— Увы, это дрожит моя слабая плоть и предает мою богоравную душу! Какая жалкая слабость перед достойным концом! Но хватит об этом — мы только теряем попусту время.
— Послушай! — вдруг воскликнула я. — Что это такое?
Мне было так страшно, что я вздрагивала от любого шороха.
— Это скачут кони, — сказал Лис, напряженно всматриваясь во влажную мглу. — Вот всадники подъехали к главным воротам. Судя по одежде, это послы из Фарсы. Вряд ли их визит улучшит Царю настроение. Вот что, доченька… о Зевс! Поздно, уже слишком поздно!
Последние слова учитель промолвил, услышав, как во внутренних покоях кличут:
— Лиса, Лиса к Царю, срочно!
— Им даже нет нужды волочь меня волоком — я сам приду, — сказал Лис и поцеловал меня, как это принято у греков, в глаза и лоб.
— Прощай, доченька! — сказал он мне, но я все равно пошла за ним. Я не знала, что мне делать при встрече с отцом — умолять его на коленях, проклясть или убить. Когда мы вошли в Столбовую залу, мы увидели там много незнакомых людей. Заметив Лиса в проеме двери, Царь закричал:
— Эй, Лис, иди сюда! У меня для тебя полно работы! Затем он заметил меня и прибавил:
— А ты, образина, проваливай на женскую половину, а то от одного твоего вида вино прокисает прямо в кружках!
Я не помню, чтобы мне когда-нибудь еще в жизни (если не говорить о делах божественных) доводилось прожить целый день в таком страхе, как тогда. Я не знала, как относиться к последним словам Царя: с одной стороны, они звучали так, словно гнев его поумерился, с другой — он мог разгореться в любое мгновение с новой силой. Кроме того, я знала, что иногда отец бывает жесток, даже когда не испытывает гнева: порой ему доставляло удовольствие поизмываться над жертвой, просто исполняя произнесенную им в порыве гнева угрозу. Ему случалось и прежде отправлять на рудники старых домашних слуг. Но мне не удалось надолго остаться наедине с моими страхами, потому что пришла Батта и стала обривать голову мне и Редивали, как она это делала в день смерти моей матери. Батта рассказала нам, цокая языком от упоения, как Царица умерла родами (о чем я знала уже с утра) и как она родила живого ребенка, девочку. Бритва прикоснулась к моей голове, и я подумала, что, если Лиса пошлют на рудники, это будет траур и по нему. Мои волосы падали на пол, тусклые, прямые и короткие, и ложились рядом с золотыми кудрями Редивали.
Вечером пришел Лис и сказал мне, что о рудниках и речи нет — по крайней мере пока. То, что мне прежде было в тягость, вдруг оказалось спасением: все чаще и чаще Царь заставлял Лиса прерывать занятия с нами и отправляться в Столбовую залу, потому что отец мой внезапно уразумел, что грек умеет считать, читать и писать (сперва только по-гречески, но вскоре он выучился писать и на языке нашего народа), а также, что лучшего советчика не найти во всем Гломе. В тот самый памятный день Лис помог моему отцу заключить с послами Фарсы такой договор, о котором Царь не смел и мечтать. Лис был истинным греком: там, где мой отец мог сказать только «да» или «нет», Лис говорил «да», которое ни к чему не обязывало, и «нет», которое было слаще, чем мед. Он умел заставить слабого поверить в наше расположение, а сильного — в наше несуществующее превосходство. Лис был слишком полезным рабом, чтобы посылать его на смерть в рудники.
На третий день тело Царицы предали огню, и мой отец дал имя ребенку. Он назвал дочь Истрою.
— Чудесное имя, — сказал на это Лис. — Просто чудесное имя. Ты уже знаешь довольно по-гречески, так скажи, как ее звали бы на моем языке.
— В Греции ее звали бы Психеей[8], дедушка, — сказала я.
Младенцы во дворце никогда не переводились; у нас было полно детей дворцовых рабов и незаконнорожденных отпрысков моего отца. Иногда отец в шутку ворчал:
— Похотливые распутники! Порою мне кажется, что этот дворец принадлежит не мне, а Унгит! Вот возьму и перетоплю всех выблядков, как слепых котят! — но на самом деле он испытывал даже нечто вроде уважения к тому рабу, которому удавалось обрюхатить половину наших рабынь, особенно когда у тех рождались мальчики. (Девочки, если Царь не брал их в свой гарем, обычно по достижении зрелости продавались на сторону или посвящались Унгит и уходили жить в ее дом.) Я относилась хорошо к Царице, можно сказать, любила ее, поэтому, как только Лис развеял мои страхи, я отправилась посмотреть на ребенка. Так получилось, что в короткое время ужас оставил меня и на место его пришла радость.
Ребенок был очень крупным; даже не верилось, что его мать была такой хрупкой и маленькой. У девочки была чудесная кожа, словно излучавшая сияние, отсвет которого озарял тот угол комнаты, где стояла колыбелька. Малютка спала, и было слышно, как ровно она дышит. Надо сказать, что мне никогда больше не доводилось видеть такого спокойного младенца. Сзади ко мне подошел Лис и посмотрел через мое плечо.
— Пусть меня назовут дураком, но, клянусь богами, я и впрямь начинаю верить, что в жилах вашего рода течет кровь небожителей, — прошептал он. — Это дитя подобно новорожденной Елене[9].
Ухаживать за ребенком поручили Батте и кормилице, рыжеволосой мрачной женщине, которая (как, впрочем, и Батта) слишком часто прикладывалась к кувшину с вином. Я отослала ее, едва представилась возможность, и нашла для ребенка кормилицу из свободнорожденных, жену одного крестьянина, здоровую и порядочную женщину. Я перенесла ребенка в свою комнату, и он оставался там вместе с нянькой ночью и днем. Батта с удовольствием переложила заботу о девочке на наши плечи. Царь знал обо всем, но ему было все равно. Только Лис сказал мне:
— Доченька, побереги себя, не изводи столько сил на ребенка, даже если он прекрасен, как бессмертные боги!
Но я только рассмеялась ему в лицо. Кажется, я никогда больше в жизни так много не смеялась, как в те далекие дни. Беречь себя! Да один взгляд на Психею заменял мне ночной сон и придавал мне сил. Я смеялась вместе с Психеей, а Психея смеялась весь день напролет. Она научилась смеяться уже на третьем месяце жизни, а лицо мое стала узнавать на втором (хотя Лис в это так и не поверил).
Так начались лучшие годы моей жизни. Лис души не чаял в ребенке, и я догадалась, что давным-давно, когда грек был еще свободным человеком, у него тоже была дочка. Теперь он и впрямь чувствовал себя дедушкой. Мы проводили все время втроем — я, Психея и Лис. Редиваль и прежде не любила общества Лиса и приходила на уроки только из страха перед Царем. Теперь, когда Царь словно и думать забыл о том, что у него три дочери, Редиваль была предоставлена самой себе. Она вытянулась, грудь у нее налилась, длинные ноги подростка округлились — она хорошела на глазах, но было ясно, что ей никогда не стать такой же красивой, как Психея.
Красота маленькой Психеи — надо сказать, у каждого возраста есть своя красота — была той редкой красотой, которую признают с первой же встречи любой мужчина и любая женщина. Красота Психеи не потрясала, как некое диво, — пока человек смотрел на мою сестру, ее совершенство казалось ему самой естественной вещью на свете, но стоило ему уйти, как он обнаруживал, что в его сердце остался сладкий, неизгладимый след. Как любил говорить наш учитель, красота девочки была «в природе вещей»; это была та красота, которую люди втайне ожидают от каждой женщины — да что там! — от каждого неодушевленного предмета, — но не встречают почти никогда. В присутствии Психеи все становилось прекрасным: когда девочка бегала по лужам, лужи казались красивыми, когда она стояла под дождем, казалось, что с неба льется чистое серебро. Стоило ей подобрать жабу — а она питала странную любовь к самым неподходящим для любви тварям, — и жаба тоже становилась прекрасной.
Годы шли один за другим своим обычным чередом, случались, очевидно, и зимы но я их не помню — в памяти остались только весны и лета. Мне кажется, что в те годы вишня и миндаль зацветали раньше и цвели дольше, чем теперь, и даже неистовый ветер не мог оборвать их розовые, как кожа Психеи, лепестки. Я смотрела в глаза сестры, голубые, как весеннее небо и вода ручья, и жалела, что я не жена Царя и не мать Психеи, жалела, что я не мальчик и не могу влюбиться в нее, жалела, что я довожусь ей только единокровной сестрой, жалела, что она — не моя рабыня, потому что тогда я смогла бы даровать ей свободу и богатство.
Лис пользовался к тому времени у Царя таким доверием, что, когда отец не нуждался в его услугах, учитель мог гулять с нами где угодно и даже вдали от дворца. Часто мы проводили летние дни на вершине холма к юго-востоку от Глома, откуда открывался прекрасный вид на весь город и на вершину Седой горы. Мы до того хорошо изучили ее зазубренный гребень, что знали там каждую скалу и каждую расселину, хотя никто из нас никогда не бывал так далеко от города. Психея влюбилась в Гору с первого взгляда.
— Когда я вырасту, — говорила она, — я стану великой царицей и выйду замуж за самого великого царя, и он построит мне дворец из золота и хрусталя на вершине этой горы.
Лис захлопал от восторга в ладоши и вскричал:
— Ты будешь прекраснее Андромеды[10], прекраснее Елены, прекраснее самой Афродиты!
Хотя полдень был жарким и скалы вокруг пылали огнем, я почувствовала при этих словах Лиса, будто чьи-то холодные пальцы прикоснулись слева к моей спине.
— Как бы тебе не накликать на нас беды такими словами, дедушка! — сказала я. Но он, как я и думала, только рассмеялся и сказал:
— Это твои слова, доченька, принесут нам несчастье. Разве я не учил тебя, что боги не ведают зависти?
Но я осталась при своем мнении. Я знала, что Унгит не по душе такие разговоры.
Глава третья
Нашим счастливым дням скоро пришел конец, и не без помощи Редивали. У нее всегда был ветер в голове и одно распутство на уме, и вот она не придумала ничего лучшего, как целоваться и шептаться о любви с молодым человеком из дворцовой стражи по имени Тарин прямо под окном у Батты. Дело было за полночь; Батта, перепив вина, отправилась в постель еще до заката и поэтому проснулась ни свет ни заря. Заметив парочку, она, будучи прирожденной доносчицей, отправилась к Царю, разбудила его и поделилась с ним новостью. Царь, вне себя от гнева, осыпал Батту проклятиями, но все-таки поверил ей. Он оделся, взял с собой двух стражников, явился в сад и застал там любовников врасплох. Поднялся такой шум, что все во дворце проснулись. Царь послал за цирюльником и приказал оскопить Тарина прямо на месте преступления (когда рана зажила, юношу отправили в Рингаль и там продали). Не успели стихнуть крики и рыдания несчастного, как Царь явился в комнату, где находились я и Лис, и обвинил нас во всем случившемся. Почему Лис не уследил за своей воспитанницей? Почему я недоглядела за своей сестрой? Кончилось тем, что отец приказал нам не выпускать больше Редиваль из виду:
— Ходите, где вам вздумается, делайте, что вам придет в голову, но с этой суки глаз не спускайте. И знай, Лис, что если она потеряет девственность прежде, чем я найду ей мужа, то ответит за это твоя спина. А ты, пугало, можешь делать все, что тебе заблагорассудится. Клянусь Унгит, это будет чудо, если найдется хоть один мужчина, которого не испугает твое лицо!
Гнев Царя был так страшен, что Редивали осталось только покориться. Теперь ей приходилось все время проводить в нашем обществе, отчего она вскоре избавилась от последних остатков любви ко мне и Психее. Она то и дело вызывающе зевала, заводила бессмысленные споры и без причины дерзила. Особенно ее раздражала Психея — ведь та была такой живой, веселой и послушной! По словам Лиса, это была сама Добродетель в человеческом образе. Однажды Редиваль ударила Психею. Я не помню, что было дальше, — помню только, что обнаружила себя сидящей на груди у Редивали. Лицо сестры было все разодрано в кровь, а руки мои вцепились ей в горло. Лис сумел все-таки оттащить меня в сторону и худо-бедно помирить нас.
Всякий покой и радость кончались с появлением Редивали. А затем последовали новые удары судьбы, которые окончательно погубили наше счастье. В тот год, когда я пыталась задушить Редиваль, случился неурожай. В тот же самый год мой отец дважды сватался и везде получил отказ. Мир сильно изменился, и союз с Кафадом превратился в петлю, готовую затянуться у нас на шее. Боги не благоволили Глому.
Тогда же случилось еще одно происшествие, доставившее мне немало волнений. Лис и я сидели в тени грушевых деревьев и занимались философией. Психея гуляла рядом на опушке царского сада и весело распевала. Редиваль шла за ней следом. Краем глаза я следила за ними и поэтому слушала Лиса вполуха. Затем мне показалось, что Редиваль и Психея говорят с кем-то на краю сада. Через некоторое время сестры вернулись к нам.
Редиваль, фыркая от негодования, упала на колени перед Психеей и принялась посыпать свою голову песком.
— Почему вы не падаете ниц перед богиней? — с насмешкой сказала она, посмотрев в нашу сторону.
— Что это тебе в голову пришло, сестрица? — спросила я нехотя, потому что не ожидала услышать ничего хорошего в ответ.
— Разве ты не знаешь, что теперь ты — сестра богини?
— О чем это она, Истра? — спросила я. (С тех пор как Редиваль проводила все время вместе с нами, я никогда не называла девочку вслух Психеей.)
— Ну, что же ты молчишь, божественная сестрица? — сказала Редиваль. — Я знаю, что ты никогда не лжешь, так что тебе стоит сказать правду! Расскажи, как тебе воздали божеские почести!
— Это неправда, — сказала Психея. — Просто женщина с ребенком подошла ко мне и попросила, чтобы я ее поцеловала.
— Да, но почему? — настойчиво переспросила Редиваль.
— Потому что… потому что тогда ее ребеночек станет красивым — так она сказала.
— Таким же красивым, как ты, — вот как она сказала. Не забудь это прибавить.
— И что ты сделала, Истра? — спросила я.
— Поцеловала ее. Она хорошая женщина. Она мне понравилась.
— И не забудь прибавить, что после этого она возложила тебе на голову миртовую ветвь, пала перед тобою ниц и посыпала свою голову пылью, — вставила Редиваль.
— Случалось ли такое раньше, Истра? — строго спросила я.
— Да, несколько раз.
— Сколько?
— Я не помню.
— Дважды?
— Нет, чаще…
— Раз десять?
— Нет, еще чаще. Я не знаю. Не могу вспомнить. Почему ты смотришь на меня так? Разве я сделала что-то дурное?
— Это опасно, это очень опасно! — сказала я. — Боги ревнивы. Они не терпят когда…
— Доченька, ну что ты такое говоришь? — перебил меня Лис. — Божественной природе не присуща ревность. Боги, какими вы их себе представляете, это только вымысел и сказки поэтов. Мы говорили об этом тысячу раз!
— Ох-о-хо! — зевнула Редиваль, лежа на спине и задрыгав ногами в воздухе, так что можно было рассмотреть все ее прелести (она делала это для того, чтобы смутить Лиса, потому что старик был очень застенчив). — Ох-о-хо, сестрица богини и служанка раба! Откуда ты знаешь, кто будет наследницей в Гломе? Посмотрим, что думает Унгит насчет нашей божественной сестрицы!
— Кто может знать, что думает Унгит, — тихо сказал грек.
Редиваль устала кататься на спине. Она легла лицом в траву и тихо сказала, глядя снизу вверх на грека:
— Зато очень нетрудно узнать, что думает насчет этого Жрец Унгит. Может, мне стоит сходить и спросить?
Непреодолимый страх перед Жрецом снова проснулся в моем сердце и соединил со страхом за наше будущее.
— Сестрица! — сказала Редиваль, обращаясь ко мне. — Отдай мне бусы из голубых камней, те самые, которые тебе подарила наша мать.
— Я отдам их тебе, как только мы вернемся домой, — сказала я.
— А ты, раб, — продолжала Редиваль, глядя на Лиса, — научись вести себя с царевной. И почаще советуй отцу выдать меня замуж за какого-нибудь царя. Да не за любого, а за молодого, красивого жеребца с широкими плечами и густой золотистой бородой. Ты ведь вертишь моим отцом как хочешь, когда он запирается с тобой в Столбовой зале. Ни для кого не секрет, кто из вас двоих на самом деле царь Гломский!
На следующий год в стране случился бунт. Поводом к нему послужило увечье, которое мой отец нанес Тарину. Юноша сам по себе был такого незнатного рода, что даже не совсем понятно, как он умудрился попасть ко двору, но у его отца были дела с людьми более знатными, и ему удалось подговорить на бунт девять князей из северо-западных земель. Мой отец сам возглавил войска (надо сказать, что, когда я увидела его в полном боевом облачении верхом на его любимом коне, мое сердце зажглось до тех пор неизвестной мне дочерней любовью) и одержал победу. Обе армии понесли огромные потери — большие, чем наша страна могла себе позволить, — и победа эта никого не порадовала. Наше положение стало еще более шатким.
На этот год снова был неурожай и появились первые признаки лихорадки. Осенью Лис подхватил ее и чуть не умер. Я не могла ухаживать за учителем, потому что, как только он слег, отец сказал мне:
— Ну вот, девочка, ты уже умеешь читать, писать и болтать по-гречески. У меня есть для тебя работа: ты будешь вместо Лиса.
И после этого разговора я почти переселилась в Столбовую залу, потому что работы для меня в те дни выдалось очень много. Хотя я была вне себя от страха за жизнь Лиса, я не могла не заметить, что помогать отцу оказалось не столь уж неприятно. На время он даже перестал меня ненавидеть. В конце концов он стал говорить со мной если не с любовью, то с уважением: так, как мужчина мог бы говорить с мужчиной. Я наконец поняла, в каком отчаянном положении мы оказались. Ни один из соседних домов божественной крови (а только с такими наша семья могла сочетаться законным браком) не отдавал дочерей в жены моему отцу и не хотел просватать его дочерей за своих царевичей. Наши собственные князья шептались о том, кто займет Гломский трон после отца. Со всех сторон нам грозили войной, а у нас не было сил, чтобы противостоять этим угрозам.
Вышло так, что Лиса выхаживала Психея, хотя это и было ей строго запрещено. Она могла даже побить или покусать того человека, который рискнул бы стать между ней и дверью комнаты Лиса. В ее жилах тоже текла гневливая кровь нашего отца, хотя гнев Психеи всегда шел от любви ее сердца. Лис одолел хворь, только стал совсем седым и старым. Но бог, который преследует наш род, все хитро продумал. История о том, что Психея ходила за Лисом и он выздоровел, разлетелась по всему городу. Одной Батты хватило бы, для того чтобы растрезвонить эту новость повсюду, а таких, как Батта, во дворце было не счесть. В устах у людей эта история превратилась в сказку о прекрасной царевне, которая исцеляет лихорадку одним своим прикосновением. Не прошло и двух дней, как у дворцовых ворот уже столпилась добрая половина жителей столицы. Кто только не пришел ко дворцу! Из нор своих выползли самые диковинные калеки, выжившие из ума старцы вдруг вообразили, что их жизни стоят того, чтобы их спасать, люди несли своих грудных младенцев и агонизирующих больных. Я стояла и смотрела на них сквозь зарешеченные окна дворца, и жалость просыпалась во мне от этого печального и страшного зрелища, от этого неистребимого запаха чеснока и немытых тел, стоявшего над пестрой толпой.
— Царевна Истра! — кричали несчастные. — Пришлите нам царевну, руки которой исцеляют! Мы умираем! Спаси нас! Спаси!
— Хлеба нам! Хлеба! — кричали другие. — Откройте царские амбары! Мы умираем с голода!
Сперва они не решались приблизиться к воротам, но потом осмелели. Не прошло и часа, как они уже замолотили в них кулаками.
— Принесите огня! — кричал кто-то, но сзади другие голоса слабо твердили: — Исцели нас! Исцели! Царевна с волшебными руками!
— Ей придется выйти к ним, — сказал отец. — Нам не сдержать толпу. (Две трети дворцовых стражей к тому времени скосила лихорадка.)
— Может ли она исцелить их? — спросила я у Лиса. — Веришь ли ты сам, что именно ее руки исцелили тебя?
— Кто знает? — сказал Лис. — То, что руки некоторых людей исцеляют, вполне в природе вещей.
— Выпустите меня! — сказала Психея. — Это же люди!
— Какие это люди! Это сброд! — сказал отец. — Они поплатятся за свою наглость, дайте только срок! Но не будем терять времени — оденьте девчонку. Она хороша собой, и смелости ей не занимать.
Психею облачили в царские одежды, возложили на голову венок и отворили перед ней дверь. Бывает, что заплакать не можешь, но грудь словно сотрясают рыдания. Так было со мной тогда, и так случается до сих пор, стоит мне только вспомнить, как Психея, тоненькая и хрупкая, вышла из прохладной тьмы дворцовых покоев в тлетворный зной городской площади. Когда дверь открылась, люди в панике отхлынули назад. Они ожидали не иначе как толпу воинов с копьями, но, увидев то, что они увидели, упали на колени. Красота Психеи (а многие из них никогда не видели царевну прежде) повергла их едва ли не в ужас. В наступившем молчании хорошо было слышно, как в толпе поднимается тихий стон, почти рыдание, которое становилось все громче и громче, пока не превратилось в нестройный многоголосый крик.
— Богиня! Это богиня!
Рев толпы прорезал звонкий голос какой-то женщины:
— Сама Унгит в человеческом образе почтила нас!
Психея шла среди всего этого безумия, спокойная и торжественная, как дитя идущее к доске отвечать урок. Она прикасалась к людям, и люди падали к ее ногам пытаясь поцеловать если не ступни ее, то хотя бы край одежды, или тень, или землю в том месте, где ступила ее нога. А Психея продолжала прикасаться к больным, и казалось, что этому не будет конца, потому что толпа на площади, вместо того что бы таять, все росла и росла. Это продолжалось несколько часов. Даже мы, стоявши в тени портика, изнемогали от невероятного зноя того полудня. Вся земля молила о ливне, который (теперь мы это знаем) так и не пришел. Я заметила, что Психея бледнеет прямо на глазах, а походка ее становится нетвердой.
— Великий Царь! — обратилась я к отцу. — Она умирает!
— Если она не доведет дело до конца, тогда умрем мы все. Нас просто растерзают, — сказал отец.
Все закончилось только на закате. Мы отнесли Психею в постель и уложили. К следующий день она уже металась в лихорадке. Но лихорадка не смогла одолеть ее. В бреду Психея часто говорила о чертогах из золота и янтаря на вершине Седой горы. Даже когда ей было совсем плохо, на ее лицо не падала тень смерти. Казалось, что смерть просто не отваживалась приблизиться к ней. И когда Психея окончательно выздоровела, ее красота стала еще более волшебной, чем прежде. Детство ее прошло — иной, более строгий и сильный свет излучало лицо девочки.
— «Нет, осуждать невозможно, — стихами пропел Лис, — что Трои сыны и ахейцы брань за такую жену и беды столь долгие терпят: истинно, вечным богиням она красотою подобна!»[11]
Часть заболевших лихорадкой выздоровела, часть умерла. Только богам ведомо, были ли выздоровевшие теми, к кому прикоснулась Психея, но боги, как всегда отмалчиваются. Люди, однако, были уверены, что дело обстояло именно так. Каждое утро у стен дворца мы находили приношения для Психеи: ветви мирта, венки вскоре и то, что обычно жертвовали только Унгит, — медовые лепешки и голубей.
— Тебе не страшно? — спросила я Лиса.
— Меня успокаивает одно, — ответил тот. — Жрец Унгит сам подхватил лихорадку, и вряд ли ему сейчас до нас.
В это время Редиваль вдруг ни с того ни с сего сделалась набожной и зачастила в Дом Унгит. Лис и я отнеслись к этому снисходительно, тем более что ее всегда сопровождал старый верный дворцовый раб, и мы не сомневались, что он не допустит ничего дурного. Мы полагали, что она молится о том, чтобы богиня послала ей мужа, или просто пользуется возможностью не видеть нас хотя бы несколько часов, а в этом наши желания вполне совпадали. Тем не менее я потребовала, чтобы она не заводила ни с кем разговоров во время этих паломничеств.
— Ах, сестрица, не беспокойся! — ответила на это Редиваль. — Мужчины, увидевшие хоть раз Психею, уже не делают никаких различий между мной и тобой. Мы с тобой не богини, нам жертв не приносят.
Глава четвертая
До тех пор я не имела никакого представления о нравах простых людей нашего города. Поэтому их преклонение перед Психеей, пугавшее меня, с одной стороны (и потому, что я с ужасом думала о том, как жестоко Унгит может покарать простого смертного, посягнувшего на положенные только ей почести, и потому, что я знала, как мстителен Жрец Унгит и сколько у него найдется вооруженных и сильных союзников среди многократно умножившихся недругов моего отца), с другой стороны, представлялось мне некоторой защитой от всех этих опасностей.
Спокойствие было недолгим, ибо мы не подумали о главном уроке, извлеченном чернью из случившегося: дворцовые врата открываются, если в них хорошенько постучать. Психея еще не успела полностью оправиться от недуга, а они уже снова ломились во дворец, требуя на сей раз зерна.
— Хлеба! Хлеба! Мы умираем с голоду! — кричала толпа. — Отворите царские амбары!
На этот раз Царь был вынужден уступить.
— В следующий раз вы ничего не получите! — сказал он собравшимся на площади. — Откуда у меня зерно, если земля не родит его?
— А почему? — громко выкрикнул в толпе кто-то.
— Где твои сыновья, Царь? Кто будет твоим наследником? — сказал другой.
— А вот у царя Фарса целых тринадцать сыновей! — сказал третий.
— У бесплодных царей и поля бесплодны, — подвел итог четвертый.
На этот раз Царь успел заметить, кто говорит; он незаметно кивнул стоявшим сзади лучникам. Быстрая стрела пронзила горло наглеца, и толпа обратилась в бегство. Но отец поступил неправильно: убивать нужно было или всех, или никого. В чем он был прав, мой отец, так это в том, что мы не могли больше раздавать народу зерно: после второго неурожайного года в царских амбарах осталось только наше собственное посевное зерно и ничего больше. Даже обитатели дворца вынуждены были довольствоваться луком, лепешками из бобовой муки и жидким пивом. С большим трудом мне иногда удавалось раздобыть лучшей пищи для выздоравливающей Психеи.
Дальше случилось вот что. Вскоре после того как Психея окончательно поправилась, я вышла из Столбовой залы, оставив там отца наедине с Лисом, и отправилась посмотреть, что поделывает Редиваль. Ведь моему отцу ничего не стоило задержать меня по делам на целый день, а затем накричать на меня за то, что моя сестра осталась надолго без присмотра. Но на этот раз она попалась мне сразу: Редиваль шла вместе с Баттой, возвращаясь из одного из своих обычных походов в Дом Унгит. Батту и Редиваль в те дни было водой не разлить; они так и шастали повсюду с вороватым видом по каким-то своим таинственным делам.
— А, сестричка-тюремщица! — воскликнула Редиваль. — Не извольте волноваться, я в полном порядке. Это не за мной стоило бы присматривать. Лучше скажи мне, где пропадает наша маленькая богиня?
— Полагаю, в царских садах, — ответила я. — И не такая уж маленькая — она тебя на голову выше.
— Ах, ужас-то какой! Не сказала ли я часом чего-нибудь богохульного? Как бы гром небесный не поразил меня! Да, я совсем забыла, что она у нас уже большая. Такая большая, что полчаса назад я безо всякого труда заметила ее на пустоши возле рынка. Царским дочерям не к лицу гулять одним по пустошам, но богини, разумеется, выше подобных предрассудков.
— Истра одна в городе! — воскликнула я.
— По крайней мере, была там, — визгливо добавила Батта. — Носилась как угорелая, задрав юбку.
И она попыталась показать, как носилась Психея. (Сколько я помню Батту, она всегда передразнивала всех, хотя была к этому совершенно не способна.)
— Я побежала за ней, за этой нахалкой, но она шмыгнула в чью-то дверь, и поминай как звали.
— Ладно, — сказала я. — Девочка, конечно, не должна была так делать. Но я не думаю, что она попадет в какую-нибудь беду.
— Не думаешь? — переспросила Батта. — Это как сказать.
— Ты спятила, няня! — сказала я. — Не прошло и шести дней с тех пор, как люди молились на нее.
— Я об этом ведать ничего не ведаю, — пробурчала Батта (которая, разумеется, прекрасно все знала). — Может, что и было, но нынче все по-другому. Я-то сразу видела, что ничего хорошего из этого волшебства не выйдет. Лихорадка-то пуще прежнего разыгралась! Вон вчера человек сто померло! Это мне шурин кузнецовой жены сказал. Люди поговаривают, что от ее-то рук все это и бывает — лихорадка то есть. Я тут говорила с одной старухой, так та говорит, что ее старика она тронула, а старик-то и помер сразу — даже до дому не донесли. И не одна она так говорит. А вот послушались бы старую Батту…
Но я уже не слышала брюзжания няньки; я вышла на порог и посмотрела в сторону города. Вид, знакомый мне с детства, показался мне в тот миг враждебным и чужим, странным и каким-то незнакомым. Наконец я заметила Психею, которая быстро шла к воротам дворца. По походке было видно, что сестра страшно устала. Когда Психея переступила порог, она сразу схватила меня за руку и поволокла во дворец. Она не сказала ни слова, пока мы не пришли в нашу опочивальню, но грудь ее сотрясали безмолвные рыдания, как у человека, у которого застрял ком в горле Затем она заставила меня сесть в кресло, села сама у моих ног и положила голову мне на колени. Мне сперва показалось, что она плачет, но когда Психея подняла лицо глаза ее были сухи.
— Сестра, — сказала она. — Что со мной?
— С тобой? Ровным счетом ничего, Психея, — ответила я. — Почему ты спрашиваешь?
— Почему они говорят, будто я проклята?
— Кто это посмел такое сказать? Мы прикажем вырвать ему язык! И где ты вообще была?
Психея рассказала мне все. Она пошла в город (что, по моему мнению, было весьма глупо с ее стороны), не сказав никому из нас ни слова. Пошла, потому что проведала что ее кормилица (та самая, которую подыскала ей я) заболела лихорадкой лежит в бреду. «Раз говорят, что мои руки исцеляют, кто знает — может, оно так есть… Почему бы не попробовать еще раз, решила я…»
Я сказала ей, что она поступила очень плохо, но она не стала оправдывать как провинившийся ребенок. Она просто посмотрела на меня спокойно и серьезно я впервые полностью осознала, что передо мной уже не дитя, а взрослая девушка, этого у меня заныло сердце.
— Но кто же назвал тебя проклятой? — спросила я.
— Ничего особенного не случилось, пока я не вышла из дома кормилицы; разве что никто почему-то не здоровался со мной на улице, а еще — женщины, завидев меня подбирали юбки и переходили на другую сторону. Но когда я пошла домой, мне повстречался мальчик — очень милый мальчуган лет восьми. Он посмотрел на меня и плюнул мне под ноги. «Какой невоспитанный мальчишка!» — сказала я со смехом и протянула к нему руку. Он вытаращился на меня как на гадюку и с ревом убежал. После этого некоторое время никто мне не попадался, а затем я повстречалась с несколькими мужчинами. Они посмотрели на меня не по-доброму, а за спиной у меня начали шептаться: «Проклятая идет! Проклятая! Она вообразила себя богиней!» А один из них сказал: «Она навлечет проклятие на всех нас!» И они стали швырять в меня камнями. Нет, они не попали в меня, но мне пришлось убежать от них. Почему они себя так вели? Что я им такого сделала?
— Что ты такого сделала? — переспросила я. — Ты их вылечила и благословила, ты взяла на себя их поганую хворь. И вот их благодарность! Если бы они мне попались, я бы разорвала их на клочки! Встань, дитя, мне надо идти. Что бы ни случилось, помни — мы царские дочери. Я иду к Царю. Пусть он будет бить меня и таскать за волосы, но я заставлю его выслушать меня. А мы им еще хлеба дали! Да я…
— Тише, сестрица, тише! — сказала Психея. — Не могу слышать, когда он обижает тебя. Я так устала и хочу ужинать. Сядь, успокойся, не гневайся. Ты так похожа в гневе на нашего отца! Лучше поужинаем вместе. Нам грозит какая-то беда — я давно уже это чувствую, — но сегодня вечером мы в безопасности. Я сама позову служанок.
Хотя то, что сказала Психея про мой гнев, уязвило меня в самое сердце, я сдержала себя и постаралась успокоиться. Мы поужинали и немного развеселились, так что у нас нашлись силы даже для шуток и игр. Этого боги никогда не смогут у меня отнять — я навечно запомнила каждое ее слово и движение в тот вечер.
Но, как ни тревожно было у меня на сердце, ничего страшного не случилось и на следующий день (я до сих пор не могу понять, почему беда так долго медлила). Прошло еще немало дней, но ничего не произошло, хотя участь Глома становилась день ото дня все более и более незавидной. В Шеннит почти не осталось воды — река превратилась в чахлый ручеек, пробиравшийся через гниющие кучки водорослей; казалось, что река умерла и теперь разлагается на жаре. Рыба сдохла, птицы — тоже, а те, которые уцелели, улетели в другие края. В городе был перерезан весь скот, а тот, что остался, годился в пищу не больше, чем высохшие кости. На пасеках погибли все пчелы. Львы, о которых никто уже не слышал целую вечность, явились из-за Седой горы и порезали тех немногих овец, которых пощадила бескормица. Лихорадка, казалось, поселилась у нас навсегда. Все эти дни я прислушивалась и присматривалась, когда мне это удавалось, ко всем, кто входил и выходил из царского дворца. К счастью, в ту пору у отца было особенно много работы для меня и для Лиса. У нас не проходило и дня без гонца или письма из какого-нибудь сопредельного царства: наши соседи грозили нам, требовали от нас невозможного, напоминали о старых обещаниях, втягивали в раздоры, которые нас не касались. Они знали, как обстоят дела в Гломе, и кружились, как мухи над падалью. Отцу моему случалось в то время впадать в гнев по десяти раз на дню: в ярости он мог отвесить Лису пощечину или оттаскать меня за волосы, но потом ярость сменялась отчаянием — слезы стояли в его глазах. Тогда он начинал говорить с нами таким голосом, каким ребенок просит о помощи, забыв, что царь — он, а мы только его советники.
— Мы в западне! — воскликнул он как-то. — Нас сожрут по кусочку. Что такого я натворил, что боги гневаются на меня? Я всегда почитал богов и приносил им жертвы.
Единственный добрый знак заключался в том, что лихорадка, казалось, оставила наш дворец в покое. Много рабов умерло, но из воинов не пострадал почти никто. Только одного унесла болезнь, все остальные уже могли носить оружие.
Вскоре мы узнали, что Жрец Унгит также оправился от болезни. Болел он очень долго, потому что, уже перенеся лихорадку один раз, подхватил ее снова, так что чудом остался в живых. Самым страшным было то, что мор уносил по большей части детей и молодежь, а старики, как правило, выживали. На седьмой день после выздоровления Жрец пожаловал во дворец. Царь увидел в окно Жреца со свитой (я тоже заметила их), удивленно поднял брови и сказал:
— Хотел бы я знать, для чего старая развалина прихватила с собой стражу? Надо сказать, что у Дома Унгит была своя, отдельная стража, подчинявшаяся только Жрецу. Стражники из ее числа, вооруженные копьями, в немалом количестве следовали во дворец; четверо несли паланкин, в котором восседал Жрец. Не доходя до ворот, стражники сложили копья, но сами последовали за паланкином.
— Что это? — спросил вслух отец. — Измена или просто бравада?
Затем он отдал какой-то приказ начальнику дворцовой стражи. Не думаю, чтобы он хотел довести дело до драки. Скорее этого хотелось мне. Я была еще молода и глупа и никогда не видела, как бьются между собой мужчины. Поэтому мне не было страшно — напротив, меня охватило какое-то приятное волнение.
Паланкин поставили на землю, и Жрец вышел из него. Он очень постарел и совсем ослеп, так что девушки из Дома Унгит вели его под руки. Я и раньше видела служительниц Унгит, но только при тусклом свете факелов внутри Дома. Под ярким солнцем они выглядели очень странно в своих огромных париках, уложенных при помощи воска. Лица их были так сильно накрашены, что казались деревянными масками. Только эти две девушки и Жрец вошли во дворец, воины же остались снаружи.
— Заприте за ними двери! — распорядился отец. — Не думаю, чтобы старый волк сам полез в западню, если у него недоброе на уме. На всякий случай будем все же осторожны.
Девушки ввели Жреца в Столбовую залу и усадили его в поставленное для него кресло. Напряжение утомило старца, и он долго переводил дыхание, перед тем как заговорить. В молчании он по-старчески двигал челюстями, словно жевал что-то беззубыми деснами. Девушки неподвижно стояли по сторонам кресла и смотрели на нас лишенными всякого выражения глазами. Запах старости, запах благовоний и притираний, которыми умащались девушки, наполнил дворец. Так пахла Унгит, так пахла святость.
Глава пятая
Отец приветствовал Жреца, сказал, что радуется вместе с ним его выздоровлению, и приказал подать вина. Но Жрец сделал протестующий жест рукой и промолвил:
— Не надо вина, Царь! Я дал обет, что не буду вкушать ни вина, ни пищи, пока не передам тебе то, что велела сказать богиня.
Голос его был тихим, речь — медленной, и тут я впервые заметила, как сильно исхудал он за время болезни.
— Как тебе будет угодно, слуга Унгит, — сказал Царь. — Говори!
— Я буду говорить с тобой, Царь, от лица Унгит, от лица всех старейшин и знатных людей Глома…
— А их волю как ты узнал?
— Мы все собрались — по крайней мере все те, от кого что-то зависит, — вчера вечером и совещались до зари в Доме Унгит.
— Вы совещались, чума вас побери! — вскричал мой отец, и лицо его перекосилось от гнева. — Что это за новости? Вы собираетесь, не спросив позволения у вашего Царя, более того — даже не оповестив его!
— Нам не было нужды в тебе, Царь! Мы собрались не для того, чтобы выслушать, что скажешь нам ты. Мы собрались, чтобы решить, что скажем тебе мы.
Глаза отца налились кровью.
— Мы собрались, — продолжал Жрец, — и вспомнили все беды, которые обрушились на нас. В стране голод, и ему не видно конца. В стране мор. В стране засуха. Стране грозит война не позже начала весны. Страну опустошают львы. И наконец, нас нет наследника престола, и Унгит прогневана этим…
— Довольно, — закричал Царь. — Старый дурак, неужели ты думаешь, что только ваши ослиные головы болят от этих забот? Как ты сказал: Унгит прогневана? То почему же Унгит не вмешается и не поможет нам? В жертвенной крови тельцов и овнов, которую я пролил для нее, мог бы плавать целый флот!
Жрец уставился на Царя так, словно видел его своими слепыми глазами. И только теперь я поняла, что худоба сделала его похожим на грифа-стервятника. И от этого он стал еще страшнее прежнего. Отец не выдержал слепого взгляда и отвел глаза.
— Ни бычья, ни баранья кровь не утолит жажды Унгит и не очистит нашей земли в ее глазах, — заговорил Жрец. — Я служу богине уже пятьдесят, нет, целых шестьдесят три года — и одно я знаю точно: гнев Унгит не бывает беспричинным и отвратить его может только очистительная жертва. Я приносил жертвы еще при твоем отце и отце твоего отца, и я знаю хорошо, о чем я говорю. Задолго до того как ты вступил на трон, в наши земли вторглось войско царя Эссурского. Это случилось потому, что один из воинов твоего деда познал собственную сестру, и она понесла и родила ребенка, которого воин убил. За это он был проклят богиней. Мы узнали, в чем дело, принесли проклятого в жертву, и гнев богини прошел. Наши воины перерезали эссурцев как стадо баранов. Твой отец мог бы рассказать тебе, как одна молодая женщина, еще совсем дитя, втайне прокляла имя сына Унгит, бога Горы. И через это случился потоп, ибо она была проклята. Мы нашли проклятую, и тогда Шеннит вновь вошла в свои берега. И ныне проклятие навлек на нас тот, кто возмутил Унгит своими поступками, но на этот раз гнев богини велик как никогда. Поэтому мы и собрались прошлой ночью в Доме Унгит, чтобы найти того, кто навлек на себя ее проклятие. Любой из нас мог оказаться проклятым, но это не остановило нас. И я тоже согласился с этим решением, хотя проклятым мог оказаться и я — и даже ты, Царь. Мы были единодушны в своем решении, потому что знали: беды не оставят нашу страну в покое, пока не свершится очищение. Унгит должна получить причитающееся ей. На этот раз ей мало овна или даже тельца.
— Богиня просит человеческой крови?
— Да, — сказал Жрец. — Унгит просит человеческой крови.
— Но у меня нет сейчас в плену ни одного врага! Если поймают какого-нибудь вора, я сразу же велю зарезать его на жертвеннике Унгит, если таково ее желание.
— Вор не утолит голода Унгит. Ты это и сам прекрасно понимаешь. В жертву должен быть принесен проклятый. Или проклятая. А вор — это все равно что телец или овен. Речь идет не о простом жертвоприношении, нам нужна Великая Жертва. В горах снова видели Чудище. Это верный знак того, что нужна Великая Жертва. Проклятого нужно отдать Чудищу.
— Чудище? Мне ничего об этом не сказали…
— Видно, не все новости доходят до царей. Бывает, они даже не знают, что творится в их собственном дворце. Но я знаю все. Долгими ночами я лежу и не сплю, и Унгит рассказывает мне обо всем. Она поведала мне, что некоторые смертные дошли до подражания бессмертным богам. Они присваивают себе почести, на которые имеют право только небожители…
Я посмотрела на Лиса и беззвучно шепнула ему краешком губ:
— Редиваль…
Царь встал и заходил по зале, скрестив за спиной руки.
— Ты впал в детство, старик! Никакого Чудища нет — все это бабушкины сказки.
— Ты прав, Царь, — спокойно промолвил Жрец. — Именно во времена твоей бабушки Его в последний раз и видели. Мы принесли Великую Жертву, и Оно ушло.
— И на что же Оно похоже? — недоверчиво спросил отец. — Видел-то Его кто?
— Кто видел Его вблизи, ничего уже нам не расскажет, Царь. Но живы те, кто видел Его издалека. К примеру, видел Его начальник царских пастухов. Было это в ту самую ночь, когда появился первый лев. Пастух пошел на льва с горящим факелом и в свете факела увидел Чудище. Оно было позади льва — большое, черное и ужасное видом.
Когда Жрец сказал это, отец подошел к столу, где лежали таблички и другие письменные принадлежности. За этим столом сидели мы с Лисом. Отец наклонился, и Лис что-то шепнул ему на ухо.
— Хорошо сказано, грек! — воскликнул отец. — Повтори-ка это служителю Унгит!
— С царского позволения, — сказал Лис, вставая, — не следует придавать слишком много значения россказням пастуха. В руках у него был факел, следовательно, лев должен был отбрасывать большую черную тень. Человек этот был испуган и не вполне проснулся. Тень показалась ему чудовищной тварью.
— Это все греческая премудрость, — перебил его Жрец. — А у нас в Гломе не принято спрашивать мнения раба, даже если он — царский любимчик. Пусть это была тень — что с того? Многие полагают, что Чудище и есть тень. Но если эта тень придет к нам в город, всем нам не поздоровится. Ты сам ведешь свой род от богов, и тебе нечего бояться. Но простые люди устроены иначе. Страх сделает их неуправляемыми, и даже мое слово не сможет остановить их. Они сожгут твой дворец у тебя на глазах. Они сожгут тебя вместе с ним. Принеси Великую Жертву — и ничего этого не случится.
— Но как это делается? — спросил Царь. — На моей памяти Великую Жертву не приносили ни разу.
— Ее приносят не в Доме Унгит, — объяснил Жрец. — Жертву отдают Чудищу. Тайное знание говорит, что Чудище — сын Унгит, или сама Унгит, или они оба в одном лице. Жертву отводят на вершину Горы, привязывают к Священному Древу и оставляют. Чудище приходит за ней само. Вот почему ты оскорбил Унгит, Царь, предложив ей в жертву вора. Великая Жертва должна быть чистой, ибо она становится женихом Унгит, если это мужчина, или невестой ее сына, если это — женщина. Когда жертва мужского пола, то в Чудище вселяется Унгит, когда женского — сын Унгит, и Чудище возлегает с жертвой. Но Великую Жертву называют также Ужином Унгит, потому что Чудище пожирает ее… а может, и нет… много разного говорят об этом. Это — великая тайна, величайшая. Некоторые утверждают, что для Чудища пожирать и любить — одно и то же. Ибо на священном языке мы говорим, что, когда женщина возлегает с мужчиной, она пожирает его. Вот почему ты заблуждаешься Царь, полагая, будто жалкий вор, или дряхлый раб, или трус, сдавшийся во время битвы, могут послужить Великой Жертвой. Самое чистое создание в наших краях — и то будет недостойно сочетаться с Чудищем.
Я заметила, что лоб отца покрылся испариной. В зале витало ощущение чего-то святого, таинственного и ужасного. И тут Лис не выдержал.
— Хозяин! — вскричал он. — Позволь мне сказать!
— Говори! — разрешил Царь.
— Неужели не ясно, хозяин, что служитель Унгит говорит бессмыслицу? Тень него — это животное, которое притом еще и богиня и бог в одном лице, и любит оно пожирая предмет любви! Да шестилетний ребенок не поверит таким сказкам! Еще недавно Жрец говорил нам, что в жертву должен быть принесен проклятый — иными словами, самый плохой и гнусный из наших граждан. Теперь же он говорит, что супругом Чудища может стать только самое чистое существо во всем нашем краю, для него это будет не наказанием, а великой честью. Спроси его, где же здесь правда. Он противоречит сам себе!
Когда Лис только начал говорить, в моей груди проснулась надежда, но когда он смолк, эта надежда умерла. Лис повел свою речь не так, как было нужно. Я знаю что с ним случилось: он забыл о своей обычной осторожности, забыл даже в какой то степени о своей любви к Психее, о желании спасти ее. Просто слова Жреца настолько противоречили здравому смыслу, что грек не выдержал и вспылил. (Мне довело узнать позже, что не только греки, но и все люди, наделенные ясным рассудком живой речью, поступают в подобных случаях так же неосторожно.)
— Может быть, хватит с нас на сегодня греческой премудрости, Царь? — сказ Жрец. — Я не так глуп, и я не позволю рабу поучать меня. Я тоже люблю побаловаться тонкими рассуждениями, но от них поля не начнут приносить урожай, а небеса не прольются дождем. А жертва, как мы знаем, нужна именно для этого. Этот грек твой раб, стал рабом, потому что на поле боя он бросил оружие, позволил взять его в плен, вместо того чтобы пронзить себе сердце копьем, как настоящий воин. Что может понимать в божественных делах, которые требуют от человека смелости и веры. Я имею дело с богами уже давно. Три поколения сменились на моей памяти. Я знаю что боги крутят нами как хотят, что мы для них — не больше чем пузыри, которые вмиг возникают на речной глади. Воля богов не видна нам так ясно, как буквы в греческой книге, — трудно понять, чего они хотят от нас. Там, где пребывают боги, царит тьма, а не свет. Им принадлежат наши силы и наши жизни, а вовсе не наши речи и знания. Святое знание не такое, как вода, оно — не легко и прозрачно, оно — темно и вязко, как кровь. Нет ничего невозможного в том, чтобы проклятый был в одно и то же время и самым лучшим и самым худшим из нас.
В полумраке служитель Унгит казался мне похожим на ту самую зловещую птицу, которую изображала маска, висевшая у него на груди. Голос его, по-прежнему негромкий, обрел силу и больше не казался голосом дряхлого старика. Я посмотрела на Лиса и увидела, что тот опустил глаза вниз. Видно, то, что сказал Жрец про плен и про битву, задело его за живое. Если бы я была царицей, я бы не раздумывая приказала тут же повесить Жреца и провозгласить царем Лиса. Но тогда у меня еще не было никакой власти.
— Ладно, не будем спорить, — пробурчал Царь, не переставая расхаживать быстрым шагом по зале. — Я не жрец и не грек, я в этих делах ничего не понимаю. Мне всегда казалось, что я — царь, не так ли? Продолжай, старик!
— Для того чтобы найти, на кого пало проклятие, мы стали кидать священный жребий. Сперва мы спросили, не из простонародья ли проклятый, но оракул сказал, что нет.
— Так-так! Продолжай, продолжай!
— Я не могу говорить быстро, — возразил Жрец. — Мое горло еще слишком слабо. Итак, мы спросили у оракула, не следует ли нам искать проклятого среди старейшин. Но оракул снова ответил «нет».
Лицо Царя после этих слов пошло пятнами: казалось, что в нем борются друг с другом страх и гнев, и непонятно было, что возьмет верх.
— Затем мы спросили, не среди высокородных ли искать проклятого. Оракул снова сказал «нет».
— И что вы спросили тогда? — тихо сказал Царь, подступив к Жрецу и склонившись над ним.
Жрец спокойно продолжил:
— И тогда мы спросили, не следует ли нам искать проклятого в царском дворце. И оракул сказал нам: «Да!»
— Ага! — едва слышно сказал Царь. — Ага! Я так и думал. Я понял с самого начала, к чему ты клонишь. Измена, прикрытая божественными речами. Измена.
И тут мой отец сорвался на крик:
— Измена! Измена! Стража! Бардия! Где мои воины? Где Бардия? Бардию ко мне! Гремя доспехами, стражники влетели в залу. Впереди бежал начальник стражи по имени Бардия — человек, безмерно преданный моему отцу.
— Бардия! — сказал Царь, обращаясь к нему. — У ворот дворца собралось слишком много народу. Возьми с собой отряд воинов и пронзи копьями изменников, которые засели у наших ворот. И чтобы ни один не остался в живых, понял? Пленных не брать!
— Ты приказываешь убить людей из храмовой стражи, повелитель? — переспросил Бардия, переводя взгляд с Царя на Жреца и обратно.
— Храмовых крыс! Храмовых евнухов! Как ты смеешь называть этот сброд храмовой стражей! — закричал Царь. — Может, ты боишься их? Да я тебя!.. Да я!..
— Не делай глупостей, Царь! — сказал Жрец. — Все люди Глома взялись за оружие. У каждой двери дворца уже стоит по отряду вооруженных воинов. Их в десять раз больше, чем твоих людей. К тому же твои люди не окажут сопротивления. Будешь ли биться против Унгит ты, Бардия?
— Неужто ты предашь меня, верный Бардия? — вскричал Царь. — Ты ел мой хлеб и пил мое вино. Мой щит спас тебя от смерти, когда мы бились с врагом в чащобе Барина.
— Ты спас мне тогда жизнь, Царь, — сказал Бардия. — Я никогда не забуду этого. Пусть Унгит поможет мне спасти твою. Мой меч всегда будет служить трону Глома и богам Глома. Но если и трон и боги не в ладу между собой, они должны сперва разобраться сами, а затем звать меня на помощь. Я воин, а не колдун, я не обучен воевать с богами и духами.
— Ты не воин, а баба! — заорал Царь. — Убирайся! Я разберусь с тобой позже! Бардия отдал честь и с достоинством удалился: видно было, что он обиделся на Царя не больше, чем взрослый пес обижается, когда зарвавшийся щенок укусит его за хвост.
Как только дверь затворилась за Бардией, Царь, с побелевшим лицом, встал, выхватил из ножен клинок (тот самый, которым он убил в свое время мальчика-виночерпия), одним кошачьим прыжком метнулся к креслу Жреца и приставил клинок к груди старика, так что острие его разрезало ткань священной одежды и уткнулось в дряблую кожу.
— Старый дурак! — прошипел он. — Чего стоит весь твой заговор теперь? Ты чувствуешь, как щекочет тебя мой клинок? А если я поверну его вот так? Или вот так? Я могу вонзить его в твое сердце медленно или быстро, выбирай сам. Чего стоят твои трутни, которые вьются вокруг дворца, если царица улья в моих руках? Что ты на это скажешь?
Я никогда не видела человека, который держался бы в подобном положении с таким спокойствием, как это делал Жрец. Люди начинают волноваться, если им между ребер приставить палец, не то что острый клинок. Но у Жреца на лице не дрогнул ни один мускул. Бесстрастным голосом он произнес:
— Вонзай клинок быстро или медленно, Царь, мне это все равно. Великая Жертва будет принесена, даже если ты убьешь меня. Моя сила от Унгит и слова мои от Унгит. И мертвый я не оставлю тебя, потому что жрецы умирают не так, как простые смертные. Они возвращаются. Тень моя будет посещать твой дворец ночью и днем. Она будет невидимой для всех, Царь. Для всех, кроме тебя.
Лис учил меня, что Жрец — просто очень хитрый человек, который произносит от лица Унгит то, что ему выгодно. Цель его, по словам учителя, заключалась в том, чтобы увеличить свою власть и богатство и извести своих врагов. Но в тот миг я поняла, что дела обстоят значительно хуже: Жрец на самом деле верит в Унгит. Я видела, как он сидит, не шелохнувшись, с клинком, приставленным к самому сердцу, и смотрит на Царя незрячими глазами, и я осознала, что я сама верю в богиню не меньше, чем Жрец. Не смертные люди ополчились против нас: зала была полна незримых сил, наполнена невидимым ужасом.
Зарычав, как раненый зверь, отец мой вернулся к своему креслу, устало откинулся и провел руками по лицу.
— Продолжай! — сказал он Жрецу. — Говори все.
— Затем, — сказал Жрец, — мы спросили у оракула, не Царь ли проклят богиней. И оракул сказал нам: «Нет!»
— Что? — изумленно спросил Царь. И дальше случилось то, о чем я до сих пор вспоминаю со стыдом. Лицо моего отца просветлело. Мне даже почудилось, что он с трудом удержался от смеха. Я полагала, что он чувствовал, что речь идет о Психее, и боялся за свою дочь, но оказалось, что все это время он думал только о себе. О нас он и не вспоминал. Однако при этом все утверждают, что на поле боя он был смельчаком, и у меня нет никаких оснований им не верить.
— Продолжай! — сказал он заметно изменившимся голосом, словно он помолодел на добрый десяток лет.
— Оракул сказал, что проклятие пало на твою младшую дочь, Царь. Проклятая — это она. Царевна Истра должна принести себя в жертву Чудищу.
— Какой ужас! — сказал Царь печальным и взволнованным тоном, но я видела, что он притворяется. Ему было просто стыдно, что кто-то может услышать облегчение в его голосе. И тут я обезумела. Я кинулась к его коленям, обняла их, как это делают просители. Я плакала, умоляла, говорила какие-то нелепые слова, называла его отцом первый раз в моей жизни. Мне показалось, он только обрадовался тому, что ему предоставился случай отвлечь внимание от собственной персоны. Он пнул меня ногой так, что я сильно ударилась о каменный пол, затем схватил за плечи и отшвырнул прочь.
— Ты! — прикрикнул он на меня. — Ты, дрянь! Как ты посмела поднять голос на совете мужей? Ведьмино отродье, ночное страшилище, жалкая тварь! Хватит с меня гнева богов, а тут еще ты на мою голову! Хорошо хоть, что не укусила! Бешеная дикая лисица; скажи мне спасибо, что я не велю наказать тебя плетями! Унгит всеблагая, мало мне жрецов, львов, черных чудищ, трусов и изменников, так тут на меня еще кусачие девки бросаются!
Я чувствовала, что, ругая меня, он просто отводит душу. От сильного удара у меня перехватило дыхание, и я не могла говорить. Даже разрыдаться не могла. Я лежала и слышала, как они сговаривались погубить Психею. Они хотели заточить ее в собственной комнате, но потом передумали и решили, что надежнее запереть ее в комнате с пятью стенами. Стражу будут нести наши воины вместе с охраной храма, поскольку ни тем ни другим доверять полностью нельзя — люди переменчивы. Может, найдутся и такие, что попробуют устроить побег. Они говорили обо всем этом так спокойно и рассудительно, словно готовились к какому-нибудь путешествию или пиршеству. Но тут сознание оставило меня, и я провалилась в гулкую темноту.
Глава шестая
— Она приходит в себя, — услышала я. Это был голос отца:
— Возьми-ка ее с другой стороны, Лис. Нужно поднять ее в кресло.
Я почувствовала, что меня поднимают (глаза мои все еще не открывались). К моему великому удивлению, руки у отца оказались ласковыми и мягкими. Позже я узнала, что у бывалых воинов часто руки такие.
Я открыла глаза. Кроме нас троих, в зале уже никого не было.
— Пей, девчонка, тебе нужно выпить, — сказал отец, поднося чашу с вином к моим губам. — Фу, что ты морщишься, ты же не маленькая! Вот так-то будет лучше. Если в этом паршивом дворце остался хоть кусок сырого мяса, возьми его и приложи к ушибам. И запомни, дочь, ты зря встряла в это дело. Женщинам не стоит становиться на пути у мужчин, особенно у собственных отцов.
Я заметила, что ему стыдно, только не поняла, чего именно он стыдится: того ли, что он ударил меня, или того, что он отдал Психею врагам безо всякой борьбы. Мне стало жалко его: таким он был слабым и нерешительным, этот Царь.
Отец поставил чашу на стол и сказал:
— Что решено, то решено. Кусанье и царапанье делу не помогут. Спроси у Лиса — он тебе скажет, что такое случается даже в его хваленой Греции. Он мне только что рассказал о подобном случае.
— Хозяин, — промолвил Лис. — Я не успел довести до конца мой рассказ. Да, действительно, был в Греции царь, который принес свою дочь в жертву богам[12]. Но потом жена царя убила его, а сын убил жену, свою мать, и боги Аида наслали безумие на сына.
Отец почесал затылок и слегка побледнел.
— Что ж, — сказал он. — Это вполне в духе богов. Сперва они заставляют тебя сделать что-нибудь, а потом наказывают за содеянное. Счастье мое, грек, что у меня нет ни жены ни сына!
Дар речи вернулся ко мне, и я заговорила.
— Царь, — сказала я, — ты не сделаешь этого. Истра — твоя дочь. Ты не имеешь права. Ты даже не попробовал спасти ее. Из любого положения есть выход. В нашем распоряжении еще несколько дней…
— Дура, — перебил меня отец. — Жертвоприношение состоится завтра!
Я чуть снова не потеряла сознание. Эта новость была такой же ужасной, как и первая. Даже ужаснее. До этого еще не все было потеряно; будь у нас в запасе хотя бы месяц — кто знает, что можно было бы предпринять!
— Так лучше, доченька! — шепнул мне на ухо Лис. — Так лучше и для нее, и для нас.
— Что ты там шепчешь, грек? — сказал Царь. — Вы смотрите на меня так, будто я — чудище о двух головах, которым пугают маленьких детей. А что мне оставалось делать? Вот ты, хитрец, что бы ты сделал на моем месте?
— Сперва я попытался бы выиграть время. Я бы сказал, что у царевны сейчас ее дни и она не может сочетаться браком. Я бы сказал, что во сне мне было повеление не совершать Великой Жертвы до конца новолуния. Я бы подкупил свидетелей, которые бы сказали под присягой, что Жрец сплутовал с оракулом. За рекой найдется человек шесть-семь, которые арендуют землю у храма и не в ладах с владельцем земли. Я бы устроил пир. Все что угодно, только бы протянуть время. Если бы у нас было в распоряжении дней десять, я бы отправил гонца к царю Фарсы. Я предложил бы ему взять все, что он хочет, без войны, лишь бы он явился с войском и спас царевну. Я бы предложил ему Глом и свою корону.
— Что? — зарычал Царь. — Чужое-то не раздаривай, раб!
— Хозяин, я бы отдал не только трон, но самую жизнь за царевну Истру. Зачем сдаваться без борьбы? Вооружим рабов, пообещаем им свободу, если они будут биться не за страх, а за совесть. Да одних дворцовых людей хватит, чтобы постоять за наше дело. В худшем случае мы умрем, но не запятнаем своих рук невинной кровью. В Нижнем мире не жалуют детоубийц.
Царь бессильно рухнул в кресло. Затем он начал говорить таким тоном, каким учителя говорят с особо тупыми учениками (раньше я уже слышала, как Лис разговаривал подобным же тоном с Редивалью).
— Я — царь. Я спросил у вас совета. Советники существуют для того, чтобы помогать правителю крепить царство и увеличивать владения. Для этого и берут советников. А ты мне советуешь зашвырнуть венец на печку и продать страну врагу, который не замедлит перерезать мне глотку. Так ты в следующий раз скажешь, что топор палача — лучшее лекарство от зубной боли!
— Понятно, хозяин, — сказал Лис. — Приношу мои извинения. Я как-то совсем запамятовал, что в первую очередь мы должны заботиться о твоей безопасности.
Я хорошо знала своего учителя, поэтому заметила, что во взгляде его при этом было такое презрение, какое хуже пощечины или плевка. Лис часто смотрел на отца подобным образом, но мой отец мало интересовался выражением чужих глаз. Я решила, что слова дойдут до него лучше.
— Царь, — сказала я, — в наших жилах течет кровь богов. Может ли наш род потерпеть такой позор? Когда ты умрешь, люди будут вспоминать тебя как царя, который прикрылся женщиной, чтобы спасти свою шкуру.
— Ты только послушай ее, Лис! — воскликнул Царь. — И она еще удивляется, что я ей глаз подбил! Она еще удивляется, что я ей испортил лицо, если такое лицо можно чем-то испортить! Послушай, дочь, не заставляй меня дважды на дню лупцевать тебя. Мне этого совсем не хочется.
Он встал и снова принялся мерить шагами залу.
— Чума вас всех побери! — сказал он. — Вы что, меня с ума свести хотите? Можно подумать, это вашу дочь отдают на растерзание Чудищу! Женщиной прикрылся вы говорите? Никто из вас не хочет вспомнить, что она — моя дочь, плоть от плот моей. Часть меня. Это я должен неистовствовать, а не вы. Да разве пошел бы я на это, если была бы хоть малейшая возможность увернуться! Что-то другое скрывается за вашими уговорами и причитаниями. Ведь не хотите же вы, чтобы я и на само деле поверил, что между двумя единокровными сестрами возможна такая пылкая любовь? Это противоестественно! Но я выведу вас на чистую воду…
Не знаю, насколько верил он сам в то, что говорил. Вполне возможно, что и верил. Когда мой отец был не в себе, он был готов поверить во все что угодно. К тому же он, единственный во всем дворце, ничего не знал об отношениях между собственными дочерьми.
— Да, — сказал Царь, уже успокаиваясь, — кого здесь стоит пожалеть, так это меня. Это я приношу себя в жертву. Но я исполню свой долг до конца. Я не имею права губить страну даже во имя жизни собственной дочери. Мы ведем пустые разговоры. Все предрешено. Мне жаль девчонку, но Жрец совершенно прав. Унгит должна получить причитающееся ей. Разве безопасность страны не дороже жизни любого из нас? В каждой битве случается так, что один умирает, чтобы спасти многих. Вино и ярость вернули мне силу. Я встала с кресла.
— Отец, — сказала я, — ты прав. Кто-то должен умереть, чтобы спасти свой народ. Отдай Чудищу меня вместо Истры!
Царь, не говоря ни слова, подошел ко мне, взял меня (ласково, как мне показалось) за руку и отвел меня к противоположной стене залы, где висело большое зеркало. Ты можешь сказать, что зеркало более уместно в опочивальне, но мой отец так гордился своим зеркалом, что хотел, чтобы его видел каждый посетитель дворца. Зеркало это было привезено из дальних стран, и ни у одного царя в наших краях не было подобного. Зеркала, которые делают у нас, дают только тусклое и кривое изображение; в этом же отражение невозможно отличить от оригинала. Поскольку раньше мне никогда не случалось оставаться в Столбовой зале одной, я никогда не смотрелась в него. Царь подвел меня к зеркалу и стал рядом со мной.
— Унгит просит себе лучшее, что у нас есть, а ты хочешь, чтобы я дал ей вот это, — сказал он.
Мы постояли у зеркала некоторое время в полном молчании; может быть, отец ждал, что я расплачусь или отведу взгляд. Наконец он промолвил:
— А теперь убирайся! Не выводи меня из себя снова. И не забудь приложить к лицу сырое мясо. Мы с Лисом остаемся здесь — у нас очень много работы.
Как только я вышла из Столбовой залы, я почувствовала резкую боль в боку. Очевидно, при падении я что-то себе повредила. Но я сразу забыла об этом, едва увидела, как переменился наш дворец за это малое время. Всюду было полно людей. Все дворцовые рабы шныряли по коридорам, собирались в кучки и беседовали между собой вполголоса с самым важным видом. (Так бывает всегда, когда что-то готовится, — теперь-то я это знаю.) У портика толпилась храмовая стража, а в прихожей сидело несколько девушек из Дома Унгит. От них пахло каждениями и святостью; казалось, что Унгит захватила весь наш дворец.
У лестницы я столкнулась с Редивалью, которая кинулась мне навстречу. Лицо ее было заплакано, и она тараторила без умолку:
— Какой ужас, сестрица, какой ужас! Бедная, бедная Психея! Речь идет только о ней, правда? Они же не собираются принести всех нас в жертву? У меня и мысли такой не было… Я не хотела ничего плохого… я тут вообще ни при чем — ох! ох! ох!
Я наклонилась, посмотрела ей прямо в лицо и сказала очень тихо и отчетливо:
— Редиваль, если мне хоть на час удастся стать царицей Гломской, я велю подвесить тебя за ноги над костром и поджаривать на медленном огне, пока ты не умрешь.
— Жестокая, жестокая сестрица, — зарыдала Редиваль. — Как ты можешь так говорить? Я и без того так несчастна! Лучше бы пожалела меня.
Я оттолкнула ее и прошла мимо. Я хорошо знала цену слезам Редивали. Не то чтобы они были совсем деланными, но стоили они не больше, чем вода из лужи. Сейчас я точно знаю (а тогда я только догадывалась), что именно она рассказала все жрецу Унгит и сделала это сознательно, желая причинить Психее зло. Я легко могу поверить, что она не подозревала, чем это может кончиться (она вообще никогда не думала о последствиях). Скорее всего, она по-своему жалела о случившемся, но новая брошка или новый возлюбленный в мгновение ока осушили бы слезы на ее глазах.
Когда я дошла до верхней ступеньки лестницы (в нашем дворце, в отличие от греческих, был второй этаж и даже галерея), я лишилась сил и боль возобновилась. Только тут я заметила, что я еще и прихрамываю на одну ногу. Так скоро, как только могла, я очутилась у дверей той пятиугольной комнаты, где заточили Психею. Дверь комнаты была заперта снаружи. (Я и теперь использую ее как дворцовую тюрьму.) Перед дверью стоял воин. Это был Бардия.
— Бардия, — взмолилась я, — впусти меня! Мне надо повидаться с Психеей. Он ласково посмотрел на меня, но только покачал в ответ головой.
— Нельзя, госпожа! — сказал он.
— Но ты же можешь запереть нас обеих. Из комнаты нет другого выхода!
— Так и начинаются все побеги, госпожа. Мне жаль и тебя, и ту царевну, что внутри, но ничего не поделаешь. Приказ есть приказ.
— Бардия, — сказала я со слезами, держась рукой за бок, который болел все сильнее и сильнее, — завтра ее уже не будет в живых!
Он отвел глаза и сказал:
— Нельзя!
Я повернулась, не сказав ни слова. Хотя Бардия и был самым добрым человеком при нашем дворе (если не считать Лиса), в тот день я на какой-то миг возненавидела его сильнее, чем моего отца, или Жреца, или даже Редиваль. А затем я совершила совсем безумный поступок. Страдая от боли, я добежала до покоев Царя. Я знала, что там есть оружие. Я взяла плоский меч, прикинула его на вес, и он не показался мне слишком тяжелым. Я пощупала лезвие и сочла его достаточно острым, хотя настоящий солдат поднял бы меня на смех. Вскоре я снова очутилась у двери темницы. Несмотря на то, что женская ярость душила меня, я нашла в себе силы поступить по-мужски, вскричав «Берегись, Бардия!», перед тем как броситься с мечом на верного воина.
Разумеется, это было чистым безумием для девушки, которая никогда прежде не держала в руках оружия. Даже если бы я умела с ним обращаться, боль в боку и ноге не позволила бы мне осуществить задуманное. Мне было так больно, что я даже не могла глубоко вздохнуть. Однако Бардии все-таки пришлось воспользоваться своим военным искусством: в основном для того, чтобы не ранить меня. Одним ударом он выбил меч из моей руки. Я стояла перед ним, скрюченная, вся в поту и тяжело дышала. На лице же Бардии не выступило ни капли пота; этот поединок был для него просто детской забавой, не больше. Сознание собственного бессилия слилось с болью в теле, и я разрыдалась так же некрасиво, как прежде Редиваль.
— Какая жалость, госпожа, что ты не родилась мужчиной! — сказал Бардия. — У тебя мужская рука и верный глаз. Не всякий новобранец так хорош в первой схватке. Я бы с радостью поучил тебя воинскому искусству. Из тысячи…
— О Бардия! — рыдала я. — Лучше бы ты убил меня! Я бы не так мучилась!
— Не говори глупостей, — сказал воин. — Прежде смерти приходит умирание. Это только в сказках люди умирают мгновенно от удара стали. Смерть легка, разве только когда отрубят голову…
Я уже не могла говорить. Я ослепла и оглохла от собственных рыданий.
— Прекрати, — сказал Бардия. — Я не могу смотреть на это.
Слезы стояли в глазах уже у него самого: это был человек с чувствительным сердцем.
— Мне было бы намного легче, не будь одна из вас такой красивой, а другая — смелой. Прекрати, госпожа. Будь что будет, я рискну своей головой, и да падет на меня проклятие Унгит!
Я посмотрела на него, но по-прежнему была не в силах говорить.
— Я бы не задумываясь отдал жизнь за царевну, если бы в том был хоть какой нибудь толк. Ты, наверное, удивлена, что я, начальник стражи, стою на часах у ее дверей как простой воин? Но я вызвался сам. Если царевна что-нибудь попросит или мне потребуется войти в комнату, ей будет приятнее увидеть меня, чем какого-нибудь незнакомого человека. Она часто сидела у меня на коленях, когда была маленькой. Великие боги, что за тяжкая ноша — честь воина!
— Ты позволишь мне войти? — спросила я.
— При одном условии, госпожа! Ты обещаешь мне выйти, как только я постучала в двери. Сейчас здесь никого нет, но позже могут прийти. Мне сказали, что к не пришлют двух храмовых девушек. Я позволю тебе остаться с ней сколько захочешь но как только это станет опасным, ты выйдешь по первому же моему требованию, постучу три раза — вот так.
— Я сделаю, как ты просишь.
— Поклянись на моем мече, госпожа.
Я поклялась. Он посмотрел по сторонам, отпер двери и сказал:
— Быстрее. Заходи, и да поможет вам небо!
Глава седьмая
Окно в пятиугольной комнате под самым потолком и такое маленькое, что даже днем в ней не обойтись без светильника; вот почему она и служит тюрьмой. Комната эта представляет собой второй ярус башни, которую начал строить мой прадед, да так и не достроил.
Психея сидела на разобранной постели; рядом стоял светильник. Разумеется, я сразу кинулась к ней в объятия, не успев толком даже рассмотреть обстановку, но эта картина — Психея, разобранная постель и горящий светильник — навеки впечаталась в мою память.
Прежде чем я обрела дар речи, Психея сказала:
— Сестра, что он с тобой сделал? Что это с твоим лицом? Что это с твоим глазом? Да он опять бил тебя!
Только тут я поняла, что она гладит меня по волосам и утешает, словно это меня должны скоро принести в жертву. И, несмотря на то, что боль моя и без того была уже велика, мне стало еще больнее. В пору нашего счастья мы любили друг друга иначе.
Психея сразу же догадалась, какие мысли посетили меня, и стала приговаривать:
— Майя, Майя!
(Это было мое детское имя, которому научил ее Лис: и первое слово, сказанное маленькой Психеей.)
— Майя, Майя, что он с тобой сделал!
— Ах, Психея! — ответила я. — Какая разница? Лучше бы он меня убил! Лучше бы они избрали меня, а не тебя!
Но Психея не отступилась. Она заставила меня рассказать все как было (кто мог устоять перед ее мольбами?). На этот рассказ и ушла большая часть времени, бывшего у нас в распоряжении.
— Довольно, сестра! — сказала я наконец. — Мне нет до него никакого дела. Что мы ему и что он нам? Я не считаю его нашим отцом и не боюсь опорочить этими словами доброе имя наших матерей. А если он все-таки наш отец, то слово «отец» отныне бранное для меня. Такому, как этот человек, ничего не стоило бы во время битвы спрятаться у женщины за спиной!
И тут (я этого никак не ожидала) Психея улыбнулась. Она почти никогда не плакала, разве что когда жалела меня. А сейчас она сидела спокойная и царственная, как будто ее совсем не страшила скорая смерть. Только вот руки у нее были холодные.
— Оруаль, — сказала она, — мне сдается, я усвоила уроки Лиса лучше, чем ты. Разве ты забыла, какие слова он заставлял повторять нас каждое утро? Сегодня мне придется встретиться со злыми людьми, с трусами и лжецами, завистниками и пьяницами. Они таковы, потому что не умеют отличать зла от добра. Их, а не меня ждет злая участь. Посему я должна жалеть их…
Психея сказала эти слова, подражая голосу Лиса, что у нее (в отличие от Батты) выходило очень хорошо. Она блестяще умела изображать других людей.
— Бедное дитя! — сказала я, и рыдания опять чуть было не задушили меня. Ведь Психея говорила обо всем этом так беззаботно, словно никакой беды не было и в помине. Мне казалось, что такая наивность неуместна сейчас, но что было бы уместным, тоже не знала.
— Майя, — промолвила Психея. — Обещай мне, что не будешь делать глупостей. Обещай, что не станешь накладывать на себя руки. Ради Лиса, не делай этого! Мы трое были друг другу хорошими друзьями. («Неужто только друзьями?» — подумала я.) Вы остаетесь вдвоем, так держитесь же друг друга и не потеряйтесь. Будь умницей, Майя. Вы должны выстоять в этой битве.
— У тебя железное сердце! — воскликнула я.
— Передай от меня Царю последний привет — или что там полагается. Бардия — человек осторожный и воспитанный, он подскажет тебе, какими словами пристало умирающей дочери прощаться с отцом. Я не хочу показаться невежей напоследок.
Передай Царю то, что тебе скажет Бардия, и ни слова больше. Наш отец — он мне совсем чужой. Мне ближе сын птичницы, чем он. Что же касается Редивали…
— Прокляни ее! Если мертвые могут мстить…
— Нет, ни в коем случае! Она не ведает, что творит…
— Сестра, даже ради тебя я не стану жалеть Редиваль, что бы там ни говорил Лис!
— Хотела бы ты стать такой, как Редиваль? Нет? Тогда она заслуживает жалости и снисхождения. Если мне позволят распорядиться моими драгоценностями по-моему разумению, то забери себе на память все те, которые любишь, а Редивали отдай все большие и дорогие, которые тебе так не по сердцу. А остальное отдай Лису.
Это было уже свыше моих сил: я уткнулась лицом в колени сестре и снова заплакала. О, как бы я хотела, чтобы она тоже склонила ко мне на колени свою голову!
— Послушай, Майя! — сказала Психея внезапно. — Не расстраивай меня, ведь у меня завтра свадьба!
У нее еще хватало духу говорить о том, о чем у меня не хватало духу даже слушать!
— Оруаль, — сказала Психея, пытаясь меня утешить, — в наших жилах течет кровь богов, и мы не посрамим ее. Когда я была маленькая, именно ты учила меня никогда не плакать.
— Мне сдается, что ты совсем ничего не боишься! — воскликнула я, но эти слова против моей воли прозвучали так, словно я в чем-то упрекнула сестру, и мне самой стало тут же стыдно.
— Нет, одной вещи я очень боюсь, — ответила Психея. — Иногда меня посещает сомнение, и тогда словно холодная тень наползает на мою душу. Допустим — только допустим, — что нет никакого бога Горы и даже никакого Черного Чудища. Тогда тот, кого привязали к Древу, просто умирает медленной смертью от голода и жажды, зноя и пыли, обглоданный хищными тварями и растерзанный клювами воронов… И от этой мысли — ах, Майя, Майя!..
Психея разрыдалась и снова стала для меня ребенком, и я принялась утешать ее и плакать вместе с ней.
Мне стыдно даже писать об этом, но я все же признаюсь: в тот миг я испытала что-то вроде удовольствия — ведь именно для того, чтобы утешить сестру, я и пришла в темницу.
Но Психея очнулась куда быстрее, чем я. Она снова подняла голову, приняла царственный вид и сказала:
— Но я в это не верю. Жрец приходил ко мне. Прежде я его совсем не знала. Он совсем не таков, каким его считает Лис. Знаешь, сестра, чем дальше, тем больше я сомневаюсь в том, что Лису ведомо все на свете. Да, ему известно многое. Без него в моей голове царила бы такая же мгла, как в этой темнице. И все же… Я не нахожу нужных слов, чтобы объяснить тебе… Он говорит, что весь мир — это один город. Но на чем стоит этот город? Конечно, на земле. А что лежит за городской стеной? Откуда привозят еду для жителей города, откуда городу грозят беды и опасности? Все растет и гниет, крепнет и чахнет, набухает влагой — это ничуть не похоже на город это похоже (хотя и сама не знаю чем) на Дом…
— … на Дом Унгит! — закончила я за нее. — Все кругом провоняло этой Унгит. За что мы восхваляем богов? Нам не за что быть благодарными им, ибо они хотят разлучить нас. Я не вынесу этого! Нет ничего злее постигшей нас судьбы! О, как неправ Лис, как он не прав! Он ничего не знает о том, какова Унгит! Он видит во всем кругом только хорошее, старый глупец! Он считает, что богов или не существует вовсе, или они существуют и добры по своей природе. По доброте своей он и не догадывается, что боги существуют на самом деле и что они творят такие злодеяния, которые не снились и последнему мерзавцу!
— А может быть, — сказала Психея, — злодеяния эти творят вовсе не боги. Или боги творят их с неведомыми нам намерениями. Что ты скажешь, если я вдруг действительно стану невестой Бога?
Эти слова разозлили меня. Даже странно — я могла положить свою жизнь за сестру (клянусь, что не лгу), я знала, что завтра она умрет, но при всем том я злилась на нее. Она говорила так спокойно, обдумывая каждое слово, словно вела философскую беседу с Лисом в тени старой груши и впереди у нее была целая вечность. В мою душу закралось подозрение, что разлука со мной нисколько не печалит Психею.
— Ах, сестра, — сорвалась я на крик. — О чем ты говоришь — эти трусы попросту собрались убить тебя! Тебя, которой они поклонялись, тебя, которая не могла причинить зла даже уродливым жабам! И теперь они хотят скормить тебя Чудищу!..
Вы скажете, что Психея просто не хотела думать о худшем и решила поверить в туманные намеки Жреца на свадьбу с богом Седой горы. И в этом случае, раз уж я пришла утешать ее, было бы разумнее укреплять в ней эту веру, а не пытаться развеять ее. Вы скажете так и будете правы. Сколько раз я упрекала себя за свое поведение в ту ночь! Но сделанного не воротишь: я не смогла совладать с собой. Может быть, мною руководила гордость того же рода, что помогала Психее спокойно смотреть в лицо смерти, — гордость, учившая нас трезвости взгляда, готовности встретиться с худшим, — более того, настоятельная потребность все время ожидать худшего.
— Я тебя понимаю, — тихо сказала Психея. — Ты думаешь, что Чудище пожирает жертву. Я и сама так думаю. Меня ожидает смерть. Я ведь не настолько ребенок, чтобы не понимать этого. Если я не умру, как я смогу искупить грехи Глома? И как можно прийти к богу, если не через смерть? И все-таки я верю в странные слова священных преданий. Возможно, что для бога пожрать и взять в жены — одно и тоже. Есть вещи, которых мы не понимаем, вещи, о которых не знают ни Лис, ни Жрец.
На это мне нечего было возразить, и я прикусила язык. Непозволительная дерзость готова была сорваться с моих губ.
«Неужто ты думаешь, — хотелось сказать мне, — что похоть Чудища не так отвратительна, как его прожорливость? Неужто ты сможешь отдаться червю, гигантскому гаду, ползучей тени?»
— А что до смерти, — продолжила Психея, — так посмотри на Бардию (как я люблю этого человека!): он встречается с ней шесть раз на дню и только знай себе посвистывает. Немногому мы научились у Лиса, если по-прежнему страшимся смерти! Знаешь, сестра, он как-то обмолвился, что, кроме тех философов, учению которых он следует, в Греции есть и другие, и они утверждают, что смерть открывает двери из узкой темной комнаты — мира, в котором мы живем, — в другой мир, настоящий, светлый, солнечный[13]. И еще они говорят, что там мы встретим…
— Бессердечная! — зарыдала я. — Ты хочешь оставить меня здесь одну, и тебе меня совсем не жалко! Скажи, Психея, да любишь ли ты меня?
— Тебя? Да я никого и не любила никогда, кроме тебя, Майя, да дедушки Лиса! — Не знаю почему, но в тот миг даже имя Лиса неприятно задело мой слух. — Но послушай, сестра, наша разлука не будет долгой. Вскоре ты отправишься вслед за мной. Сегодня ночью я поняла, что любая жизнь так коротка. Да и что хорошего в долгой жизни? Рано или поздно меня выдали бы замуж за какого-нибудь царя — такого же, как и наш отец. Разве есть особая разница между таким замужеством и смертью? Мне пришлось бы покинуть наш дом, расстаться с тобой и Лисом, стать женщиной, рожать детей — разве все это не другие имена для смерти? Честное слово, Оруаль, мне кажется, что мне выпала лучшая участь!
— Лучшая участь?
— Конечно! Что ждало меня в этой жизни? Стоит ли весь наш мир с его дворцами и царями (такими же, как наш отец) того, чтобы так печалиться о нем? Лучшее время нашей жизни уже миновало. Сейчас, Оруаль, я скажу тебе то, чего никому (даже тебе) не говорила прежде.
Я знала, что и у любящих сердец бывают друг от друга тайны, но той ночью эти слова Психеи прозвучали для меня как удар ножом в спину.
— И что же ты хочешь мне сказать? — спросила я, стараясь глядеть вниз, на переплетенные пальцы наших рук.
— Знаешь, — сказала Психея, — с тех пор как я помню себя, меня всегда манила мысль о смерти.
— Ах, Психея, — вскричала я. — Тебе было плохо со мной!
— Да нет же, — перебила меня она. — Ты не понимаешь. Я искала в смерти не утешения. Напротив, именно когда я была счастлива, мне особенно хотелось умереть. Такое часто случалось со мной, когда мы гуляли втроем по далеким холмам, где так много воздуха и солнечного света и откуда уже не виден ни Глом, ни царский дворец. Ты помнишь, как мы смотрели вместе на далекую вершину Седой горы, любуясь красками заката и наслаждаясь ароматом цветов? Так было там красиво, и именно поэтому мне хотелось умереть.
Возможно, в мире есть места и покрасивее, но это значит только то, что, окажись я там, я бы еще больше хотела умереть. Словно голос какой-то зовет меня и говорит: «Приди, Психея!» Но до сих пор я не знала, чей это голос и куда он зовет меня. И от этого мне было горестно. Так, наверное, чувствует себя перелетная птица, запертая в клетке, когда все ее подруги уже улетели в жаркие страны.
Психея поцеловала мои руки, выпустила их из своих и поднялась. От отца она унаследовала привычку ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух. И тут я поняла (как мне было больно, когда это случилось!), что Психея уже не принадлежит мне и что завтрашняя казнь только довершит то, что началось уже давно. Она была рядом со мной, но это только казалось — на самом деле она была где-то далеко. Я до сих пор не могу понять, с какого дня я начала терять ее.
Эту книгу я пишу для того, чтобы обвинить богов, но с моей стороны будет только справедливо, если при этом я не буду замалчивать и собственных прегрешений. Знайте: слушая Психею, я чувствовала, как во мне, несмотря на всю мою любовь к сестре, нарастает раздражение. Я прекрасно понимала, что с такими мыслями Психее будет легче встретить смерть, но именно эта легкость и раздражала меня. Мне казалось, что между нами стал кто-то третий. Если это грех, то боги покарали меня за него.
— Оруаль, — сказала Психея, и глаза ее при этом сияли. — Я ухожу на Седую гору. Как долго мы смотрели на нее, даже не мечтая взойти на ее вершину! Помнишь все наши разговоры о чертогах из золота и янтаря под самыми небесами, которые построит для меня величайший из царей? Если бы тебе только удалось поверить в это, сестра! Послушай, ты не должна позволить горю ослепить тебя и ожесточить твое сердце…
— Ожесточить мое сердце?
— Да, твое сердце. Не ко мне, конечно. Послушай, разве так ужасно то, что произойдет? Боги требуют человеческой крови. Не любой крови — тогда они были бы бессмысленно жестоки, — а именно того, кто и так был с детства готов отдать ее богам. С тех пор как ты носила меня на руках, Майя, самым горячим моим желанием было попасть на Седую гору, узнать, откуда исходит эта неземная красота…
— Так вот что всегда было твоей мечтой! Бессердечная, я ошиблась, сказав, что у тебя железное сердце: оно из холодного камня… — И я принялась рыдать, но Психея даже не услышала этого.
— …именно там моя родина и там я хотела бы родиться вновь. Неужели ты думаешь, что меня влекло туда случайно? Нет, меня влекло домой. Попрощайся со мной и пожелай мне счастья. Всю жизнь бог Горы звал меня к себе, и вот — я иду к моему возлюбленному. Теперь ты понимаешь?
— Я понимаю только то, что ты никогда не любила меня, — воскликнула я. — Иди к своим богам, ты такая же жестокая, как они!
— Ах, Майя! — сказала Психея, и слезы снова заблестели в ее глазах. — Майя ведь я…
Но Бардия уже постучал в дверь. Мы так и не успели найти лучших слов, так не успели высказать все, что было у нас на сердце. А Бардия стучал все настойчивее настойчивее. Я поклялась на его мече, и клятва эта сама была острой, как меч.
Мы обнялись в последний раз. Счастливы те, в чьей жизни не было подобных объятий. А те, кто с ними знаком, — смогут ли они дочитать до конца мою повесть.
Глава восьмая
Боль моя, умерившаяся было при виде Психеи, разыгралась с новой силой, когда я вышла на галерею. Даже мое горе отступило под ее натиском, и от этого я снова начала рассуждать ясно и трезво. Я решила, что отправлюсь вместе с Психеей на Седую гору к Священному Древу. Никто не сможет помешать мне, разве что и меня тоже заточат в темницу или посадят на цепь. Может быть, мне удастся затаиться среди скал и затем, когда Царь, Жрец и вся их свита отправятся восвояси, освободить сестру. «А если Чудище существует на самом деле, — думала я, — и мне будет не по силам справиться с ним, я убью Психею своей собственной рукой, прежде чем оно протянет к ней свои лапы». Чтобы выдержать подобное, мне нужно было хорошо подкрепиться и выспаться (уже светало, а я все еще была на ногах). Но прежде всего нужно было разузнать, на какое время они наметили свое злодеяние, пышно именуемое Жертвоприношением. Я похромала по галерее, держась за ребра, и натолкнулась на старого нашего раба, начальника над дворцовой прислугой. Он и сказал мне, что процессия покинет дворец за час до рассвета. Тогда я прошла в свою комнату и попросила служанку принести мне поесть. Я села на постель и стала ждать; чудовищная усталость навалилась на меня, я дрожала от холода и не могла ни о чем думать. Когда принесли еду, я принялась за нее, но кусок не шел в горло, и я глотала через силу. Но я поела и попила жидкого пива и потом еще воды, потому что пиво было очень плохое. Допивала я воду уже во сне; последнее, что я помню, — какое-то горе навалилось на меня, но я уже не понимала его причины.
Меня отнесли в постель (я билась и плакала при этом), и я заснула мертвым, тяжелым сном. Не помню, сколько я спала, но когда меня подняли с постели, мне показалось, что я не проспала и одного удара сердца, хотя меня разбудили, как я и велела, за два часа до восхода солнца. Я стонала не переставая, потому что ушибленные места совсем разболелись — стоило мне повернуться, как в тело будто впивались раскаленные щипцы. Один глаз так заплыл, что я ничего им не видела. Когда мои служанки поняли, что боль не дает мне встать с постели, они стали умолять меня полежать еще немного. Они говорили, что мне незачем спешить, поскольку Царь разрешил обеим царевнам не идти с процессией. Одна из служанок спросила, не позвать ли Батту. Я ответила ей очень грубо и, пожалуй, ударила бы ее, если бы достало сил; потом мне пришлось бы об этом жалеть, потому что она была хорошая девушка. (У меня всегда были отличные служанки, с тех пор как я стала подбирать их сама, без помощи Батты.)
Меня кое-как одели и попытались накормить. Одна из девушек даже достала где-то вина — подозреваю, что отлила тайком из царского кувшина. Все, кроме меня, плакали навзрыд. Одевали меня очень долго, потому что все тело мое болело. Едва я успела допить вино, как снаружи донеслись звуки музыки. Это играли храмовые музыканты — и это была музыка Унгит. Гремели барабаны, трещали трещотки, гудели трубы — мрачные, отвратительные звуки, сводящие людей с ума.
— Скорее! — вскрикнула я. — Они отправляются в путь. Ах, я не могу встать! Помогите мне! Да быстрее же! Не обращайте внимания на мои стоны!
Не без труда меня довели до верхнего пролета лестницы: отсюда я видела большую залу, находившуюся между Столбовой и опочивальней. Зала была ярко освещена факелами и переполнена людьми, среди которых там и тут виднелись стражники. Несколько девушек из благородных семейств нарядились подружками невесты, а отец мой облачился в самое свое парадное платье.
Но над всеми возвышался высокий старик с птичьей головой. От собравшихся чадно пахло — видимо, они уже принесли к тому времени в жертву животных на дворцовом алтаре. (Пища для богов находится даже тогда, когда в стране голод.) Главные дворцовые врата были распахнуты настежь. Клубы утреннего промозглого тумана вкатывались через них. Снаружи пели жрецы и храмовые девушки. Можно было догадаться, что там собралось немало городской черни; когда музыка смолкала, оттуда доносился нестройный гул толпы. Этот звук ни с чем не спутать: ни одна тварь, собравшись в стадо, не производит такого отвратительного шума, как люди.
Сперва я не заметила в толпе Психеи. Боги коварнее нас, смертных, — они способны на такие подлости, которые никогда и в голову не придут человеческому существу. Когда я наконец заметила сестру, мне стало совсем дурно. Психея сидела на открытых носилках как раз между Царем и Жрецом. А не заметила я ее сперва потому, что они размалевали и разукрасили ее, как храмовую девушку, и нацепили ей на голову пышный парик. Я не могла понять, видит она меня или нет, потому что выражения ее глаз невозможно было разобрать на неподвижном, маскоподобном лице; трудно было даже угадать, в какую сторону они глядят.
Нет предела хитроумию богов. Им мало было погубить Психею — они хотели, чтобы она погибла от руки собственного отца. Им мало было отнять ее у меня — они хотели, чтобы я потеряла сестру трижды: в первый раз — когда над ней прозвучал приговор, во второй — во время нашей странной, тягостной ночной беседы и, наконец, в третий — лишив ее дорогого мне облика. Унгит взяла себе самую дивную красу, когда-либо рожденную на свет, и превратила ее в уродливую куклу.
Позже мне сказали, что я попыталась спуститься вниз, но тут же упала. Меня отнесли и уложили в постель.
В болезненном беспамятстве я пролежала несколько дней. Но я не лишилась чувств и не погрузилась в сон — мне сказали, что я бодрствовала, но рассудок мой помутился. Я бредила, и бред мой был, насколько мне удается вспомнить, путаным и при этом мучительно однообразным.
Видения менялись, но одна навязчивая мысль пронизывала их. Вот вам лишнее доказательство того, как жестоки боги. От них нет спасения ни во сне, ни в безумии, ибо они властны даже над нашими грезами. Более того, именно тогда они обретают над нами наибольшую власть. Спастись от их могущества (если это вообще возможно) удается только тому, кто ведет трезвый образ жизни, всегда сохраняет ясный ум, постоянно трудится. Такой человек не слушает музыки, не смотрит слишком пристально ни на землю, ни на небеса и (это в первую очередь) никогда ни к кому не испытывает ни любви, ни привязанности. Теперь, когда они разбили мое сердце и отняли у меня Психею, они принялись издеваться надо мной, ибо в видениях Психея являлась мне моим злейшим врагом. Все мое возмущение несправедливостью судьбы обратилось против нее. Мне казалось, что сестра ненавидит меня, и мне хотелось отомстить ей за это. Иногда мне мерещилось, что я, Редиваль и Психея снова стали детьми и что мы вместе играем в какую-то игру, но вдруг сестры отказываются играть со мной, и вот — я стою совсем одна, а они, взявшись за руки, потешаются над моим горем. Иногда мне казалось, что я очень хороша собой и влюблена в человека, чем-то похожего на несчастного Тарина, а чем-то — на Бардию (наверное, потому, что Бардия был последним мужчиной, которого я видела перед началом болезни). Мы шли к брачному ложу, но на пороге опочивальни Психея, ставшая карлицей в локоть ростом, уводила у меня жениха, поманив его пальцем. И все гости показывали на меня пальцами и хихикали. Но в этих видениях был, по крайней мере, хоть какой-то смысл. Чаще же я видела только путаные, смутные картины, в которых Психея то сбрасывала меня с огромной скалы, то пинала меня и таскала за волосы по полу (при этом ее лицо становилось чем-то схоже с лицом моего отца), то гонялась за мной по долам и весям с огромным мечом или бичом в руке. Но неизменно она оставалась моим врагом, насмешничающим, издевающимся, измывающимся надо мной, — и я сгорала от жажды мести.
Когда я стала приходить в себя, большинство видений забылось, но оставило по себе горький осадок: мне помнилось, что Психея нанесла мне какую-то большую обиду, хотя я не могла никак вспомнить, какую именно. Мне потом сказали, что часами твердила в бреду: «Жестокая девчонка. Злая Психея. Каменное сердце». Вскоре я совсем поправилась и снова вспомнила, что всегда любила сестру, что та никогда не причиняла мне сознательно зла, хотя меня слегка задело, что при нашей последней встрече она так мало говорила обо мне и так много — о боге Горы, о Царе, Лисе, о Редивали и даже Бардии.
Вскоре я начала различать какой-то приятный шум и поняла, что слышу его уже некоторое время.
— Что это? — спросила я и сама испугалась своего собственного голоса, слабого и хриплого.
— О чем-ты, дочка? — переспросил меня кто-то. Я поняла, что это Лис и что он все это время сидел подле моей кровати.
— Этот шум, дедушка. Там, на крыше.
— Это дождь, милая, — ответил Лис. — Да будет славен Зевс, пославший нам дождь и вернувший тебе рассудок. Знаешь… нет, сперва поспи. Выпей вот это.
Я увидела, что он плачет, и приняла из его рук чашу с питьем.
Кости мои не были сломаны, ушибы прошли, и с ними боль, но я все еще была очень слаба. Труды и болезни — это утешения, которых богам у нас не отнять. Я бы не стала этого писать, опасаясь подать им подобную мысль, если бы не знала, что они бессильны это сделать. Я так ослабла, что не могла ни гневаться, ни горевать. Пока силы не вернулись ко мне, я была почти что счастлива. Лис был очень ласков со мной и заботлив (хотя горе и его измотало), мои служанки тоже не оставляли меня заботами. Меня любили больше, чем я могла бы подумать. Сон мой стал спокойным, дождь шел не переставая, но порой на небе появлялось солнце, и тогда в окно залетал ласковый южный ветер. Долгое время мы не проронили ни слова о Психее. Когда случалось поговорить, мы говорили о всяких пустяках.
Я многое пропустила. Погода переменилась в тот же самый день, когда я слегла, и Шеннит наполнилась водой. Дождь пролился слишком поздно, чтобы спасти сгоревшие хлеба, но в садах все зеленело и плодоносило. Трава пошла в рост, и удалось сохранить больше скота, чем мы смели надеяться. Лихорадка исчезла, будто бы ее и не было, — моя же хворь была совсем другой природы. Птицы вернулись в Глом, и теперь каждой хозяйке, муж которой владел луком и стрелами или умел расставлять силки, было что положить в похлебку.
Все это мне рассказали Лис и мои девушки. Когда у ложа оставался один Лис, он делился со мной и другими вестями. Народ снова полюбил моего отца. Его жалели и хвалили (тут мы впервые рискнули заговорить о том, что было всего важнее для нас), поскольку он решился принести Великую Жертву. У Священного Древа он, как говорили, рыдал и раздирал свои одежды, обнимал и целовал Психею без конца (чего никогда не делал прежде), но повторял при этом снова и снова, что не может пойти против воли богов и обречь тем свой народ на погибель. Все, кто видел это, не могли сдержать рыданий: самого Лиса там не было, поскольку его не допустили в процессию как раба и чужеземца.
— Дедушка, — сказала я, — неужели он такой лицемер? (Мы вели свои беседы, разумеется, по-гречески.)
— Почему же лицемер, доченька? — возразил Лис. — Сам-то он искренне верил в то, что говорил. Слезам его можно верить не меньше, чем слезам Редивали. Или не больше.
Затем Лис поведал мне о вестях, пришедших из Фарсы. Тот глупец во время бунта выкрикнул, что у Фарсийского царя одиннадцать сыновей. На самом деле у него их было восемь, но один умер ребенком. Старший был слишком простым и недалеким человеком, и царь (говорят, такое возможно по их законам) назначил наследником третьего сына по имени Эрган. Тогда второй сын, Труния, разгневался и, опираясь на недовольных (а где и когда их не было?), поднял восстание, чтобы отстоять свои права на престол. Из-за этого в Фарсе стало не до Глома; более того — обе партии изо всех сил ищут у нас поддержки, так что на ближайший год никакая опасность уже нам не угрожает.
Через несколько дней, когда Лис снова навестил меня (чаще приходить он не мог, потому что Царю постоянно требовалась его помощь), я спросила:
— Дедушка, ты до сих пор считаешь, что Унгит — это только вымысел поэтов и жрецов?
— Почему бы и нет, дитя мое?
— Если она и вправду богиня, то она дала нам все в обмен на жизнь моей бедной сестры. Посуди сам — все напасти кончились. Ветер сменился в тот самый день, когда…
Тут у меня перехватило горло. Горе с новой силой обрушилось на меня. Лис тоже скривился от боли.
— Ужасное, ужасное совпадение, — пробормотал он, с трудом сдерживая слезы (греки слезливы, как женщины). — Такими совпадениями питаются суеверия варваров.
— Дедушка, ты учил меня, что случайных совпадений не бывает.
— Ты права. Это только слова. Я хотел сказать, что между ветром и жертвоприношением нет никакой связи. Все в мире — только части Целого, именуемого Природой. Юго-западный ветер прилетает к нам из-за гор и морей. Погода переменилась бы повсюду, если бы он никогда не задул. Это — как нити в паутине. Потянешь за одну — потянется и другая.
— По твоим словам, — сказала я, — смерть ее была напрасной. Если бы Царь смог отложить дело на несколько дней, ветер переменился бы сам собой и Психея была бы спасена. И так-то ты утешаешь меня?
— Не совсем так. Злодейство их было напрасным и происходило от невежества, которое и порождает все зло в этом мире. Мы должны утешаться тем, что только они сами повинны в содеянном. Рассказывают, что она не проронила ни слезы и не дрогнула, когда ее повели к Древу. Даже когда ее привязали и так оставили, она не заплакала. Она умерла достойно, храбро, с терпением в сердце и — о! моя маленькая Психея, о!..
Тут любовь старого философа взяла верх над его рассудком, и он накинул плащ на голову, чтобы я не увидала его слез. На следующий день он сказал мне:
— Видишь, доченька, как мало я преуспел в философии. Наверное, я начал заниматься ею слишком поздно. Ты моложе меня, ты добьешься большего. Любить и терять любимых — и то и другое в природе вещей. Если, принимая первое, мы не можем вынести второго, мы проявляем тем самым нашу слабость. Но Психея была не такова. Если мы посмотрим на то, что постигло ее, трезвым взглядом рассудка, сдержав порывы сердца, мы признаем, что все лучшее в жизни она уже имела, и имела сполна. Все было дано ей — целомудрие, умеренность, разумение, послушание, честность и мужество, — и хотя слава людская суетна, нельзя не сказать о том, что участь ее будет прославлена наравне с судьбами Ифигении и Антигоны[14].
Разумеется, эти греческие предания были мне знакомы. Часто я заучивала наизусть песни поэтов, прославлявшие этих героинь. Однако я попросила старика вновь рассказать мне об Антигоне и Ифигении, потому что к тому времени я уже знала, что мужчины (особенно греки) легко находят утешение в словах, которые слетают у них с языка. Но и меня рассказы эти успокоили, как успокаивает все хорошо знакомое и привычное, а я, как никогда, в этом нуждалась, поскольку после выздоровления безграничное отчаяние стало вновь посещать меня, отравляя своим ядом все мои мысли.
На следующий день, впервые встав со своего ложа, я сказала Лису:
— Дедушка, мне не удалось стать Ифигенией, так попробую стать хотя бы Антигоной!
— Антигоной? В каком смысле, доченька?
— Она похоронила своего брата — я похороню свою сестру. Что-нибудь да осталось: даже Черное Чудище не станет есть кости. Я должна отправиться к Древу. Я принесу оттуда останки и достойно похороню их. Или, если это будет мне не под силу, я вырою могилу прямо там.
— Это — поступок, угодный богам, — сказал Лис. — Он в обычае людей, если не в природе вещей. Но сможешь ли ты? В эту пору года путь на Гору нелегок.
— Вот почему надо спешить. Я думаю, снег выпадет не раньше чем через три недели.
— Но сможешь ли ты, доченька? Ты только что встала с постели…
— Должна смочь… — ответила я.
Глава девятая
Вскоре я уже поправилась настолько, что могла свободно ходить по дворцу и прогуливаться в саду. Царю я старалась на глаза не попадаться. Лис говорил ему, что я все еще больна, иначе он сразу бы призвал меня в Столбовую залу и запряг бы в работу. Отец часто спрашивал:
— Куда запропастилась эта девчонка? Она что, так и проваляется в постели до самой смерти? Не потерплю дармоедов в моем доме!
Потеря Психеи не смягчила его сердце. Любовь его ко мне и к Редивали не стала больше — скорее напротив.
— Послушать его, — говаривал Лис, — так ни один отец в мире не любил дочь так, как он Психею.
Боги, дескать, отняли у него любимую девочку и оставили ему всякую дрянь: потаскуху (Редиваль) и страшилище (меня). Но я хорошо знала отца и могла догадаться без рассказов Лиса, что он скажет по поводу случившегося.
Я непрестанно обдумывала, каким образом взойти на Седую гору, чтобы собрать останки Психеи. Когда я высказала свое намерение Лису, я сделала это в каком-то порыве и только теперь начала осознавать, какие трудности (и немалые) мне предстояло одолеть. Ездить верхом я не умела, так что меня ждал пеший путь. Я знала, что взрослый мужчина, знакомый с дорогой, может добраться от дворца до Древа за шесть часов. Я, слабая женщина, никогда прежде не ходившая туда, смогла бы совершить это путешествие не меньше чем за восемь. Еще два часа на поиски останков и, скажем, часов шесть на обратный путь. Всего шестнадцать часов. Это означало неизбежную ночевку на Седой горе, следовательно, я должна взять с собой запас пищи и теплую одежду. Выходило, что совершить задуманное я смогу, только когда полностью оправлюсь от болезни.
По правде говоря (теперь мне это ясно как день), я тайно желала отложить свою затею на возможно более поздний срок, и не потому, что она была трудна и опасна, но потому, что, похоронив Психею, я не знала бы, как и чем жить дальше. Задуманное мною дело стояло преградой между моим сегодняшним днем и мрачной безрадостной пустыней, которой мне представлялось дальнейшее существование. Похоронив Психею, я бы не знала, что мне делать дальше, чем заполнить такую пустоту и безотрадность, о которых я никогда и не помышляла ранее. Отчаяние мое было совершенно не похоже на все, что я испытывала до сих пор. Я не рыдала и не заламывала рук. Я была как вода в кувшине, забытом в погребе, которую никто уже не выпьет, не прольет, не встряхнет. Дни тянулись мучительно медленно. Даже тени не росли и не убывали, словно кто-то приколотил их гвоздями к земле. Само солнце, казалось, оцепенело вместе со мной.
В один из таких мертвенных дней я вошла во дворец через черный ход между казармой стражников и молочным двором. Открыв дверь, я присела на порог. Я не ощущала усталости (ибо беспощадные боги дали мне крепкое, выносливое тело), но безразличие и тоска сковали мои члены. Я не знала, куда мне пойти, да мне никуда и не хотелось. Жирная навозная муха медленно ползла у меня перед глазами по косяку двери. Мне подумалось, что вот так и я ползу — уныло, бесцельно, а может, и весь мир, подобно этой мухе, ползет неведомо куда.
И тут кто-то сказал у меня за спиной:
— Госпожа!
Я обернулась — это был Бардия.
— Госпожа, — сказал он. — Позволь мне быть с тобой откровенным. Я тоже знавал горе. Мне тоже доводилось вот так сидеть и страдать, и часы тянулись, как годы. Меня исцелила война. Думаю, от горя и нет другого лекарства.
— Бардия, но я же не воин! — ответила я.
— Почти воин, — сказал он. — Когда ты набросилась на меня у покоев Царевны (да пребудет с ней мир, с нашей благословенной!), я сказал, что у тебя верный глаз и твердая рука. Ты наверняка подумала, что я сказал это, чтобы ободрить тебя. Отчасти так. Но только отчасти. В это время казармы пусты. Там есть не заточенные мечи для занятий. Пойдем со мной, и я поучу тебя.
— Не надо, — сказала я безразличным голосом. — Не хочу. Какой в этом прок?
— Прок? Поживем — увидим. Знаю одно: когда тело занято делом и каждая мышца и связка напряжены, печаль оставляет душу. Это так, госпожа, уж поверь мне. К тому же я не прощу себе никогда, если не возьмусь обучать человека с таким прирожденным талантом, как у тебя.
— Не надо, — повторила я. — Оставь меня. Если хочешь, возьмем заточенные мечи, и тогда я согласна. Может статься, ты убьешь меня.
— Прости меня, госпожа, но это — бабьи речи. Возьмись за дело, и ты заговоришь совсем по-другому. Иди за мной, иначе тебе от меня не отделаться.
Сильный, уверенный и обходительный мужчина, старше вас к тому же, всегда сумеет переубедить упрямую, отчаявшуюся девчонку. Дело кончилось тем, что я встала и последовала за Бардией.
— Этот щит будет тяжеловат, — рассуждал Бардия, выбирая мне доспехи. — А вот этот как раз тебе впору. Держи его, вот так… И запомни с самого начала: щит — не стена, а оружие, такое же, как меч. Теперь смотри на меня: я постоянно покачиваю щитом. Он в моих руках — как крыло бабочки. Ведь в сече мечи, стрелы и дроты таки норовят ужалить тебя исподтишка. Теперь — меч. Нет, не держи его так! Хватка должна быть твердой, но легкой. Это же не зверь, который рвется у тебя из рук. Ну вот, так намного лучше. Выставь вперед левую ногу. И не смотри мне в глаза, смотри на острие моего меча. Я же не собираюсь разить тебя взглядом. Теперь я покажу несколько приемов.
Занимались мы около получаса. Так потеть мне в жизни еще не приходилось, и понятно, все это время в голове у меня не оставалось места ни для каких мыслей. Я уже говорила, что труды и болезни — лучшие утешители. Но пот — еще более дивное творение богов. Он лучше любой философии излечивает от тягостных дум.
— На сегодня довольно, — сказал Бардия. — Хватка у тебя твердая. Я сделаю из тебя бойца, клянусь богами! Приходи завтра. Эта одежда стесняет тебя. Надень что-нибудь покороче, не ниже колена.
Я так разгорячилась, что, пройдя на молочный двор, залпом выпила кувшин молока. Это была моя первая существенная трапеза, с тех пор как я заболела. Возвращаясь назад, я заметила, как один из воинов (видно, он подсмотрел, чем мы занимались с Бардией) подошел к начальнику и что-то сказал ему. Бардия ответил, но слов я не расслышала. Затем он заговорил уже громче:
— Да, с лицом у нее беда. Но она честная и смелая девочка. Не будь она царской дочерью, не было бы лучше жены для слепца.
До сих пор мне не приходилось слышать от мужчины слов, которые больше б походили на признание в любви.
После этого я стала заниматься с Бардией ежедневно; как он и обещал, уроки эти совершенно исцелили меня. Горе мое осталось со мной, но прошла оцепенелость чувств, и время возобновило свой обычный бег.
Вскоре я поведала Бардии о своем намерении посетить Седую гору и объяснил с какой целью я хочу отправиться туда.
— Отличная мысль, госпожа, — сказал воин. — Мне стыдно, что она мне самому не пришла в голову! Мы все в неоплатном долгу перед благословенной Царевной. Но не беспокойся, я сам отправлюсь туда!
Я покачала головой.
— Тогда отправимся вместе, — предложил Бардия. — В одиночку ты заблудишься. Или, не ровен час, повстречаешь медведя, стаю волков или горных разбойников. Да мало ли опасностей на этом свете! Умеешь ли ты ездить верхом, госпожа?
— Нет, меня этому никто не учил… Бардия нахмурил лоб и задумался.
— Поедем вдвоем на одной лошади, — решил он наконец. — Я сяду в седло, а поедешь сзади. Часов за шесть доберемся — я знаю короткий путь. Но поиски могут занять немало времени. Спать все равно придется под открытым небом.
— А Царь отпустит тебя? — спросила я.
Бардия хмыкнул:
— Ну уж Царю-то я найду что сказать! С нами он не такой, как с тобой. Он, конечно, несдержан в речах, но хороший начальник таким людям, как солдаты, пастухи, охотники. Он их понимает, а они его. Царь не умеет вести себя с женщинами, жрецами и послами, потому что побаивается их.
Я сильно удивилась про себя последним словам воина.
Через шесть дней после этого разговора мы отправились в путь на заре. День был такой пасмурный, что обещал быть немногим светлее ночи. Никто во дворце, кроме Лиса и моих девушек, не знал о нашем предприятии. Я накинула простой черный плащ с капюшоном и закрыла лицо платком. Под платье я надела короткую тунику, в которой обычно фехтовала, и подпоясалась солдатским ремнем с боевым мечом в ножнах.
— Скорее всего, мы не встретим ничего крупнее дикой кошки или лисицы, но безоружными в горы не ходят, — сказал Бардия.
Я села на коня, свесив ноги на сторону. Одной рукой я держалась за кушак Бардии, а другую положила на урну, лежавшую у меня на коленях.
Тишину городских улиц нарушал только цокот копыт нашего скакуна, но некоторые окна уже светились. За воротами начал накрапывать холодный дождь, но когда мы переходили Шеннит вброд, дождь перестал и облака начали редеть. Заря по-прежнему не хотела заниматься, потому что плотные тучи на востоке скрывали восходившее солнце.
Мы проехали мимо Дома Унгит, оставив его по левую руку. Дом Унгит выглядит так: огромные древние камни, в два раза выше и в четыре раза толще среднего человека, поставлены в виде овала. Это очень древние камни: никто не знает, кто принес их сюда и каким образом. Просветы между камнями заложены кирпичом, крыша же покрыта сухим камышом: она не плоская, а слегка покатая, так что весь храм в целом похож на огромного слизня, лежащего среди полей. Это священный образ: Жрец говорит, что он напоминает или (в священных таинствах) действительно является тем самым яйцом или маткой, из которых родился весь мир[15]. Каждую весну Жреца запирают внутри, и он выбивает (или делает вид, что выбивает) западные ворота, и это означает, что наступил новый год. Из отверстия в крыше шел дым; он идет всегда, потому что огонь на жертвеннике Унгит никогда не гаснет.
На душе у меня полегчало, как только мы миновали Дом Унгит: оттого, что мы поехали по местности, еще незнакомой мне, и оттого, что вся эта страшная святость осталась позади. Гора еще подросла и виднелась впереди, темная, как и раньше, но сзади, за городом, на холмах, где мы проводили беззаботные дни с нашим учителем, уже разгоралось утро. Наконец и на западном скате неба слабое розовое свечение начало пробиваться сквозь толщу облаков.
Мы ехали то вверх, то вниз по холмистой местности, но по большей части все же вверх. Дорога была неплохая, обочины все поросли густой зеленой травой. Впереди показались темные заросли деревьев, и дорога повернула к ним, но Бардия съехал с проселка на траву и сказал, показывая на мрачный лес впереди:
— Священная Дорога ведет туда. По ней они несли Царевну (да будет мир с ней!). Наша дорога другая: она круче, но короче.
Потом мы долгое время ехали по траве, медленно, но неуклонно поднимаясь в гору. Перед нами встал кряж такой крутой, что самой горы из-за него не было видно. Когда мы поднялись на него и остановились ненадолго, чтобы дать лошади перевести дух, местность кругом полностью переменилась. Тут и начались мои мучения.
Мы оказались на солнце; свет его был нестерпимо ярким и жарким (мне даже пришлось снять плащ). Густая роса самоцветами горела в зеленой траве. Гора, еще далекая и огромная превыше всех моих ожиданий, почти касалась вершиной солнца и уже не выглядела темной однородной громадой. Между нами и вершиной лежали холмы и долины, леса и скалы и бесчисленное множество крохотных озер. Слева и справа нас окружало многоцветье холмов и синева небес, а далеко-далеко блестело то, что мы зовем морем (хотя куда ему до Великого Моря греков!). Пел жаворонок, но песня его лишь подчеркивала огромное и древнее молчание, царившее кругом.
Теперь о том, что мучило меня. Как нетрудно догадаться, я отправилась в путь в печали, ибо печальным было дело, ради которого я покинула дворец. Но теперь в ушах у меня все громче звучал проказливый и непочтительный голосок, и он будто нашептывал мне, хотя я не слышала слов: «Почему бы не пуститься в пляс твоему сердцу?» И безумие мое зашло так далеко, что сердце ответило: «И верно, почему?» Мне приходилось вдалбливать самой себе, словно непонятливому ученику, почему у меня нет ни малейшего права пуститься в пляс. Пускаться в пляс, когда у меня отняли мою единственную любовь, у меня, у царевны-страшилища, покорной служанки Царя, тюремщицы ненавистной Редивали? Пускаться в пляс мне, которую забьют насмерть или прогонят к нищим, как только мой отец умрет, — да кто знает, на какие еще подлости способен наш Глом? Но сердце мое не желало слушать доводы рассудка. Огромный мир, открывшийся передо мной, позвал меня, и мне хотелось идти все время вперед, встречать по пути все новые и новые вещи, странные и прекрасные, и так — пока я не достигну пределов этого мира. Свежесть и тугая влажность растений (а я не видела ничего, кроме сухой травы и выжженной земли, несколько месяцев перед моей болезнью) заставляли меня думать, что я недооценила мир; он оказался куда добрее и радостнее, чем я полагала, — он смеялся, а сердце его плясало вместе с моим. Я усомнилась даже в своем уродстве. Как можно ощущать себя уродливой, когда твое сердце танцует от радости? Там, в глубине неловкого тела, под маской уродливого лица притаилась совсем другая женщина — свежая, желанная, проворная.
Мы простояли на гребне совсем недолго. Но еще несколько часов после этого, пока мы поднимались на холмы и спускались по петляющей тропке, часто спешиваясь и ведя коня под уздцы, иногда рискованными кручами, во мне шла эта борьба.
Неужели я ошибалась, пытаясь победить в себе это дурацкое радостное чувство? Простые приличия требовали от меня именно этого. Могла ли я прийти на похороны Психеи с улыбкой на устах? Если могла, то чего стоила тогда моя любовь? Здравый смысл требовал этого. Я знала мир слишком хорошо, чтобы поверить его мимолетной улыбке. Кто поверит пошлым уловкам потаскушки, после того как был трижды ею обманут? Выдавшаяся хорошая погода, свежая зелень после долгой засухи, здоровье, вернувшееся после мучительного недуга, — уловки, которые не заставят меня забыть все, что я знаю об этом проклятом богами, зачумленном, жестоком, гниющем мире. Я знаю все, я не дурочка. Тогда я еще не понимала так хорошо, как понимаю сейчас, главную причину своего недоверия к миру: боги никогда не призывают нас к радостям и наслаждениям так властно, как тогда, когда готовят для нас новые муки. Они развлекаются нами, как мыльными пузырями. Чтобы мы лопнули и доставили им удовольствие, нас нужно сперва хорошенько раздуть. Я еще не знала об этом, но сдержала свой порыв. Я справилась с собой. Неужели они полагали, что на мне можно играть, как на флейте, в любой момент, когда им заблагорассудится?
Мучения мои прекратились только тогда, когда мы одолели последний подъем перед тем, что и было собственно Седой горой. Мы уже находились на такой высоте, что ветер холодил нам кожу, несмотря на яркое солнце. У наших ног, отделяя нас от вершины, лежала темная, мрачная долина — черные мхи и лишайники, огромные валуны, россыпи камней; казалось, что это — рана на теле Горы, огромная болячка, покрытая коростой. Сама же Гора высилась перед нами, и нам пришлось задрать головы, чтобы увидеть ее макушку, — она завершалась острыми зубцами, словно гнилой зуб старого великана. Склоны были довольно пологие, если не считать нескольких страшных на вид утесов слева от нас, стоявших неприступной, черной стеной. И тут боги оставили меня в покое, и радость покинула мою душу. Здесь не было ничего такого, от чего могло бы пуститься в пляс и самое беззаботное сердце.
Бардия показал куда-то направо. Там склон горы, спускаясь, образовывал седловину, которая была несколько ниже, чем наш гребень, но выше, чем все окружающие горы. За седловиной было только небо, и на его фоне отчетливо вырисовывалось одиноко стоявшее дерево с голыми ветвями.
Мы прошли черную долину пешком, ведя коня за собой, потому что путь пролегал по скользким каменистым россыпям, пока, достигнув самого дна распадка, мы вновь вышли на Священную Дорогу, которая входила в долину с севера, по левую руку от нас. Мы уже почти пришли на место и поэтому хотели продолжить путь пешком, но несколько витков дороги привели нас на эту седловину, где тоже дул пронизывающий ветер.
Чем ближе было Древо, тем сильнее становилось мое беспокойство. Не знаю, чего я боялась, но мне казалось, что стоит мне найти тело или кости, как я умру от ужаса. Наверное, я поддалась бессмысленному детскому страху: мне казалось, что Психея может оказаться не живой и не мертвой — призраком.
И вот, наконец, мы достигли Древа. Железный обруч охватывал голый ствол, лишенный коры, а цепь свисала свободно, время от времени позвякивая на ветру. Под деревом не было ни костей, ни обрывков платья, ни следов крови — вообще ничего.
— Как это понимать, Бардия? — спросила я.
— Бог взял ее к себе, — побледнев, ответил он хриплым шепотом (Бардия был. человек богобоязненный). — Ни одна земная тварь не способна так чисто вылизать свое блюдо. Остались бы кости. Зверь — кроме Священного Чудища, разумеется, — не сумел бы извлечь тело из оков. Зверь не забрал бы с собой драгоценностей. Человек — да, но человек не смог бы расковать эту цепь голыми руками.
Мне даже и в голову не приходило, что наше путешествие может закончиться вот так впустую: нечего собирать, нечего предавать земле. Жизнь моя снова стала ненужной и бесполезной.
— Будем искать, — сказала я, понимая, что выгляжу глупо; ведь я и сама не надеялась ничего найти.
— Конечно, конечно, госпожа, будем искать, — сказал Бардия, но я знала, что он согласился со мной только по доброте душевной.
И мы стали искать, двигаясь кругами: я в одну сторону, а он — в другую, не отрывая глаз от земли. Было очень холодно и ветрено; плащи хлестали нас по щекам и спутывали ноги.
Бардия был к востоку от меня, на другой стороне седловины. Когда он позвал меня, мне пришлось долго бороться с волосами, прежде чем удалось откинуть их с лица и увидеть, где находится мой спутник. Я побежала к Бардии, почти полетела, потому что западный ветер превратил мой плащ в парус. Бардия показал мне свою находку — ограненный рубин.
— Я никогда не видела, чтобы она носила этот камень, — удивилась я.
— Зато я видел. Он был на Царевне, когда она отправилась в последний путь. На нее надели тогда все священные драгоценности. Ремешки ее сандалий были красными от рубинов.
— Ах, Бардия! Значит, некто — или нечто — дотащил ее вот досюда…
— Или ее сандалии. Сорока, например…
— Будем искать дальше, в этой же стороне!
— Осторожнее, госпожа! Вперед пойду я, а ты лучше постой здесь.
— Почему? Разве нам что-то угрожает? Даже если так, я пойду с тобой!
Насколько мне известно, никто из смертных еще не заходил на тот край седловины. Во время жертвоприношения даже Жрец не заходит дальше Древа. Мы уже совсем рядом с той частью Горы, которая опасна для нас. Там, за Древом, — святое место, владения бога Горы. По крайней мере, так говорят…
— Тогда я пойду вперед, а ты оставайся на месте. Мне, Бардия, бог уже не сделает хуже, чем сделал.
— Я пойду с тобой, госпожа. Не будем говорить много о богах. А еще лучше — не будем говорить о них совсем. Подожди, я схожу за конем.
Он ушел, и я на какое-то время осталась совсем одна в опасной близости от святого места. Бардия отвязал жеребца от куста, где мы его оставили, и привел ко мне. Мы тронулись дальше.
— Осторожнее, — снова сказал Бардия. — В любую минуту мы можем сорваться.
И верно, сначала нам чудилось, что небо вот-вот разверзнется под нами. Но затем мы внезапно очутились на краю пологого склона, и в тот же миг солнце (скрытое от нас с тех пор, как мы вошли в темную долину) вновь осветило все кругом.
Я почувствовала себя первооткрывательницей нового мира. У наших ног, посреди складок горных хребтов, лежала маленькая долина, сверкавшая, подобно самоцвету. К югу от нее в теплой голубоватой дымке виднелись далекие холмы, леса и луга. Долина вклинивалась в южные отроги Горы, и, несмотря на большую высоту, климат в ней, кажется, был гораздо мягче, чем даже в самом Гломе. По крайней мере, мне нигде не доводилось видеть такого зеленого дерна. Там, в долине, цвел дрок и дикий виноград, все деревья были в цвету. Там было много чистой свежей воды — маленьких озер и быстрых ручьев, несших свои воды через валуны. Мы вскоре нашли удобный спуск для нашего скакуна и пошли под гору, ощущая, как с каждой минутой воздух становится все теплее, все слаще и ароматнее. Здесь, за перевалом, уже не было ветра, и мы могли спокойно разговаривать друг с другом. Вскоре мы настолько приблизились к долине, что услышали, как журчат ручьи и пчелы гудят на лугах.
— Возможно, это тайное жилище бога, — сдавленным голосом сказал Бардия.
— Если он хотел спрятаться, это ему чуть было не удалось, — ответила я.
Мы уже почти достигли дна долины. Кругом было так тепло, что я с трудом удержалась от искушения окунуть руки и лицо в быстрые, благоуханные воды потока, который только и отделял нас от самой долины. Я уже подняла руки к платку, чтобы откинуть его, но тут услышала, как два голоса одновременно вскрикнули. Один из них, несомненно, принадлежал Бардии. Я оглянулась. Безымянное чувство (назовем его, весьма приблизительно, ужасом) охватило меня с головы до ног. Не более чем в шести футах от меня, на другой стороне ручья, стояла Психея.
Глава десятая
Мне теперь и не вспомнить, что я там лепетала заплетающимся от радости языком, захлебываясь слезами счастья. Мы все еще стояли на разных берегах ручья, когда голос Бардии вернул меня к жизни.
— Осторожнее, госпожа! А вдруг это только призрак? Нет, нет! — это она, невеста бога! Это сама богиня!
Смертельно побледнев, он упал на колени и принялся посыпать голову землей. Я не виню его: Психея предстала перед нами, как выражаются греческие поэты, «светозарная ликом». Но я не испытывала и тени священного трепета. Разве могла я трепетать перед моей Психеей, которую я носила на своих руках, моей маленькой сестрой, которую я учила говорить и ходить по земле? Кожа ее обветрилась от солнца и горного воздуха, одежды были разодраны, но лицо ее смеялось, а глаза горели, подобно звездам.
— Здравствуй, здравствуй, милая Майя! — твердила она. — Как долго я ждала нашей встречи! Только об этом я и мечтала! Я знала, что ты придешь. Ах, какое счастье! Милый Бардия, и тебе я рада! Это он помог тебе добраться сюда? О, я так и знала. Иди ко мне, Оруаль, иди на мой берег. Я покажу тебе брод. Увы, Бардия, тебе нельзя сюда. Милый Бардия, пойми…
— Нет, нет, благословенная Истра! — воскликнул воин (как показалось, не без облегчения). — Я простой солдат, куда уж мне! — Затем он сказал вполголоса в мою сторону: — Берегись, госпожа. Место это опасно. Может статься…
— Опасно? — перебила его я. — Да я бы пошла на тот берег, даже если бы ручей этот был из жидкого пламени!
— И то верно, — согласился Бардия. — Ты другая. В твоих жилах течет кровь богов! Я лучше постерегу коня. Здесь нет ветра и хорошие травы.
Я уже почти вошла в воду.
— Чуть выше по течению есть брод, Оруаль! — сказала Психея. — Обойди этот камень, только смотри не поскользнись. Нет, левее, тут слишком глубоко. Вот так, держись за мою руку!
Долгая болезнь и дни, проведенные в постели, ослабили меня. Вода была ледяная, у меня перехватывало дух, а течение сбивало с ног. Если бы не рука, протянутая Психеей, меня бы опрокинуло. Схватившись за нее, я успела подумать: «Какая Психея стала сильная! Сильнее меня. Боги дали ей все — и силу, и красоту».
Я плохо помню, что было дальше. Наверно, я целовала ее, говорила ей что-то, плакала, все одновременно. Но она отвела меня в сторону от потока и заставила сесть на теплый вересковый ковер, и так мы сидели, взявшись за руки, как в ту страшную ночь в комнате с пятью углами.
— Ах, сестра! — весело сказала Психея. — Порог моего дома холоден и неприветлив, но я согрею тебя и верну тебе дыхание!
Она вскочила на ноги, отбежала в сторону, что-то собрала в траве и принесла мне — это были маленькие черные ягоды гор. Холодные и круглые, они лежали на темно-зеленом листе.
— Съешь, — попросила Психея. — Это воистину пища, достойная богов!
— Какие они сладкие! — воскликнула я. Меня терзали и голод, и жажда, поскольку был уже полдень, а выехали мы на заре. — Но, Психея, объясни мне, как…
— Постой! — сказала она. — Пир будет неполным без вина!
Рядом с нами бил родник, чистый, как серебро. Он струился по камням, покрытым густым мягким мхом. Психея наполнила ладони этой водой и поднесла их к моим губам.
— Пила ли ты когда-нибудь лучшее вино? — спросила она. — Видела ли ты чашу прекраснее этой?
— Дивный напиток, — ответила я. — Но чаша еще чудеснее. Она мне дороже всех кубков мира!
— Тогда она твоя, сестра! — сказала Психея с такой непосредственностью и при этом с таким царским величием, что слезы вновь хлынули у меня по щекам, потому что мне вспомнились наши детские игры.
— Благодарю тебя, дитя! — сказала я. — Царский подарок. Но все же, Психея, поговорим всерьез. Нам есть о чем поговорить. Как тебе удалось бежать? Как ты не умерла в этом диком месте? Не дадим радости ослепить себя: нам необходимо решить, что делать дальше.
— Что нам делать дальше? Как что? Радоваться! Разве наши сердца не пляшут от радости?!
— Конечно, конечно! Радость моя так велика, что я даже готова простить самих богов. Да что там богов, я даже Редиваль готова простить. Но послушай — скоро начнется зима. Ты же не можешь… Да как вообще тебе удалось остаться в живых? Я-то думала… — Но сказать, что я думала, мне уже не достало сил.
— Тише, Майя, тише! — сказала Психея (снова она утешала меня, а не я ее). — Все страхи позади. Отныне все будет хорошо. И ты скоро это поймешь; останься здесь, пока не станешь такой же счастливой, как я. Ты же еще ни о чем не знаешь. Ты, вероятно, не ожидала найти меня в такой роскоши, верно? Ты наверняка очень удивилась.
— Да, Психея, я просто изумлена. И я очень хочу услышать, что же с тобой случилось. Но сперва все-таки мы должны принять решение.
— Как же ты серьезна, Оруаль! — с улыбкой сказала Психея. — Ты никогда не могла обойтись без того, чтобы принимать решения. Что ж, ты права — иначе с таким ребенком, как я, и нельзя было. Только благодаря тебе я стала взрослой.
И она поцеловала меня, отчего всю мою тревогу тут же как рукой сняло. Затем она начала свой рассказ.
— Я почти ничего не чувствовала, когда мы покинули дворец. Перед тем как накрасить меня, храмовые девушки дали мне что-то выпить — что-то пахучее и сладкое, вроде дурмана. После этого довольно долго я словно грезила наяву. Мне кажется, сестра, что они всегда дают это снадобье тем, чья кровь должна пролиться на алтарь Унгит, — вот почему жертвы умирают так безропотно. И еще эта краска на моем лице — мое лицо от нее стало как бы чужим, и я перестала осознавать, что это меня, а не кого-то другого приносят в жертву. И музыка, и курения, и горящие факелы — все это тоже на меня подействовало. Я видела, как ты стояла на лестнице, но у меня не было сил даже на то, чтобы помахать тебе рукой — руки стали словно свинцовые. К тому же я не видела в этом никакого смысла — мне казалось, что все это сон и мы скоро проснемся. И разве я была не права? Разве это не было сном? Почему ты не улыбаешься? Но послушай меня дальше, а то, может, ты все еще спишь… Даже свежий воздух за воротами дворца не смог одолеть дурмана — напротив, снадобье только тогда вошло в полную силу. Я ничего не чувствовала: ни страха, ни радости. Мне было страшно, что я сижу на носилках, высоко над землей, что меня несут куда-то… все время гудели трубы и трещали трещотки. Я совсем не помню, как долго мы шли. Мне показалось, что очень долго, потому что я успела запомнить каждый камушек на дороге. С другой стороны, мне показалось, что мы в мгновение ока перенеслись к Древу. Но все-таки мы шли долго, потому что под конец рассудок начал возвращаться ко мне. Я почувствовала, что со мной делают что-то ужасное, и мне впервые захотелось заговорить. Я попыталась закричать, что вышла ошибка, что я бедная девочка по имени Истра и что меня не должны убивать, но с губ моих слетали только какие-то неразборчивые звуки. Затем человек с птичьей головой (а может, и птица с человеческим телом)…
— Это был Жрец! — воскликнула я.
— Да, Жрец. Если только он остается Жрецом и в маске. Возможно, надев маску, он становится богом. Кто бы он ни был, он сказал: «Дайте ей еще!», и молоденькая жрица, встав на чьи-то плечи, протянула мне чашу с липкой, сладкой жидкостью. Я не хотела ее пить, но знаешь, Майя, все случилось как тогда, когда цирюльник вытаскивал мне занозу, а ты держала меня крепко и просила потерпеть, В общем, я сделала так, как мне велели, и мне сразу же стало легче.
Затем я помню, как меня спустили с носилок, и поставили на горячую землю, и приковали к Древу цепью, обернув ее вокруг меня. Железо зазвенело, и от этого звука хмель улетучился. А затем Царь начал кричать, раздирать одежды и рвать на себе волосы. И ты знаешь, Майя, он так смотрел на меня тогда, словно в первый раз видел. Но мне хотелось только, чтобы он перестал и ушел, а с ним бы ушли все остальные и оставили меня плакать одну. Теперь мне уже хотелось плакать. Ум мой прояснился, и мне стало страшно. Я попыталась держаться, как те девушки в греческих легендах, о которых рассказывал нам Лис, и я знала, что у меня получится, но только если они уйдут сразу.
— Ах, Психея, ты же сама сказала, что все это позади. Забудь этот кошмар! Расскажи лучше, как тебе удалось спастись. У нас еще ничего не решено и совсем нет времени, чтобы…
— Оруаль! Да у нас полно времени! Неужели ты не хочешь услышать, что же со мной приключилось?
— Конечно, хочу. Я хочу знать все, и до мельчайшей подробности. Но сперва нам нужно уйти отсюда-здесь опасно…
— Разве? Это мой дом, Майя. И чтобы ты уразумела, какие чудеса со мной приключились, нужно, чтобы ты выслушала и про все мои несчастья. К тому же, знаешь, несчастья эти не были столь уж большими.
— Думай как хочешь, но мне все равно больно даже слушать об этом.
— Ну потерпи немножко. Итак, в конце концов они ушли, и я осталась одна под палящими небесами, среди выжженных, сморщившихся от зноя гор. Воздух был неподвижен, ни малейшего ветерка; ты, наверно, помнишь — это был последний день засухи. Мне очень хотелось пить из-за липкой гадости, которой меня напоили. И тут только я заметила, что меня привязали так, чтобы я могла только стоять. Вот тогда мне и вправду стало страшно, и я заплакала. Ах, Майя! Как мне не хватало тогда тебя и Лиса! И я молила, молила, молила богов, чтобы то, чему суждено случиться, случилось как можно скорей. Но ничего не происходило, кроме того, что от соленых слез мне еще больше захотелось пить. Прошло еще очень много времени, а потом стали появляться гости.
— Гости?
— Да, это было не так уж страшно. Сначала пришли горные козы. Несчастные, исхудавшие, бедные твари. Думаю, что пить им хотелось не меньше, чем мне. Они ходили кругами вокруг меня, но приблизиться не решались. Потом пришел какой-то зверь, которого я никогда прежде не видела, но думаю, что это была рысь. Она сразу направилась ко мне. Мои руки не были связаны, и я приготовилась бороться с ней но этого не потребовалось. Несколько раз (наверное, она боялась меня не меньше, чем я ее) она подходила и обнюхивала мои ноги, затем встала на задние лапы и обнюхала мне лицо. Затем она ушла. Я даже расстроилась — с ней было все-таки веселей. И знаешь, о чем я думала все это время?
— О чем?
— Сперва я утешала себя, вспоминая свои детские мечты о дворце на Горе… о боге… пыталась вновь поверить во все это. Но не могла поверить, не могла даже понять, как мне это удавалось прежде. Все эти мечты ушли, умерли.
Я взяла ее ладони в свои и ничего не сказала. Но внутренне я обрадовалась. Не знаю, может, эти грезы имели какой-то смысл в ночь перед Жертвоприношением, поскольку давали Психее опору и поддержку. Но теперь я была рада, что она оставила свои бредни. Я знаю, что радость моя была противна природе вещей и шла не от добра. Может быть, ее ниспослали мне злокозненные боги. Никто этого не знает, а боги молчат — как всегда…
— Меня спасла совсем другая мысль, — продолжала Психея. — Ее и мыслью-то не назовешь, потому что не выскажешь словами. В ней было что-то от философии, которой учил нас Лис, — все, что он говорил нам о богах и «божественной природе», — но было что-то и от речей Жреца о крови, о земле и о том, как жертва возвращает земле плодородие. Я не могу толком объяснить тебе, но мысль эта шла откуда-то изнутри, из самых глубин моего существа, она родилась не там, откуда приходили грезы о чертогах из золота и янтаря, не там, откуда являлись все мои страхи, — нет, глубже. Ее нельзя было выразить словами, но за нее можно было держаться. Затем все изменилось…
— Что? — Я не всегда понимала, о чем она говорит, но решила предоставить ей самой рассказывать, как ей нравится, и не задавать лишних вопросов.
— Погода, конечно. Я не видела неба, потому что цепь не позволяла мне поднять голову, но почувствовала, что внезапно похолодало. Я догадалась, что над Гломом собираются тучи, потому что все краски кругом поблекли и тень моя побледнела и пропала. И тут — как это было чудесно! — легкий ветерок, первый порыв западного ветра, коснулся моей щеки. Ветер все крепчал, в воздухе запахло дождем, и я поняла, что боги — это не выдумка и что это я вернула влагу земле. А затем ветер завыл в ветвях (но звук этот был так хорош, и воем я зову его, оттого что не могу найти другого слова), и хлынул ливень. Древо немножко укрыло меня, но, выставив вперед руки, я собирала в ладони дождевую воду и пила ее. А ветер все крепчал и крепчал. Мне подумалось, что, если бы не цепь, он унес бы меня. И тут — в этот самый миг — я увидела Его.
— Его?
— Западный Ветер.
— Ветер?
— Нет, не ветер. Бога Ветра, Западный Ветер во плоти.
— Тебе это не приснилось, Психея?
— Ах нет, это не был сон. Во сне такое не приснится. Он имел человеческий образ, но любой сказал бы, что это — не человек. Ах, сестра, ты бы поняла меня, если бы видела сама. Как же объяснить тебе? Тебе случалось видеть прокаженных?
— Да, разумеется.
— А ты замечала, как выглядят здоровые люди рядом с прокаженными?
— Ты хочешь сказать — они кажутся еще здоровее и красивее?
— Да. Так вот: рядом с богами мы — как прокаженные.
— Ты хочешь сказать, что у них такая смуглая кожа? Психея звонко рассмеялась и захлопала в ладоши:
— Ну вот, ты так ничего и не поняла! Ну да ладно; когда ты увидишь богов своими глазами, Оруаль, ты все поймешь. А ты их увидишь — я тебе помогу. Не знаю как, но я придумаю. Ах вот — вдруг это поможет тебе понять. Когда я впервые увидела Западный Ветер, я не испытала ни радости, ни страха — по крайней мере вначале. Мне было просто стыдно.
— Но чего ты стыдилась, Психея? Неужели они раздели тебя догола?
— Нет, Майя, нет. Я стыдилась своего смертного облика, мне было стыдно, что я — смертный человек.
— Но разве ты виновата в этом?
— Неужели ты не замечала, что людям больше всего стыдно за вещи, в которых они не виноваты?
Я подумала о своем уродстве и промолчала.
— И тогда он взял меня, — продолжала Психея, — своими прекрасными руками, которые обжигали меня (но это не было больно), и вырвал меня из оков. И мне тоже не было ни чуточки больно. Я не понимаю, как это ему удалось. А потом он поднял меня в воздух и понес. Конечно, при этом он снова стал невидимым и подобным вихрю. Я видела его так, как глаз видит вспышку молнии. Но это было неважно: теперь я уже знала, что это не просто ветер, а бог, — и мне совсем не было страшно лететь в небесах, хотя вихрь иногда переворачивал меня вверх ногами.
— Психея, ты уверена, что все это было на самом деле? Может, это был сон?
— Если это был сон, сестра, как же я очутилась здесь? Скорее на сон похоже все то, что было со мной до этого, — Глом, наш отец, старая Батта. Но не перебивай меня, Майя. И вот он понес меня в вихре и бережно опустил на землю. Сперва я не могла отдышаться и была слишком потрясена, чтобы понять, что же происходит вокруг. Западный Ветер, он такой — веселый бог, неотесанный. (Наверное, сестра, богов в юности учат обращению с нами. Это наверняка так: ведь одно неосторожное прикосновение их рук — и мы обратимся в прах.) Но потом я пришла в себя и — о чудо! — увидела перед собой дворец. Я лежала на его пороге. Но это был совсем не тот чертог из золота и янтаря, о котором я мечтала. Если бы это был он, я бы решила, что грежу наяву. Этот дворец не был похож на чертог из моих снов. Ни на него, ни на наши дворцы, ни на греческие, как их описывал нам Лис. Он был такой необычный — да ты и сама видишь. Подожди немного, и я покажу тебе его весь. Зачем тратить время на слова?
Всякий бы понял, что это — жилище бога. Я говорю не о храме, где богу просто служат. Я говорю о доме бога, месте, где бог живет. Ни за какие сокровища на свете я не решилась бы сама войти в него, Оруаль. Но мне все-таки пришлось. Потому что изнутри прозвучал голос — слаще любой музыки… нет, слаще — не то слово. И хотя голос был так прекрасен, волосы встали у меня на голове дыбом, когда я услышала его. И знаешь, что он сказал? Он сказал: «Войди в твой дом (да, да, он так и сказал „твой“), Психея, невеста бога!»
Мне снова стало стыдно, что я — смертная, стыдно и страшно. Но еще страшнее мне было ослушаться. Я переступила порог, дрожа от холода и страха, поднялась по лестнице, прошла под портиком и вошла во двор. Там не было никого. Но затем зазвучали голоса — они приветствовали меня.
— Голоса?
— Да, голоса — женские голоса, хотя назвать их женскими — это то же самое, что назвать бога Ветра мужчиной. И они говорили: «Войди, хозяйка, войди, госпожа, не бойся!» И они двигались, хотя никого не было видно, и словно заманивали меня внутрь. И я прошла вслед за ними в прохладную залу со сводчатым потолком, и нашла там накрытый стол, фрукты и вино. Таких плодов я не встречала прежде нигде — да ты сама увидишь! Потом они сказали: «Отдохни перед купанием, госпожа, а после купания тебя ждет пир». Ах, Оруаль, как объяснить тебе мои чувства? Я знала, что это — духи, и мне хотелось пасть ниц перед ними, но я не смела, потому что они называли меня госпожой и хозяйкой и я должна была соответственно вести себя. При этом я все время боялась, что они вот-вот начнут надо мной смеяться.
— Ах! — вздохнула я.
Это чувство мне было слишком знакомо.
— Но я ошиблась, сестра. Я ужасно ошиблась — должно быть, стыд смертных навеял мне такие мысли. Они дали мне вино и плоды…
— Голоса?
— Да, духи. Я не видела их рук, но я догадалась, что чаши и блюда не сами собой парят в воздухе. Было заметно, что их двигают незримые руки. И (тут Психея понизила голос) когда я взяла чашу, я почувствовала, как чья-то рука задела мою. И меня снова словно обдало пламенем, которое не причиняет боли. Это было ужасно. Психея покраснела и засмеялась:
— Так мне казалось тогда. Теперь я не назвала бы это ужасным. Затем они повели меня в купальню. Ты должна обязательно посмотреть это место. Маленький дворик под открытым небом окружен дивной колоннадой, а вода в купальне подобна хрусталю и благоухает, как… как вся эта долина. Я страшно смущалась и не решалась раздеться, но…
— Ты же говорила, что духи были женщинами.
— Ах, Майя, ты все никак не уразумеешь! Это совсем не тот стыд. Он не от наготы, а от смертности, оттого, что мы какие-то… как это назвать?., несовершенные. Наверное, так стыдно бывает сновидению, когда оно забредет в мир яви. А затем (Психея говорила все быстрей и быстрей) они одели меня — в прекрасные одежды — и начался пир — зазвучала музыка — затем они отвели меня на ложе — наступила ночь — а затем — пришел Он.
— Кто?
— Жених… мой бог. Не смотри на меня так, сестра. Для тебя я всегда буду твоей верной Психеей. Между нами все останется как прежде.
— Психея! — вскричала я, вскочив на ноги. — Я не могу больше ждать. Ты рассказала мне столько удивительного. Если это все — правда, значит, я заблуждалась всю свою жизнь. Мне придется жить ее заново. Но скажи мне, сестра, правда ли все это? Ты не шутишь? Покажи мне все, покажи мне твой дворец!
— Конечно! — сказала она, поднимаясь с колен. — Иди со мной и ничего не бойся!
— Это далеко? — спросила я.
Сестра с изумлением посмотрела на меня.
— Что далеко? — удивилась она.
— Твой дворец, дом твоего бога…
Если вам доводилось видеть, как потерявшийся ребенок в большой толпе бежит к чужой женщине, приняв ее за свою мать, и если вы заглянули ему в глаза в тот миг, когда женщина оборачивается и он понимает, что ошибся, тогда вы легко поймете, как смотрела на меня Психея в тот миг. Щеки ее побледнели, радостный румянец погас.
— Оруаль, — сказала она, и было заметно, что ее бьет дрожь, — Оруаль, что ты такое говоришь?
Я тоже перепугалась, хотя не могла еще сама понять, в чем дело. — Я? — переспросила я. — Я говорю о дворце. Я спрашиваю, сколько нам до него идти.
Психея громко и испуганно вскрикнула. Затем, окончательно побелев лицом, она сказала:
— Но мы уже во дворце, Оруаль! Ты стоишь на главной лестнице у самых дверей.
Глава одиннадцатая
Постороннему бы показалось, что он видит двух врагов, изготовившихся к смертельной схватке. Мы неподвижно застыли в нескольких шагах друг от друга. Наши нервы были напряжены до предела, и каждый всматривался в лицо другого с отчаянным вниманием.
Отсюда, собственно говоря, и начинается мое обвинение богам, поэтому я постараюсь быть как можно правдивее и не упускать ни малейшей подробности. Тем не менее мне вряд ли удастся пересказать все, что мелькало тогда у меня в голове. Я слишком часто вспоминала те мгновения, и от частых повторений воспоминания мои несколько стерлись.
Кажется, первой моей мыслью было: «Она сошла с ума!» Так или иначе, все мое существо словно преградило собой незримые двери, за которыми стояло нечто жуткое, с полной решимостью не впускать это нечто, чем бы оно ни оказалось. Мне кажется, я просто боялась, как бы мне самой не сойти с ума.
Когда я вновь обрела голос, я сказала только (меня едва хватило на шепот):
— Пойдем отсюда! Это ужасное место.
Верила ли я в ее невидимый дворец? Грек только посмеялся бы над подобным предположением, но у нас, в Гломе, все иначе. Мы живем слишком близко к богам. В горах, возле самой вершины Седой горы, там, где даже Бардии становится страшно, там, куда не отваживаются заходить даже жрецы, могло случиться все что угодно. Я не сумела затворить двери до конца: легкое сомнение все-таки проскользнуло в щель, и теперь мне казалось, что весь мир вместе с моею Психеей ускользает у меня из рук.
Но Психея поняла мои слова очень по-своему.
— Ах, — воскликнула она. — Значит, ты его все-таки видишь?
— Что вижу? — задала я дурацкий вопрос, хотя прекрасно понимала, о чем идет речь.
— Как что — врата, сверкающие стены…
Тут, сама не пойму почему, меня охватила ярость — подобная отцовской, — и я заорала (хотя, клянусь, я и не намеревалась кричать):
— Перестань! Перестань сейчас же! Здесь ничего нет!
Моя сестра покраснела. На какое-то мгновение (но только на мгновение) ярость охватила и ее.
— Ну что же, если не видишь, так потрогай! — закричала она. — Потрогай! Разбей свою голову о стену, если хочешь. Вот здесь…
Она схватила меня за руки, но я освободила их.
— Перестань! Перестань, я тебе говорю! Здесь нет ничего! Ты лжешь! Ты сама в это не веришь!
Но лгала я. Откуда я могла знать, видела ли она то, чего не видела я, или просто сошла с ума? То, что началось потом, было постыдно и безобразно. Я кинулась на Психею, как будто грубая сила могла здесь что-то решить. Я схватила ее за плечи и начала трясти так, как трясут маленьких детей, пытаясь привести в чувство.
Но она была слишком большая и слишком сильная (я даже и не представляла себе, какой она стала сильной), и она стряхнула с себя мои руки в мгновение ока. Мы снова разошлись, тяжело дыша. Теперь мы были совсем уже похожи на двух врагов. Тут на лице у Психеи появилось такое выражение, которого я не видела никогда прежде. Взгляд ее стал подозрительным и колючим.
— Но ты же пила вино? Откуда я взяла его, по-твоему?
— Вино? Какое вино? О чем это ты говоришь?
— Оруаль! Я дала тебе вино. И чашу. Я дала тебе чашу. Где она? Где ты ее спрятала?
— Ах, перестань же, дитя! Мне сейчас не до шуток. Никакого вина не было.
— Но я дала тебе вино! Ты пила его. И медовые пряники. Ты еще сказала…
— Ты дала мне простую воду в твоих ладонях.
— Но ты восхищалась вином и тебе понравилась чаша. Ты сказала…
— Я восхищалась твоими руками. Ты играешь в игру и сама это знаешь. Я просто подыграла тебе.
Психея застыла, приоткрыв рот от удивления, но даже так она была прекрасна.
— Вот оно что… — медленно сказала она. — Значит, ты не пила никакого вина и не видела никакой чаши.
Я не ответила ей, но она и не ждала ответа.
Внезапно она сглотнула что-то, словно проглотила обиду (о, как прекрасна была ее тонкая шея!), и ее настроение резко переменилось; теперь это была сдержанная печаль, смешанная с жалостью. Она ударила в грудь сжатым кулаком, как это делают плакальщицы, и горестно воскликнула:
— Ай-яй! Так вот что он имел в виду. Ты ничего не видишь и не можешь потрогать. Для тебя ничего словно бы не существует. Ах, Майя… прости меня.
Я почти поверила Психее, ведь ей уже несколько раз удалось пошатнуть мою уверенность, а ее собственная вера оставалась такой же твердой, как вера Жреца в богиню Унгит в тот миг, когда кинжал моего отца был приставлен к его груди. Я стояла перед ней и была слабее, чем Лис, когда тот стоял перед старым Жрецом. Воистину ужасным местом была эта долина. В ней было слишком много священного и божественного — больше, чем может выдержать простой смертный, в ней было слишком много того, что не дано было видеть моим глазам.
Сможет ли грек постичь весь ужас этого? Мне еще долгие годы снился один и тот же странный сон. Мне снилось, что я в каком-то хорошо знакомом мне месте. Чаще всего это была Столбовая зала. И все, что я видела, в последний миг оборачивалось чем-то иным. Положив руку на стол, я прикасалась к мягкому меху, затем из угла стола высовывался длинный влажный язык и облизывал меня. Видеть этот сон я стала после того, как столкнулась с незримым дворцом Психеи, потому что страх, который я испытывала во сне, был того же рода: болезненный разлад, скрежещущее столкновение двух миров, словно два конца сломанной кости скребутся друг о друга.
Но наяву, в отличие от сна, кроме страха, я испытывала еще и боль, которую ничто не смогло бы облегчить. Мир разлетелся вдребезги, и мы с Психеей оказались на разных его осколках. Горы и моря, безумие и болезнь, сама смерть не смогли бы так безнадежно разлучить нас, как это. Боги, это все боги… всюду они. Они украли ее у меня. Они не оставляют нам ничего. Догадка озарила меня, как вспышки молнии в кромешной ночи. А разве она не достойна, подумалось мне, того, чтобы уйти к богам? Разве не там ей место? Но печаль накатывала вновь, как огромная черная туча, и скрывала от меня этот проблеск понимания.
— О Психея! — вскричала я. — Прошу тебя, вернись! Где ты, милая сестра? Вернись!
Она устремилась ко мне и заключила в свои объятия.
— Майя, сестра моя, я здесь! Не надо, Майя, я не вынесу этого! Я…
— Ты… ты мне как дитя, как мой собственный ребенок. Да, ты здесь, я чувствую тебя, но ты так далеко! И я…
Она отвела меня туда, где мох рос гуще, и усадила на мягкий дерн. Затем, словами и ласками, она утешила меня как могла. И подобно тому как посреди бури или битвы вдруг наступает затишье, так и горе мое ненадолго улеглось. Я не слушала того, что она говорила, — сам звук ее голоса, любовь, звучавшая в нем, согревали мой слух. Голос ее был слишком низкий и глубокий для женщины, и от этого каждое слово становилось таким весомым и горячим, словно это было не слово, а прикосновение руки. Глубинное тепло этого голоса исходило из самых недр земли. Таким теплом пригоршня спелого зерна согревает ладонь руки.
Что она говорила мне?.. Она говорила:
— Может быть, Майя, ты тоже научишься видеть, как я. Я буду просить его, умолять его, чтобы он научил тебя. Он поймет. Он предупреждал меня, когда я просила его об этой встрече, что все может выйти совсем не так, как я хочу. Но я даже не думала… Простушка Психея… так он зовет меня… но я не догадывалась, что ты не сможешь даже увидеть. Наверное, он знал об этом. Он нам скажет…
Он? О нем-то я совсем и забыла или, по крайней мере, перестала думать, после того как Психея впервые сказала мне, что мы стоим у ворот дворца. А теперь она каждый миг говорила о нем, ни о ком другом, кроме него, как это делают все молодые жены. И тут что-то во мне ожесточилось, ощетинилось колючим льдом. Так (как я узнала позже) часто случается на войне, когда безликие «они» или «враги» вдруг превращаются в человека, стоящего в двух шагах от тебя и намеревающегося тебя убить.
— О ком это ты говоришь? — спросила я, подразумевая: «Зачем ты говоришь мне о нем? Какое мне до него дело?»
— Но я же тебе все объяснила, Майя. Я говорю о нем, о моем боге. О моем возлюбленном. О моем муже. О хозяине моего дома.
— О, это невыносимо! — вскричала я и снова вскочила на ноги.
Она произнесла это так ласково и с таким внутренним трепетом, что я пришла в бешенство. И тут (словно луч света просиял во мраке) я вспомнила свои первые мысли по поводу Психеи. Она сошла с ума, это несомненно. Это просто безумие, и ничего больше. И я сойду с ума, если поверю ее словам. Стоило мне подумать так — и даже дышать стало легче, словно из воздуха долины исчез наполнявший его священный ужас.
— Хватит, Психея! — сказала я строго. — Где этот бог? Где его дворец? Все это — только твои грезы. Где он? Покажи мне его! Как он выглядит?
Она оглянулась и сказала очень тихо, но так серьезно, словно все, что было сказано до сих пор, и вполовину не так важно, как это.
— Ах, Оруаль! — вздохнула она. — Даже я еще ни разу не видела его — пока. Он приходит ко мне только под покровом священной тьмы. Он сказал, что я не должна — пока — видеть его лицо или знать его имя. Мне запрещено приходить со светом в мои — в наши — покои.
Когда она подняла глаза и я заглянула в них, я увидела там непередаваемое, невыразимое счастье.
— Все это тебе померещилось, — сказала я громко и резко. — Не смей больше повторять эту чушь. Встань. Нам пора…
— Оруаль! — перебила меня она с царственным видом. — Я не солгала тебе ни разу в жизни.
Я сразу снизила тон, но слова мои были по-прежнему холодными и колючими:
— Нет, я не хотела сказать, что ты лжешь. Просто твой рассудок повредился, сестра. Ты бредишь. Ты пережила такой страх, ты была совсем одна, потом еще… они дали тебе этот напиток. Но мы тебя вылечим.
— Оруаль, — сказала Психея. — Что?
— Если все это — только мой бред, как я смогла прожить здесь столько дней? Неужели ты думаешь, что я питалась одними ягодами и спала под открытым небом? Неужто мои руки так исхудали, а мои щеки так ввалились?
Я бы с удовольствием солгала ей и сказала бы, что так оно и есть, но это было невозможно. С головы и до пят она просто источала красоту, жизненную силу и здоровье. Неудивительно, что Бардия пал перед ней ниц, как перед богиней. Даже лохмотья на ней только подчеркивали ее красоту, а кожа отливала медовым, розовым и палевым, подобно слоновой кости, и выставляла напоказ все ее совершенство. Она даже (хотя это все же мне только показалось) стала выше. Ложь умерла у меня на губах, и тогда Психея посмотрела на меня с легкой тенью усмешки в глазах. Когда сестра смотрела так, она была особенно прелестна.
— Видишь? — сказала она. — Все это правда. И именно поэтому… да нет же, выслушай меня, Майя, — именно поэтому все будет хорошо. Он сделает так, что ты прозреешь, и тогда…
— Я не хочу! — закричала я, так низко наклонившись к Психее, что это выглядело почти как угроза. Устрашившись моего гнева, Психея отшатнулась. — Я не хочу. Ненавижу, ненавижу, ненавижу. Понятно?!
— Но почему, Оруаль, почему? Кого и за что ты ненавидишь?
— Да все это ненавижу — не знаю, все! И почему — ты знаешь! Или знала. Этот… этот… — И тут то, что она успела рассказать о нем (как же поздно я до этого додумалась!), сложилось в ясную картину. — Этот твой бог, который приходит под покровом тьмы… и тебе запрещено видеть его. Ты говоришь, священная тьма? Тьфу, да ты живешь, как прислужница в Доме Унгит. Тьма, боги, святость… От этого так и несет…
Чистота ее взгляда, прелесть ее, исполненная сострадания и в то же время безжалостная, лишили меня на мгновение дара речи. Слезы брызнули у меня из глаз.
— О Психея! — рыдала я. — Ты так далеко. Слышишь ли ты меня? Я не могу до тебя дотянуться. О Психея, сестра моя! Ты когда-то любила меня… вернись ко мне! Какое нам дело до богов и их чудес, до всех этих ужасных, мрачных вещей? Мы же простые, смертные женщины. Вернемся туда, где мы были счастливы.
— Но, Оруаль, подумай — как я могу уйти? Здесь мой дом. Здесь мой муж.
— Муж! И ты зовешь его так? — сказала я с отвращением.
— Если бы ты только знала его, — вздохнула она.
— Ты любишь его? Ах, Психея!
Она не ответила мне, но щеки ее покраснели. Ее лицо, все ее тело были ответом на мой вопрос.
— Тебе надо было пойти в жрицы Унгит! — выкрикнула я в бешенстве. — Ты должна была жить вместе с ними — в темноте, там, где пахнет кровью и ладаном, там, где бормочут молитвы и разит паленым салом. Тебе бы там понравилось — во мраке, среди невидимых и священных вещей. Тебе и дела нет, что ты покидаешь меня… что ты изменяешь мне. Что тебе наша любовь!
— Ах нет, нет же, Майя! Я не могу вернуться к тебе, это невозможно. Но ты можешь остаться со мной.
— Нет, это безумие! — воскликнула я в отчаянии.
Было ли это безумием? Кто из нас был прав? Как нужно было поступить? Наступил миг, когда боги, если только они желали нам добра, должны были вмешаться и помочь нам. Запомни, читатель, что они сделали вместо этого. Внезапно пошел дождь. Он был очень легким, но все для меня переменилось в миг.
— Сюда, дитя, — воскликнула я, — ко мне, под плащ. Твои лохмотья!.. Быстро, а не то ты вся промокнешь.
Она с удивлением посмотрела на меня.
— Почему это я промокну, Майя? Мы же сидим под крышей! Лохмотья? Ах да, я совсем забыла, ты же не можешь увидеть моих одежд.
Она говорила, а по лицу у нее стекали капли дождя. Если тот мудрый грек, который прочтет эту книгу, усомнится в том, что сердце мое переменилось, как только начался дождь, пусть он спросит у своей жены или матери. Когда я увидела ее, мое дитя, о котором я пеклась всю жизнь, сидящей под дождем с полным безразличием, не замечая текущей с неба воды, как не замечают ее коровы, я поняла, что нельзя более сомневаться в ее безумии. Я поняла, что (по крайней мере теперь) нужно остановиться на чем-то одном, а не терзаться в сомнениях. И я знала, на чем мне следует остановиться.
— Психея, — сказала я (совсем уже другим голосом). — Это полное безумие. Ты не можешь оставаться здесь. Скоро начнется зима. Холод убьет тебя.
— Я не могу оставить мой дом, Майя.
— Дом? Здесь нет никакого дома. Иди ко мне под плащ! Она устало покачала головой.
— Бесполезно, Майя, — сказала она. — Я вижу, а ты — нет. Кто нас рассудит?
— Бардия! Я позову его.
— Мне не позволено впускать его. Да он и сам не войдет. Тут она была права.
— Встань, девочка, — сказала я. — Ты меня слышишь? Делай, как я говорю. Ты же всегда слушалась меня раньше.
Она посмотрела на меня (она была уже совсем мокрой) и сказала мягко, но с твердой решимостью в голосе:
— Милая Майя, я теперь замужем. Теперь я более не обязана повиноваться тебе.
Только тогда я поняла, до какой степени можно возненавидеть того, кого некогда любил. Пальцы мои ухватили ее за запястье, другой рукой я вцепилась ей в плечо. Мы боролись.
— Ты пойдешь со мной, — хрипела я. — Мы тебя заставим — мы тебя спрячем. У Бардии есть жена — значит, должен быть дом. Мы запрем тебя там и приведем в чувство.
Но Психея была намного меня сильнее. «Говорят, — подумалось мне, — что сумасшедшие обретают двойную силу». Мы наставили друг другу синяков — и только.
Мы разошлись. Психея стояла и смотрела на меня с изумлением и упреком, я плакала навзрыд (так, как я плакала под дверьми ее тюрьмы) от стыда и отчаяния. Дождь прекратился; очевидно, я сделала именно то, что боги от меня хотели. Теперь я уже не могла ничего поделать. Психея, как всегда, справилась первой; она положила мне на плечо окровавленную руку (неужели я успела поцарапать ее?) и сказала:
— Милая Майя, сколько я тебя знаю, ты почти никогда на меня не злилась. Зачем же ты злишься теперь? Смотри, какие длинные тени уже лежат на полу. А я-то надеялась, что мы пообедаем вместе и повеселимся, прежде чем настанет ночь! Но, увы, — для тебя все мои яства будут холодной водой и ягодами. Хлеб и лук из припасов Бардии доставят тебе больше радости. Но ты должна уйти до захода солнца. Я обещала ему, Майя.
— Ты отсылаешь меня навсегда, сестра? И ничего не скажешь мне на прощание?
— Посети меня снова, как только сможешь. Я поговорю с ним, и, может быть, он что-нибудь сделает. И тогда — о милая Майя — мы встретимся снова, и никакая тень уже не омрачит нашу встречу. А теперь — иди.
Что мне оставалось делать? Я подчинилась: физически она была сильнее, а того, что было у нее на уме, я не могла постичь. Она повела меня к реке через пустынную долину, которую называла своим дворцом. Я ненавидела эту долину всем своим сердцем. В воздухе похолодало. Солнце скрылось за черным вырезом седловины. Она подвела меня к самой воде.
— Возвращайся скорее, — сказала она. — Ты ведь вернешься, правда?
— Если смогу, Психея. Ты же знаешь, какие порядки у нас дома.
— Мне почему-то кажется, — сказала она, — что в ближайшие дни Царь не будет тебе препятствовать. Ну все, времени больше нет. Поцелуй меня, милая Майя. А теперь держись за мою руку. Постарайся нащупать ногой камень поудобней.
Снова я вошла в обжигающе холодную воду. На другом берегу я обернулась.
— Психея! — вскричала я в последний раз. — Еще не поздно! Иди со мной. Мы не останемся в Гломе — мы будем бродить по свету, пусть нищими, или жить у Бардии, — пойдем куда угодно, куда ты сама захочешь!
Она покачала головой.
— Я не могу. Я больше не принадлежу самой себе. Ты совсем забыла, сестра, что я замужем. Но я по-прежнему твоя. Если бы ты только поняла это. Не грусти, прошу тебя, Оруаль! Все устроится, все будет лучше, чем ты могла мечтать. Возвращайся! До скорого свидания!
И она ушла от меня, вернулась в свою ужасную долину и исчезла за деревьями. На моем берегу наступили сумерки, потому что тень от хребта уже дотянулась до него.
— Бардия, — позвала я. — Бардия, где же ты?
Глава двенадцатая
Бардия возник в сумерках подобно серой тени.
— Ты покинула благословенную? — спросил он.
— Да, — коротко ответила я. Мне не хотелось объяснять ему ничего.
— Нам нужно решить, как устроиться на ночь. Верхом в сумерках через седловину не проедешь, да и зачем? Разве для того, чтобы заночевать в той, другой долине, у Древа. На самом гребне не выспишься — ветер. Да и здесь с часу на час похолодает. Боюсь, спать придется здесь. Негоже это, у богов под самым носом…
— Какая разница? — обронила я устало. — Везде одинаково.
— Тогда пойдем со мной, госпожа. Я там собрал немного хворосту.
Я пошла; в молчании близившейся ночи (все стихло, и только поток журчал громче прежнего) мы издалека услышали, как скрипит трава на конских зубах.
Нет в мире создания более дивного, чем мужчина-воин. Бардия выбрал для ночлега место там, где берег был самый пологий и две скалы, смыкаясь, образовывали нечто вроде пещеры. Мы сложили из хвороста костер и развели его; он легко разгорелся, хотя мокрые от недавнего дождя сучья шипели в огне. Из чересседельной сумки Бардия извлек снедь получше, чем хлеб и лук; даже фляга с вином нашлась у него. Я все еще была по сути дела девчонкой (а значит, в большинстве случаев — дурой), и мне стало стыдно, что, несмотря на мое горе, я так обрадовалась еде. На вкус все было отменным; мы ели возле костра, который погрузил окружающий мир в непроглядный мрак, оставив от него только освещенный круг, уютный и жилой, как дом. Что еще нужно людям, кроме тепла и пищи, чтобы согреть и напитать свое смертное тело? Зачем им тогда думать о богах, чудесах и неразгаданных тайнах? Для этого не остается ни места, ни времени.
Когда мы подкрепились, Бардия сказал, потупив глаза:
— Госпожа, ты непривычна к ночлегу под открытым небом; боюсь, ты умрешь от холода, раньше чем взойдет солнце. Поэтому, осмелюсь сказать, нам лучше лечь вместе, спина к спине, под одним плащом, как это делают воины в походе. Не стесняйся, госпожа, ведь я для тебя вроде отцовой собаки, не более того…
Я согласилась; ни у одной женщины в мире не было меньше причин ломаться. Меня удивило скорее то, что Бардия вообще нашел нужным что-то сказать. Я уже знала, что если ты в достаточной степени уродлива, то мужчины (если только они не питают к тебе особой неприязни) вскоре перестают воспринимать тебя как женщину. Бардия спал, как спят все воины: сон сразил его в мгновение ока; но он проснулся бы с тою же быстротой при малейшей опасности (позже я имела случай в этом убедиться). Я же никак не могла заснуть. Во-первых, земля была ужасно твердой и неровной. Кроме того, мне не давал заснуть хоровод безумных мыслей — о Психее, о загадочном дворце и о многом другом. Холод был такой пронизывающий, что я выползла из-под плаща (снаружи он весь намок от росы) и принялась расхаживать взад-вперед около костра. И тут, о мудрый грек, мой будущий читатель и судья, случилось следующее.
Уже светало, и в долине стоял густой туман. Когда я подошла к реке, чтобы напиться (а пить мне хотелось ужасно), речные омуты показались мне черными дырами на серой глади. Я выпила ледяной воды, и она то ли отрезвила мой рассудок, то ли окончательно отняла его у меня. Так или иначе, когда я подняла глаза и посмотрела за реку, туда, где клубился серый туман, я увидела такое, от чего у меня перехватило дыхание. Там, за рекой, высился дворец. Он был серый — в этот час и в тумане серым казалось все, — но явно настоящий, не призрачный. Я видела стены, бесконечные арки, могучий архитрав[16], целый лес колонн. Дворец был подобен прекрасному лабиринту. Шпили и башенки тянулись к высокому небу, такие стройные и неправдоподобно хрупкие, словно сам камень расцвел и пустил побеги. Ничего подобного я никогда не встречала прежде; Психея была права — ни один дворец в наших краях не мог сравниться с этим. Ни одно окно не светилось; казалось, все уснули. Где-то там внутри спало нечто или некто — божественное, ужасное, прекрасное, диковинное? — кто может сказать, — сжав Психею в своих объятиях. А я? Что я натворила! Позволила себе сомневаться и богохульствовать! Какая кара ждет меня теперь?
У меня не было сомнений: нужно переправиться через реку или хотя бы попытаться сделать это. Пусть я утону, но я должна упасть на ступени дворцовой лестницы и попросить прощения у Психеи и ее бога. Я оскорбляла мою сестру и — что намного хуже — обходилась с ней как с ребенком, а она все это время была высшим существом — может быть даже, одной из бессмертных. Если только то, что я вижу, не мираж… Мне было страшно. Я неотрывно смотрела на серую громаду, опасаясь, что она растает или начнет меняться на глазах. Затем я поднялась (ибо все это время я так и стояла на коленях там, где опустилась, чтобы напиться воды), но не успела выпрямиться в полный рост, как все пропало. Какое-то мгновение мне еще казалось, что я вижу в тумане воронки и сгустки, подобные стенам и башням, но — только мгновение. Передо мной вновь расстилался один туман.
Отдаю себя на твой суд, читатель. То, что я увидела дворец — или подумала, что его вижу, — говорит ли это против меня или против богов? Возможно, боги скажут (если снизойдут до ответа), что это был намек, подсказка, чтобы помочь мне разгадать тайну Психеи. Но что толку в таком намеке, который сам по себе — загадка? Я даже допускаю, что на какое-то мгновение облако, застилавшее от моего смертного взора истину, приподнялось и я прозрела. Все можно допустить. Но намного легче поверить, что в полумраке раннего утра мои не вполне пробудившиеся чувства придали густому туману очертания, пригрезившиеся мне в тревожном сне.
А еще легче поверить в то, что боги решили надо мной посмеяться. Это больше всего на них похоже: они ставят тебя перед загадкой, а затем насылают морок, который смущает ясность мысли и не дает найти правильный ответ. Если боги искренне хотят направить нас на верный путь, к чему вся эта игра? Психея умела говорить начистоту, когда ей было три года, — неужели небожители глупее трехлетнего ребенка?
Когда я вернулась, Бардия уже проснулся. Я ничего не рассказала ему (и никому другому) об увиденном до тех пор, пока не написала эту книгу.
Дорога домой не доставила особенной радости; ветер, пропитанный мелкой водяной пылью, дул нам в лицо. Бардия сидел впереди меня, так что ему пришлось намного хуже. Ближе к полудню мы присели отдохнуть и перекусить на опушке небольшой рощи. Все утро я терзалась неразрешимой загадкой; теперь, в тени деревьев, где ветер дул не так сильно и было немного теплее (а Психея? не замерзла ли она?), я рассказала Бардии все, что случилось, опустив только мое утреннее видение.
Я знала, что воин — человек честный, что он умеет хранить тайны и по-своему весьма не глуп. Он внимательно выслушал меня, но ничего не сказал. Мне пришлось спросить его напрямик.
— Бардия, — сказала я, — ты-то что обо всем этом думаешь?
— Госпожа, — ответил он, — я не привык говорить всуе о богах и божественном. Я чту богов. Даже если мне прикажет Царь, я не стану есть левой рукой, не приду на ложе жены в полнолуние, не буду потрошить голубя железным ножом — одним словом, не совершу нечистого или святотатственного дела. Я приносил жертвы так часто, как это может позволить себе человек моего положения. В остальном же, чем меньше тебе до богов дела, тем меньше им дела до тебя.
Но я твердо решила добиться от него правды.
— Бардия, — сказала я, — думаешь ли ты, что моя сестра сошла с ума?
— Знаешь, госпожа, — ответил воин, — лучше бы тебе не говорить таких слов. Разве может благословенная сойти с ума? Мы оба видели ее в здравом рассудке.
— Значит, ты считаешь, что в долине на самом деле есть дворец, которого я не могу увидеть?
— Я не очень понимаю, что такое «на самом деле», когда речь идет о дворцах богов.
— А что ты скажешь про ее любовника, который приходит к ней под покровом тьмы?
— Я ни слова не скажу о нем.
— Бардия, и это тебя считают храбрейшим среди царских копейщиков? Ты боишься даже шепотом обмолвиться о том, что у тебя на уме, а я так нуждаюсь в мудром совете!
— В каком совете, госпожа?
— Как разгадать эту тайну. Я хочу знать, приходит ли к ней кто-то на самом деле.
— Так утверждает благословенная. Кто я, чтобы не верить ей?
— Но кто же он такой?
— Ей виднее.
— Ей виднее? Да она ничего о нем не знает! Она призналась, что никогда не видела его лица. Бардия, скажи мне, что это за жених, который не позволяет своей невесте смотреть на себя?
Бардия молча чертил на земле зажатым в пальцах маленьким камешком.
— Ну? — сказала я.
— Не вижу здесь никакой загадки, — пробурчал он наконец.
— Тогда объясни!
— Мне кажется — но я только слабый и смертный человек, а богам виднее, — он делает так потому, что облик его и лицо не столь приятны на вид…
— Значит, он уродлив?
— Госпожа, твою сестру избрали в невесты Чудищу. Но пора, однако, в путь, а то мы еще и половины дороги не осилили.
С этими словами он встал. То, что он сказал, не было для меня неожиданностью: в голове у меня проносилось немало догадок, и эта была самой ужасной и очевидной. Но меня неприятно поразило, что и Бардия так считает. Я знала: он не стал бы говорить того, в чем не вполне уверен. Он молчал от страха, а вовсе не потому, что сомневался. Воин сам сказал, здесь никакой загадки, и, боюсь, устами его говорил весь Глом. Бардия, несомненно, думал так же, как и любой осторожный и богобоязненный подданный царя Гломского. Ему бы и не понять моих сомнений; ответ очевиден, ясен как день, так чего ж тут ломать голову? Бог и Чудище — одно и то же. Царевну отдали ему, а оно дало нам дождь, и воду, и (было на то похоже) мир с жителями Фарсы. Царевну же боги забрали в потаенное место, где некое существо, столь жуткое, что его даже нельзя видеть, священное и ужасное, похожее на духа, демона или зверя — или на всех трех сразу (кто их, богов, разберет), — забавляется с ней, как ему угодно.
Ответ Бардии отрезвил меня настолько, что мне было нечего ему возразить. Мы продолжали наш путь в молчании, и я чувствовала себя потерявшим сознание от пыток пленником, которого только что окатили ведром холодной воды: открываешь глаза и вновь осознаешь ужасную действительность, которая хуже любого беспамятства. Мне подумалось, что все остальные мои догадки были лишь утешительными снами, которые развеялись при пробуждении. Никакой загадки вообще не было — просто страх ослепил меня и заставил лгать самой себе.
Моя рука нащупала под плащом рукоять меча. Еще до болезни я поклялась себе, что, если другого выхода не будет, я скорее убью Психею, но не дам Чудищу надругаться над ней или пожрать ее. Теперь я вспомнила об этом, но тут же испугалась.
«Неужели я могла бы убить ее?» — подумалось мне. (Бардия к тому времени уже обучил меня смертельным ударам.) Любовь победила, и я заплакала, и плакала так долго и отчаянно, что вскоре перестала различать, слезы или капли дождя струятся у меня по лицу (а дождь к тому времени уже разошелся). В порыве любви я спросила себя, почему, собственно, я решила, что Психею надо спасать от Чудища или уговаривать оставить его; почему мне вообще до этого есть дело. «Она же счастлива, — сказало мне сердце. — Бог он, чудище или безумная мечта, но она счастлива. Ты видела это своими глазами. Она в десять раз счастливее, чем была рядом с тобой. Оставь ее в покое. Не мешай ее счастью. Не отнимай у нее того, что сама не можешь ей дать».
Мы были у подножия холмов, почти рядом с Домом Унгит, хотя самого Дома из-за дождя не было видно. Сердцу моему не удалось убедить меня, и я поняла, что есть любовь более глубокая, чем та, которая ищет для любимого человека только счастья. Согласился бы отец увидеть свою дочь счастливой шлюхой? Любящая женщина своего избранника — счастливым трусом? Рука моя снова потянулась к мечу. «Да, она счастлива, — подумала я, — но она не имеет на это права». Как бы там ни было, ценой ее или моей смерти или смерти многих, пусть придется столкнуться с богами лицом к лицу, но я должна вырвать Психею из объятий демона, хоть эти объятия и доставляют ей удовольствие (и в первую очередь, именно потому, что доставляют).
«Я все-таки царская дочь!» — сказала я, и момент для этого был самый что ни на есть подходящий, ибо мы переправились через Шеннит, и Бардия, который не упускал ни одной мелочи, сказал, что, когда мы поедем через город, мне лучше слезть с коня и незаметно проскользнуть через сады по тропинке, на которой Редиваль первая увидела, что люди поклоняются Психее, и войти на женскую половину дворца с черного хода.
Ведь нетрудно представить себе, что скажет мой отец, если узнает, что я, слишком больная, чтобы работать с ним в Столбовой зале, нашла силы для путешествия к Священному Древу.
Глава тринадцатая
Уже совсем стемнело, когда я оказалась дома. У двери моей опочивальни кто-то нетерпеливо спросил меня по-гречески: «Ну как?» Это был, разумеется, Лис. Он уже давно стерег под моими дверьми, словно кот у мышиной норки; так мне потом сказали мои служанки.
— Она жива, дедушка, — сказала я и поцеловала старика. — Приходи ко мне как только сможешь, я промокла до костей, мне нужно вымыться, переодеться и поесть. Приходи после, и я все расскажу тебе.
Когда я сменила одежду и поужинала, грек снова постучался в дверь. Я впустила его, усадила за стол и налила вина. Кроме нас, в комнате была только темнокожая служанка Пуби; девушка была мне очень предана и к тому же не знала ни слова по-гречески.
— Ты сказала, она жива, — начал Лис, поднимая кубок, — так совершим же возлияние Зевсу Спасителю[17].
И он пролил вино на пол ловким греческим жестом, так, что на землю упала только одна капля.
— Да, дедушка, она жива, здорова и, по ее словам, счастлива.
— Мое сердце, доченька, вот-вот выпрыгнет из груди от радости, — сказал старик. — Ты говоришь вещи, в которые с трудом верится.
— Не все розы, дедушка. Есть и шипы.
— Расскажи мне правду — я выдержу.
И я рассказала ему все, опустив, разумеется, призрачный дворец в тумане. Мне было больно видеть, как радость гасла на лице грека, и сознавать, что я тому виной. И я спросила себя, как же я собиралась отнять у Психеи ее счастье, если даже то, что я делаю с Лисом, причиняет мне боль.
— Увы, бедняжка Психея, увы! — воскликнул Лис. — Наша бедная девочка! Сколько она всего вынесла! Ей бы отдохнуть, выспаться, попить отвару чемерицы… Мы бы за ней ухаживали! И тогда бы она поправилась. Но как все это сделать, ума не приложу. Давай придумаем что-нибудь, доченька! Ах, почему я не Одиссей и не Гермес[18]!
— Значит, ты уверен, что Психея сошла с ума? Он кинул на меня быстрый взгляд:
— Почему ты спрашиваешь, доченька? А ты что думаешь?
— Дедушка, ты можешь и меня посчитать безумной, но ты же не видел ее! Она говорит обо всем так спокойно! В речах ее нет путаницы. Она чуть не смеется от счастья, и глаза у нее чистые, ясные. Если бы я была слепой, я бы легко поверила вовсе, что она говорит.
— Но ты не слепая, и никакого дворца ты не видела.
— А ты никогда не допускал — хотя бы на миг, хотя бы просто как возможность, — что существуют вещи, на самом деле существуют, которые мы не можем увидеть?
— Ну разумеется, существуют! Например, Справедливость, Равенство, Душа, Музыка…
— Ах, дедушка, я не о том! Скажи, если существуют души, может быть, существуют и невидимые дома, в которых эти души живут?
Он провел по лбу рукой знакомым, привычным жестом учителя, недовольного вопросом ученика.
— Доченька, — сказал он, — мне сдается, за столько лет учебы ты так и не постигла истинного значения слова «душа».
— Я прекрасно знаю, какой смысл ты вкладываешь в это слово, дедушка. Но разве ты знаешь все на свете? Разве не существует невидимых вещей — именно вещей?
— Таких вещей множество. То, что у нас за спиной. То, что слишком далеко от нас. Весь мир, когда стемнеет. — Старик наклонился вперед и взял мою руку в свою.
— Мне кажется, доченька, что и тебе не мешало бы попить чемерицы, — сказал он.
У меня промелькнула мысль, не рассказать ли ему о моем видении, но я тут же поняла, что в целом мире не сыскать хуже слушателя для подобной истории. Он и так уже заставил меня покраснеть — я устыдилась своих сомнений. Но тут радостная догадка озарила меня.
— Но тогда получается, — сказала я, — что ее полуночный любовник ей тоже только мерещится?
— О, если бы это было так, — вздохнул Лис.
— Что ты хочешь сказать, дедушка?
— Ты ведь говорила, что она сыта и здорова, что на лице у ней румянец?
— Она хороша как никогда.
— Кто же кормил ее все это время?
Я онемела от неожиданности.
— А кто снял с нее оковы? Об этом я даже и не думала.
— Дедушка! — вскричала я. — Что у тебя на уме? Изо всех людей ты последний стал бы утверждать, что речь идет о боге. Скажи я такое, ты бы поднял меня на смех.
— На смех? Да мне было бы горько до слез! Ах, доченька, доченька! Когда только мне удастся вытравить из тебя все нянькины сказки, все глупости, которые нашептали тебе жрецы и предсказатели? Неужто ты думаешь, что Божественная Природа… ах, какое невежество, какое смехотворное невежество! С таким же успехом ты могла бы сказать, что у Вселенной чесотка или что Суть Вещей упилась в винном погребе.
— Я не сказала, что к ней приходит бог, дедушка, — перебила я старика. — Я только спрашивала тебя, кто к ней приходит.
— Человек, разумеется, человек! — воскликнул Лис, стуча кулаком по столу. — Ты уже не ребенок! Тебе ли не знать, что в горах тоже есть люди!
— Люди! — воскликнула я.
— Да, люди. Бродяги, беглые рабы, разбойники, воры! Неужели ты этого не знаешь?
Я покраснела от негодования и вскочила на ноги. Для девушки из нашего рода будет большим бесчестьем, если она сойдется, пусть даже в законном браке, с человеком, в жилах которого нет хотя бы четверти божественной крови. То, что утверждал Лис, было невыносимо.
— Как ты смеешь? — вскричала я. — Психея скорее бросилась бы на острые колья, чем…
— Не горячись, доченька, — сказал Лис. — Она же ничего не понимает. По моему разумению, какой-то разбойник с большой дороги нашел бедняжку, обезумевшую от страха, одиночества и жажды, и снял с нее оковы. Несчастная уже бредила, а о чем она могла бредить в подобном положении? Конечно же, о золотом и янтарном дворце на Горе — она ведь мечтала о нем с самого детства. Парень сразу все смекнули выдал себя за посланца богов — вот откуда взялся бог Западного Ветра! Он отвел ее в эту долину и нашептал ей, что сам бог, ее жених, придет к ней под покровом тьмы. Потом он ушел, а ночью вернулся.
— А как же дворец?
— Безумие заставило ее поверить в свой детский сон и принять его за действительность. А негодяй только поддакивал ей во всем. Возможно, и от себя что-нибудь прибавил, и тогда она совсем уверовала в свой бред.
Второй раз за этот день я впала в глубокое отчаяние. Лис объяснил все слишком правдоподобно и логично, он отнял у меня сомнения, а значит — надежду. Впрочем, так было и с Бардией.
— Похоже, дедушка, — сказала я понуро, — ты лучше меня справился с загадкой.
— Не нужно быть Эдипом, чтобы отгадать такую загадку[19]. Куда сложнее решить, что нам теперь делать. Ах, мне ничего не приходит в голову! Видно, твой отец слишком часто драл мне уши и тем попортил мне мозги. Должен, должен быть выход… а времени совсем нет!
— Ни времени, ни возможности. Я не смогу долго притворяться больной. Как только Царь узнает, что я выздоровела, путь на Гору будет мне заказан…
— О, я совсем забыл!.. Такая важная новость! Снова появились львы. Что? — вскричала я в ужасе. — На Горе?
— Нет, нет, все гораздо лучше! Львы объявились на юге, к западу от Рингаля. Царь собирается отправиться на львиную охоту.
— Так, львы вернулись… значит, Унгит нас обманула. Может, на этот раз принесут в жертву Редиваль. Царь в бешенстве?
— В бешенстве? Нет. Когда ему сказали, что погиб пастух, десяток баранов и несколько добрых псов (а ты знаешь, как он их ценит), он так обрадовался, словно ему принесли радостное известие. Я давно его не видел в столь приятном расположении духа. Весь день он только и говорил, что о собаках, загонщиках, о погоде… и тому подобной чуши. То посылал гонцов к очередному князю, то вел глубокомысленные беседы с егерями, то наводил порядок на псарне, то проверял, как подковали коней. Пиво лилось рекой, и даже я удостоился дружеского хлопка по спине, от которого у меня до сих пор болят ребра. Но нам-то важнее всего, что два дня он пробудет на охоте, а если повезет, то дней пять или шесть. Он выезжает завтра засветло. Значит, мы должны торопиться.
— Да. Потом будет слишком поздно. Психея умрет, если зима застигнет ее в горах. У нее нет крыши над головой. К тому же не успеем мы и оглянуться, как у нее будет ребенок.
Эти слова ударили меня в самое сердце.
— Подлец, чтоб ему сгнить от проказы — прорычала я. — Будь он проклят навеки! Неужто Психея родит от голодранца? Мы посадим его на кол, когда поймаем. Он будет умирать долго и медленно. О, я бы растерзала его на клочки собственными зубами!
— Ты омрачаешь темными страстями нашу беседу и свою душу, — остановил меня Лис. — Нам нужно придумать, где мы ее спрячем.
— Я уже придумала, сказала я. Мы спрячем ее у Бардии.
— У Бардии! Да он никогда не примет у себя в доме ту, что была принесена в жертву богам! Он боится собственной тени и верит в бабьи сказки, этот Бардия! Он обыкновенный дурак.
— Бардия не дурак, отрезала я не без раздражения, потому что мне не нравилось, как пренебрежительно относится грек к смелым и честным людям, если они не обладали его ученостью.
— Даже если Бардия и согласится, добавил Лис, ему женушка не позволит. А кто не знает, что Бардия у жены под каблуком?
— Бардия? Я не могу поверить, что такой смельчак…
— Ба, да он влюблен, как Алкивиад! Парень женился на бесприданнице, взял за одну красоту, можно сказать весь город об этом знает. Она помыкает им как захочет.
— Должно быть, она очень дурная женщина, дедушка…
— Нам-то что за дело? Нам важно только то, что нашу голубку в этом доме не спрячешь. Более того, скажу тебе, доченька, что во всем Гломе такого места не сыщешь. Если хоть один человек в Гломе узнает, что она жива, ее найдут и снова принесут в жертву. Если бы мы могли отправить ее к родственникам матери… но это невозможно. О великий Зевс, если бы у меня было десять гоплитов[20] и опытный командир в придачу!
— Я не знаю, — перебила его я, — как заставить ее покинуть Гору. Она упрямится, дедушка. Она больше не слушается меня. Я боюсь, что придется применить силу.
— Откуда у нас сила? Ты слабая женщина, я раб. У нас нет отряда в десять гоплитов, чтобы отправиться с ним на Гору. А если б он у нас был, мы не смогли бы сохранить это в тайне.
Мы долго сидели в молчании: огонь в очаге мерцал. Пуби сидела перед ним на корточках и подбрасывала дрова Она играла в странную игру с бусами, принятую среди ее народа: я так и не смогла обучиться ей, хотя девушка не раз пробовала объяснить мне правила. Лис то и дело порывался заговорить, но так и не сказан ничего. Планы рождались у него быстро, и так же быстро он умел находить в них недостатки.
Наконец я нарушила молчание:
— Значит так, дедушка, я возвращаюсь к Психее и пытаюсь переубедить ее. Если она поймет, в какой она опасности, втроем мы что-нибудь придумаем. Возможно, нам придется отправиться странствовать, подобно Эдипу[21].
— Я пойду с вами, сказал Лис. Однажды ты подбивала меня на побег. Теперь моя очередь.
Ясно одно. сказала я. Она не должна оставаться в руках обманщика и мерзавца. Все что угодно, но этого я не допущу. Это мой долг, ибо мать ее умерла и у нее нет другой матери, кроме меня. Ее отец недостоин зваться отцом, как, впрочем, и царем. Нет никого, кроме меня, кто мог бы позаботиться о безопасности Психеи и о чести нашего дома. Это нельзя так оставить. Я… я…
— Что с тобой, доченька? Ты побелела! Тебе плохо?
— Если не будет другого выхода, я убью ее.
— Вавий! — воскликнул Лис так громко, что Пуби бросила свою игру и уставилась на него. — Доченька, ты потеряла рассудок и погрешила против природы вещей. В сердце твоем на одну часть любви приходится пять частей гнева и семь частей гордыни. Ведают боги и я люблю Психею. Ты это знаешь, и моя любовь ничем не меньше твоей. Ужасно, что наша возлюбленная дочь, равноподобная Артемиде и Афродите[22], должна прозябать с бродягой и делить с ним ложе. Но даже такая жизнь не столь презренна, как представляется тебе. Посмотри трезвым взглядом, прислушайся к голосу рассудка и естества, не дай страстям овладеть тобой. Быть бедной и жить в нужде, быть женой бедняка…
— Женой! Скажи лучше — подстилкой, потаскухой, наложницей!
— Природа не знает этих слов. Брак установлен обычаями людей, а не законами природы. Мужчина уговаривает, женщина соглашается — вот и все, что от природы.
— Уговаривает? А если принуждает и берет силой? Если этот мужчина — убийца, чужеземец, беглый раб или еще какая-нибудь дрянь?
— Дрянь? Видно, мы с тобой по-разному понимаем вещи. Я сам чужеземец и раб, а скоро из любви к вам стану беглым рабом, и меня не устрашают ни плети, ни кол.
Ты мне больше отца! — воскликнула я и поцеловала его руку. — Я не хотела обидеть тебя, дедушка, но есть вещи, в которых ты не разбираешься. Психея тоже так считает.
— Милая Психея! сказал старик. — Я ей часто говорил об этом. Она запомнила. Она усвоила урок, Она всегда была хорошей ученицей.
— Ты не веришь в божественность нашего рода. — сказала я.
— Почему не верю? Охотно верю. Все люди ведут свой род от богов, и в каждом человеке есть частичка бога. Мы все люди. И тот, с кем живет Психея, — тоже человек Я назвал его подлецом и мерзавцем и, скорее всего, не ошибся. Но случается всякое — бывает, что и хороший человек становится разбойником и изгоем общества.
Я молчала. Все эти рассуждения были мне неприятны.
— Доченька, сказал внезапно Лис. Сон приходит рано к старикам. У меня глаза слипаются. Отпусти меня — утро вечера мудренее.
Что оставалось мне делать? Я отпустила Лиса с мыслью, что ни одна женщина на его месте не поступила бы подобным образом. Но уж таковы мужчины: даже самые надежные из них подводят в такой час, потому что сердце их никогда не способно полностью сосредоточиться на чем-то одном. Еда, выпивка, сон, игра, новая баба всегда могут отвлечь их внимание, и с этим, будь ты хоть царица, ничего не поделаешь. Но тогда я еще не понимала этого и обиделась на старого учителя.
Все от меня уходят, сказала я себе. — Никому и дела нет до Психеи… Она для них значит меньше, чем Пуби значит для меня. Они на миг вспоминают о ней. а потом возвращаются к своим любимым занятиям — Лис в постель, а Бардия — к своей женушке. Ты одна в этом мире. Оруаль. Никто ничего не сделает за тебя. Ни на кого нельзя рассчитывать. Боги и смертные отступились от тебя. Тебе самой предстоит разгадать все загадки. Не жди ни от кого подсказки и не смей на них обижаться, не то они навалятся на тебя всем скопом, и обвинят тебя, и насмеются над тобой, и в конце предадут тебя казни.
Я отослала Пуби, а затем сделала недозволенное. Я думаю, почти никто не осмеливался сделать это. Я обратилась к богам сама, своими словами, наедине с ними, не входя в храм и не принося жертвы. Я распростерлась на полу и от всего сердца воззвала к ним. Я взяла назад все обидные слова, сказанные мною против небожителей. Я обещала им, что выполню любую их волю, если они дадут мне знак. Но боги молчали. Когда я приступила к молитве, пламя в очаге ярко пылало и дождь стучал по крыше. Когда я закончила, дождь по-прежнему шел, но пламя уже почти погасло.
Теперь, когда мне стало ясно, что я представлена самой себе, я сказала:
— Завтра… завтра я сделаю все, что нужно… а сейчас… спать.
Я легла в постель в таком состоянии, когда изнуренная плоть сразу уступает сну, но встревоженная душа может разбудить ее в любое мгновение. Проснулась я глубокой ночью и сразу поняла, что не смогу больше заснуть. Огонь погас, и дождь прекратился. Я подошла к окну и долго стояла, вглядываясь в ночь и прислушиваясь к порывам ветра. Подперев виски кулаками, я напряженно думала.
Рассудок мой прояснился, и теперь я удивлялась, что приняла и объяснение Лиса, и мнение Бардии, хотя кто-то из них, несомненно, был не прав. Я не могла решить кто, потому что, если верно то, что говорят в Гломе, прав Бардия, но если верна философия греков прав Лис. Но я не знала, за что держаться, — ведь я была дочерью Глома и ученицей Лиса. Тогда я впервые поняла, что все эти годы я состояла из двух половинок, которые плохо подходили друг к другу.
Мне не удавалось сделать выбор между Бардией и Лисом, но как только я отказалась от всяких попыток, меня осенило. Неважно, кто из них прав, потому что в одном они сходятся. Некто отвратительный и гнусный завладел Психеей. Какая разница, кто это — кровожадный разбойник или призрачное чудище? Ни воин, ни грек не верили, что ночной гость может быть порождением добра и красоты, и это было самое главное. Только мне могла взбрести в голову такая мысль. Существо это приходит в темноте и запрещает смотреть на себя. Какой любовник будет поступать так, если на то нет какой-то ужасной причины?
Я усомнилась в этом всего лишь на миг, когда увидела призрачный дворец на другом берегу реки.
«Она не будет больше его! — сказала я себе. — Она не останется в его мерзких объятиях. Сегодняшняя ночь последняя».
Внезапно я вспомнила, как счастлива была Психея в горной долине, как сияло ее лицо и лучилась радостью улыбка. Искушение снова овладело мной: не лучше ли оставить все как есть, предоставить сестре тешиться безумными мечтами, не раскрывать ей глаза на весь ужас ее положения? Я всегда была Психее нежной матерью, так к чему становиться карающей фурией? Какая-то часть моей души нашептывала мне: «Оставь их в покое. Есть чудеса, которых тебе не дано понять. Не торопись: кто знает, что станется с ней и с тобой, если ты вмешаешься?» Но другая часть напоминала мне, что я для Психеи — и мать и отец, что любовь моя должна быть суровой и дальновидной, а не всепрощающей и близорукой, что иногда она должна быть даже жестокой. В конце концов. Психея — всего лишь ребенок. Если даже я не могу разобраться в этой загадке, что может она? Дети должны слушаться старших. Мне было больно, когда цирюльник вынимал занозу у Психеи. Но разве я отослала цирюльника прочь?
Я набралась решимости. Я решала теперь, что я сделаю на следующий день, потому что позже времени уже не будет. Мой замысел требовал только, чтобы Бардия не уехал вместе с Царем на львиную охоту и чтобы в это дело не вмешалась его женушка. Эта мысль о жене постоянно тревожила меня, как назойливая муха. А вдруг она воспрепятствует отлучке Бардии или задержит его?
Я легла в постель, чтобы скорее настало утро. Я была спокойна и твердо знала, что мне теперь нужно делать.
Глава четырнадцатая
Ночь показалась мне очень долгой, хотя тем утром из-за царской охоты шум поднялся ни свет ни заря. Я подождала, пока все встали и занялись сборами, после чего собралась сама. Я надела те же одежды, что и накануне, и взяла ту же самую урну, только на этот раз я спрятала в нее лампу, кувшинчик с маслом и широкую полотняную ленту, вроде тех, что у нас в Гломе невесты наматывают на себя в день свадьбы. У меня такая лежала в сундучке с того дня, когда мать Психеи выходила замуж за нашего отца. Затем я позвала Пуби и велела принести мне еды; часть я съела, часть тоже спрятала в урну. Когда звуки труб и конский топот возвестили, что царь со свитой отбыли, я надела плащ, прикрыла лицо платком и вышла из моих покоев. Первого же попавшегося мне раба я послала узнать, уехал ли Бардия, а если остался привести его ко мне в Столбовую залу. Мне было немного странно находиться там одной. Несмотря на все мои заботы и тревоги, я не могла не заметить, что дворец стал как бы светлее и теплее в отсутствие Царя. Даже рабы словно воспрянули духом.
Пришел Бардия.
— Бардия, — сказала я ему. Мне снова нужно на Гору.
— Я не могу пойти с тобой, госпожа, ответил воин. — Меня, к несчастью, не взяли на охоту только потому, что кто-то должен присматривать за дворцом. Я буду даже ночевать здесь, пока не вернется Царь. Эта новость обескуражила меня.
— Ах, Бардия! — воскликнула я. Что же делать? Я не могу не пойти, меня просила сестра!
Бардия потер указательным пальцем под носом, как он всегда делал в задумчивости.
— А ты не умеешь ездить верхом вздохнул он. — Не знаю уж и как… ах я дурак! Ни один конь не надежен, если не надежен всадник Нельзя ли отложить поездку на несколько дней? Или поехать с кем-нибудь другим?
— Нет, Бардия, мне нужен именно ты. Дело это должно остаться в тайне, а я доверяю только тебе…
— Я могу отпустить с тобой Ирека на два дня и одну ночь.
— Кто это Ирек?
— Невысокий такой, черноволосый. Он хороший парень.
— Умеет ли он держать язык за зубами?
— Спроси лучше, умеет ли он говорить! Сколько он у меня служит, а я еще и десятка слов от него не слышал. Но он парень что надо, преданный, и никогда не забудет об одной услуге, которую я ему оказал.
— Было бы лучше, если бы поехал ты.
— Это все, что я могу предложить тебе, госпожа. Или изволь подождать.
Но я сказала, что ждать не могу, и Бардия послал за Иреком. Ирек был черноглазый человек с худощавым испуганным лицом. Похоже, он меня боялся. Бардия велел ему взять лошадь и ждать там, где дорога из города пересекает луга. Как только Ирек ушел, я сказала:
— А теперь, Бардия, раздобудь мне кинжал.
— Кинжал? Зачем он тебе, госпожа?
— Для чего бывает нужен кинжал? Ты же знаешь, что у меня нет дурных умыслов. Бардия искоса посмотрел на меня, но кинжал дал. Я повесила его на пояс вместо меча.
— Прощай, Бардия! — сказала я.
— Прощай? Разве ты не вернешься завтра, госпожа?
— Не знаю, не знаю… — сказала я и стремительно вышла, оставив воина в недоумении. На условленном месте меня поджидал Ирек. Он помог мне взобраться на коня, прикасаясь ко мне при этом (если только это не было плодом моего воображения), как будто я была змеей или колдуньей.
Это путешествие разительно отличалось от предыдущего. За весь день Ирек не сказал ничего, кроме «Да, госпожа. Нет, госпожа». Часто шел дождь, и даже когда его не было, ветер был насыщен влагой. Серое небо затянули низкие тучи, из-за этого все живописные холмы и долины превратились в один унылый пейзаж. На этот раз мы выехали немного позже, поэтому седловины достигли ближе к вечеру. Когда мы спустились в долину, небо расчистилось, словно по волшебству. Создавалось впечатлению, что солнце сияло над долиной всегда, даже когда дождь стеной обступал ее со всех сторон.
Я привела Ирека туда, где мы ночевали с Бардией, и велела ему ждать меня там и ни в коем случае не пытаться переправиться через реку.
— Я пойду туда одна. Я могу вернуться скоро, а могу остался на ночь на стороне. Не ищи меня, пока я сама не позову тебя.
Он сказал, как всегда: «Да, госпожа», но по выражению его глаз было видно, что вся эта затея ему совсем не по душе.
Я отправилась к броду, который отстоял не более чем на выстрел из лука от места, где я оставила Ирека. Мое сердце было холодным как лед, тяжелым как свинец и черным как сырая земля — оно больше не ведало сомнений и колебаний. Я ступила на первый камень и позвала Психею. Она была где-то неподалеку, потому что появилась на берегу почти в тот же миг. Мы были похожи на два олицетворения любви — любви счастливой и любви суровой. Психея излучала молодость и счастье, она вся светилась изнутри, я же была исполнена решимости, обременена ответственностью, и в руке моей притаилось жало.
— Видишь, я не ошиблась, Майя! — сказала сестра, как только я перебралась на ее берег. — Царь тебе не помешал. Можешь считать меня пророчицей.
Я совсем забыла ее предсказание и на миг растерялась, но решила отложить размышления на потом. Задача была ясна; для сомнений больше не оставалось места.
Она отвела меня от воды и усадила не знаю уж на какое из кресел своего призрачного дворца. Я отбросила капюшон, сняла платок и поставила урну перед собой.
— Ах, Оруаль! — воскликнула Психея. — Я вижу следы бури на твоем лице. Такое ощущение, словно я снова маленькая девочка, а ты на меня сердишься!
— Разве я когда-нибудь сердилась на тебя, Психея? Даже когда мне приходилось ругать тебя, мне было тяжелее, чем тебе, во много раз.
— Сестра, мне не за что обижаться на тебя.
— Тогда не обижайся и сегодня, потому что разговор предстоит очень серьезный. Наш отец — не отец. Твоя мать (мир с ней!) умерла, ее ты не знаешь. Я стала — и остаюсь до сих пор — и отцом, и матерью, и родней для тебя. И даже Царем.
— Майя, ты была для меня всем и даже больше, чем всем, со дня моего рождения. Ты и милый Лис — кроме вас, у меня никого не было.
— Да, Лис. О нем я тоже кое-что скажу. Так вот, Психея, если кто-нибудь в этом мире имеет право позаботиться о тебе, или защитить тебя, или объяснить тебе, что приличествует нашему роду, а что — нет, то это я, и только я.
— Но зачем ты говоришь все это, Оруаль? Неужто ты думаешь, что я разлюбила тебя только потому, что теперь у меня есть супруг? Напротив, я люблю тебя — и все и всех вокруг — только больше. Ах, если бы ты только могла меня понять!
От этих слов я задрожала, но попыталась скрыть это и продолжила.
— Психея, я знаю, что ты любишь меня, — сказала я. — Я бы умерла, если бы это было не так. Но поверь и мне.
Она промолчала. Мне не оставалось ничего, как перейти к сути этого ужасного разговора, но я словно онемела и никак не могла начать.
— Ты сказала мне при последней встрече, — выговорила я наконец, — что помнишь, как тебе вынимали занозу. Мы причинили тебе боль тогда, но мы не могли поступить иначе. Любящие иногда должны делать больно любимым. Сегодня как раз такой случай. Ты все еще ребенок, Психея. Ты не можешь решать за себя сама. За тебя многое должна решать я.
— Оруаль, но теперь я замужем!
Мне стоило немалого труда сдержать мой гнев при упоминании о муже. Я прикусила губу и сказала:
— Увы, именно о муже твоем (раз тебе нравится его так называть) и пойдет речь. — Я посмотрела сестре прямо в глаза и спросила резко: — Кто он? Знаешь ли ты, кто он?
— Бог, — сказала Психея тихим взволнованным голосом. — Я думаю, что он — бог Горы.
— Увы, Психея, тебя обманули! Если бы ты знала правду, ты бы скорее умерла, чем взошла с ним на ложе!
— Правду?
— Да, милое дитя, правду. Она ужасна, но тебе придется потерпеть, пока я не выну эту занозу у тебя из груди. Что это за бог, который не решается показать свое лицо?
— Не решается? Ты можешь рассердить меня, Оруаль!
— Но послушай, Психея, красивое лицо не прячут, честное имя не скрывают. Нет, нет, слушай меня! Сердце твое знает правду, как бы ты ни одурманивала себя словами. Подумай. Чьей невестой ты была? Чудища. Подумай еще. А кроме Чудища, кто еще живет в горах? Воры и убийцы — люди, которые опаснее всякого чудища, к тому же похотливые, как козлы. Если бы ты попалась им в руки, неужто ты думаешь, они отпустили бы тебя просто так? Вот каков он, этот твой возлюбленный, несчастная! Или жуткая тварь — может быть, неприкаянная тень из мира мертвых, — или прожженный мерзавец, одно прикосновение губ которого к твоим сандалиям способно осквернить весь наш род!
Некоторое время Психея молчала, опустив глаза.
— Вот так, Психея, — прибавила я как можно ласковее и положила свою ладонь на ее руку, но она живо отбросила ее в сторону.
— Ты ничего не поняла, Оруаль! Если я бледна сейчас, то только от гнева. Мне удалось совладать с собой, и я прощаю тебя, сестра. Я надеюсь, что ты не замышляла ничего дурного, но мне жаль тебя: ведь ты омрачила свою душу этими черными думами… однако не будем об этом. Если ты любишь меня, прогони их прочь.
— Черными думами? Что ж, не одну меня они посетили! Назови мне, Психея, двух самых мудрых людей из тех, кого ты знаешь.
— Лис, разумеется. А второй… мне трудно сказать, но, положим, Бардия. По-своему он тоже мудр.
— Ты сама сказала той ночью, в комнате с пятью углами, что он — человек разумный. Так вот, Психея, оба они, хотя они такие разные, согласны со мной в том, кто твой любовник. Согласны полностью. У них нет никаких сомнений. Это или Чудище, или проходимец с гор.
— Ты рассказала им обо мне, Оруаль? Это скверно. Я тебе не разрешала этого, и мой господин тоже. Ах, Оруаль, я могла ждать такого от Батты, но не от тебя!
Я ощущала, что мое раскрасневшееся лицо выдает мой гнев, но пыталась не потерять самообладания.
— Несомненно, — продолжала я, — этот твой муж, как ты зовешь его, хитер и изворотлив. Дитя, неужели его гнусная любовь настолько завладела тобой, что ты не хочешь видеть очевидных вещей? Бог? Что это за бог, который говорит «Молчи!», «Не говори никому!», «Не предавай меня!»? Так говорят беглые рабы, а не боги.
Я не уверена, слышала ли она меня, потому что в ответ она сказала:
— И Лис тоже! Как странно… Я думала, он не верит в Чудище совсем.
Я не говорила ей, что Лис верит, но раз она сделала такой вывод из моих слов, я не стала ее разубеждать. Не стоило так быстро сообщать ей главное — она просто не хотела ничего об этом слышать.
— Ни он, ни я, ни Бардия, — сказала я, — ни на мгновение не верили в то, что ты живешь с богом, не верили, что в этой глуши есть какой-то дворец. Знай, Психея, что, кого бы ты ни спросила в Гломе, все сказали бы тебе то же самое. Правда слишком очевидна.
— Но мне-то что до того? Что они могут знать? Он — мой муж. Это знаю я.
— Как ты можешь это знать, если никогда его не видела?
— Оруаль, неужто ты так наивна? Откуда я это знаю? Как откуда?
— И верно, откуда?
— Что я могу ответить тебе, сестра? Об этом не говорят… да ты и не поймешь… ведь ты еще девушка.
Эта женская умудренность в устах той, которую я считала ребенком, чуть не положила конец моему терпению. Мне показалось (теперь-то я знаю, что только показалось), будто Психея пытается поднять меня на смех. Но я все еще держала себя в руках.
— Хорошо, Психея, если ты так уверена, что тебе стоит произвести небольшую проверку?
— Какую проверку? Мне нечего проверять!
— Я принесла с собой лампу и масло. Смотри, вот они. Подожди, пока он — или оно — заснет. И посмотри сама.
— Я не могу.
— Ага!.. Вот видишь! Ты не хочешь. А почему? Да потому, что ты совсем не так уверена. Если бы ты была уверена, ты бы сама настояла на этом. Если он, как ты утверждаешь, и верно бог, довольно будет одного взгляда, чтобы убедиться в этом, И для черных дум, как ты говоришь, больше не останется места. Но ты боишься.
— Ах, Оруаль, дурное ты задумала! Я не могу видеть его, потому что он запретил мне — вот и все. И я не обману его так подло, как ты предлагаешь.
— Я могу вообразить себе — и Лис и Бардия тоже — только одну причину для такого запрета. И только одну причину твоего послушания.
— Тогда ты ничего не знаешь о любви.
— Ты снова тычешь мне в лицо моей девственностью. Лучше девственность, чем грязный хлев, в который ты угодила. Ну ладно, — пусть я не знаю ничего о том, что ты зовешь любовью. Об этом тебе будет интереснее поговорить с Редивалью, или с храмовыми девушками, или с царскими наложницами. Я знаю другую любовь, и ты узнаешь, какова она. Ты узнаешь…
— Оруаль, Оруаль, гнев обуял тебя, — вздохнула Психея.
Сама она была совершенно спокойна и печально смотрела на меня, но в печали этой не было ни капли раскаяния. Со стороны показалось бы, что это она — моя мать, а не наоборот. Я поняла, что покорная, беззащитная Психея умерла навсегда.
— Да, сказала я. Это гнев. Я гневалась на тебя. Но я всегда считала, что любовь (ты меня поправишь, если я ошиблась) стремится отвести от любимых клевету, которую на них возвели. Скажи матери, что ее дитя некрасиво. Она тут же покажет его тебе, чтобы убедить, что ты ошибаешься. Никакой запрет ее не остановит. Если же она спрячет его, значит, дитя и вправду уродливо. Ты боишься. Психея, боишься увидеть его лицо.
— Нет, я боюсь другого. Я никогда не прощу себе, если ослушаюсь его.
— Хорошо же ты о нем думаешь! Хуже, чем о нашем отце. Ты считаешь, что он разгневается, если ты нарушишь такой бессмысленный и ничтожный запрет!
— Ты говоришь глупости, Оруаль, — сказала Психея, покачав головой. Он бог. Он знает, что делает. Мне не дано знать его помыслов. Я — всего лишь простушка Психея.
— Значит, ты не сделаешь этого? Ты не хочешь доказать мне, что он бог, и избавить этим от беспокойства, которое иссушает мне сердце? Спасибо, сестра.
— Я бы сделала, но я не могу.
Я огляделась вокруг. Солнце уже скрывалось за седловиной. Еще немного, и она отошлет меня. Я встала.
— Пора положить этому конец, — сказала я. — Ты должна сделать это, Психея. Я приказываю тебе.
— Дорогая Майя, ты не можешь мне более приказывать.
— Тогда мне не стоит больше жить! — воскликнула я и отбросила с этими словами мой плащ. Выставив вперед левую руку, я вонзила в нее кинжал так, что проколола ее насквозь. Больнее всего мне было, когда я попыталась извлечь его обратно, но я вытерпела и это.
— Оруаль! Ты сошла с ума! — вскричала Психея, вскочив на ноги.
— В этой урне лежит лента. Перевяжи мою рану, — сказала я, садясь на мох. Раненую руку я выставила вперед, и кровь стекала с нее на землю.
Я думала, что Психея начнет кричать или упадет в обморок, но я ошиблась. Она побледнела, но не потеряла присутствия духа. Кровь лилась сильно, и ленту пришлось обмотать вокруг руки не один раз. (Мне повезло — я нанесла удар, не задев ни кости, ни сухожилий. Если бы я знала тогда о строении руки столько, сколько знаю сейчас, я бы не решилась на такое.)
На перевязку ушло немало времени, и когда мы закончили, солнце уже стояло низко, и в воздухе похолодало.
— Майя, — заговорила первой Психея. — Зачем ты сделала это?
— Чтобы показать тебе, девочка, что я не расположена шутить. Послушай, ты довела меня до отчаяния. Выбирай сама — поклянись теперь на этом клинке, влажном от моей крови, что ты сделаешь так, как я велела, иначе я убью сперва тебя, а потом себя.
— Оруаль, — сказала Психея с царским достоинством, высоко держа голову, — ты могла бы и не говорить, что убьешь меня. Не в этом твоя власть надо мной.
— Тогда поклянись! Ты знаешь, что мое слово твердо.
Выражение ее лица стало странным. Мне подумалось, что, должно быть, так смотрит мужчина на возлюбленную, которая изменила. Наконец Психея сказала:
— Да, видно, я и вправду не со всякой любовью знакома. По мне, такая, как твоя, ничем не лучше ненависти. Я словно в темную яму заглянула. Ах, Оруаль, ты взяла мою любовь к тебе, глубокую, из самого сердца, не меркнущую от того, что я люблю и другого, — эту любовь ты взяла в заложницы, чтобы обратить ее против меня. Ты превратила ее в орудие пытки — раньше я этого за тобой не знала. В любом случае, между нами произошло что-то непоправимое. Что-то умерло навсегда.
— Довольно болтовни, — сказала я. — Мы обе умрем здесь целиком и без остатка, если ты не поклянешься на этой стали.
— Я сделаю это, — сказала она с жаром. — Сделаю не потому, что я усомнилась в моем супруге и его любви. Я сделаю это только потому, что я думаю о нем лучше, чем о тебе. Он не так жесток, как ты, я знаю. Он поймет, с какой мукой в сердце я вынуждена была ослушаться его. Он простит меня.
— Может, он никогда и не узнает.
Надо было видеть, с каким презрением она посмотрела на меня. Мне было больно, но в то же время я гордилась — не я ли научила ее этому благородству? Ведь она была все же моим творением. А теперь она смотрела на меня так, словно ниже меня не было твари на земле.
— Ты думаешь, я скрою от него? Думаешь, не скажу ему? — воскликнула Психея, всаживая слова, словно гвозди в живую плоть. — С тобой мне больше не о чем говорить. Довольно. С каждым словом я узнаю слишком много нового о тебе. Я любила тебя, почитала, верила тебе, слушалась тебя, пока ты имела на это право. Теперь все кончено — но я не хочу, чтобы мой дом был обагрен твоей кровью. Ты хорошо придумала, чем принудить меня. Где твой кинжал? Я поклянусь.
Я победила, но сердце мое исходило кровью. Мне мучительно хотелось взять свои слова обратно и попросить у нее прощения. Но вместо этого я протянула ей кинжал (такая клятва считалась у нас в Гломе самой крепкой — ее называли «стальная клятва»).
— И даже теперь, — сказала Психея, я делаю это, зная, на что иду. Я собираюсь предать моего возлюбленного, лучшего из всех. Возможно, не успеет и солнце взойти, как счастье мое разлетится вдребезги. Вот она, цена твоей жизни, и я заплачу ее.
Она поклялась, и слезы хлынули у меня из глаз. Я хотела заговорить с ней, но она отвернулась.
— Солнце почти зашло, — сказала она. — Иди на тот берег. Жизнь твоя спасена, уходи.
Я поняла, что боюсь ее. Я вернулась к реке и кое-как перебралась на мой берег. И тут ночная тень легла на всю долину.
Глава пятнадцатая
Очевидно, выйдя на другой берег, я сразу же потеряла сознание; ничем иным я не могу объяснить провал в моей памяти. Очнулась я от холода, жажды и страшной боли в раненой руке. Я с жадностью напилась из ручья и тут же захотела есть, но вспомнила, что вся еда осталась в урне вместе с лампой. Все во мне противилось тому, чтобы позвать на помощь Ирека, такого колючего и неприветливого. Мне казалось (хотя я уже понимала, что это самообман), будь со мной Бардия, все кончилось бы иначе, намного лучше. И я начала представлять, как бы это было, пока не вспомнила, зачем я, собственно говоря, здесь. Мне стало стыдно, что я забыла о главном.
Я собиралась сидеть у брода, пока не увижу свет лампы, зажженной Психеей. Затем Психея прикроет лампу, и свет на время исчезнет. Потом, скорее всего, свет снова появится, когда она поднесет лампу, чтобы рассмотреть лицо своего коварного господина. А потом — по крайней мере я на это надеялась — я услышу шаги Психеи в темноте и ее сдавленный шепот, когда она позовет меня с того берега. В то же мгновение я окажусь рядом и помогу ей переправиться. Она будет плакать, и я утешу ее; она поймет, кто ей друг, а кто враг, и снова полюбит меня. Она будет благодарить меня за то, что я спасла ее от мерзавца, чье лицо она увидела при свете лампы. От таких мыслей мне становилось легко.
Но были и другие мысли. Как я ни пыталась, я не могла избавиться от страха. А вдруг я ошиблась? Вдруг он и вправду бог? Но о нем мне не очень-то хотелось думать. Я думала больше о том, что тогда будет с ней, с моей Психеей. Я представляла, как она будет страдать, если ее счастье кончится из-за меня. Не раз за эту ужасную ночь мне нестерпимо хотелось перейти ледяной поток и закричать, что я освобождаю ее от клятвы, что лампу зажигать не надо, что дала ей дурной совет. Но я боролась с этим желанием как могла.
Все эти мысли скользили по поверхности моего сознания, а в глубине, подобной тем океанским глубинам, о которых рассказывал мне Лис, лежало холодное, безрадостное воспоминание об ее презрении, о том, как она призналась мне в нелюбви — почти что в ненависти.
Как могла она меня ненавидеть, когда рука моя вся ныла и горела от раны, нанесенной любовью? «Жестокая, злая Психея!» — рыдала я, пока с ужасом не заметила, что вновь впадаю в то бредовое состояние, которое не оставляло меня, пока я болела. Я собрала волю в кулак и остановилась. Что бы ни происходило, я должна внимательно смотреть и не сходить с ума.
Вскоре в первый раз вспыхнул свет и сразу же снова погас. Я подумала (хотя я не сомневалась, что Психея сдержит свою клятву): «Так. Пока все идет как задумано». И тут я сама ужаснулась задуманному мной, но быстро отогнала эти мысли.
Ночной холод был нестерпимым. Рука моя пылала огнем, как головешка, остальное тело превратилось в сосульку, которая прикована к этой головешке, но все-таки не тает. Только сейчас я сообразила, что моя затея довольно опасна — ведь я могла умереть от раны и голода или, по меньшей мере, смертельно заболеть. Из этого зерна тотчас в моем сознании расцвел болезненный цветок самых диких фантазий. Мне представилось, что я лежу на большом костре, а Психея бьет себя в грудь и плачет, раскаиваясь в своей жестокости; Лис и Бардия тоже были там и плакали — даже Бардия! — потому что я умерла. Но мне даже стыдно говорить сейчас обо всех этих глупостях.
Очнулась я оттого, что свет появился снова. Моим глазам, обессиленным темнотой, он показался нестерпимо ярким. Костер ровно горел, наполняя пустошь вокруг неожиданным уютом домашнего очага, принося какое-то успокоение во весь мир. Но тут тишина взорвалась.
Откуда-то с той стороны, где я видела свет, прозвучал громкий, величественный голос; мурашки пробежали у меня по спине, а дыхание перехватило. Он не был страшным, этот голос; он был суров и непреклонен, но звучал литым золотом. Я забыла о боли; волна ужаса пронизала все мое существо; того ужаса, который испытывают люди перед лицом бессмертных. И тут же я различила сквозь трубные звуки этого голоса слабые женские рыдания. Сердце мое готово было разорваться. Но и голос, и плач — все это длилось какие-то мгновения, может быть, не дольше двух биений сердца (я говорю — биений сердца, хотя мое сердце не билось тогда — оно остановилось от ужаса).
Яркая вспышка осветила все вокруг. Удар грома, такой сильный, словно треснуло небо, раздался у меня над головой, и сразу же дождь из молний обрушился на долину. При каждой вспышке видны были падающие деревья; казалось, это падают колонны призрачного дворца Психеи. Из-за грома казалось, что стволы деревьев лопаются и падают беззвучно; более того — за раскатами грома я сперва не услышала, что раскололась сама Гора. Огромные скалы пришли в движение и покатились по склонам, сталкиваясь и подпрыгивая, как мячики. Река встала на дыбы и окатила меня с головы до пят ледяной водой, прежде чем я успела отпрянуть; но я все равно бы промокла, потому что вслед за бурей хлынул беспощадный ливень. Вскоре меня уже можно было отжимать, как губку.
И все-таки, несмотря на то, что я была ослеплена и испугана, я посчитала случившееся добрым знаком. Все, все доказывало мою правоту. Психея разбудила какое-то чудовищное существо, и теперь оно гневалось. Оно проснулось оттого, что Психея слишком долго рассматривала его, а может быть (и это скорее всего), оно только притворялось спящим, потому что нечисть не нуждается в сне, в отличие от людей. Возможно, оно погубит нас обеих, но Психея узнает все. Если она умрет, то умрет, зная правду, прозревшая — и все это благодаря мне. А может, нам удастся ускользнуть — ведь не все еще потеряно! И с этой мыслью я бросилась в воду под проливным дождем, торопясь на другой берег.
Я думаю, мне не удалось бы преодолеть ревущую, пенную стихию, даже если бы мне не помешали. Но мне помешали. Передо мной возникло нечто, отдаленно напоминавшее застывшую молнию. Оно излучало свет — холодный, неземной, пронзительный, лишенный всякого тепла, беспощадно высвечивающий все вокруг до мельчайших подробностей. Он не был подвижен, как пламя свечи в комнате без окон, и не становился ни ярче, ни слабее. В середине этого света стоял некто, подобный человеку. Странно, но я не могу сказать, какого он был роста. Он смотрел на меня сверху вниз, однако я не помню, чтобы он показался мне великаном. Не могу я и вспомнить, где он стоял — на другом берегу или прямо на воде.
Хотя свет сиял с неизменной силой, лицо того, кто стоял в нем, показалось мне вспышкой молнии, и я тут же отвела глаза в сторону, не в силах вынести вида этого лица. Вид его был невыносим не только для моих глаз — вся моя плоть и кровь, весь мой разум были слишком слабыми для этого. Даже Чудище, каким его представляли у нас в Гломе, смутило бы меня меньше, чем дивная красота этого лица. Мне кажется, я легче снесла бы, будь это лицо гневным, но оно не выражало гнева. Бесстрастный и безмерно глубокий взгляд отторгал меня, и это было невыносимо. Хотя я скрючилась у самых его ног, он смотрел на меня так, словно я была бесконечно далеко. Он отторгал самое мое существо, зная при этом (что было самым ужасным) все мои помыслы, все, что я совершила, и все, чем я была. Один греческий поэт сказал, что даже боги не вольны изменить прошлое. Не знаю, прав ли этот поэт, но тот, кто явился мне, сделал так, словно я знала с самого начала, что возлюбленный Психеи — бог, а все мои терзания, сомнения и расспросы, вся моя суета — это пыль, которую я сама себе напустила в глаза. Читатель, будь мне судьей, скажи, так ли это? И было ли это так, до того как бог изменил мое прошлое? А еще скажи — если боги в силах изменить прошлое, почему они не меняют его хотя бы иногда из жалости к нам?
Гром стих, по-моему, в тот самый миг, когда вспыхнул свет, и в полной тишине бог обратился ко мне. Голос его, как и лицо, не ведал гнева, подобного людскому; он звучал мелодично и бестревожно — так певчая птица поет, усевшись на ветку, с которой еще не сняли повешенного:
— Отныне изгоняется Психея и суждено изведать ей голод и жажду, блуждая по тернистым дорогам. Пусть те, кто надо мной, совершат свою волю. А ты, женщина, вернись к себе и к трудам своим. Ты тоже станешь Психеей в свой срок.
Голос и свет исчезли одновременно, словно их отрезали, а затем в наступившей тишине я услышала чей-то плач. Я никогда не слышала, ни до, ни после, чтобы кто-нибудь так плакал — ни брошенный ребенок, ни мужчина, потерявший руку, ни девушка из захваченного города, которую волокут в рабство. Если бы женщина, которую ты ненавидишь больше всего в жизни, плакала так, ты бы кинулся, чтобы утешить ее, читатель, даже если бы на пути у тебя был ров с острыми кольями или река с текучим огнем. Хуже всего было то, что я знала, кто это плачет и почему и кто повинен в этих слезах.
Я кинулась к Психее, но плач ее слышался все дальше, и я поняла, что она уходит прочь, к южному выходу из долины — туда, где я еще никогда не была, — чтобы сорваться там с крутых утесов и разбиться насмерть. А я ничем не могла помочь ей, потому что взбесившийся поток не пускал меня на другую сторону. Он не пытался утопить меня — он просто забавлялся со мной, швыряя из стороны в сторону, как щепку, и сковывал мои движения смертельным холодом. Наконец мне удалось ухватиться за скалу — от земли было мало толку, потому что время от времени огромные глыбы ее сползали в воду, которая стремительно уносила их, — и я обнаружила, что, несмотря на все мои старания, по-прежнему нахожусь на том же берегу. Я пошла вдоль берега, но в темноте скоро потеряла его. Дно долины, залитое водой, совсем раскисло, и я с трудом выбирала путь среди потоков воды.
Остаток ночи я плохо помню. Когда забрезжил рассвет, я увидела, что сталось с долиной, после того как на нее обрушился гнев бога. В мешанине из грязи, камней и воды плавали деревья, кусты, мертвые овцы, даже олень. Если бы я переправилась ночью через поток, я только оказалась бы на маленьком островке посреди грязи. Несмотря на все это, я упорно звала Психею, пока не сорвала голос. Я знала, что это глупо: Психея ушла в изгнание, как велел ей ее бог. Она бредет где-то по чужой стороне, льет горькие слезы по своему возлюбленному и даже не вспоминает (зачем лгать себе?) про свою сестру.
Я нашла Ирека, промокшего и дрожащего. Он украдкой бросил взгляд на мою перевязанную руку, но ничего не спросил. Мы подкрепились припасами из чересседельных сумок и отправились в путь. Небо к тому времени уже прояснилось.
Я пыталась посмотреть по-новому на все, что случилось. Теперь, когда стало ясно, что боги существуют и они ненавидят меня, не оставалось ничего иного, как ждать возмездия. Я гадала, на каком опасном месте лошадь подвернет ногу и сбросит меня в пропасть, какое дерево выбьет меня из седла веткой или когда моя рана достаточно воспалится, чтобы свести меня в могилу. Тут мне вспомнилось, что иногда боги мстят нечестивцам, обращая их в животных. Я то и дело ощупывала свое лицо под платком, ожидая, что оно вот-вот покроется кошачьим мехом, или собачьей шерстью, или даже свиной щетиной. При всем этом мне не было страшно. Даже странно, с каким иногда спокойствием человек смотрит на землю, траву, небо и говорит им в сердце своем: «Отныне вы все — враги мне. Вы ставите на меня силки и готовите мне казни».
Но потом я подумала, что слова «Ты тоже станешь Психеей в свой срок» надо понимать буквально; если она стала изгнанницей, то и я обречена бродить по свету. И ждать этого придется недолго, догадалась я, — достаточно, чтобы люди Глома не захотели видеть на троне женщину. Но бог сильно заблуждался — неужто и боги заблуждаются? — если думал, что такая участь будет мне особенно горька. Разделить участь Психеи… лучше этого могло быть только одно — понести наказание вместо нее. От этих мыслей какая-то новая сила и решительность пробудились во мне. Из меня выйдет отличная нищенка. Я достаточно уродлива для этого, а Бардия научил меня неплохо драться.
Бардия… Я задумалась, стоит ли рассказать ему все. А Лису? Об этом у меня еще не было времени подумать.
Глава шестнадцатая
Я тайком прокралась в жилые покои дворца, хотя по всему было видно, что отец еще не вернулся с охоты. Тем не менее я шла так тихо и осторожно, словно он был дома. И тут до меня дошло, что я прячусь вовсе не от Царя. Бессознательно я хотела избежать встречи с Лисом, моим извечным помощником и утешителем. Такая перемена в моих чувствах неприятно меня поразила.
Пуби, увидев мою рану, разразилась потоками слез, а потом наложила новую повязку. Только мы закончили и я принялась за еду (а я была голодна как волк), вошел Лис.
— Доченька, доченька, — запричитал он. — Да прославятся боги, вернувшие тебя домой. Я весь день места себе не находил. Где ты была?
— На Горе, дедушка, — ответила я, пряча за спиной левую руку.
Я не могла рассказать ему, что я с ней сделала. Я поняла (увы! слишком поздно), что Лис осудит меня за хитрость, какой я принудила Психею повиноваться. Одним из принципов нашего учителя было, что, если мы не можем убедить друг друга доводами разума, нам следует смириться и не «прибегать к помощи коварных наемников» (под последними философ разумел страсти).
— Ах, дитя мое, почему так внезапно? воскликнул грек. — Мы же уговорились оставить все до утра!
— Только потому, что тебе хотелось спать, — сказала я, и ответ мой прозвучал жестоко и грубо, словно я говорила голосом моего отца. Мне сразу же стало стыдно.
— Конечно, я виноват, — промолвил Лис с грустной улыбкой. — Ты наказала меня, госпожа. Но расскажи мне новости, расскажи! Выслушала ли тебя Психея?
Я не ответила на его вопрос, рассказав вместо того о буре и наводнении в долине. Я сказала, что вся долина превратилась в болото, что я попыталась пересечь поток, но не смогла, что я слышала плач Психеи вдали, на южной стороне, и он удалялся к выходу из долины. Что толку было рассказывать ему про бога: он бы решил, что я грежу или сошла с ума.
— Значит, доченька, тебе так и не удалось поговорить с ней? — спросил Лис недоверчиво.
— Да нет, — сказала я. — До этого мы немного поговорили.
— Дитя, что случилось у вас? Вы поссорились? Что произошло?
На этот вопрос ответить было труднее, но Лис настаивал, и в конце концов мне пришлось рассказать ему о моей затее с лампой.
— Ах, доченька! — вскричал Лис. — Какой даймон[23] вложил в твою голову такое коварство? И на что ты надеялась? Ведь злодей наверняка был настороже — разбойники спят всегда вполглаза. Он наверняка связал ее и уволок в какое-нибудь другое логово! А может, он вонзил ей нож в сердце, чтоб она не выдала его преследователям. Да что там, одной лампы хватило бы ему, чтобы догадаться, что его тайна уже раскрыта. Может быть, несчастная плакала потому, что он ранил ее? Ах, если бы ты посоветовалась со мной!
Мне нечего было сказать. Я ведь ни о чем таком даже не думала — очевидно, потому, что с самого начала не верила во всю эту историю о разбойнике с гор.
Лис посмотрел на меня с недоумением — он не понимал, почему я молчу. Наконец он сказал:
— Легко ли она согласилась?
— Нет, — сказала я.
Для того чтобы поесть, я откинула платок с лица и теперь об этом сильно жалела.
— И как тебе удалось убедить ее? — спросил Лис.
Этот вопрос был для меня самым тяжелым: ведь я ни за что не сказала бы Лису правду. Я не могла признаться не только в том, что я сделала, но и в том, что я сказала. Ведь я сказала Психее, что Лис и Бардия сходятся в одном: ее возлюбленный — существо ужасное или гнусное. Но если бы я сказала так Лису, он заявил бы возмущенно, что мнение Бардии и его предположение не имеют ничего общего между собой; одно питается бабушкиными сказками, другое — здравым смыслом. И тогда вышло бы, что я солгала Психее. Где Лису понять, что там, на Горе, все выглядело иначе.
— Я… я поговорила с ней, — в конце концов вымолвила я. — И она меня послушалась.
Лис посмотрел на меня пристально и испытующе; в глазах его я не заметила той былой нежности, с которой он смотрел на меня, когда ребенком я сидела у него на колене и он напевал «Зашла луна».
— Ну что ж, у тебя есть от меня тайна, — прервал долгое молчание грек. — Нет, прошу тебя, не отводи взгляд. Неужто ты полагаешь, что я буду выпытывать твой секрет? Никогда в жизни. Друзья не должны ущемлять свободу друг друга. Моя настойчивость разобщит нас больше, чем твоя скрытность. Когда-нибудь потом, может быть… А пока слушайся бога, который внутри тебя, а не того, что внутри меня. Не надо, не плачь. Я не перестану любить тебя, даже если у тебя будет от меня тысяча тайн. Я дерево старое; лучшие ветви мне отрубили, когда обратили в рабство. Ты и Психея — вот все, что у меня осталось. Увы, Психея! И она теперь потеряна для меня! Но осталась ты.
Он обнял меня (я прикусила губу, чтобы не закричать, потому что он задел раненую руку) и ушел. Никогда прежде я так не радовалась его уходу. Но я не смогла удержаться от мысли, что Лис куда добрее Психеи.
Бардии я вообще ни слова не сказала о случившемся на Горе.
Перед тем как заснуть, я приняла одно решение, которое сильно переменило впоследствии мою судьбу. До тех пор, как и все женщины нашей страны, я ходила с непокрытым лицом; только во время моих поездок к Психее я покрывала его платком, чтобы не быть узнанной. Я решила, что больше его я снимать не буду. С тех пор я придерживалась этого правила как во дворце, так и за его стенами. Это было чем-то вроде сговора между мной и моим уродством. Пока я была совсем маленькой, я не знала о нем. Затем я подросла и тогда (а в этой книге я не собираюсь умалчивать ни об одном из моих безумств или заблуждений) поверила в то, что при помощи разных ухищрений в прическе или наряде я могу сделать его менее заметным. Девушки часто верят в подобные вещи — к тому же Батта всячески поддерживала во мне эту уверенность. Лис был последним мужчиной, который видел мое лицо, да и немногие из женщин могут этим похвастаться.
Моя рана быстро зажила (на мне вообще все заживает быстро), и через семь дней, когда Царь вернулся, я могла уже не притворяться больной. Царь приехал совершенно пьяным, поскольку он не мыслил себе охоту без попойки, и весьма не в духе, потому что охотникам удалось убить только двух львов, ни один из которых не пал от руки Царя. При этом лев загрыз любимого царского пса.
Через несколько дней отец приказал мне и Лису явиться в Столбовую залу. Увидев платок у меня на лице, он заорал:
— Эй, девчонка, в чем дело? Боишься кого ослепить своей красой? Ну-ка сними эту гадость!
И тут я впервые почувствовала, как изменила меня ночь, проведенная на Горе. Тот, кто лицезрел божество, вряд ли устрашится гнева старого царя.
— Это уж слишком — упрекать человека и за то, что он уродлив, и за то, что старается скрыть свое уродство, — бросила я, даже не пошевельнувшись, чтобы снять платок.
— Пойди сюда, — велел Царь, но уже обычным голосом. Я подошла к нему так близко, что мои колени почти касались его. Он сидел в кресле, а я стояла перед ним как каменная; я видела его лицо, а он не мог видеть мое, и это словно бы давало мне некоторую власть над ним. Отец тем временем белел на глазах: видно было, что он вот-вот впадет в страшное бешенство.
— Что, норов решила показать? — процедил он шепотом.
— Да, — сказала я так же тихо, но отчетливо. Ответ вырвался у меня сам, помимо моей воли.
Все это длилось недолго — ты бы, читатель, и до трех не успел сосчитать, — и мне казалось, что он вот-вот убьет меня, но тут отца передернуло, и он сдавленно прорычал:
— Ты такая же, как все бабы. Одна болтовня… вы луну с неба выпросите, если вам позволить. Мужчина не должен слушать баб. Эй, Лис, ты уже сочинил свои враки? Отдай ей, пусть перепишет!
Он не осмелился ударить меня, и страх мой перед ним прошел навсегда. С тех пор я ему и пяди не уступала, скорее наоборот. Вскоре я осмелилась сказать ему, что мы с Лисом не можем уследить за Редивалью, потому что все время заняты с ним в Столбовой зале. Он рычал и ругался, но в конце концов перепоручил это дело Батте. Батта в последнее время была с ним накоротке; она проводила многие часы в царской опочивальне, сплетничала, шушукалась, подлизывалась. Не думаю, чтобы между ними что-то было — даже в лучшие ее годы в Батте не было ничего такого, что мой отец называл «сдобностью», — но он начал сдавать, а Батта с ним нянчилась и потчевала его горячим молоком с медом. С Редивалью она тоже сюсюкала, но это была еще та парочка: то они готовы были друг другу глаза выцарапать, то снова шептали на ушко пошлости и сплетни.
Однако все, что творилось во дворце, не трогало меня нимало. Я, словно приговоренная к смерти, ожидала палача, потому что каждое мгновение ждала возмездия небес. Но дни шли, и ничего не случалось, и с большой неохотой я осознала, что мои судьи, наверно, дали мне отсрочку.
Когда я поняла это, я отправилась в комнату Психеи и расставила там все, как было до начала наших бед. Я нашла греческие стихи, похожие на гимн в честь бога Горы. Стихи я сожгла, как и одежды, которые она носила в последний год, — память о нашем счастье была для меня слишком тяжелой. Но остальные ее вещи и драгоценности — особенно те, которые она любила в детстве, — я привела в порядок и положила на место. Я сделала это на случай, если Психея вдруг вернется — тогда она нашла бы все таким, как было, когда мы обе были счастливы и любили друг друга. Затем я закрыла дверь и наложила печать. Чтобы не сойти с ума, я должна была забыть все, что произошло, и помнить только о счастливом прошлом. Если моим служанкам случалось произнести ее имя, я приказывала им замолчать. Если это случалось с Лисом, я делала вид, что не слышу, и тут же переводила разговор на другое. Общество Лиса мне было уже не так приятно, как прежде.
Правда, я охотно говорила с ним о той части философии, которую именуют «физикой»: что такое жизнетворный огонь и как душа зарождается из крови, о космических эпохах, о жизни растений и животных, о далеких странах, их почве и климате, о способах правления и о многом другом. Мне нравилось обременять себя знаниями, я хотела измотать себя.
Как только зажила моя рана, я вновь начала брать уроки боевого искусства у Бардии. Еще моя левая рука не могла удержать щит, а я уже занималась, ведь Бардия сказал, что бой без щита — тоже большое искусство. Воин очень хвалил меня, и я знала, что это не лесть.
Я хотела укрепить в себе ту жестокую и беспощадную силу, которую впервые ощутила в себе, выслушав приговор богов. Занятиями и трудами я хотела вытравить из себя женщину. Иногда, по ночам, когда дождь стучал по крыше или ветер завывал в трубах, я чувствовала, что возведенные мною плотины рушатся и меня захватывает идущее из самой глубины души беспокойство — жива ли Психея, где она этой холодной ночью? Я представляла, как жестокие деревенские женщины гонят ее, замерзшую и голодную, от своих ворот. Но, проворочавшись так с час в постели, пролив все слезы и призвав на помощь всех богов, я вновь отгораживалась плотиной от этого чувства.
Вскоре Бардия взялся обучать меня и верховой езде. Он говорил со мной, как с мужчиной, и это одновременно радовало и печалило меня.
Так все шло до Зимнего солнцеворота. В нашей стране это — большой праздник. На следующий день после него Царь, возвращаясь во дворец с пирушки у одного старейшины, поскользнулся на парадном крыльце. День был холодный, и ступеньки, которые мыли даже зимой, обледенели. Падая, он подвернул правую ногу и ударился об острую кромку ступени; когда слуги бросились к нему на помощь, он зарычал от боли и чуть было не укусил протянутую ему руку. Но в следующий миг он уже проклинал слуг за нерасторопность. Когда я подоспела к месту происшествия, я кивком приказала слугам поднять отца и отнести его в постель, что бы он ни говорил и ни вытворял. Это было сделано, хотя и не без труда, после чего пришел цирюльник и определил перелом бедра; впрочем, мы сразу так и подумали. «Мне это не вправить, госпожа, — шепнул цирюльник, — даже если он меня подпустит». Мы послали гонца в Дом Унгит за Вторым Жрецом, который слыл способным костоправом. Пока его ждали, Царь успел влить в себя такое количество крепкого вина, от которого обычный человек тут же умер бы. Когда прибыл Второй Жрец и принялся за сломанную ногу, Царь начал рычать и биться, как дикий зверь, и попытался выхватить кинжал. Тогда я кивнула Бардии, и шесть стражников навалились на Царя, чтобы тот не бился. В перерывах между стонами и звериным рычанием Царь выкрикивал, показывая на меня глазами:
— Уберите отсюда эту! Эту, с платком! Она хочет меня замучить. Я знаю ее, знаю.
Той ночью он не спал и на следующую ночь тоже. Кроме боли в ноге, ему не давал заснуть жуткий, разрывающий грудь кашель. Кроме того, Батта, пока мы не видели, щедро подносила ему вино. Сама я старалась держаться подальше от царской опочивальни, потому что мне было противно смотреть на пьяного старика, который все время твердил, что знает, кто я такая, хоть я и занавесила лицо платком.
— Хозяин, — уверял его Лис, — это твоя дочь, царевна Оруаль.
— Э-э, это она так говорит, — бормотал Царь, — а я-то лучше знаю! Это она по ночам прижигает мне ногу каленым железом! Я знаю, кто она такая… Эй! Стража! Бардия! Уведите ее отсюда!
На третью ночь я, Бардия, Лис и Второй Жрец стояли под дверьми опочивальни и переговаривались шепотом. Имя Второго Жреца было Арном; это был черноволосый молодой человек моего возраста, безбородый, как евнух, но евнухом он не был (хотя в Доме Унгит евнухи и были, до жреческого служения допускались только полноценные мужчины).
— Похоже, — сказал Арном, — что Царь умрет.
Вот оно, подумалось мне. В Гломе будет новая власть, и я отправлюсь в изгнание, чтобы разделить с Психеей ее участь.
— И я того же мнения, — откликнулся Лис. — И ждать этого недолго. Впереди — немалые заботы.
— Большие, чем ты полагаешь, Лисиас, — сказал Арном (я в первый раз услышала, чтобы Лиса назвали его подлинным именем). — В Доме Унгит тоже есть умирающий.
— Что это значит, Арном? — спросил Бардия.
— Жрец при смерти. Если я что-то смыслю в искусстве врачевания, он протянет не более пяти дней.
— Ты будешь вместо него? — спросил Бардия. Арном утвердительно кивнул.
— Если на то будет воля Царя, — прибавил Лис. Таков был обычай Глома.
— В такое время необходимо, — сказал Бардия, — чтобы Дом Царя и Дом Унгит ладили между собой. Иначе найдутся люди, которые захотят погреть на этом руки.
— Да, — согласился Арном. — Никто не решится выступить против обоих домов сразу.
— Нам повезло, — сказал Бардия, — что Царица и Унгит ладят друг с другом.
— Царица? — спросил Арном.
— Царица, — в один голос сказали Бардия и Лис.
— Ах, если бы царевна была замужем, — вздохнул Арном, отвесив мне любезный поклон. — Ведь женщина не может вести в бой войско Глома.
— Наша Царица может, — сказал Бардия и так угрожающе выдвинул вперед нижнюю челюсть, словно он сам был этим войском. Я почувствовала на себе пристальный взгляд Арнома и поняла, что в моем платке куда больше пользы, чем в самой дивной красоте.
— Между Домом Царя и Домом Унгит доброе согласие во всем, кроме Полян. Если бы не болезнь Жреца и несчастье с Царем, мы бы вернулись к разговору о Полянах.
Я знала, о чем шла речь. Поляны были спорным угодьем, из-за которого возникали раздоры между храмом и дворцом с тех пор, как я помню себя. Я всегда держалась того мнения, что Поляны должны принадлежать Унгит (вовсе, как ты понимаешь, читатель, не из любви к богине), поскольку эти владения облегчили бы храму расходы на жертвенных животных. Кроме того, мне казалось, что жрецы, разбогатев, будут меньше брать с простых людей за совершение обрядов.
— Царь еще жив, — заговорила я, и присутствующие вздрогнули, услышав мой голос. — Но поскольку он тяжко болен, от его имени буду говорить я. Он желает передать Поляны Унгит на вечные времена и скрепить договор в камне, но при одном условии.
Бардия и Лис изумленно посмотрели на меня, но Арном живо спросил:
— При каком условии, госпожа?
— При условии, что стражи Унгит отныне перейдут в подчинение главы дворцовой стражи, которого назначит Царь или его наследник.
— А платить им содержание будет тоже Царь… или его наследник? — с быстротой молнии отозвался Арном.
Об этом я не подумала, но посчитала, что скорый ответ в этом случае лучше мудрого, и сказала:
— В соответствии с часами службы в Доме Унгит и во дворце.
— Ты предлагаешь — то есть Царь предлагает — тяжелую сделку, — сказал жрец. Но я знала, что деваться ему некуда, потому что хорошая земля важнее для храма, чем воины. И Арном прекрасно понимал, что без поддержки дворца его не утвердят Верховным Жрецом. Тут Царь застонал и заметался в постели, и Арном поспешил к нему.
— Отлично, доченька! — прошептал Лис.
— Да здравствует Царица! — отозвался Бардия, и они последовали за Арномом. Я вышла в большую залу; она была пуста, в очаге едва теплился огонь. Это было одно из тех странных мгновений, которыми так полна моя жизнь. Я стала Царицей, но на душе у меня было все так же горько. Может быть, эта перемена в моей жизни если и не скует темные воды в глубинах моего сердца, то хотя бы укрепит ту плотину, которую я выстроила, чтобы удержать их? Затем меня посетила совсем иная мысль — я впервые подумала о том, что мой отец скоро умрет. У меня закружилась голова. Мир словно распахнулся передо мной, и я увидела огромное синее небо, более не омраченное этой назойливой тучей. Свобода! Я глубоко и сладко — как никогда в жизни — вздохнула. От этого чуть было не прошла даже душевная горечь.
Но она не прошла. Было поздно, и почти все в доме спали. Мне показалось, что вдалеке кто-то плачет. Плакала женщина, и я поневоле прислушалась. Плач, судя по всему, доносился снаружи. В то же мгновение мысли о троне, о моем отце, об интригах храма покинули меня. В безумной надежде я кинулась в другой конец залы и отворила маленькую дверцу, которая вела в проход между молочным двором и казармами. Луна сияла ярко, но было ветрено, вопреки моим ожиданиям. Плача сперва не было слышно, но вскоре он раздался вновь.
— Психея! — позвала я. — Психея! Истра! — и побежала на звук, но уверенность уже оставила меня. Я припомнила, что подобный звук иногда издает (даже при легком ветерке) колодезная цепь. Неужели это всего лишь она?
Я остановилась и прислушалась. Плача не было слышно, но казалось, что кто-то крадется в темноте. Затем я ясно увидела человека в плаще, который метнулся через освещенный луною двор и скрылся в кустах. Я устремилась за ним во всю прыть. Пошарив рукой в густом кустарнике, я наткнулась на другую руку.
— Спокойно, милочка! — прошептал кто-то. — Отведи меня во дворец. Голос показался мне совершенно незнакомым.
Глава семнадцатая
— Кто здесь? — воскликнула я, отдернув руку так быстро, словно дотронулась до змеи. — Выйди и покажись!
Первой моей мыслью было, что у Редивали стараниями Батты, которая перепутала обязанности надсмотрщицы с обязанностями сводни, есть любовник.
Из кустов выбрался высокий, статный мужчина.
— Я — скромный проситель, — сказал он таким бодрым голосом, каким просители и не говорят никогда. — Нет такой хорошенькой девчонки, которую я не просил бы о поцелуе, — закончил незнакомец свою мысль.
И тут же попытался привлечь меня к себе, но я была настороже. Увидев блеснувшее в лунном свете острие кинжала, пришелец рассмеялся.
— Зоркие же у тебя глаза, если ты рассмотрел мою красоту, — сказала я, поворачиваясь так, чтобы он отчетливо увидел, что мое лицо закрыто платком.
— Скорее чуткие уши, сестричка, — ответил гость. — Девушка с таким голосом не может быть уродиной.
Приключение было для меня настолько внове, что у меня появилось дурацкое желание растянуть его. Это была странная ночь. Но я решила не терять головы.
— Кто ты? — повторила я свой вопрос. — Говори, или я позову стражу!
— Да не вор я, милашка, — так же весело ответил незнакомец, — хотя и крался по-воровски, ибо опасался встретить в саду кого-нибудь из моих любезных родичей. Я спешу с прошением к Царю. Отведи меня к нему, — и с этими словами он позвенел монетами в кулаке.
— Если не случится чуда и Царь не оправится от недуга, — сказала я, — то ты сейчас беседуешь с Царицей.
Он тихо присвистнул и рассмеялся.
— Если ты и верно Царица, то я и верно дурак! Прими мое прошение, госпожа. Я прошу о покровительстве и убежище на несколько дней. Я — Труния Фарсийский.
Эта новость застала меня врасплох. Я уже писала, что царевич поднял мятеж против своего брата Эргана и старого царя, их отца.
— Значит, поражение? — спросила я.
— Я попал в засаду. Царские конники кинулись за мной, — сказал Труния. — Я уходил от погони, сбился с пути и попал в Глом. К тому же конь мой охромел в трех милях отсюда, и его пришлось бросить. Увы, брат мой обложил заставами все пограничье! К полудню мои преследователи будут у твоих ворот. Если ты спрячешь меня от них на день-другой, то потом я тайно отправлюсь в Эссур и достигну кружным путем моих главных сил в Фарсе; тогда весь мир увидит, кто из нас сильнее в честном бою!
— Хорошо говоришь, князь, — сказала я сдержанно. — Но, оказав тебе покровительство, по закону и по обычаю мы должны будем защищать тебя силой оружия. Я хотя и недолго на троне, но слишком хорошо знаю, чем может кончиться для нас война с Фарсой.
— Ночи сейчас холодные. Трудно путнику под открытым небом, — сказал Труния.
— Мы рады тебе как гостю, но не можем предоставить тебе убежище. Это обойдется нам слишком дорого. Порог моего дворца ты переступишь только пленником.
— Пленником? — воскликнул он. — Тогда до скорого, Царица!
И с этими словами он метнулся в кусты с прытью, неожиданной для усталого человека (а что он действительно устал, было слышно даже по его голосу). Я не попыталась остановить его, зная, что старый жернов сделает это за меня. Труния растянулся на земле, попытался снова вскочить на ноги, но взвыл от боли, выругался и затих.
— Вывих, если не перелом, — простонал он. — Будь проклят тот бог, который делал ноги человеку! Ну что же, Царица, зови своих стражников. Пленник так пленник, лишь бы не попасть в лапы к палачу моего брата.
— Если представится хоть малейшая возможность, мы спасем твою жизнь. Мы постараемся сделать это, не вступая в войну с Фарсой, — сказала я.
Казармы были рядом, и я без труда позвала стражей, не сводя ни на миг глаз с царевича. Как только я услышала шаги воинов, я сказала Трунии:
— Накинь на лицо плащ. Чем меньше людей будет знать, кто мой пленник, тем легче мне будет вести переговоры о твоей судьбе.
Стражники подняли беднягу, и с их помощью он дохромал до залы. Я велела позвать цирюльника, чтобы он вправил сустав. Затем я прошла в царскую опочивальню. Арнома там не было. Царю стало хуже — лицо его было багрово-красным, хриплое дыхание с трудом вырывалось из груди. Говорить он не мог, лишь глаза его перебегали с одного из нас на другого, и я задалась вопросом: что он сейчас чувствует и о чем может думать?
— Где ты была, доченька? — сказал Лис. — Ужасные вести с заставы! Эрган Фарсийский с тремя или четырьмя отрядами конников пересек границу и идет к Глому. По его словам, он преследует своего брата Трунию.
Как быстро дает себя знать тяжесть царского венца! Еще вчера мне и дела не было бы до того, сколько вооруженных чужеземцев пересекло нашу границу, теперь же эта весть прозвучала для меня как пощечина.
— Для нас не так важно, — добавил Бардия, — действительно ли он гонится за Трунией или он пересек границу, только чтобы поправить свою пошатнувшуюся славу и показать, что с нами можно не считаться…
— Труния во дворце, — сказала я. Прежде чем они оправились от изумления, я вывела их из опочивальни, потому что взгляд отца был невыносим для меня. Остальные же обращали на больного внимания не больше, чем на покойника. Я приказала развести огонь в комнате, куда некогда заключили Психею (в той самой, пятиугольной), и отвести туда царевича, как только он отужинает. Затем мы начали совещаться.
По трем вопросам мы сразу пришли к согласию. Во-первых, мы не сомневались, что, если Труния вывернется из трудного положения, в которое попал, в дальнейшем его победа над Эрганом и восшествие на фарсийский престол более чем вероятны. Отец его совсем стар, его можно не брать в расчет. Чем дольше протянется смута, тем больше сторонников, скорее всего, соберет под свои знамена Труния. Эрган славится как человек жестокий и коварный и к тому же трус (это стало ясно в первой же битве). Многие его ненавидят и готовы бросить ему вызов. Во-вторых, мы согласились между собой, что Труния на фарсийском троне будет нам лучшим союзником, чем Эрган, особенно если мы протянем ему руку в беде. И в-третьих, мы были единодушны в том, что война с Фарсой нам сейчас не по силам, даже если воевать придется только с той частью войска, которая стоит на стороне Эргана. Мор погубил слишком много молодых людей, и зерна в наших амбарах было тоже не густо.
И тут ни с того ни с сего мне пришла в голову мысль.
— Бардия, — спросила я, — искусно ли царевич Эрган владеет мечом?
— Даже за этим столом найдется пара бойцов искуснее, моя Царица.
— Я полагаю, — продолжила я, — что царевичу смертельно не хотелось бы и дальше слыть трусом?
— Надо думать.
— Тогда, если мы предложим ему оспорить голову Трунии в поединке, он не решится на отказ?
Бардия задумался.
— Хм, — сказал он. — О таком я слышал разве что в старых песнях. Но затея мне нравится. Пусть мы слабы, но лишняя война и царевичу ни к чему, пока он не уладил домашние дела. Клянусь богами, у него просто не будет другого выбора! Он не рискнет опозориться перед своими людьми, тем более что они о его чести и так невысокого мнения. Уже то, что он пытается загнать родного брата, как лисицу на чужой земле, — презренно. Это не прибавит ему славы. А если он к тому же уклонится от честного поединка — его песенка спета. Твой замысел, Царица, может сработать.
— Мудрое решение, — сказал Лис. — Если даже наш воин будет убит в поединке и Трунию придется выдать, никто не сможет упрекнуть нас в том, что мы не пытались спасти ему жизнь. Мы сохраним доброе имя без страха ввязаться в войну.
— А если падет Эрган, — прибавил Бардия, — мы поможем взойти Трунии на престол и обретем союзника. Все говорят, что у Трунии голова в порядке.
— Чтобы наш план сработал, друзья, — заключила я, — вызов Эргану должен послать тот, кому отказать в поединке было бы особенным позором.
— Это слишком уж хитро, доченька, — покачал головой Лис. — Мы рискуем потерять Трунию и погубить того, кто вызовет Эргана на бой…
— Что у тебя на уме, Царица? — спросил Бардия, теребя по привычке ус. — Он не станет биться с рабом, если ты об этом.
— С рабом? — сказала я. — Нет, с женщиной.
Лис в изумлении посмотрел на меня. Я никогда не говорила ему о наших с Бардией занятиях: отчасти потому, что я вообще избегала упоминать имя Бардии в его присутствии. Учитель мог сказать, что Бардия — дурак и варвар, а мне было бы обидно это слышать (Бардия тоже называл за глаза Лиса «гречонком» и «словоблудом», но это почему-то меня так не задевало).
— С женщиной? — сказал наконец Лис. — Кто из нас сошел с ума, ты или я? Широкая улыбка озарила лицо Бардии. Но он быстро загасил ее и помотал головой.
— Я слишком хорошо играю в шахматы, чтобы жертвовать королевой по пустякам, — сказал он.
— Что с тобой, Бардия! — воскликнула я, стараясь, чтобы мой голос звучал по возможности тверже. — Неужто ты льстил мне, утверждая, что мечом я владею лучше Эргана?
— Отнюдь нет, и больше того — дойди до боя, я бы не колеблясь поставил на тебя все деньги. Но, кроме умения, есть еще везение…
— А кроме везения — дерзание!
— Этого тебе не занимать, Царица.
— Никак не могу понять, о чем это вы говорите, — вмешался Лис.
— Царица хочет сама бросить вызов Эргану, Лис! — сказал Бардия. — И она способна на это. Я бился с ней не раз и могу поклясться, что боги еще не создали ни мужчины, ни женщины, более искусных в ратном деле, чем наша Царица. О госпожа, почему они только не сделали тебя мужчиной! (Он сказал это от всей души и желая польстить мне, но для меня эти слова были как ушат холодной воды на голову.)
— Это чудовищно! — возмутился Лис. — Это против всех обычаев, против природы, в конце концов!
В таких вопросах мой учитель был истинным греком — он до сих пор считал варварским и оскорбляющим добрые нравы обычай гломских женщин ходить с непокрытым лицом[24]. Как-то, еще в счастливые времена, я сказала Лису, что ему больше пристало бы зваться бабушкой, чем дедушкой. Именно поэтому я никогда не рассказывала старику про мои занятия с начальником стражи.
— Рука природы ошиблась, когда лепила мое лицо, — сказала я. — Если в моих чертах нет ничего женского, почему бы мне не биться на мечах, подобно мужчине?
— Доченька, доченька! — вздохнул Лис. — Хотя бы из жалости ко мне выброси эту ужасную мысль из головы! Сам по себе замысел уже неплох, разве твоя безумная выдумка сделает его лучше?
— Да, лучше, — ответила я. — Неужто ты думаешь, что я по наивности полагаю отцовский трон своим? Бардия на моей стороне, Арном тоже. А народ? А старейшины? Они не знают меня, а я — их. Если бы жены Царя не умерли, у меня был бы повод познакомиться хотя бы с женами и дочерьми важных людей. Но мой отец не позволял мне встречаться даже с ними, не говоря уж об их мужьях и отцах. Друзей у меня нет. А этот поединок… он позволит мне завоевать их расположение. Им будет легче снести женщину на гломском троне, если они будут знать, что она билась за Глом и одержала победу.
— Тут ты права, — подтвердил Бардия. — Да они целый год только о тебе говорить и будут.
— Дитя, дитя! — сказал Лис, чуть не плача. — Речь идет о твоей жизни, разве ты этого не понимаешь? Сперва я потерял свою родину и свободу, затем Психею и вот могу потерять тебя. Неужели ты позволишь облететь последнему листку с моих старых ветвей?
Я понимала старика в самых тайных движениях сердца, потому что он умолял меня теми же словами, которыми в свое время я умоляла Психею. Слезы стояли в моих глазах — слезы жалости, больше к себе, чем к нему. Но я сдержала слезы.
— Решение принято, — сказала я. — Никто из вас не может предложить ничего лучше. Известно ли вам, где сейчас отряды Эргана?
— У Красного брода, — отозвался Бардия.
— Тогда пошли к нему гонца. Пустошь между городом и берегом Шеннит будет местом поединка, который состоится через три дня. Условия таковы: если паду я, Труния будет выдан как незаконно вторгшийся в пределы страны. Если я убью царевича, Труния получит свободу и отправится куда ему заблагорассудится — в Фарсу ли, к своим сторонникам, или в какую другую сторону. И в том и в другом случае все чужеземцы должны покинуть Глом через два дня после поединка.
Бардия и Лис посмотрели на меня, но ничего не сказали.
— Я отправляюсь спать, — сказала я. — Займись гонцом, Бардия, а потом иди спать и ты. Доброй ночи вам обоим.
По лицу Бардии я без слов поняла, что он повинуется. Я повернулась и вышла.
В одиночестве мне стало спокойно, как усталому путнику, наконец нашедшему приют после долгого дня в дороге под ветром и дождем. С тех пор как Арном сказал, что Царь умирает, прошло совсем немного времени, но я чувствовала, что во мне живет, говорит и действует уже другая женщина. Можешь назвать ее Царицей, но это была не Оруаль. (Интересно, знакомо ли это чувство всем властителям?) Теперь я снова превратилась в Оруаль и раздумывала над тем, что сделала Царица, не без некоторого удивления. Неужели она и вправду полагает, что ей по силам победить Эргана? Оруаль сомневалась. Она сомневалась даже в том, хватит ли ей смелости биться с ним. До сих пор я не билась заточенным мечом, и двигало мною в бою исключительно стремление порадовать моего учителя (а это было для меня немало). А вдруг в решающий миг, когда прозвучат трубы и будут обнажены мечи, смелость изменит мне? Все начнут смеяться надо мной; я уже представляла себе, как отведут глаза Лис и Бардия, я уже слышала, как они говорят: «А вот сестра ее бесстрашно позволила принести себя в жертву! Как странно, что она, такая слабая и хрупкая, оказалась сильнее, чем Оруаль!» И все увидят, что Психея превосходила меня во всем — не только в красоте и умении видеть невидимое, но и в силе духа и даже в обычной силе (я до сих пор помнила ее хватку, когда мы сцепились на Горе). «Психея?! — гневно возражала я им. — Да она меча в руках никогда не держала! Ей не доводилось делать никакой работы, беседовать о государственных делах… что она знала… девчонка… ребенок…»
Я насторожилась. «Неужели я снова заболеваю?» — подумалось мне, потому что мысли мои стали похожи на те навязчивые, злые сны, которые преследовали меня, когда жестокие боги внушили мне, что Психея — мой враг. Мой враг? Моя дочь, моя единственная, любовь моя, которую я предала и поругала, и за это боги вправе предать меня смерти. И тут я догадалась, что у предстоящего поединка совсем другая цель. Царевич, разумеется, убьет меня. Он послан богами именно для этого. И это прекрасно, я и не смела мечтать о подобной смерти, это лучше, чем все, что я себе представляла! Я даже и не надеялась, что конец моей пустой, ненужной жизни будет положен так скоро! И это было настолько в ладу с моим настроением последних дней, что я даже удивилась, как я могла отвлечься.
Это все власть, подумала я, — необходимость все время принимать решения, не успевая перевести дух, при этом легко, словно играючи, однако прилагая весь свой ум и силу воли. Я решила, что оставшиеся мне два дня я постараюсь процарствовать как можно лучше; тогда, если боги позволят и я не погибну в схватке, я сумею царствовать и дальше. Не гордость, не блеск венца двигали мной — или не только они. Царское звание было для меня как глоток вина для приговоренного к казни, как свидание с любовником для женщины, заточенной в темницу: царствовать и думать о смерти одновременно невозможно. Если Оруаль сумеет без остатка превратиться в Царицу, боги останутся с носом.
Но разве Арном сказал, что мой отец умирает? Нет, он сказал не совсем так.
Я встала и направилась в царскую опочивальню. В проходах было темно, а светильника я не взяла, потому что не хотела быть никем увиденной. В опочивальне горел свет; у постели больного сидела Батта. Она устроилась в своем любимом кресле у очага и шумно спала, как спят все пьяные старухи. Я подошла к кровати, и мне показалось, что отец не спит. Я не смогла понять, что он хотел мне сказать несколькими неразборчивыми звуками, но в выражении его глаз я не могла ошибиться — в них был написан ужас. Может быть, он узнал меня и решил, что я пришла убить его? А может, он принял меня за Психею, вернувшуюся из страны мертвых, чтобы забрать его с собой? Кто-то скажет (боги, например), что, если бы я убила его, это ничего бы не добавило к моей вине, поскольку я смотрела на него с не меньшим страхом — я боялась, что он выживет.
Не слишком ли многого ждут от нас боги? Час моего освобождения был слишком близок. Узник терпит свое заточение, пока нет надежды на побег. Стоит только ей появиться, стоит ему глотнуть воздуха свободы, как он в ужасе взирает на свое соломенное ложе и вздрагивает при звуке кандалов.
Я посмотрела на отца. Перекошенное, бессмысленное лицо его выражало меньше, чем морда животного. С облегчением я подумала: «Даже если он выживет, он будет идиотом».
Я вернулась к себе и заснула крепким сном.
Глава восемнадцатая
Наутро я вскочила с постели и устремилась назад в царскую опочивальню; никогда ни один врач, ни один влюбленный не следил с таким волнением за переменами в пульсе и дыхании больного. Я была еще у изголовья (я нашла отца таким же. как вчера), когда в комнату вихрем ворвалась растрепанная Редиваль.
— Ах, Оруаль! — запричитала она. — Правда, что Царь умирает? А что случилось во дворце ночью? А кто этот молодой человек? Говорят, он красавчик, силач и отчаянный храбрец. Он часом не царевич? Ах, сестра, что же мы будем делать, если Царь умрет?
— Я стану Царицей, Редиваль. А что станется с тобой, зависит от твоего поведения.
Я еще не закончила фразу, как она уже ластилась ко мне, целовала мне руки, желала мне счастья и твердила, что любит меня больше всех на свете. Меня чуть не стошнило. Даже последний раб не унижался при мне подобным образом. Когда я сердилась, никто из челяди не заискивал передо мной; они слишком хорошо знали, что это на меня не действует.
— Не будь дурой, Редиваль, — сказала я, отстранив ее рукой. — Я не собираюсь убивать тебя. Но если ты высунешь нос из дому без спроса, я повелю тебя высечь. А теперь — прочь!
У двери она обернулась и бросила: — Тогда найди мне мужа, Царица!
— Целых двух, — отрезала я. — У меня кладовая ломится от царских сыновей. Убирайся!
Пришел Лис, бросил взгляд на Царя и пробормотал:
— Да он еще не один день протянет! — а затем сказал мне: — Доченька, я дурно вел себя вчера. Я считаю, что твой вызов Эргану глуп и — хуже того — неуместен. Но я не имел права принуждать тебя любовью, слезами и мольбами… Так пользоваться любовью нельзя…
Он не договорил, потому что в этот миг явился Бардия.
— Гонец с ответом от Эргана уже прибыл, — сказал он. — Царевич куда ближе, чем мы ожидали, да покарают его боги за торопливость.
Мы перешли в Столбовую залу (взгляд отца по-прежнему не давал мне покоя) и пригласили гонца. Это был высокий красавец, разодетый как павлин. В выспренних выражениях он объявил, что его повелитель принял вызов, но, поскольку не должно обагрять меч воина женской кровью, он возьмет с собой веревку, чтобы повесить меня, после того как выбьет оружие из моих рук.
— Я не владею тем оружием, о котором ты говоришь, — сказала я. — И если твой хозяин придет с ним, он поступит несправедливо. Однако он старше меня (его первая битва была так давно, что трудно и вспомнить), поэтому я соглашусь на предложение из уважения к его годам.
— Я не могу передать этого царевичу, госпожа, — сказал гонец.
Я не стала настаивать, потому что знала: даже если гонец не передаст моих слов Эргану, постараются другие. Затем мы стали обсуждать все мелочи, имевшие отношение к поединку, а таких было немало. На это мы потратили не меньше часа, потом гонец удалился. Лис, как легко было заметить, волновался все больше и больше, по мере того как поединок становился неотвратимым. Я старалась быть Царицей, и только Царицей, но Оруаль все же умудрялась порой шепотом осаживать меня.
Затем пришел Арном. Он не успел и слова молвить, как стало ясно, что старый Жрец умер и Арном занял его место. Он был облачен в шкуры и рыбьи пузыри, а на груди у него висела клювастая птичья маска. На меня внезапно нахлынули старые страхи: так ночной кошмар, забытый поутру, заставляет порой содрогнуться в полдень. Но со второго взгляда я успокоилась: это был уже не старый Жрец, а всего лишь Арном — тот самый Арном, с которым я заключила вчера тайную и выгодную сделку. Я поняла, что Арном никогда не будет внушать мне того страха, потому что вместе с ним в комнату не входит сама Унгит. Когда я поняла это, странные мысли заклубились у меня в голове.
Арном и Лис отправились в опочивальню и завели там беседу о состоянии Царя (грек и жрец понимали друг друга с полуслова), а мы с Бардией вышли из комнаты и отправились к маленькой дверце, через которую я и Лис вышли в утро, когда родилась Психея.
— Итак, Царица, — сказал после некоторого молчания Бардия, — это твой первый бой.
— Ты сомневаешься в моей храбрости?
— Тебе хватит храбрости умереть. Но хватит ли тебе храбрости убить? А убить придется.
— Ну и что?
— А то. Женщины и мальчишки говорят об убийстве с легкостью, но — уж поверь мне — одно дело сказать, другое — сделать. Убить человека нелегко — по крайней мере в первый раз. Что-то в нашей природе противится этому.
— Ты думаешь, мне станет его жалко?
— Я не назвал бы это жалостью. Но когда мне пришлось убить в первый раз, оказалось, что нет труднее дела на свете, чем вонзить сталь в живую плоть.
— Но ты вонзил.
— Да, потому что мой противник оказался увальнем, но если бы он был попроворнее — кто знает? Бывает так, что ничтожное промедление — и глазом моргнуть не успеешь — решает все. Одно мгновение — и бой проигран.
— Не думаю, Бардия, что у меня дрогнет рука, — сказала я, но сама попробовала представить себе, как это будет. Я представила, что мой отец набросился на меня в приступе бешенства, и задумалась, дрогнула ли бы тогда моя рука, чтобы поразить его. По крайней мере, она не дрогнула, когда я нанесла рану себе.
— Будем надеяться, — сказал Бардия. — Но я заставлю тебя пройти испытание, которое проходят все новобранцы.
— Испытание?
— Да. Тебе известно, что сегодня должны зарезать свинью. Резать будешь ты, Царица.
Я поняла, что стоит мне отступиться, и Оруаль сразу же возьмет верх над Царицей.
— Я готова, — просто сказала я. Как забивать скот, мы знали: это зрелище с детства было для нас привычным. Редиваль всегда ходила смотреть и визжала, я старалась не смотреть, но когда смотрела, молчала. Я пошла и зарезала свинью (от этих тварей у нас не принято отрезать часть в жертву Унгит, потому что они ненавистны богине; есть предание о том, почему это так). Затем я поклялась съесть на пиру, если выйду живой из поединка, лучшую часть туши с Бардией, Лисом и Трунией. Сняв фартук и смыв кровь, я вернулась в Столбовую залу и сделала то, что стало бы в случае моей гибели невозможным. При Арноме и Бардии как свидетелях я дала Лису вольную.
И тут меня постигло большое горе. Теперь мне трудно даже понять, как я была настолько слепа, чтобы не предвидеть дальнейшего. Я думала только о том, что, если я умру, Редиваль тут же избавится от Лиса, и хотела спасти старика от унижений. И только когда я услышала, что говорят Бардия и Арном, целуя и поздравляя старика, я начала прозревать. «Твоих советов будет так не хватать… Многие в Гломе будут скучать по тебе… Не стоит отправляться в путь зимой…» — что это они говорят?
— Дедушка! — закричала я, превращаясь на глазах из Царицы в Оруаль — куда там! — в маленькую Майю. — Ты покинешь меня? Ты уйдешь?
Лис посмотрел на меня, и лицо его исказилось от бесконечной муки.
— Свободен? — промямлил он. — Значит, я мог бы… я могу… пусть я даже умру в дороге… хотя бы до моря добраться… Тунцы, оливки… Нет, оливки еще не поспели… Но запах, запах соли… Прогулки по рынку, беседы, умные беседы — ах, что я говорю, разве вам понять! Доченька, ты ждешь от меня благодарности, но если ты любишь меня, подожди до завтра. Не будем говорить сейчас. Завтра. Отпусти меня…
Он прикрыл лицо плащом и выбежал из залы.
И тут игра в Царицу, которая помогала мне держаться на плаву все утро, перестала помогать. Приготовления к поединку были закончены — оставалось только ждать. А ждать предстояло весь вечер и еще следующий день. Ждать, зная, что, даже если я останусь жива, в моей жизни уже не будет Лиса.
Я вышла в сад. Ни за какие сокровища я не смогла бы пойти сейчас под грушевые деревья, где мы втроем были так счастливы когда-то. Я повернула в другую сторону и стала бродить к западу от яблоневой рощи, пока холод не загнал меня обратно во дворец. День был пасмурный, морозный, солнца не было совсем. Мне стыдно и страшно вспоминать, что я думала тогда. В невежестве своем я и не предполагала, что моего учителя может с такой силой тянуть на родину, — ведь я прожила всю жизнь там, где родилась. Глом был для меня чем-то само собой разумеющимся и слишком живо напоминал обо всех моих страданиях, унижениях и страхах. Я не имела ни малейшего представления о том, как вспоминает родину человек, разлученный с ней. Мне было горько, что Лис желает покинуть меня, ведь он был опорой, на которой держалось все мое существование. Я всегда наивно полагала, что опора эта нерушима и вечна и потому благодарить Лиса за его любовь так же странно, как благодарить солнце за то, что оно восходит, или землю — за то, что она есть. Мне казалось, что и Лис относится ко мне точно так же, как я к нему. «Дура! — восклицала я про себя. — Неужели тебе все еще не ясно, что ты никому не нужна? Что ты значишь для Бардии? Да не больше, чем Царь, твой отец! Сердце его отдано дому, жене и пащенкам, которых она ему наплодила. Если бы он любил тебя, разве бы он позволил тебе участвовать в поединке? Что ты значишь для Лиса? Сердце его полно Грецией. Ты была для него просто утешением в дни неволи. Говорят, узники в темнице развлекаются тем, что приручают крыс. Пока двери тюрьмы закрыты, они проникаются к крысам чем-то вроде любви, но стоит им выйти наружу, они и не вспомнят о крысах».
И все же, неужели ему ничего не стоит расстаться с нами навсегда? Я вспомнила, как он держал на коленях Психею, приговаривая: «Прекраснее, чем Афродита!» — разве не так он говорил? «Да, но то была Психея… — сказало мне мое сердце. — Ее бы он не оставил. Ее он любил. Меня — никогда». Я понимала, что лгу сама себе, но не могла — или не хотела — остановиться.
Но не успела я еще отойти ко сну, как ко мне явился Лис. Лицо его посерело, он был тихий и какой-то надломленный. Если бы не отсутствие увечий, могло бы показаться, что он только что вырвался из рук палача.
— Поздравь меня, доченька, — сказал старик, — ибо я одержал победу над самим собой. Человек должен радоваться радостям своих друзей и жить их жизнью. Я — лишь часть Целого, и мое место там, куда меня определила Участь. Я остаюсь, и…
— Ах, дедушка! — сказала я и заплакала.
— Не надо, не надо, — приговаривал старик, поглаживая меня по голове. — Ну что я буду делать в Греции? Отец мой умер. Сыновья мои и думать уже забыли обо мне. Моя дочь… не буду ли я ей обузой и помехой — сном, заблудившимся в яви, как сказал поэт? Путь далек и опасен, можно погибнуть, так и не увидев моря.
Он поспешно перечислял все доводы против, словно боялся, что я попытаюсь разубедить его, но я молчала, прижавшись лицом к его груди, и не чувствовала ничего, кроме безграничного счастья.
В этот день я несколько раз побывала у отца, но не нашла в его состоянии ни малейших перемен.
Ночью же я спала плохо. Я не боялась предстоящей схватки — просто многообразные перемены, случившиеся в моей жизни по воле богов, взбудоражили меня. Смерть старого Жреца сама по себе могла бы занять мои мысли на добрую неделю.
Я часто хотела его смерти (особенно тогда, когда она могла спасти Психею), но верила в нее не больше, чем в то, что в одно прекрасное утро Седая гора исчезнет. Освобождение Лиса из рабства, хотя я совершила его собственной рукой, было другим невероятным событием. Было похоже на то, что болезнь моего отца вынула клинья из-под колес жизни и все покатилось неведомо куда. Все это было так неожиданно и странно, что даже моя вечная боль оставила меня в ту ночь. Я была поражена. Одна часть меня взывала: «Верни эту боль. Оруаль умрет, если забудет о своей любви к Психее!» Но другая часть возражала: «Туда ей и дорога, этой Оруали. Разве из нее вышла бы настоящая Царица?»
Следующий день (день перед поединком) прошел как во сне. С каждым часом становилось все труднее поверить в происходящее. Слухи о состязании разлетелись по всей стране, и толпы простонародья еще с утра собрались у ворот. Хотя я была об этих людях невысокого мнения — слишком свежо было в памяти то, как они предали Психею, — но, хочешь не хочешь, восторженные крики слегка вскружили мне голову. С посетителями же иного звания — старейшинами и князьями — я немного побеседовала. Ни один из них не усомнился в моем праве на трон, так что речь моя была короткой, хотя Лис и Бардия похвалили ее. Пока я говорила, глаза благородных были прикованы к моему платку. Видно было, что им очень хотелось бы знать, что он скрывает. Затем я посетила Трунию и сказала ему, что один из наших воинов вызвался биться за его жизнь (я не стала говорить, кто это) и мы предоставляем царевичу возможность следить за поединком с почетного места, но оставаясь под стражей. Хотя эта весть не была для него особенно радостной, царевич, будучи человеком разумным, понимал, что мы делаем все, на что способны при наших слабых силах. Затем я приказала принести вина, чтобы выпить его с царевичем за удачный исход поединка. Но когда дверь открылась, на пороге с кувшином вина стоял не царский кравчий, но моя сестрица Редиваль. Как я, дура, не догадалась об этом! Я же отлично знала, что, когда в доме появляется незнакомый молодой мужчина, Редиваль способна прогрызть насквозь стену, только бы попасться ему на глаза. Сперва я хотела разгневаться, но потом онемела, увидев, с каким искусством Редиваль изображает из себя саму покорность, само смирение, забитую младшую сестру, скромницу и недотрогу. Глаза ее были опущены долу, но я-то знала, что от них не ускользает ничего и что Труния весь, от макушки до перевязанной ноги, рассмотрен и подвергнут оценке.
— Кто эта красотка? — спросил Труния, как только Редиваль вышла.
— Моя сестра, царевна Редиваль, — сказала я.
— Глом даже зимой — цветник, полный роз, — вздохнул Труния. — Но почему ты так жестока, Царица, почему даже на миг мне не дано увидеть твоего лица?
— Если ты ближе сойдешься с моей сестрой, она тебе объяснит, — сказала я довольно зло, хотя это не входило в мои намерения.
— Что же, я не прочь, но для этого нужно, чтобы завтра победили мы, — сказал царевич. — Иначе смерть возьмет меня в мужья. Но если все же удача улыбнется нам, не стоит обрывать так внезапно начавшуюся дружбу. Почему бы мне не взять жену из дома Гломских царей? Хотя бы тебя, Царица?
— Двоим на моем троне будет тесновато, князь.
— Тогда твою сестру.
Вот об этом стоило подумать. Но все во мне противилось тому, чтобы дать положительный ответ: очевидно, я сочла, что царевич слишком хорош для Редивали.
— Мне сдается, — ответила я, — что брак этот возможен, но прежде я должна поговорить с моими советниками. Я поддержу тебя.
Конец этого дня был еще удивительнее его начала. Бардия отвел меня в казармы, чтобы в последний раз перед боем позаниматься со мной.
— Основная твоя слабость, Царица, — сказал он, — это отходной финт. Ты с ним знакома, но мне хотелось бы совершенства во всем.
Мы отрабатывали этот прием около получаса, а потом остановились, чтобы перевести дыхание. Бардия сказал:
— Лучше не бывает. Скажу тебе честно: если бы мы взяли сейчас в руки боевое оружие, ты бы убила меня. Но я скажу тебе еще две вещи. Первое: если страх охватит тебя, когда ты скинешь плащ и толпа заревет, и противник твой покажется напротив, — не пытайся скрыть этот страх. Всякий изведал его, впервые идя в бой. Я чувствую его перед каждой схваткой. Может быть, твоя божественная кровь даст тебе нечеловеческое бесстрашие — тем лучше. Второе: шлем твой хорошо сидит и не слишком тяжел, но выглядит бедно. Лишняя позолота тебе не повредит. Давай попробуем подыскать что-нибудь в опочивальне.
Я уже говорила, что в опочивальне Царь собрал множество различного оружия и доспехов. Мы вошли и увидели Лиса, который сидел у царского изголовья в задумчивости. Не знаю, о чем он думал, — вряд ли он любил своего старого хозяина.
— Без изменений, — сказал грек.
Мы с Бардией стали рыться в груде железа и вскоре вступили в пререкания: мне казалось, что надежнее всего меня защитит привычная старая кольчуга, но воин говорил все время: «Нет, постой! Может, лучше вот эту!» Мы были всецело поглощены этим занятием, когда Лис воскликнул у нас за спиной:
— Все кончено!
Мы обернулись; полуживое тело в царской постели испустило дух в тот самый миг, когда (не знаю, хватило ли у этого живого трупа сил заметить) женщина примеряла на себя доспехи, которые некогда облегали его грудь.
— Да будет мир с ним, — спокойно молвил Бардия. — Мы скоро закончим. Когда мы уйдем, позови женщин, чтобы обмыли тело.
И мы снова принялись примерять шлемы и кольчуги.
То, о чем я мечтала долгие годы, произошло почти незаметно, потому что у меня в тот миг были более насущные дела. Только через час (когда нашлось время) до меня в полной мере дошло случившееся. С тех пор я не раз замечала, что смерть любого человека производит намного меньше переполоха, чем можно было бы ожидать. Люди, которых любили и которые заслуживали любви куда больше, чем мой отец, отправлялись к праотцам при полном спокойствии окружающих.
В конце концов я остановилась на моем старом шлеме. Правда, мы попросили оружейника надраить его так, чтобы он блестел не хуже серебряного.
Глава девятнадцатая
Приготовления к важному событию длятся обыкновенно куда дольше, чем оно само. Так коронное блюдо пира пожирается гостями в одно мгновение; а ведь десятки людей за день до этого забивали скотину, разделывали тушу, жарили и приправляли мясо, а после пира мыли посуду и чистили столы. Поединок мой с Эрганом длился не более шестой части часа, но приготовления к нему поглотили весь день.
Прежде всего, Лис, ставший теперь вольноотпущенным, имел право на роскошные одежды, положенные ему по чину (Светоч Царицы — так называлась его дворцовая должность, предусмотренная нашими обычаями, но почти отмененная моим отцом). Но проще было бы обрядить девушку, первый раз выходящую в свет, чем престарелого греческого философа. Для начала грек заявил, что все одежды варваров страдают варварским вкусом, и чем они шикарнее, тем сильнее им страдают. Ему, видите ли, больше по нраву старая, побитая молью туника. Только мы привели ее в относительный порядок, как появился Бардия и потребовал, чтобы я билась с непокрытым лицом. Он боялся, что платок помешает мне видеть противника; к тому же он не мог решить, как мне надеть его — под шлем или поверх шлема. Но я твердо заявила, что о поединке с открытым лицом не может быть и речи. В конце концов, я велела Пуби сделать мне нечто вроде капюшона из тонкого, но непрозрачного полотна; в нем будет два отверстия для глаз, и он будет такого покроя, чтобы его удобно было носить поверх шлема. Отверстий можно было бы и не делать: я не раз побеждала Бардию с лицом, покрытым моим старым платком; но капюшон с дырками выглядел страшнее и делал меня похожей на привидение. «Если он трус, — заметил Бардия, — эта маска нагонит на него страху!» Выезд назначили на ранний час, поскольку столпотворение на улицах намечалось такое, что нельзя было и надеяться быстро доехать до поля боя. Мы собирались облачить в достойный наряд также Трунию, но он отказался.
— Чем бы ни кончилась битва, — молвил царевич, — исход ее не зависит от того, облачусь ли я в багрянец или предстану в своей походной одежде. Кстати, Царица, кто будет защищать мою честь?
— Ты узнаешь это на месте, — коротко ответила ему я.
Труния онемел, когда увидел меня в моем боевом облачении; я смахивала на гостью из загробного мира: не было видно ни шлема, ни шеи, только две дырки для глаз, проделанные в белом полотне. Была ли я больше похожа на чучело или на прокаженного — суди, читатель, сам. Испуганное лицо Трунии порадовало меня; я сразу подумала о том, какое впечатление мой наряд произведет на Эргана.
Возле ворот нас встретили несколько старейшин и князей, чтобы сопровождать в поездке через город. Легко догадаться, о чем я подумала, когда увидела их: я сразу вспомнила, как Психея вышла из дворца, чтобы лечить людей от лихорадки. И разумеется, как она выехала в свой последний путь, направляясь к Священному Древу. Кто знает, подумалось мне, может, именно это и имел в виду бог, когда изрек: «Участь Психеи — отныне и твоя участь». Ведь меня тоже должны принести в жертву. Я уцепилась за эту мысль, как за что-то прочное и надежное. О жизни своей или смерти мне было некогда думать. На меня смотрело слишком много людей; под взглядом этих глаз я могла думать только о поединке и ни о чем больше. Если бы ко мне подошел прорицатель и сказал, что я буду славно биться десятую часть часа, а потом погибну, я бы дала ему без колебаний десять талантов.
Князья, ехавшие рядом со мной, были молчаливы и серьезны. Они полагали (они сами сказали мне это, когда им предоставился случай познакомиться со мной поближе), что Эрган выбьет оружие из моих рук сразу, как только мы сойдемся, но они одобряли мое решение, считая, что нет лучшего способа избавить нашу страну сразу от обоих соперников — Трунии и Эргана. Но простые люди, встречавшие наш кортеж, бросали в воздух шапки и приветствовали меня. Я бы возгордилась, если бы не умела слишком хорошо читать в их глазах. Им не было дела ни до меня, ни до Глома, им просто хотелось зрелищ — а поединок между мужчиной и женщиной был отменным зрелищем, потому что такое случается не часто. Так те, кому боги не дали ни слуха, ни чувства прекрасного, все равно обернутся послушать арфиста, который щиплет струны пальцами ног.
Когда наконец мы добрались до места, возникли новые заминки: прежде всего следовало принести быка в жертву богам. Я подумала, что раз уж боги так впутались в наши дела, будет справедливо, если и им перепадет кусочек. На другой стороне поля недвижно стояли конники Фарсы под предводительством Эргана. Это такое странное чувство — видеть перед собой обычного человека, такого же, как ты сам, и знать, что один из вас обязательно убьет другого. Я впервые задумалась, как странно звучит самое слово «убить»; казалось, я услышала его в первый раз. Мой противник был светловолос, худощав и нескладен; тонкие губы его кривились в надменной гримасе. Мне он сразу очень не понравился.
Затем мы спешились, сошлись, откусили по очереди от куска сырой бычатины и поклялись от имени наших народов, что выполним свой долг.
Я ожидала, что после этого начнется само состязание. Небо в тот день хмурилось, дул резкий, порывистый ветер. «Мы замерзнем раньше, чем начнем биться», — подумала я. Но пришлось еще подождать: сперва стражники отодвигали народ с поля тупыми концами копий, затем Бардия подъехал к начальнику стражи Эргана и о чем-то долго шептался с ним, затем оба они перешептывались с Арномом. Кончилось это все тем, что наших с Эрганом трубачей выставили бок о бок посреди поля.
— А теперь да хранят тебя боги, госпожа! — воскликнул Бардия, когда я уже совсем потеряла надежду, что поединок начнется.
Лис стоял с окаменевшим лицом, опасаясь заплакать, если произнесет хоть слово. Я заметила, как вздрогнул от изумления Труния и как он побледнел (но я не осуждаю его), когда я откинула плащ, выхватила меч и ступила на траву.
Фарсийцы покатывались от хохота, народ Глома ревел от восторга. Эрган подошел ко мне сперва на десять шагов, затем на пять — и вот мы сошлись.
Я догадалась, что царевич не воспринимает меня всерьез — это чувствовалось по тому, как лениво и небрежно он движется. Но мой первый же выпад оказался удачным — он стесал Эргану кожу с костяшек пальцев и отрезвил его. Не спуская глаз с меча моего врага, я все же успела мельком рассмотреть выражение его лица: лоб был нахмурен, губы скривились от тупой злобы и низменного раздражения, под которым, очевидно, скрывался страх. Что касается меня, то страх оставил меня сразу же, как мы начали биться: слишком уж это все было несерьезно и похоже на наши занятия с Бардией — те же выпады, финты и отражения удара. Даже кровь на костяшках ничего не меняла — такие ссадины остаются и от удара незаточенным мечом.
Грек, для которого я пишу эту книгу! Вряд ли тебе доводилось биться, а если ты и сражался, то, скорее всего, в рядах гоплитов[25]. Я сумела бы изобразить тебе, как протекал бой, при помощи меча или, на худой конец, палки, но объяснить это на словах я не сумею. Вскоре я отчетливо поняла, что Эргану не под силу убить меня. Но я не была уверена, что мне будет под силу убить его. Я начала опасаться, что бой затянется и тогда он одержит надо мной верх по причине большей выносливости. И тут я приметила в его лице такую перемену, которой мне никогда не забыть. В тот миг я сперва не поняла, что она значит, но потом мне довелось увидеть такое же выражение в глазах других людей, и теперь я знаю его значение. Таким становится лицо у человека, когда он внезапно осознает, что его смерть близка и неотвратима. Это выражение ни с чем не спутаешь — оно исполнено такой жажды жизни, такого мучительного желания превозмочь судьбу! Тогда-то противник мой и сделал первую грубую ошибку, но я от неожиданности упустила возможность. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он ошибся вновь, но теперь я была уже наготове. Я сделала прямой выпад, затем одним быстрым движением отвела назад меч и вонзила его царевичу в пах — в то место, где ни один врачеватель не в силах остановить кровь. Тут же я отпрянула в сторону, чтобы Эрган в падении не увлек меня за собой; вышло так, что первый человек, убитый мной, запачкал меня своею кровью меньше, чем первая свинья.
Люди подбежали к раненому, но ему уже ничем нельзя было помочь. Рев толпы оглушил меня, от него звенело в ушах, несмотря на то что шлем приглушал все звуки. У меня не было даже одышки — с Бардией мы бились обычно куда дольше. Но ноги мои подкашивались, я чувствовала страшную усталость, словно у меня изнутри что-то вынули. Я часто спрашивала себя, не так ли чувствуют себя женщины после потери девственности.
Бардия подбежал ко мне с радостью во взоре и слезами в глазах. Лис семенил за ним следом.
— Благословенная! Благословенная! — кричал воин. — Царица! Воительница! Моя лучшая ученица! Великие боги, как славно ты билась. Последний удар достоин того, чтобы войти в людскую память!
И с этими словами он приложил мою левую руку к своим губам. Я плакала, опустив голову, чтобы никто не заметил слез, стекавших из-под маски. Но прежде чем я снова обрела голос, все уже столпились вокруг меня, включая Трунию верхом (он все еще не мог ходить), и стали благодарить и восхвалять меня так, что даже утомили, хотя маленький пузырек гордости где-то внутри все равно приятно пощипывал мои чувства. Но рано было праздновать победу. Предстояло еще многое: обратиться к народу, побеседовать с фарсийцами и так далее. И я подумала: «Мне бы сейчас тот жбан с молоком, который я выпила в день, когда впервые взяла меч в руку!»
Как только голос вернулся ко мне, я подозвала коня, села на него, направилась к Трунии и протянула царевичу руку. Так, держась за руки, мы и подъехали к конникам Фарсы.
— Чужеземцы, — сказала я, — вы все видели, что царевич Эрган пал в честном бою. Есть ли среди вас такие, кому все еще не ясно, кто наследник фарсийского трона?
Человек пять — очевидно, ближайшие сторонники Эргана, — не сказав ни слова, повернули коней и пришпорили их. Остальные сняли шлемы, подняли их на концах копий и прокричали славу Трунии. Тогда я отпустила его руку, и Труния подъехал к своим людям, чтобы посовещаться с начальниками отрядов.
— Теперь, Царица, — шепнул мне на ухо Бардия, — ты должна пригласить наших старейшин и старейшин Фарсы — Труния скажет тебе, кого именно, — на пир во дворец. И не забудь позвать Арнома.
— На пир? Но чем мы угостим их, Бардия? Бобовой кашей? Ты же знаешь, что наши кладовые пусты.
— Ты забыла про свинью, Царица. Кроме того, я поговорю с Арномом, чтобы Унгит поделилась с нами быком. Отопри сегодня погреба, Царица, и пусть вино льется рекой, тогда никто не заметит, что мы едим вместо хлеба.
А я-то мечтала о скромном ужине с Лисом и Бардией! Не успела первая кровь высохнуть на моем мече, как я снова вернулась к женским заботам и хлопотам. Я жалела только о том, что не могу оставить гостей, первой добраться до дворца, чтобы выяснить у виночерпия, насколько успели мой отец и Батта совместными стараниями опустошить наш погреб за последние дни.
Итак, во дворец отправилось вместе со мной человек тридцать. Царевич ехал рядом, осыпая меня похвалами (у него на это, несомненно, были причины) и умоляя меня открыть лицо. Эта обыкновенная учтивость, на которую другая женщина не обратила бы внимания, для меня была внове и (не скрою) польстила, поэтому я растягивала удовольствие как могла. Я снова была счастлива, хотя и по-другому, чем когда-то с Лисом и Психеей. В первый раз в моей жизни я веселилась — в этом и состояла новизна.
Конечно же, это любимая проделка богов: надуть пузырь, а потом проткнуть его!
И пузырь лопнул, как только я переступила порог дворца. Какая-то девочка-рабыня (я никогда не видела ее раньше) подбежала к Бардии и шепнула ему что-то на ухо. Тут же всю его веселость как рукой сняло, и взгляд его потух. Он подошел ко мне и сказал, отводя глаза:
— Ну, Царица, дневные труды закончены. У тебя больше нет во мне нужды. Снизойди и отпусти меня домой. У жены моей начались схватки. Мы не думали, что это случится так рано. Я хотел бы быть рядом с ней сегодня ночью.
В этот миг я поняла, почему и как бешенство завладевало моим отцом, но невероятным усилием воли сдержала себя и сказала:
— Разумеется, Бардия, ты нужнее сейчас дома. Передай от меня поклон твоей жене, и вот тебе кольцо: принеси его в дар Унгит и попроси богиню, чтобы твоя жена счастливо разрешилась от бремени.
Я сняла с пальца лучшее из колец, что были при мне, и вручила его воину.
Бардия сердечно поблагодарил меня, но было заметно, что ему не терпится домой. Я думаю, он так никогда даже и не понял, как ранили меня его слова о дневных трудах. Что ж, он был прав — служа мне, он зарабатывал свой хлеб. Когда служба кончалась, он шел домой, как всякий поденщик, и там была его подлинная жизнь.
То был мой первый пир. Он же был и последним, который я высидела до конца (на пирах мы сидим на скамьях, а не возлежим, подобно грекам). С тех пор я не раз давала пиры, но завела обычай заходить в залу только три раза за вечер, в сопровождении двух служанок, обнося вином самых почетных гостей и выпивая с ними кубок за их здоровье. Затем я удалялась в свои покои. Этот обычай спас меня от многих излишних тягот и к тому же создал мне славу женщины скромной и гордой, что было весьма кстати. Ту ночь я дотерпела почти до самого конца. Я была единственной женщиной за столом и на три четверти чувствовала себя бедной Оруалью, которая вот-вот получит взбучку от Лиса за то, что сидит среди пьяных мужчин, и только на четверть — Царицей, гордой своею славой, порывающейся то громко хохотать и пить чашу за чашей, как воин, то заигрывать с Трунией, как красавица, спрятавшая из каприза свое прелестное личико под платком.
Когда я наконец выбралась из натопленной залы в холод темной и безлюдной галереи, голова у меня раскалывалась. «Фу! — подумалось мне, — что за свиньи эти мужчины!» К этому времени гости уже перепились, кроме Лиса, который рано ушел спать, но пьянство их не было так мне противно, как их обжорство. Я никогда раньше не видела, как веселятся мужчины, как они едят. Рвут мясо зубами, рыгают, икают, вытирают жирные руки о бороды, бросают объедки на пол псам, грызущимся у них под ногами. Неужели таковы все мужчины? И Бардия тоже? Бардия… Вернулось одиночество. Но теперь это было дважды одиночество: я потеряла и Бардию, и Психею. Я не знаю, без кого из них мне было хуже. В голове моей крутились немыслимые картины — будто все могло быть иначе с самого начала и Бардия был бы моим мужем, а Психея — нашей дочерью. Мы бы хлопотали по дому… с Психеей… а он бы приходил к нам домой. Только теперь я поняла великую власть вина и догадалась, почему мужчины становятся пьяницами. Не то чтобы вино развеяло все мои печали, но оно придало им какое-то особое величие и благородство. Это чем-то похоже на печальную, торжественную музыку, когда становится жалко самого себя, но при этом, оттого что ты сам себя жалеешь, чувствуешь себя очень хорошим человеком. И я ощущала себя гордой и оскорбленной царицей из старой песни. Тяжелые слезы навернулись мне на глаза и сладко защемило в сердце. Одним словом, я напилась как последняя дура.
А раз дура, значит — спать. А это что? Ах нет, нет, это девушка плачет в саду. Голодная, замерзла, а ее не пускают… или она сама боится войти? Нет, я уже знаю, это просто звенит колодезная цепь. Не буду дурой, не буду снова бегать по саду и звать: «Психея! Психея!» Где она, Психея? Я — великая Царица. Я убила воина. Я напилась, как воин. Все воины пьют после битвы. Как горит моя рука… в том месте, где Бардия поцеловал. У всех царевичей, наверное, бывают любовницы. Кто там снова плачет? Да нет, это же ведро в колодце. «Закрой окно, Пуби. Спать, спать, детка. Ты любишь меня, Пуби? Поцелуй меня. Спокойной ночи!» Царь умер. Он больше не будет таскать меня за волосы. Назад и прямо в пах. Я его убила. Я — Царица! Оруаль, я и тебя убью!
Глава двадцатая
На следующий день мы предали тело Царя огню, а еще через день состоялась помолвка Редивали и Трунии (свадьбу сыграли через месяц). К третьему дню все чужеземцы покинули дворец, и началось мое настоящее царствование.
О том, что случилось в последовавшие годы, я расскажу коротко, хотя годы эти составили большую часть моей жизни. С течением времени Царица все чаще и чаще брала во мне верх над Оруалью. Я заперла Оруаль в одной из темниц моей души, погрузила ее в летаргический сон; она лежала во мне, свернувшись, как плод в материнской утробе. Только зародыш с каждым днем растет, а Оруаль, наоборот, становилась все меньше и меньше, и жизнь в ней убывала.
Вполне возможно, читатель, что ты наслышан о моем царствовании. Об этом сложено немало песен и преданий. Знай, что в них больше выдумок, чем правды, потому что таков обычай сказителей, особенно в сопредельных нам странах. Что не измышлено, то преувеличено, что не преувеличено, то вовсе не про меня, а про другую царицу-воительницу, которая жила много веков назад, в другой, более северной стране. Все это смешано и перепутано, так что уже не разберешь, где конец, где начало. А правда такова: после поединка с Эрганом на мою долю выпало только три войны, причем последняя из них, с племенами Живущих в Кибитках, которые кочуют по землям, лежащим за Седой горой, была пустяковым делом. И хотя во всех этих войнах я вела в бой гломские войска, я не настолько глупа, чтобы возомнить себя великим полководцем. Многим, очень многим я обязана Бардии и Пенуану (с последним я познакомилась на пиру после поединка и с тех пор выделяла его особо изо всей знати). Скажу и другое: ни одна из битв, в которых мне довелось сражаться, не стоит того, чтобы о ней писали в летописях. Ни разу я не совершила ничего выдающегося своею рукой, если не считать одного случая. Это было во время войны с Эссуром, когда конники устремились на нас из засады и окружили Бардию. Я кинулась в гущу врагов, и прежде чем поняла, что произошло, на земле лежало семь трупов. В тот день меня ранили, вот и все. А если слушать сказки, то выходит, что я задумала и провела все войны в одиночку от начала и до конца и сразила больше врагов, чем все воины, вместе взятые.
Причина моих успехов лежит в другом: у меня было (особенно в первые годы) два замечательных советчика. Лучших сотоварищей в правлении нельзя было и пожелать, поскольку Лис понимал то, чего не понимал Бардия, и наоборот. При этом никто из них не заводил бесполезных споров, когда речь шла о деле. Постепенно я поняла то, о чем не догадывалась, когда была моложе: грек и воин говорили колкости и подшучивали друг над другом, словно играли в какую-то игру. Они не были льстецами; кроме того, моя уродливость помогала им не думать обо мне как о женщине — и это тоже сослужило мне хорошую службу. Если бы это было не так, наши беседы у очага в Столбовой зале вряд ли текли бы настолько легко и непринужденно. Благодаря моим друзьям я научилась разбираться в мужчинах.
Вторым источником моей силы было покрытое платком лицо. Я сама и не предполагала этого, но так вышло. С той самой ночи, когда я повстречала Трунию в саду, я стала замечать, что люди все чаще и чаще обращают внимание на красоту моего голоса. Сперва говорили, что он звучит твердо, как голос мужа, но ничего мужского в нем нет; позже его стали сравнивать с голосом Орфея или сирен[26], и так до тех пор, пока старость не оставила на нем свой след. Шли годы, и в городе становилось все меньше людей, которые помнили мое лицо, а за пределами Глома таких вовсе не было. Тогда начали рождаться дикие слухи о том, что скрывает мой платок. Но никому не приходило в голову, что за ним — просто некрасивое лицо. Молодые женщины утверждали, что платок скрывает нечто ужасное — свиное рыло, медвежью морду, даже слоновий хобот. Но мне больше нравились те, кто утверждал, что у меня вообще нет лица, и если отдернуть платок, то увидишь бездонную пустоту. Но другие (особенно мужчины) полагали, что мое лицо так прекрасно, что свело бы с ума всех мужчин, и что Унгит, сгорая от зависти, повелела мне под страхом смерти покрывать его. Были и совсем нелепые мнения. Так или иначе, мне не раз случалось видеть, как самые бравые воины пугались и бледнели, как дети, когда я оборачивалась к ним в Столбовой зале и пристально смотрела на них невидимыми глазами. Мне не нужно было слов — под этим взглядом даже самые отъявленные лжецы начинали говорить правду.
Первое, что я сделала, когда взошла на трон, — перенесла свои покои на северную сторону дворца, чтобы не слышать звука колодезной цепи. Днем он не тревожил меня, но по ночам я принимала его за женский плач. Но оказалось, что звук цепи слышен в любом углу дворца, особенно — в ночной тишине. Этого не понять никому, кроме меня: я не хотела слышать этого звука, но в то же время страшно боялась (видно, Оруаль во мне не могла умереть совсем), что больше никогда не услышу его вновь. В конце концов, даже после тысячи ложных тревог, он мог однажды оказаться плачем вернувшейся Психеи. Но я не очень верила в это — если Психея могла бы вернуться, она давно бы уже это сделала. Наверное, она умерла, а может, ее продали в рабство… Когда тревоги обуревали меня и я не могла уснуть, я вставала, шла в Столбовую залу и садилась там за работу. Я читала и писала, пока не замерзали руки, а лоб не начинал пылать.
Разумеется, я разослала соглядатаев на все невольничьи рынки и сыщиков во все известные мне города, в надежде напасть на след Психеи. Долгие годы я не прекращала поисков, хотя была уверена, что они бесполезны.
На первом же году царствования в месяц сбора смокв я велела повесить Батту. Зацепившись за обрывок подслушанной фразы, сказанной конюшим, я выяснила, что Батта долгие годы изводила как могла всю нашу челядь. Ни один подарок, ни один лакомый кусочек не доставался слугам, без того чтобы Батта не урвала свою часть. Тех, кто отказывался платить дань, она доводила клеветническим доносом до розог или рудников. После казни Батты я взялась за дворцовые порядки. Рабов у нас было слишком много. Вороватых и ленивых я продала, честных и трудолюбивых отпустила на свободу (если отпустить на волю ленивого раба, ты только пополнишь этим ряды нищих в стране). Вольноотпущенникам я дала землю и велела построить дома, тех же из них, кто хотел вступить в брак, я поженила. Некоторым я позволила самим выбирать себе супруга, хотя рабам этого не полагается, но я сделала так, и они были мне благодарны. Хотя мне и было жалко расставаться с Пуби, ей я тоже дала вольную, и она вышла замуж за очень хорошего человека; мне нравилось бывать у них в гостях. Большинство вольноотпущенников оказались очень крепкими хозяевами — дома их были рядом с дворцом, и эти преданные мне люди составляли как бы вторую дворцовую стражу.
Я поставила работу в рудниках на широкую ногу, и они стали приносить больше серебра. Мой отец рассматривал рудники исключительно как каторгу. «Пошли его на рудники! — кричал он. — Я его проучу! Уморите его работой!» На рудниках умирали быстро, но работали плохо. Я назначила хорошего и честного надсмотрщика (Бардия знал, как найти верных людей), купила молодых крепких рабов, велела построить для них сухие, теплые хижины и хорошо кормить. Я объявила, что каждый раб может получить свободу, если добудет некоторый вес руды. Вес был таков, что, не измождая себя, можно было добыть его за десять лет. Потом мы снизили вес, и тогда уже хватало семи лет, чтобы откупиться. В первый год добыча упала, но потом начала расти и теперь достигла половины того, что было при отце. Наше серебро чище любого другого и постоянно приносит доход казне.
Я забрала Лиса из конуры, в которой он спал все эти годы, и дала ему взамен роскошные покои на южной стороне дворца и земельный надел, чтобы старик более не зависел от моих милостей. Я также дала ему денег на покупку книг. Торговцы не сразу узнали, что в Гломе нужны книги (до ближайшего народа, знавшего письмо, нужно было пройти не одно царство), и не скоро добрались до дворца. Книги в пути не раз меняли хозяев, а когда они прибыли, Лис чуть не вырвал последние волосы на голове, узнав, сколько за них просят. «Да они на обол целый талант заработали»[27], — вздыхал он. Пришлось к тому же покупать то, что привезли, без разбора. Тем не менее нам удалось составить огромную для страны варваров библиотеку — целых восемнадцать свитков. У нас была поэма Гомера о Троянской войне[28] — увы, неполная, — начиная с оплакивания Патрокла. У нас были две трагедии Еврипида[29]: одна про Андромеду и другая, где пролог говорит Дионис, а хор состоит из вакханок. Еще была там написанная без размера хорошая, полезная книга о том, как разводить лошадей и скот[30], натаскивать собак и тому подобное. Затем несколько диалогов Сократа; поэма, воспевающая Елену, сложенная Гесиодом Стесихором[31]; одно из творений Гераклита[32] и длинная, трудная книга без размера, начинающаяся словами: «Все люди по природе своей взыскуют знаний». Как только прибыли книги, Арном стал часто навещать Лиса и учиться чтению; с ним приходили и другие молодые люди из княжеских семей.
Только став Царицей, я смогла познакомиться со знатью Глома и женами знати. Неизбежным образом мне была представлена и жена Бардии, Ансит. До этой встречи я думала, что она — умопомрачительная красавица, но это была низенькая женщина, сильно раздавшаяся после восьми родов. Все женщины у нас в Гломе очень хороши в девичестве, но потом быстро расплываются. (Может быть, именно поэтому ходили слухи о моей неземной красоте; ведь я осталась девушкой и поэтому сохранила стройность — а тело у меня, для того, кто никогда не видел моего лица, было вполне привлекательным.) Я изо всех сил старалась быть ласковой с Ансит, даже больше того — нежной. Ради Бардии я была готова даже полюбить ее, если бы это было возможно, — но Ансит оставалась в моем присутствии тихой как мышь. Я думала, что она просто боится меня. Когда я пыталась заговорить с ней, глаза ее беспокойно блуждали по комнате, словно ища выхода. И однажды меня осенила мысль, доставившая мне некоторую радость: «Да она ревнует ко мне!» Мы встречались не раз на протяжении многих лет, но все оставалось по-прежнему. Иногда я говорила себе: «Она делила с ним ложе, и это нехорошо. Она вынашивала его детей, и это того хуже. Но приходилось ли ей сидеть, скрючившись, в засаде? Скакать бок о бок в конном строю? Делить последнюю флягу болотной воды на двоих? Им часто случалось строить друг другу глазки — а доводилось ли ей обменяться с ним на прощание такими взглядами, какими обмениваются боевые товарищи, перед тем как разъехаться разными дорогами, каждая из которых таит опасность?» Я знала, что мне безраздельно принадлежала та часть Бардии, о которой Ансит не смела и мечтать. Она была для него игрушкой и утехой в часы досуга, а мне принадлежала его воинская судьба:
Кажется странным, что Бардия каждый свой день делил между Царицей и женой, честно считая, что выполняет свой долг перед обеими (и не без оснований), и даже не предполагая, какая неприязнь возникает от этого между двумя женщинами. Вот в чем преимущество мужского пола. Боги никогда не прощают женщинам того, что они женщины.
Из всех обязанностей Царицы самой тяжкой для меня были частые посещения Дома Унгит и приношение жертв. На мое счастье, то ли Унгит в последнее время ослабла, то ли я стала очень сильной. Арном повелел сделать в стенах окна, и в храме стало светлее. Затем он ввел обычай собирать жертвенную кровь в сосуды и мыть пол чистой водой после жертвоприношения. От этого в Доме Унгит воздух стал чище и перестало пахнуть святостью. От Лиса Арном выучился рассуждать о богах, как это водится у философов, а затем осмелился на огромные перемены: он предложил установить рядом со старым бесформенным камнем изображение богини по греческому образцу — в виде женщины. Я думала, что он даже прикажет выбросить камень, но для народа это была сама Унгит, и люди просто бы взбунтовались. С изваянием было тоже все не так гладко: в Гломе не нашлось ни одного человека, способного изготовить его, и Унгит пришлось везти хоть и не из самой Греции, но из сопредельной ей страны, где уже переняли греческие обычаи и вкусы. Я не испытывала нужды в серебре и охотно помогла храму в этом начинании. Не знаю, что мной руководило; возможно, мне казалось, что прекрасное изваяние унизит и лишит силы голодную, жестокую, безликую Унгит моего детства. Вскоре изваяние прибыло, и оно показалось нам, варварам, дивно прекрасным и почти живым. Мы раскрасили его и облачили в одежды, и вскоре оно так прославилось, что из дальних стран люди приходили смотреть на него. Только Лис, который видел творения великих мастеров, посмеивался.
Когда я наконец уразумела, что во дворце нет ни одного помещения, где бы не было слышно скрипа колодезной цепи, который казался мне плачем несчастной Психеи, я повелела построить вокруг колодца каменную стену и сделать над ним крышу. Стены я приказала сделать толстыми, такими толстыми, что мой каменщик ворчал каждое утро: «Царица, ты только попусту переводишь камень! Из него можно сложить десяток новых свинарников». Некоторое время спустя новая безумная идея посетила меня. Мне стало сниться, что я замуровала не колодец, а саму Психею (или Оруаль). Но вскоре это прошло. Я перестала слышать плач Психеи. В тот год я одержала победу над Эссуром.
Лис к тому времени совсем постарел и все чаще нуждался в покое; мы стали реже призывать его в Столбовую залу. Тогда он начал писать историю Глома. Он писал ее сразу и по-гречески, и на нашем языке, за которым он теперь признавал некоторые достоинства. Было очень странно видеть наши слова, написанные греческими буквами. Я не стала говорить Лису, что он знал по-гломски гораздо хуже, чем ему казалось, и то, что он писал, часто могло просто вызвать смех — особенно там, где он старался писать высоким стилем. С годами он все меньше и меньше походил на философа; теперь грек чаще рассуждал о красноречии, поэзии и прекрасном. Он стал многословен и несколько утомителен. Часто он принимал меня за Психею, а иногда даже называл Харнидом или Главконом — именами, какие в Греции дают мальчикам.
Но я была очень занята и не могла уделять старику много времени. Чем я только не занималась! Я приказала пересмотреть все законы, высечь их на вечные времена на каменных таблицах и установить на главной площади. Я велела расширить и углубить русло Шеннит, так что она стала судоходной. Я выстроила мост на месте прежнего брода. Я соорудила хранилища для воды, так что засуха перестала страшить Глом. Я научилась разбираться в скоте и улучшила его породу, купив добрых быков и баранов у пастушьих племен. Чего я только не сделала — но какое это имеет значение? Я занималась этими важными делами так же, как мужчины убивают время охотой или игрой в шахматы. Когда зверь загнан или королю объявлен мат, возбуждение проходит и ты снова остаешься наедине с собой. Так кончался почти каждый вечер моей жизни: несколько шагов по лестнице из пиршественного зала, где гости прославляют величие Царицы Гломской, или из комнаты совета, где внимают моей мудрости, и я оставалась в опочивальне сама с собой. А что такое «я», как не тщета и пустота? Хуже всего было для меня время перед сном и еще утром, когда я просыпалась, — сотни и сотни утр и вечеров. Порой я задавалась вопросом: кто и зачем посылает нам бесконечно сменяющие друг друга дни и ночи, зимы и весны, годы и десятилетия? Так иногда глупый мальчишка все насвистывает и насвистывает привязчивую мелодию, пока случайный слушатель не начинает удивляться, как ему самому это не надоело.
Лис умер. Мы похоронили его по-царски и высекли на надгробии греческую эпитафию, которую я сама сложила; здесь я не привожу ее, потому что ты, читатель, как прирожденный грек, будешь смеяться над моими неуклюжими стихами. Умер учитель в конце жатвы, и могила его — под теми старыми грушами, где он в летние месяцы учил меня и Психею. После этого прошло еще много дней, лун и лет, пока однажды, оглядев дворец, сад, город и далекий кряж Седой горы, я поняла, что больше не в силах видеть день за днем до самой смерти одно и то же. Даже пятна дегтя на дощатых стенах коровников, казалось, были те же, что и в тот день, когда во дворец привели Лиса. И я решила отправиться в путешествие, чтобы посмотреть мир. Все сопредельные страны были в то время нашими союзниками. Бардия, Пенуан и Арном вполне справлялись с делами царства и без меня; не будет большой ложью сказать, что я привела Глом в такой порядок, при котором им вообще не нужно было управлять.
Я взяла с собой только сына Бардии Илердию, дочь Пуби по имени Алит, двух служанок, конюшего, повара и отряд преданных воинов, а также вьючных мулов, чтобы везти шатры и припасы. Не прошло и трех дней, как мы двинулись в путь.
Глава двадцать первая
То, ради чего я решила рассказать о предпринятом мною путешествии, произошло в самом конце его, когда мы уже возвращались на родину. Сперва мы направились в Фарсу, где плоды созревают позднее, поэтому одно и то же время года странник проживает словно дважды. В Фарсе мы увидели те же картины, которые сопровождали нас во время отъезда из Глома: свистели серпы, жнецы пели песни, на полях рядами лежали снопы, желтела свежая стерня, мимо провозили зерно, ссыпанное в телеги с высокими бортами. Солнце палило, оставляя загар на лице и радость в душе. Мы провели десяток ночей во дворце Трунии, и я была поражена, увидев, как располнела и подурнела Редиваль. Она по-прежнему болтала без умолку, но все больше о своих детях. Ни о ком, кроме Батты, из оставшихся в Гломе она не спрашивала. Труния не обращал на ее болтовню ни малейшего внимания, зато со мной он говорил много и о важном. Мы согласились, что после моей смерти Глом унаследует его второй сын Дааран. Этот Дааран был неглуп (для сына такой дуры, как Редиваль). Я бы его полюбила, если бы не сдерживала себя и если бы между нами не встревала Редиваль. Но я поклялась больше не отдавать своего сердца ни одному юному созданию.
После Фарсы мы отправились горными проходами на запад в Эссур. Это был край стремительных рек, поросший густыми лесами (я никогда прежде не видела столько деревьев). Леса изобиловали пернатыми, оленями и всяким зверем. Мои спутники были молоды и любознательны; тяготы и радости странствия сплотили нас, жажда знаний с избытком утолялась с каждым новым поворотом дороги. Сперва они побаивались меня и большей частью молчали, но потом мы сблизились и стали добрыми друзьями. С ними я помолодела сердцем. Мы ехали под рев водопадов и клекот кружившихся над нами горных орлов.
Приехав в Эссур, мы провели три дня в царском дворце. Царь был по-своему неплохим человеком, но слишком уж раболепно заискивал передо мной: ведь это Глом в союзе с Фарсой не так давно заставил Эссур заговорить по-другому. Жена царя с ужасом смотрела на меня; видать, она уже наслушалась страшных сказок о моем лице. Из Эссура мы собрались было в обратный путь, но тут нам рассказали о горячем источнике в пятнадцати милях на запад от Эссурского дворца. Илердия высказал желание посетить его, а я с грустной улыбкой подумала, что Лис (будь он жив) пожурил бы меня, если бы я упустила случай повидать это чудо природы. Поэтому я решила задержаться на день в Эссуре.
Осенний день был ясным и жарким, но солнце уже утомилось и светило не так беспощадно, как в разгар лета. Желтая стерня радовала взор; казалось, сам год состарился и теперь отдыхает от своих трудов. Я подумала, что пора отдохнуть от трудов и Царице Гломской. И не только ей, но и верному Бардии (в последнее время он часто стал уставать). Пусть молодые займутся делами, а мы посидим на солнышке и поговорим о былых битвах. Разве я не сделала все, что могла? «Старческая мудрость, — сказала я про себя. — Это заговорила во мне старческая мудрость».
Горячий источник, как и все диковины, вызывающие в людях глупые восторги, отнял у нас немного времени. Мы поехали дальше по благодатной зеленой долине и выбрали место для привала между теплым ручьем и опушкой леса. Пока мои спутники ставили шатры и развьючивали коней, я зашла под сень деревьев, чтобы посидеть немного в прохладе. И тут я услышала неподалеку храмовый колокол (в Эссуре все храмы обычно с колоколами). После стольких часов в седле приятно немного прогуляться, поэтому я неторопливо пошла на звук, не особенно заботясь найти его источник. Вскоре я вышла на безлесное место, заросшее мхом, и увидела храм; он был не больше охотничьей хижины, но из снежно-белого камня, с колоннами по греческому обычаю. За ним я увидела маленький домик — очевидно, жилище жреца.
Место само по себе было прохладным и спокойным, но внутри храма было еще спокойней и холодней. Храм был пуст, и на полу я не заметила пятен, из чего я заключила, что он посвящен одному из тех миролюбивых богов, которые довольствуются цветами и плодами в качестве жертвы. Затем я увидела за алтарем изваяние девушки в два фута высотой, вырезанное из светлого дерева, без обычной раскраски и позолоты, отчего оно, на мой взгляд, только выигрывало. Я поняла, что это — богиня, которой посвящен храм. Лицо богини покрывал платок, напоминавший мой собственный, с тою только разницей, что мой был белый, а этот — черный. Я подумала, что храм этот совсем не похож на Дом Унгит и тем мне и нравится. Затем я услышала шаги за спиной и обернулась. Человек в черном вошел в храм; это был старик с добрым, спокойным, пожалуй, чуть-чуть простоватым взглядом.
— Чужеземка хочет принести богине жертву? — спросил он.
Я положила ему в ладонь несколько монет и спросила, как зовут богиню.
— Истра, — ответил он.
Имя это не слишком распространено в Гломе и сопредельных странах, поэтому мне с трудом удалось скрыть изумление; я сдержалась и сказала, что никогда не слышала о такой богине.
— О, это потому, что Истра — богиня совсем молодая. Она только недавно стала богиней. До этого, как и многие другие боги, она была смертной…
— А как же она стала небожительницей?
— Небожительницей она стала так недавно, что храм ее еще очень беден, чужеземка. Но за серебряную монету я могу поведать тебе священное предание. Спасибо, добрая госпожа, спасибо. Истра да поможет тебе за твою доброту. Слушай. В далекой земле жили царь и царица, и были у них три дочери. Младшая царевна была прекраснее всех царевен на земле…
И он рассказал мне все предание напевно, как это принято у жрецов, и не сбившись ни разу с заученных слов. Пока он говорил, мне казалось, что все мы — и жрец, и я, и храм, и все мое путешествие — только предание, потому что рассказ его был о нас, о нашей Истре, о нашей Психее, о том, как Талпэль (так именуют Унгит в Эссуре) приревновала к ее красоте и сделала так, чтобы Истру принесли в жертву горному Чудищу, и как сын Талпэль Иалим, прекраснейший из всех богов, полюбил ее и унес в свой тайный чертог. Жрец знал даже о том, что Иалим посещал Истру только по ночам и запретил ей видеть свое лицо. Но объяснял это жрец очень наивно: «Видишь ли, чужеземка, он боялся гнева своей матери, потому что Талпэль возмутилась бы, узнав, что ее сын взял в жены столь ненавистную ей женщину».
При этих словах я подумала про себя: «Какая удача, что это предание не достигло моих ушей пятнадцать или даже десять лет тому назад! Я бы снова заболела тогда, а теперь… теперь мне почти все равно». Потом, внезапно очнувшись от своих дум, я полюбопытствовала:
— Откуда тебе это ведомо?
Он посмотрел на меня так, словно не понял вопроса.
— Это священное предание, — сказал он.
Я увидела, что старик скорее простодушен, чем лукав, и промолчала. Жрец продолжил рассказ, но то, что я дальше услышала, возмутило меня так сильно, что кровь бросилась мне в лицо. Ибо все было ложью — гнусной и глупой ложью. Во-первых, по его словам, Психею в ее дворце навестили обе сестры (представь себе Редиваль рядом со мной!).
— И вот, — говорил жрец, — сестры узрели чертоги Иалима, и пировали в них, и взяли от Истры дары. И тогда…
— Как ты сказал, жрец, узрели?
— Чужеземка, не перебивай священного предания. Конечно, узрели. Они же небыли слепыми. И тогда…
Боги посмеялись надо мной и плюнули мне в лицо. Вот что они и людская молва сделали с нашими судьбами, перед тем как вложить повесть о них в уста старого дурня. Без богов тут не обошлось, иначе откуда узнали бы смертные о дворце? Это было вложено ими в чью-то голову во сне, или в видении, или как там еще боги творят подобные вещи, и вложено так, чтобы обессмыслить случившееся, лишить его самой сути. Именно поэтому я и стала писать книгу против богов — чтобы поведать правду о том, что они утаили. Мне часто доводилось судить своих подданных, но ни разу не случалось поймать лжесвидетеля на столь хитрой и тонкой полуправде. Ведь если бы все было так, как рассказывают люди, не было бы никакой загадки и я не мучилась бы, пытаясь разгадать ее. И более того, это предание — оно совсем о другом мире; о мире, в котором боги являются людям зримо и не посылают им обманчивые видения, где они не заставляют верить тому, что противоречит чувствам и здравому смыслу. В том другом мире (где он? и существует ли вообще?) я бы не запуталась в отгадках, и богам было бы не в чем меня упрекнуть. А рассказывать случившееся с нами, не упомянув ни словом о помрачении моих глаз, — это все равно что назвать человека медлительным, не упомянув о его хромоте, или же упрекать в предательстве, не сказав ни слова о том, что он выдал тайну под пыткой. И тут же я представила, как эта лживая повесть станет притчей во всех краях земли, и невольно задумалась над тем, насколько можно принимать на веру любые предания о богах и героях.
— И тогда, — продолжал жрец, — злые сестры задумали погубить Истру. Они принесли лампу…
— Но зачем она — то есть они — хотели разлучить Истру с сыном Талпэль? Они же видели дворец!
— Они хотели погубить ее именно потому, что видели ее дворец.
— Но все-таки — почему?
— Из ревности. Муж и дворец Истры были красивее, чем те, что были у сестер.
И вот именно тогда я решила написать эту книгу. Долгие годы до этого распря между мной и богами была почти забыта; я стала думать почти как Бардия: чем меньше связываешься с богами, тем лучше. Часто я даже почти не верила в существование богов, хотя и видела одного из них собственными глазами. Память о его голосе и лике я надежно заперла в одном из самых темных сундуков моей памяти. Но в тот миг мне снова ясно вспомнилось, как я была бессильна перед ними — незримыми и могущественными, как они — неуязвимые по своей природе — уязвили меня в самое сердце, как они все навалились на меня одну и превратили мою жизнь в нескончаемое мучение. Все эти годы они играли со мной в кошки-мышки. Хвать! — и жертва снова бьется в острых когтях. Но я не мышь, я могу говорить. И писать. Никто не делал этого прежде, но я решилась: правда о преступлениях богов должна быть сказана.
Ревность? Чтобы я — и ревновала к Психее! Мне стало тошно при одной мысли об этом вздорном и пошлом предположении. Видно, у богов понятия о чести такие же, как у черни. Им не пришло на ум ничего другого, кроме измышлений, достойных уличных нищих, храмовых шлюх, рабов, бродячих псов. Неужто и лгать-то они не умеют по-божески?
— …и она бродила по миру, обливаясь слезами.
А, это старик. Он все еще говорит. И как эти слова эхом перекатываются у меня в ушах! Я сжала зубы и попыталась успокоиться, а не то звуки завладеют мной и я перестану понимать, что происходит на самом деле. Я уже почти слышу, как она плачет под дверьми храма…
— Довольно! — закричала я. — Неужто ты думаешь, что я не знаю, когда девушки плачут? Они плачут, когда их сердце разбито. Говори, старик, мне все равно!
— …обливаясь, обливаясь слезами, — повторил он. — И Талпэль, которая ненавидела Истру, завладела ее душой. А Иалим не мог ничем помочь, потому что Талпэль была его мать и он ее боялся. И Талпэль подвергала Истру всяческим мучениями заставляла ее браться за тяжкую работу и исполнять невозможные задания. Но Истра со всем справилась, и Талпэль позволила ей вернуться к Иалиму и стать богиней. И когда это случается, я снимаю с богини черный покров и меняю мои черные одежды на белые, а затем мы подносим ей…
— Ты хочешь сказать, что настанет день, когда Истра вновь вернется к своему богу, и тогда вы снимете с нее черный покров?
— Мы снимаем покров каждую весну, и тогда я меняю свои одежды…
— Какое мне дело до того, что ты там меняешь! Я хочу знать, случается ли это на самом деле! Истра — она все еще бродит по земле или уже стала богиней?
— Чужеземка, ты не понимаешь! Священное предание, оно о священном — о том, что мы делаем в храме. С весны и до конца лета Истра — богиня. Затем во время жатвы мы вносим в храм лампу, и бог улетает прочь. Тогда мы покрываем Истре лицо. Всю зиму она бродит по свету, испытывая лишения и обливаясь слезами…[33]
Он не знал ничего. Для него не было никакой разницы между жизнью и служением в храме. Он даже не понимал, о чем я его спрашиваю.
— Старик, мне рассказывали это предание и по-иному, — промолвила я. — Мне кажется, что у сестры — или сестер — богини были и другие причины, чтобы вести себя подобным образом.
— Я и не сомневаюсь, — ответил жрец. — У ревности всегда найдутся причины. Вот, скажем, моя жена…
Я не стала его слушать, попрощалась и вышла из прохлады храма под темную сень деревьев. Между стволов поблескивало пламя костра, разведенного моими спутниками. Солнце уже закатилось. Я скрыла мои чувства, которых и сама не могла понять. Но вся прелесть нашего осеннего путешествия поблекла в моих глазах, и я старалась хотя бы не испортить настроения своим спутникам. На следующий день я окончательно решила, что моя душа не обретет покоя, пока я не напишу книгу — обвинение против богов. Мысль о книге жгла меня изнутри, она была для меня как младенец в чреве для матери.
Поэтому я и не могу рассказать об обратной дороге до Глома. Она заняла семь или восемь дней, и по пути мы посетили все достойное внимания как в Эссуре, так и в Гломе. После того как мы пересекли границу, мы увидели повсюду такой покой, такую зажиточность и почтение к моей особе, что сердце мое должно было бы возрадоваться. Но ничто не веселило мой взор и слух. День и ночь напролет я только вспоминала, как все было на самом деле, стараясь не упустить ничего, ни одного движения души, ни одного мельчайшего события. Я извлекла Оруаль из могилы, вытащила ее на свет из колодца, окруженного стенами, и заставила говорить. Чем больше я вспоминала, тем больше оставалось вспомнить — и я часто плакала не по-царски под покровом платка, но печаль моя все равно была слабее, чем негодование. К тому же я спешила. Я боялась, что боги заставят меня замолчать, прежде чем я успею изложить все, что знаю о них. Поэтому каждый вечер, когда Илердия говорил мне: «Вот здесь, Царица, мы поставим шатры», — я отвечала ему: «Нет, нет, мы можем проехать сегодня еще три мили или даже пять до наступления тьмы». По утрам я старалась встать как можно раньше. Сперва я терпеливо дожидалась, пока проснутся остальные; я ежилась в холодном тумане, слушая молодое дыхание спящих; но вскоре мое терпение кончилось, и я стала будить их. Мы вставали все раньше и раньше, а ложились все позже и позже, пока наше путешествие не стало походить на бегство побежденных от преследующего по пятам победителя. Я подолгу молчала, отчего и спутники тоже смолкли. Я видела, что они расстроены этим и шепотом обсуждают между собой, что означает перемена в настроении Царицы.
Но даже во дворце мне не удалось сразу приняться за работу, как я надеялась. Множество мелких дел тут же навалилось на меня. К тому же именно теперь, когда мне особенно был нужен помощник, пришли из дома Бардии и сказали, что старый воин заболел. Я спросила Арнома о болезни Бардии, и Жрец сказал мне: «Это не яд и не лихорадка, Царица, — обычная хворь, не страшная для крепкого мужа. Но Бардии все же лучше остаться в постели. Ведь он уже не молод». Страх кольнул меня в сердце, но потом я успокоилась, вспомнив, что жена Бардии возится с ним, как курица с единственным цыпленком, и пользуется малейшим поводом удержать супруга подальше от дворца.
Наконец, несмотря на все препятствия, книга эта завершена и она перед тобой, читатель, чтобы ты мог рассудить, кто прав в нашем споре — я или боги. Они дали мне Психею — единственную, кого я любила, — а затем отняли ее у меня. Но и этого им показалось мало. Они заставили меня решать участь сестры, не сказав мне, кто же ее муж — чудище, небожитель или лесной бродяга. Они не дали мне ясного знака, хотя я их об этом просила. Мне пришлось догадываться самой, и я ошиблась, и они наказали меня — что хуже всего, они наказали меня, но кара постигла ее. И даже этого не было довольно: зная прекрасно правду, они заставили людей поверить, что никакой загадки не было, а действовала я из зависти, словно я и Редиваль — одно и то же. Поэтому я утверждаю, что боги поступают с нами не по правде: они не желают оставить нас в покое, чтобы мы прожили нашу короткую жизнь как умеем, но и направить нас на верный путь не хотят. Видно, ни то ни другое не доставило бы им радости. Они предпочитают подкрадываться исподтишка, лукавить, насылать на нас зыбкие сны, темные пророчества и видения, исчезающие под твоим взглядом, молчать, когда мы вопрошаем их, и нашептывать на ухо неразборчивые советы, когда мы в них не нуждаемся. Одним они являют то, что скрывают от других; они играют с нами в жмурки, в прятки, в кошки-мышки, дурачатся и насмешничают. Не потому ли в священных местах всегда стоит полумрак?
Добавлю, что нет для богов существа ненавистнее человека. Ни жаба, ни змея, ни скорпион не вызывают у них такого отвращения, как мы.
Пусть боги, если им есть что сказать, ответят на мое обвинение. Вполне возможно, что вместо ответа они нашлют на меня безумие или проказу или обратят меня в зверя, птицу или дерево. Но тогда весь мир узнает (и боги это почувствуют), что у них просто нет ответа.
Часть II
Глава первая
Совсем немного дней прошло, с тех пор как я поставила последнюю точку, но вот я снова вынуждена развернуть свиток. По правде говоря, все, что я написала, стоило бы переписать с начала до конца, но боюсь, что мне не хватит времени. Я очень быстро устаю, и Арном, видя это, хмуро покачивает головой. Они думают, будто я не догадываюсь, что письмо Даарану уже послано.
Раз уж я не могу переписать написанное, я должна прибавить к нему то, что мне удалось узнать нового о женщине, сочинившей эту книгу. Иначе я буду достойна осуждения и умру с нечистой совестью. Оттого что я стала писать, я и сама переменилась. С такой работой не шутят. Память, стоит разбудить ее, превращается во властного деспота. Я пришла к выводу, что должна честно (я не хочу лгать, стоя перед судом) поведать все свои чувства и мысли. Прошлое, как я описала его, было не тем прошлым, которое я помнила. Даже заканчивая книгу, я еще не понимала многого так отчетливо, как понимаю сейчас. То, что случилось со мной, когда я писала книгу, я в ней не упомянула, но эти перемены были только началом: боги, подобно врачам, использовали мое стило как щуп, чтобы исследовать мою рану, прежде чем взяться за нож.
Лишь только я села за работу, мне стали посылаться знаки. Когда я описывала, как мы с Редивалью копались в грязи на берегу Шеннит, мне вспомнилось и многое другое о тех давних днях, когда не было еще ни Лиса, ни Психеи — только я и Редиваль. Я вспоминала, как мы ловили уклеек в ручье, как прятались в сене от Батты, как жались за дверьми, когда отец пировал, и выпрашивали у рабов остатки лакомств. И мне подумалось, как ужасно изменилась Редиваль впоследствии. Но это все мои мысли. А знаки, как я уже сказала, посылались извне. Одной из помех в моей работе оказалось посольство от Великого Царя одной из Юго-Восточных стран.
«Чума их всех побери», — сказала я тогда про себя, представив, сколько часов уйдет на беседы и на пиршество. Гости прошли в зал, и я с легким презрением заметила, что предводительствует ими евнух. Евнухи при дворе Великого Царя играют очень важную роль. Тот евнух, который возглавлял посольство, был очень толст. Толще человека мне не доводилось видеть — щеки его, маслянистые и жирные, были так велики, что за ними не видно было глаз. Евнух был весь обвешан безделушками, как какая-нибудь прислужница Унгит, но вот он заговорил, и я заметила в нем трудно уловимое сходство с кем-то знакомым. Догадка вертелась у меня в голове, но я гнала ее прочь, и так несколько раз; наконец я не выдержала и вскричала:
— Тарин!
— Ах да, Царица, да, да… — осклабился презрительно евнух, но (мне показалось) он был польщен. — Ах да, когда-то меня звали Тарин. Твой отец, Царица, меня недолюбливал, верно. Но… хи-хи-хи — ему я обязан своим положением. Да, да, он направил меня на верный путь. Два взмаха бритвы — и я стал важным лицом, великим человеком.
Я поздравила его с этим успехом.
— Спасибо, Царица, премного благодарен! Я доволен, очень доволен. Стоит только подумать… хи-хи-хи… если бы не вспыльчивость твоего отца, Царица, я так бы и таскал щит в охране царька варваров, все царство которого не больше наименьшего из охотничьих угодий моего повелителя! Ты не обиделась, Царица?
Я сказала, что мне известно, какие прекрасные охотничьи угодья у Великого Царя.
— А как поживает твоя сестра, Царица? — спросил евнух. — Такая была славная девочка… хотя, хи-хи-хи, с тех пор через мои руки и не такие красавицы проходили… жива ли она еще?
— Она — царица в Фарсе, — ответила я.
— Ах вот как. Фарса… Помню, помню. Как легко забываются имена этих царств-недомерков. Да, мне было ее жалко. Она была такая одинокая.
— Одинокая? — переспросила я.
— Ах да, да, да — очень одинокая. Когда родилась другая, маленькая царевна, она все говорила: «Раньше Оруаль любила меня, затем появился Лис, и она стала любить меня меньше, а когда родилась малютка, она и совсем меня разлюбила». Да, она была одинока. Я пожалел ее… хи-хи-хи… я был тогда парень что надо. Каждая вторая девушка в Гломе была в меня влюблена.
Я твердо перевела беседу на дела государства.
Но это был только первый знак, слабый намек, первая снежинка грядущей зимы, о которой стоит помнить только потому, что теперь известно, что за ней последовало. У меня не было оснований не верить Тарину, как, впрочем, не было оснований менять и свое мнение о Редивали, которую я считала и считаю бесчестной дурой. Ее даже винить не за что — просто пошла вся в отца. Одно было мне неприятно: раньше я и думать не думала, что чувствовала Редиваль, когда я променяла ее сперва на Лиса, а потом на Психею. Почему-то с самого начала я была уверена, что это меня нужно жалеть, что это мною играют как хотят. А Редиваль… что Редиваль? У нее же такие чудесные золотые кудри!
И я снова принялась за книгу. Непрерывное напряжение памяти привело к тому, что я продолжала просеивать и сортировать воспоминания даже во сне, хотя во сне это виделось мне совсем не так, как наяву. Мне снилось, что я стою перед огромной кучей зерен. В ней были пшеница, ячмень, овес, мак, рожь, просо — и все это я должна была перебрать и разложить отдельно. Задача казалась почти безнадежной; я даже не знала, зачем я делаю эту работу, но меня предупредили, что, если я остановлюсь хоть на миг или перепутаю хоть одно зерно, меня постигнут ужасные кары. Наяву любой сказал бы, что это неисполнимо, но во сне казалось, что ничего невозможного нет. Была одна на десять тысяч возможность, что работа будет закончена в срок, и одна на сто тысяч — что при этом я не сделаю ни одной ошибки. Скорее всего, меня ждало наказание: скорее всего, но не наверняка. И вот я брала каждое зерно двумя пальцами, рассматривала его и откладывала в положенную кучку. А в некоторых снах, совсем уж безумных, я превращалась в маленького муравья. Тогда зерна были для меня что мельничные жернова, и я ворочала их с огромным трудом, пока не подкашивались лапки. Но муравьи, как ты знаешь, читатель, способны нести ношу больше, чем их собственный вес, и вот я таскала и таскала зерна.
Чтобы дать представление о том, как боги принуждали меня трудиться и во сне и наяву, скажу только, что все это время я совсем не думала о Бардии, разве что пеняла иногда на его отсутствие, поскольку без него меня отвлекали от свитка значительно чаще. Для меня имела значение только моя книга. О Бардии же я вспоминала редко и с возмущением: «Что он, собирается проваляться в постели весь остаток жизни?» Или же: «Это все его женушка!»
Наконец настал день, когда я вписала в книгу последние слова: «У них нет ответа». Буквы еще не высохли, как я услышала, что говорит Арном, и впервые осознала смысл и значение его слов.
— Ты хочешь сказать, — вскричала я, — что жизнь нашего Бардии в опасности?
— Он очень слаб, Царица, — сказал Жрец. — Какая жалость, что с нами больше нет Лиса. Мы здесь, в Гломе, в сравнении с ним — темные знахари. Мне сдается, что у Бардии не хватает силы духа справиться с этой болезнью…
— О боги! — закричала я. — Что же вы мне раньше не сказали? Эй! Раб! Коня мне! Я отправляюсь к Бардии!
Арном, мой старый и испытанный советник, положил руку мне на плечо.
— Царица, — сказал он мягко и очень спокойно, — если ты навестишь больного, он может не выздороветь вовсе.
— Что я, чуму несу за собой? — возмутилась я. — Неужто я могу сглазить даже через платок?
— Бардия любит тебя и предан тебе больше, чем любой из твоих подданных, — сказал Арном. — Если он увидит тебя, он тут же, собрав все свои силы, вернется к придворным обязанностям. А сил у него осталось немного. Сотни отложенных дел, о которых он успел позабыть за эти девять дней, вызовут прилив крови к голове. Это может убить его. Оставим его в покое, пусть полежит и подремлет. Это единственное для него сейчас спасение.
Правда была горька, но я проглотила ее. Я согласилась бы даже заточить себя в башне, скажи мне Арном, что это поможет Бардии. Три дня я терпела (старая сморщенная дура!), на четвертый же сказала себе: «Все, хватит!», но на пятый Арном вошел ко мне в слезах, и стало уже поздно. Бардия умер, так и не услышав от меня тех слов, которые, возможно, лишь смутили бы его. Просто мне самой стало бы намного легче, если бы я успела склониться к уху верного воина и прошептать: «Бардия, я любила тебя».
Когда тело положили на костер, все, что было мне дозволено, — это стоять и смотреть. Я не была ему ни женой, ни сестрой и поэтому не могла оплакивать его и бить себя в грудь. А если бы могла — я бы надела на руки стальные рукавицы или ежиные шкурки!
Я выждала три дня, как велит обычай, и отправилась с утешением к вдове. Не только долг и приличия привели меня туда: Ансит была любима Бардией и потому была в некотором смысле моим врагом — но кто в мире теперь мог бы лучше понять меня?
Меня провели в верхнюю комнату, где сидела за пряжей Ансит. Вдова была бледна, но очень спокойна. Я волновалась заметно больше. Как я уже писала, когда-то меня удивило, насколько Ансит оказалась, вопреки моим ожиданиям, некрасива. Теперь, постарев, она внезапно расцвела новой красотой; ее гордое лицо излучало удивительный покой.
— Госпожа… Ансит, — сказала я, взяв ее за руки (она не успела отдернуть их), — что мне сказать тебе? Как мне говорить с тобой о нем, когда утрата твоя безмерна? Чем же мне утешить тебя? Только тем, что лучше иметь и потерять такого мужа, чем вечно жить с любым другим мужчиной.
— Царица оказывает мне великую честь, — сказала Ансит, выдернув свои руки из моих, встав и сложив их на груди.
Глаза ее были опущены долу, она стояла так, как придворной даме полагается стоять перед царицей.
— Ах, дорогая моя, хотя бы сейчас не смотри на меня как на царицу! Я умоляю тебя — разве мы в первый раз увиделись только вчера? Я не смею и сравнивать свою утрату с твоей, но она тоже велика. Прошу тебя, сядь. А я сяду рядом, и мы поговорим.
Она уселась и вновь принялась за пряжу; лицо ее было спокойно, а губы — слегка поджаты, как положено домашней хозяйке, занятой делом. Я подумала, что она вряд ли мне чем-нибудь поможет.
— Это все так неожиданно! — сказала я. — Неужели никто не заметил, что болезнь опасна?
— Я заметила.
— Неужели? Арном сказал мне, что это легкая хворь!
— Он и мне это сказал, Царица. Он сказал, что это — легкая хворь для человека, которому достанет сил побороть ее.
— Сил? Но кто был сильнее Бардии?
— Он был как сгнившее изнутри дерево.
— Сгнившее? Почему? Я этого не знала!
— Видать, не знала, Царица. Он истощил себя — или его истощили. Уж лет десять, как ему бы уйти на покой. Он же был не железный, Бардия, — из плоти и крови, как все мы.
— Он никогда не выглядел старым, никогда!
— Может быть, Царица, тебе не приходилось видеть его усталым. Ты ни когда не видела его лица ранним утром, не слышала, как он стонал, когда я будила его на заре. (А что мне было делать? Он брал с меня клятву, что я разбужу его.) Ты никогда не видела, каким он возвращался поздно вечером из дворца. Голодный, а поесть даже сил нет. Откуда тебе знать, Царица? Ведь это я была его женой. Он был слишком учтив, чтобы зевать и жаловаться в присутствии своей повелительницы.
— Ты хочешь сказать, что работа…
— Пять войн, тридцать одна битва, девятнадцать посольств, непрестанные заботы о том о сем — одному польсти, другому пригрози, третьего утешь… День напролет думать, советовать, запоминать, угадывать, подсказывать, не отлучаясь из Столбовой залы, — все время эта Столбовая зала. Нет, не только на рудниках можно уморить человека.
Я ожидала услышать все что угодно, но не это. Когда прошла первая вспышка гнева, за ней последовал страх; я боялась, что Ансит (хотя мне с трудом верилось) говорит правду. Стоило мне это заподозрить, как мой голос задрожал от обиды.
— Не ты говоришь, госпожа, а твое горе. Прости меня, но это все домыслы. Я работала с ним наравне, так не хочешь же ты сказать, что сильный мужчина не вынес того, от чего не сломалась слабая женщина?
— Ты говоришь как та, что не знает мужчин. Они крепче нас, зато мы выносливее. Их жизнь короче. Мужчины хрупки. Да ты и помоложе его будешь, Царица.
У меня похолодело в сердце.
— Если ты права, — сказала я, — то он мне лгал. Довольно было одного его слова, и я сняла бы с него ношу забот и отправила его на покой со всеми возможными почестями.
— Ты плохо его знаешь, Царица, если думаешь, что он мог сказать это слово. Ах, ты счастлива на троне; мало в мире повелителей, которых так любят их слуги!
— Да, это так. Ты ведь не осуждаешь меня за это? Даже в горе ты не имеешь права упрекать меня — ведь никакой другой любви я не знала. Безмужняя, бездетная — а у тебя все это было…
— Только то, что ты изволила оставить мне, Царица.
— Оставить? Безумная, о чем ты говоришь?
— Нет, нет, я прекрасно знаю, что любовниками вы не были. Это ты предоставила мне — ведь кровь богов не может смешиваться с кровью смертных, не так ли? На мою долю ты не посягала — взяв от него все, что тебе было нужно, ты позволяла ему уползать домой ко мне, пока он снова тебе не понадобится. Недели и месяцы вы проводили в походах, бок о бок ночью и днем, и у вас были общие победы, советы, тяготы, общий солдатский хлеб и грубые шутки. А потом он приходил ко мне — от раза к разу все более худой и поседевший, и засыпал, не доев ужина, и кричал во сне: «На правый фланг, скорей! Царица в опасности!» А утром, не доспав, во дворец: все в Гломе знают, что Царица — ранняя пташка. Вот потому я и говорю: ты оставила мне то, что осталось.
И взгляд ее, и голос безошибочно выдавали чувство, знакомое всем женщинам.
— Как? — вскричала я. — Неужто ты ревнуешь? Она не ответила.
Я вскочила на ноги и откинула платок с лица.
— Взгляни, дура, только взгляни, — кричала я, — как ты могла ревновать его ко мне?
Она подняла глаза и посмотрела. Я втайне надеялась, что мое лицо испугает ее, но в глазах Ансит не было страха. Впервые за этот день упрямые губы ее дрогнули и слезы показались в уголках глаз.
— Ох, — прошептала она, — я и не знала… Так ты тоже…
— Что — тоже?
— Ты тоже любила его. И мучилась. Мы обе…
Мы обе заплакали и в тот же миг очутились в объятиях друг друга. Как это ни странно, ненависть наша иссякла в тот самый миг, когда Ансит узнала, что я всю жизнь любила ее мужа. Я уверена, что все было бы иначе, будь Бардия жив, но его больше не существовало, и нам нечего было делить: мы обе были изгоями, мы говорили на языке, который не понимал никто, кроме нас, в этом огромном равнодушном мире.
В нашем языке не было слов — одни рыдания, слова же были для нас подобны острым клинкам, и мы старались не извлекать их из ножен.
Но это наше состояние не продлилось долго. Мне не раз случалось видеть в бою, как воины сходятся с противником в смертельном единоборстве, но налетает шквал, швыряет им в глаза сухую пыль, опутывает мечи полами плащей. Тогда бойцы забывают друг о друге, вынужденные бороться с ветром. Так и мы с Ансит. Нечто, не имевшее отношения к делу, сделало нас сперва друзьями на короткое время, а затем врагами — и уже навсегда.
Мы высвободились из объятий (я не помню, как это произошло); мое лицо снова закрывал платок, губы Ансит вновь непреклонно сжались.
— Ладно, — сказала я. — Благодаря тебе я почувствовала себя на миг убийцей Бардии. Ты хотела причинить мне боль и добилась этого. Радуйся, ты отомстила. Но скажи, сама ты веришь в то, что сказала мне?
— Верю? Я не верю, я просто знаю, что царская служба выжала из моего мужа всю кровь — год за годом, по капле.
— Почему же ты не сказала мне? Одного твоего слова было бы довольно. Или ты подражаешь богам, которые дают советы, когда уже слишком поздно?
— Почему не сказала? — удивилась Ансит, гордо вскинув голову. — Чтобы ты оторвала его от трудов, в которых была вся его жизнь, вся его слава и доблесть (ибо что такое, в конце концов, какая-то женщина для мужчины и воина)? Чтобы сделать из него малое дитя или впавшего в детство старца, нуждающегося в уходе? Да, тогда бы он был только мой — но какой ценой?
— Но все же — только твой…
— Для меня важнее было принадлежать ему. Я была его женой, а не содержанкой. Он был моим мужем, а не комнатной собачкой. Он имел право жить такой жизнью, которой достойны великие мужи, — а не такой, какая угодна мне. Теперь ты отбираешь у меня сына. Илердия повернулся спиной к дому матери; его манят чужие земли и непонятные мне вещи. С каждым днем он будет все меньше принадлежать мне и все больше — тебе и миру. Но неужто ты полагаешь, что я буду препятствовать ему, даже если бы мне было довольно пошевелить пальцем?
— И ты могла — ты можешь — терпеть это?
— Ты еще спрашиваешь? О, Царица Оруаль, похоже, ты ничего не знаешь о любви! Нет-нет, я не права, просто, видно, царская любовь не такова, как наша. Вы ведете свой род от богов и любите, как боги. Как любит Чудище. Говорят, для него любить и пожирать — одно и то же, не так ли?
— Женщина, — сказала я. — Я спасла ему жизнь. Неблагодарная дура, ты бы стала вдовой на много лет раньше, не прикрой я его своим телом в день битвы при Ингарне. Меня тогда ранили, и рана до сих пор болит к перемене погоды. А где шрамы от твоих ран?
— Там, где они остаются у женщины, рожавшей восемь раз. Да, ты спасла его жизнь. Спасла, потому что она была тебе полезна. Ты бережлива, Царица! Зачем терять верный меч? Позор тебе, пожирательница людей. Ты съела стольких, что и не сосчитать: Бардию, меня, Лиса, твою сестру — обеих твоих сестер…
— Довольно! — закричала я. Воздух в комнате стал багряным. Мне пришло в голову, что, если я прикажу пытать и казнить ее, никто не сможет мне помешать. Арном не решится поднять голос. Илердия поднимет восстание, но не успеет спасти ее, когда она будет корчиться на острие кола, как майский жук, проткнутый булавкой.
Но нечто или некто (если боги, то хвала им) сдержали мой гнев. Я пошла к двери, открыла ее, обернулась и сказала:
— Если бы ты посмела говорить так с моим отцом, ты осталась бы без языка.
— Ну и что? — сказала она.
По дороге домой я подумала: «Она получит назад своего Илердию. Пусть живет дома и трудится на земле. Станет деревенским мужиком, будет сыто рыгать, рассуждая о ценах на скот. А я могла бы сделать его большим человеком. Но он станет ничтожеством, и пусть благодарит за это свою мать. Ей больше не удастся обвинить меня в том, что я пожираю чужие жизни».
Но я оставила Илердию при дворе.
Божественные Врачеватели уже привязали меня к верстаку и принялись за работу. Гнев недолго помогал мне защищаться от правды; гнев устает быстро. Ведь Ансит сказала правдивые слова — она сама не знала, насколько правдивые. Я наслаждалась избытком работы и заставляла трудиться со мной допоздна Бардию, задавала ему ненужные вопросы, только для того чтобы услышать его голос, делала все, чтобы отдалить то время, когда он уйдет домой и оставит меня наедине с пустотой моего сердца. Я ненавидела его за то, что он уходит домой. Я наказывала его за это. Мужчина не упустит случая, чтобы высмеять того, кто слишком сильно любит свою жену, а Бардия был в этом смысле очень уязвим; все знали, что он женился на бесприданнице, и Ансит часто хвасталась тем, что ей нет нужды брать в прислугу девушек пострашнее, как приходится делать другим. Сама я никогда не поддразнивала его, но всяческими хитростями делала так, чтобы другие поднимали Бардию на смех. Я ненавидела тех, кто шутил над Бардией, но издевки над его семейной жизнью причиняли мне сладкую боль. Может, я все-таки ненавидела его? Может быть. Любовь иногда состоит из ненависти на девять десятых, но при этом остается любовью. В одном нет никаких сомнений: в моих безумных ночных грезах (в которых Ансит умирала или, еще того лучше, оказывалась блудницей, ведьмой или изменницей), когда Бардия искал моей любви и сострадания, я заставляла его вымаливать у меня прощение. Иногда я терзала его так жестоко, что он был почти готов наложить на себя руки.
Но все кончилось так странно… Часы моих терзаний остались позади, и жажда страсти угасла так же внезапно, как и возгорелась. Только тот, кто прожил долгую жизнь, знает, как многолетнее чувство, пропитавшее насквозь все сердце, может иссякнуть и увянуть в краткое время. Возможно, в душе, как и в почве, не самые красивые цветы пускают самые глубокие корни. А может, я просто постарела. Но, скорее всего, дело было вот в чем: моя любовь к Бардии (не сам Бардия) стала для меня невыносимой. Она завела меня на такие высоты и бросила в такие глубины, где любовь уже не может существовать — она задыхается то от отсутствия, то от избытка воздуха. Жажда обладать тем, кому не можешь дать ничего, изнашивает сердце. Только небу ведомо, как мы мучили его попеременно — то я, то Ансит. Ведь не нужно быть Эдипом, чтобы догадаться, как каждый вечер она ждала его, питая в сердце ревность ко мне, и эта ревность отравляла его домашний покой.
И когда жажда эта иссякла, все, что я называла собой, ушло вместе с нею. Словно у меня вырвали душу, как больной зуб, и на ее месте осталась дырка. Большего зла боги мне не причинят — так я тогда думала.
Глава вторая
Через несколько дней после моего визита к Ансит настало Новогодие. Я уже писала, что в этот день Жреца запирают на закате в Доме Унгит, а наутро он выбирается наружу и как бы рождается вновь. Разумеется, как во всех этих священных делах, Жрец рождается только в определенном смысле; Лис обожал обличать все противоречия и несуразности этого обряда. Когда Жрец прорывается к двери, на него нападают люди, вооруженные деревянными мечами, и обливают его вином, что означает кровь, и хотя говорится, что Жрец заперт в Доме Унгит, заперты только главная дверь и западная, а две маленькие двери все равно открыты, и любой может войти в них и выйти, если пожелает.
Когда в Гломе Царь, ему положено оставаться в храме на всю ночь вместе со Жрецом; но деве лицезреть ночные таинства не подобает, поэтому я вошла к Унгит за час до Рождения. (Кроме царствующей особы, при Рождении присутствует по одному человеку от князей, старейшин и народа, избранному священным порядком, о котором мне писать не дозволено.)
На этот раз утро Новогодия выдалось ясное и свежее. С юга веял теплый ветерок, и, может быть, именно поэтому мне особенно не хотелось идти в священный сумрак обиталища Унгит. Я уже, помнится, писала о том, что Арном сделал храм чище и светлее, но все равно было мрачно и душно, особенно на утро Новогодия, после совершения жертвоприношений, многочасового каждения, кропления вином, после пиршества и плясок храмовых девушек и всенощного сжигания тука. Так сильно пахло потом и воздух был таким спертым, что в обычном жилище смертного даже самая неряха хозяйка давно бы уже принялась проветривать и убираться.
Я вошла в храм и села на плоский камень. Это мое обычное место, и оно расположено прямо напротив воплощения Унгит; новое изваяние стоит по левую руку от меня, место Арнома по правую. Арном, в облачении и маске, чуть не падал от усталости. Где-то негромко били в барабан, кроме этого не было слышно ни звука.
Я увидела ужасных девушек, сидевших в ряд по обеим сторонам храма. Они сидели на корточках, каждая у двери своего закутка, год за годом. Через несколько лет сидения они становились бесплодными, но продолжали сидеть, пока не превращались в беззубые шамкающие развалины, ползающие по полу с вениками или с хворостом для горящих день и ночь очагов. Иногда, находя серебряную монетку или полуобглоданную кость, они птичьим движением хватали их и прятали в складки своих балахонов. И я задумалась над тем, почему столько мужского семени, от которого могли бы родиться крепкие мужи и плодовитые жены, растрачивается впустую в Доме Унгит, и столько серебра, заработанного тяжким людским трудом, поглощается бездонной жаждой богини, и сами девушки — их тоже пожирает ее ненасытная пасть.
Затем я посмотрела на саму Унгит. В отличие от многих других священных камней, она не упала с неба. О ней говорили, что она, напротив, восстала из земли, словно посланец тех неведомых сил, которые вершат свои темные труды в сырости, тепле и гнете подземелий. Я говорила, что она безлика, но это не совсем так — у нее тысячи лиц. В этом бугристом, неровном, изъеденном временем камне всегда можно увидеть какое-нибудь лицо — как в пламени, если долго в него всматриваться. Сейчас богиня выглядела даже причудливей обычного из-за жертвенной крови, которую на нее вылили за ночь. И все эти пятна и потеки внезапно сложились в лицо на какой-то миг, но этого мига хватило, чтобы оно навсегда запало мне в душу. Лицо, несомненно, женское — широкое, как каравай, вздувающееся от новой жизни, как тесто в квашне. Так иногда выглядела Батта, когда мы были очень маленькими и она любила даже меня. Помню, она обняла меня однажды, а я вырвалась и убежала в сад, чтобы избавиться от этого жаркого, мощного, властного, но при этом мягкого-мягкого прикосновения. «Да, — подумалось мне, — Унгит сегодня почти как Батта».
— Арном, — спросила я шепотом, — кто такая Унгит?
— Я думаю, Царица, — ответил он (голос его так странно звучал из-под маски), — она — мать-земля, прародительница всего сущего[34].
Это были новые для Глома представления о богах, которые Арном и остальные усвоили от Лиса.
— Если она мать всего сущего, — сказала я, — как же она еще и мать бога Горы?
— Он — воздух и небо, а облака рождаются из испарений и влаги земли.
— Почему тогда в некоторых преданиях он и ее муж тоже?
— Поскольку небо оплодотворяет землю дождем.
— Если все это так, к чему тогда столько тайны?
— Несомненно, — сказал Арном (и я могла бы поклясться, что он зевнул под маской, утомленный ночным бдением), — несомненно для того, чтобы истина не стала достоянием черни.
Я не стала его долее пытать расспросами, но про себя подумала: «Как странно, что наши предки сомневались, стоит ли сказать напрямую, что дождь идет с неба, и, чтобы столь великая тайна не стала всеобщим достоянием, сочинили нескладную сказочку. Лучше бы уж вообще промолчали».
Барабанная дробь не смолкала. Я устала сидеть, у меня болела спина; тут справа от меня открылась одна из маленьких дверок, и в нее вошла женщина, похожая на крестьянку. Было видно, что она пришла не на праздник, а по неотложному личному делу. Она была печальна (хотя даже бедняки веселятся на Новогодие), и слезы струились у нее по лицу. Она выглядела так, словно проплакала всю предыдущую ночь. В руках она держала живого голубя. Один из младших жрецов подошел к ней, взял ее скромное приношение, распорол голубю брюшко каменным ножом и окропил Унгит теплой кровью. (Кровь на увиденном мною лице стекала с губ и капала, как слюна.) Тушка жертвы досталась одному из храмовых рабов. Крестьянка распласталась перед Унгит. Она лежала долго, и плечи ее так тряслись, что любой бы догадался, как велико ее горе. Затем она внезапно перестала рыдать, встала на колени, откинув волосы с лица, и глубоко вздохнула. Потом она поднялась на ноги, обернулась, и наши глаза встретились. Она была спокойна, лицо ее словно осушила невидимая губка (она стояла так близко, что я не могла ошибиться). Видно было, что эта женщина ко всему готова и на все решилась.
— Дитя мое, дала ли тебе утешение Унгит? — спросила я крестьянку.
— О да, Царица, — сказала женщина, и лицо ее просияло. — О да! Унгит дала мне великое утешение.
— Ты всегда молишься этой Унгит, а не вот той? — сказала я, показав сперва на бесформенный камень, а затем — на прекрасное изваяние (что бы там ни говорил о его достоинствах Лис).
— Да, Царица, я молюсь только этой, — ответила крестьянка. — Та, другая, — греческая, она по-нашему не понимает. Она — для людей ученых. Что ей до наших бед…
Близился полдень, когда после шутовского побоища мы следом за Арномом должны были выйти через западную дверь. Я прекрасно знала, что нас ждет снаружи: возбужденная толпа, кричащая: «Родился! Родился!», крутящая в воздухе трещотки, разбрасывающая пригоршнями пшеницу, дерущаяся за право увидеть хотя бы краешком глаза Арнома со свитой. Но сегодня я обратила внимание совсем на другое. Впервые я заметила, как искренне радуются люди, прождавшие в тесноте, где и не продохнуть, долгие часы. У каждого из них свои заботы и печали (у кого их нет?), свои тревоги, но они забывают про все и ликуют как дети, когда человек в птичьей маске, вооруженный деревянным мечом, вырывается из западной двери на свободу. А те, кому в толкотне, вызванной нашим появлением, сильно намяли бока, смеются даже громче, чем остальные. Я увидела двух крестьян — заклятых врагов (на их тяжбы у меня уходило столько же времени, сколько на тяжбы всех прочих гломцев), которые лобызали друг друга с криками «Родился!», став на миг лучшими друзьями.
Я пошла домой, надеясь отдохнуть, потому что сидеть на плоском камне — не для старых костей. Дома я впала в глубокую задумчивость.
Внезапно кто-то сказал:
— А ну встань, девочка!
Я открыла глаза. Передо мной стоял мой отец. Все долгие годы моего царствования тут же рассеялись как сон. Как я могла поверить в сон? Как я могла поверить в то, что мне удастся ускользнуть из лап Царя? Я покорно встала с ложа и протянула руку за моим платком, чтобы привычно накинуть его на лицо.
— Брось эту придурь! — заорал отец, и я послушно положила платок на место. — Мы идем в Столбовую залу, — повелел отец.
Я спустилась по лестнице следом за ним (во всем дворце никого не было) и вошла в Столбовую залу. Он смотрел по сторонам, и я очень испугалась — мне показалось, что он ищет свое зеркало. Я помнила, что подарила его Редивали, когда та стала царицей Фарсы, и теперь опасалась его гнева. Но отец прошел в угол комнаты и взял там две кирки и лом (кто бы подумал, что такое может быть рядом с троном!).
— За работу, ведьма! — воскликнул он и протянул мне кирку.
Мы начали ломать мощеный пол в самой середине залы. Мне было очень тяжело работать — болела спина. После того как мы вывернули несколько плит, под ними открылось темное отверстие, похожее на колодец.
— Прыгай вниз! — приказал Царь, ухватив меня за руку.
Как я ни отбивалась, он столкнул меня туда и прыгнул сам. Пролетев большое расстояние, мы упали на что-то мягкое и даже не ушиблись. Там, куда мы попали, было тепло, а воздух был такой душный, что не вздохнешь, но слабый свет позволил мне рассмотреть все вокруг. Мы были в помещении, во всем подобном Столбовой зале, которую мы только что покинули, если не считать того, что оно было меньше и все в нем — пол, стены, потолок — было земляное. И снова мой отец огляделся по сторонам, и я опять испугалась, что он спросит про зеркало. Но вместо этого он прошел в угол, взял там две лопаты и сказал:
— За работу! Ты что, надеешься проваляться в постели всю жизнь?
И мы начали копать яму в середине комнаты. На этот раз было еще тяжелее, потому что под ногами у меня была плотная глина, которую лопатой приходилось скорее резать, чем копать. Кроме того, дышать было очень трудно. И тем не менее мы вскоре откопали еще один колодец. Теперь я уже знала намерения отца и попыталась увернуться, но он сказал:
— Опять мне противишься? А ну, прыгай!
— Нет, нет! — кричала я. — Пощади! Я не хочу туда!
— Тут уже Лис тебе не поможет, — сказал отец. — Лисьи норы не так глубоки.
И мы прыгнули в яму и летели дольше, чем в прежний раз, но снова упали на мягкое и не ушиблись. Здесь было намного темнее, хотя я все равно видела, что это еще одно подобие Столбовой залы, но стены на этот раз вырублены в скале, а вода сочится прямо из них. Она была еще теснее, чем земляная комната, к тому же я случайно заметила, что она становится все меньше и меньше. Крыша опускалась на нас, а стены грозили вот-вот сомкнуться. Я хотела крикнуть отцу, что нам нужно спешить, если мы не хотим быть погребенными заживо, но я задыхалась и не могла кричать. Тогда я подумала: «Ему все равно, он уже мертвый!»
— Кто такая Унгит? — сказал отец, сильно сжав мою руку в своей.
Он повел меня к стене, и там я увидела зеркало. Оно было на своем обычном месте. Увидев его, я совсем испугалась и не могла идти дальше, но отец властно тянул меня к зеркалу. Руки его стали большими, мягкими и цепкими, как руки Батты, вязкими, как глина, в которой мы только что копались; как тесто, готовое к выпечке. Он тянул меня, словно присосавшись к моей руке, и я вынуждена была стать перед зеркалом. И я увидела в зеркале его лицо; оно было таким же, как в тот день, когда он подвел меня к зеркалу перед Великим Жертвоприношением.
Но мое лицо было лицом Унгит — таким, каким я увидела его утром.
— Кто такая Унгит? — спросил Царь.
— Унгит — это я.
Голос почти со всхлипом вырвался у меня из горла, и я очнулась в холодном свете дня у себя в покоях. Все, что я видела, люди назвали бы сном. Но я должна сказать, что с того дня мне становилось все труднее отличить сон от яви, потому что сны были правдивее. И этот сон был правдивым. Это я была Унгит. Это раскисшее лицо в зеркале было моим. Я была новой Баттой, всепожирающей, но бесплодной утробой. Глом был моей паутиной, а я — старой вздувшейся паучихой, объевшейся людскими жизнями.
— Я не хочу быть Унгит, — сказала я.
Меня бил озноб. Я встала с ложа, взяла свой старый меч — тот, владеть которым учил меня Бардия, — и извлекла его из ножен. При взгляде на этот клинок, который не раз приносил мне удачу, слезы брызнули у меня из глаз.
— Меч мой, — сказала я. — Тебе одному верю в жизни. Ты убил Эргана. Ты спас Бардию. Тебе осталось совершить главное.
Конечно, я говорила чушь: ведь меч стал для меня теперь слишком тяжелым, и моя дряхлая морщинистая рука была слабее руки ребенка. Я не могла поднять его и нанести верный удар, а к чему приводит удар неверный, я насмотрелась на войне. Так мне не удастся покончить с Унгит. Я села — слабая, беспомощная, ничтожная — на край ложа и стала думать.
В смертных людях есть нечто великое, что бы об этом ни думали боги. Они способны страдать бесконечно и беспредельно.
Все, что случилось дальше, могут назвать сном, могут назвать явью — сама я не берусь судить. По-моему, единственное различие между явью и сном заключается в том, что первую видят многие, а второй — только один человек. Но то, что видят многие, может не содержать ни грана правды, а то, что дано увидеть только одному, порой исходит из самого средоточия истины.
Этот ужасный день наконец закончился. Все дни рано или поздно кончаются, и в этом — великое утешение; может быть, только в стране мертвых есть такие страшные места, где один и тот же день не кончается никогда. Когда все в доме уснули, я накинула черный плащ, взяла палку, чтобы опираться на нее (думаю, та телесная немощь, от которой я сейчас умираю, началась именно тогда), и решила выйти наружу. Мой платок теперь уже не помогал мне остаться неузнанной — напротив, именно по нему всякий признал бы во мне Царицу. Мое лицо — вот теперь самая надежная маска: ведь нет в живых почти никого, кто бы видел его. И вот, впервые за много лет, я решилась выйти из покоев без платка, показав свое лицо всем — жуткое, как говорили некоторые, даже не подозревая, насколько близки к истине. Мне было бы не стыдно выйти и нагишом, ведь я выглядела бы для них как Унгит: я сама видела это в зеркале в том подземелье. Как Унгит? Я и была Унгит, а она — мной. Может, увидев меня, люди начнут мне поклоняться. Люди, сказал бы старый Жрец, сочтут меня священной.
Я вышла из дворца, как уже часто случалось, через маленькую восточную дверь, ведущую на зады. Я прошла с большим трудом (так я была слаба) через спящий город. Мне подумалось, что мои подданные вряд ли спали бы так крепко, если б знали, что за чудище расхаживает у них под окнами. Только один раз я услышала, как плачет ребенок; возможно, я ему приснилась во сне. «Если Чудище начнет разгуливать по городу, люди испугаются», — говорил старый Жрец. Раз я стала Унгит, почему бы мне не стать и Чудищем? Ведь боги принимают обличья друг друга так же легко, как обличья смертных.
Наконец, едва держась на ногах от слабости, я вышла за городскую ограду и спустилась к реке. Я углубила русло старухи Шеннит, а раньше в ней можно было утопиться только в разлив.
Мне нужно было пройти немного вдоль реки до того места, где берег высок и обрывист; там я намеревалась броситься в реку, потому что не была уверена, что у меня хватит смелости входить в воду и ощущать, как смерть добирается мне сперва до колен, а затем до шеи. Дойдя до обрыва, я связала себе ноги поясом в щиколотках, потому что, даже такая старая и слабая, я все равно бы невольно продлила свои мучения — ведь плавала я неплохо. В таком виде я двинулась к краю обрыва нелепыми скачками, как связанный пленник.
Вот так — я бы пришла в ужас и посмеялась над собой, если б видела себя со стороны! — я допрыгала до самого края.
Откуда-то из-за реки прозвучал голос.
— Не делай этого! — сказал он.
Внезапно — у меня до сих пор мороз по коже — волна огня прошла по всему моему телу. Это был голос бога. Кому как не мне было его узнать? Именно этот голос погубил меня когда-то. Их голоса ни с чем не спутаешь. Хитростью жрецы иногда заставляют людей принять человеческий голос за голос бога. Но обратного не удавалось еще никому.
— Господин, кто ты? — спросила я.
— Не делай этого, — повторил бог. — Ты не скроешься от Унгит в царстве мертвых, она — и там. Умри прежде смерти, потом будет поздно.
— Господин, я и есть Унгит.
Бог не ответил. Голоса богов таковы, что, когда они замолкают, пусть это было всего один удар сердца тому назад и пусть медный звон их слов, высоких, как могучие колонны, еще звучит в твоих ушах, все равно тебе кажется, будто прошли тысячи лет, с тех пор как они смолкли. И ждать от них новых слов — все равно что молить о яблоке, висевшем на первой яблоне при сотворении мира.
Голос бога был таким же, как много лет тому назад, но я стала другой. Я не стала прекословить, я повиновалась.
Я вернулась домой, вновь потревожив город стуком моего посоха и черной тенью ночной колдуньи. Я заснула как убитая, едва голова моя коснулась подушки, и когда служанки пришли будить, мне показалось, что я не проспала и мига, так что трудно сказать, было ли все это сном, или просто утомление мое было так велико, что я утратила чувство времени.
Глава третья
Затем боги оставили меня на несколько дней, чтобы я смогла усвоить хотя бы то, что уже услышала. Я была Унгит. Что это означает? Неужели боги так же свободно воплощаются в нас, как и друг в друге? И они действительно не позволят мне умереть до смерти? Я знала, что далеко в Греции, в Элевсине, существуют такие обряды, в которых, говорят, человек умирает, воскресает и живет вновь, хотя все это время душа не оставляет его тела[35]. Но как мне добраться туда? Затем я вспомнила, о чем говорил Сократ с друзьями, перед тем как выпил цикуту. Он сказал им, что истинная мудрость заключается в искусстве умирать. И мне подумалось, что Сократ разбирался в этих делах лучше, чем Лис, потому что в той же самой книге он говорит, что душа «готова отпрянуть перед невидимым и ужасным»[36]; я даже спросила себя, не довелось ли ему испытать то же самое, что испытала я в долине у Психеи. Но мне все-таки кажется, что под смертью, которая есть мудрость, Сократ разумел смерть наших страстей, желаний и самомнения. И тут (как я все-таки глупа!) я прозрела и увидела, что я должна сделать. Сказать, что я — Унгит, означает, что моя душа подобна ее душе, что она ненасытна и кровожадна. Но если я буду, подобно Сократу, жить в согласии с истиной, моя уродливая душа станет прекрасной.
Боги мне помогут… Помогут ли? И все-таки стоит попытаться, хотя мне кажется, помогать мне они не станут. Каждое утро я должна вставать со спокойными и светлыми мыслями… Но я же знаю, что еще не кончат меня одевать, как на меня снова нахлынет гнев, или сожаление, или мучительные грезы, или горькое отчаяние. Я и полчаса не смогу продержаться как надо. И услужливая память напомнит мне о тех ужасных днях молодости, когда я пыталась поправить свое уродство всяческими ухищрениями, прическами и яркими нарядами. Холодный пот выступил у меня на лбу, когда я поняла, что собираюсь вновь взяться за то же самое. Так не удалось приукрасить даже лицо, что же говорить о душе! И с чего я взяла, что боги мне не помогут в этом?
Увы! Ужасная догадка, невыносимая, тяжкая, как камень на груди, навалилась на меня, и она была беспощадно похожа на истину. Никто не полюбит тебя, пускай ты отдашь за него жизнь, если боги не одарили тебя красивым лицом. Значит (почему бы и нет?), боги не полюбят тебя (как бы ты ни страдал и что бы ты ни делал, стараясь угодить им), если тебе не дано прекрасной души. Каждый отмечен с рождения любовью или презрением людей и богов. Уродство наше, внутреннее или внешнее, рождается вместе с нами и сопровождает нас по жизни как участь. Как горька эта участь, знает любая несчастная женщина. Всегда видеть сны об ином мире, иной стране, иной судьбе, когда скрытое в нас проявится и затмит все прелести тех, кому повезло больше. Да, но если и там, за этим порогом, мы будем отвергнуты и презренны?
Пока я так рассуждала, мне было еще одно видение или сон (называйте как знаете), но на сон оно совсем не походило. Я вошла к себе в первом часу пополудни (никого из прислуги не было) и сразу попала внутрь видения — мне не пришлось для этого даже присесть или прилечь на ложе. Я стояла на берегу очень широкой и полноводной реки. На другом берегу бродило стадо каких-то животных (я думаю, это были овцы). Когда я рассмотрела животных внимательнее, я увидела, что стадо состоит из одних овнов, высоких, как лошади, с огромными величественными рогами, с руном, настолько подобным золоту, что блеск его слепил мне глаза. (Небо было пронзительно-голубым, трава зеленела, подобно изумруду, а под каждым деревом лежала тень с такими резкими краями, каких я никогда не видела прежде. Воздух этой страны был слаще всякой музыки.) Эти овны, подумала я, принадлежат богам. Если я украду клок их руна, я обрету красоту. Кудри Редивали — ничто в сравнении с этой куделью. И в видении этом я не побоялась сделать то, чего не смогла сделать на берегу Шеннит; я вступила в холодную воду, и она дошла мне сперва до коленей, затем до пояса, затем до шеи, затем ноги перестали доставать до дна, и я поплыла и вышла на другой стороне, там, где угодья богов. И я пошла по священным травам, с сердцем, исполненным добра и радости. Но тут овны устремились ко мне, подобно волне жидкого золота, сбили меня с ног своими завитыми рогами и прошлись по мне острыми копытами. Они не хотели сделать мне больно — они просто резвились и, возможно, даже и не заметили меня. Я понимала их: они топтали меня и давили от избытка радости, безо всякого злого умысла — наверное, так сама Божественная Природа разрушает нас и губит, не питая к нам никакого зла. Мы, глупцы, зовем это гневом богов, но это так же смешно, как утверждать, что ревущие речные пороги в Фарсе поглощают упавшую в воду муху, потому что хотят погубить ее.
Но овны не убили меня. Я осталась в живых и даже поднялась на ноги. И тогда я увидела, что, кроме меня, там была еще одна смертная женщина. Она, казалось, не видела меня и брела по невысокой гряде, которой кончалось пастбище, и что-то подбирала, как подбирают крестьяне колоски после жатвы. И тут я догадалась, что она делала: на шипах терновника висели клочья золотой кудели! Ну конечно! Овны оставили ее, пробежав через колючий кустарник, и теперь эта женщина собирала богатый урожай. То, что я тщетно пыталась добыть, едва не погибнув под копытами, давалось незнакомке легко и без лишних тревог. Безо всяких усилий она получила то, чего я тщилась добиться.
Я уже отчаялась, что когда-нибудь перестану быть Унгит. Хотя стояла весна, во мне все царила зима, сковавшая все мои силы. Казалось, я уже умерла, но не в том смысле, о котором говорили боги и Сократ. Несмотря на это, я продолжала ходить, говорить, отдавать распоряжения, и никто не смог бы найти во мне никакого изъяна.
Напротив, приговоры, которые я выносила, люди находили мудрыми и справедливыми как никогда; судить мне нравилось больше всего, и я отдавала этому занятию все свои силы. Но при этом все подсудимые, истцы и свидетели казались мне не живыми людьми, а тенями, и меня не слишком заботило (хотя я искала истину с прежним усердием), кто тут хозяин пашни, а кто украл у сыродела сыры.
Одна только мысль утешала меня: даже если Бардия и впрямь был моей жертвой, Психею я любила чистой любовью, и ни один бог никогда не докажет мне обратного. Я цеплялась за эту мысль, как больной, прикованный к постели, или узник в темнице цепляются за свою последнюю надежду. Однажды, сильно устав от государственных трудов, я взяла эту книгу и вышла в сад, чтобы перечитать ее и найти утешение в том, как я заботилась о Психее и учила ее, как я пыталась спасти ее и ранила при этом себя.
Что случилось дальше, было, несомненно, не сном, а видением. Это началось еще до того, как я присела и развернула свиток. Глаза мои не были сомкнуты.
Я шла по палящей пустыне, неся в руках пустой кувшин. Я отлично знала, что мне нужно сделать. Я должна была найти источник, питаемый водами реки, текущей в стране мертвых, наполнить кувшин и принести его Унгит, не пролив ни капли. В видении я не была Унгит — только ее пленницей или рабыней, и я выполняла все ее поручения, чтобы она отпустила меня на свободу. Итак, я шла по щиколотку в раскаленном песке, от песчинок у меня першило в горле, а безжалостное солнце стояло так высоко, что тело мое не отбрасывало тени. И я так хотела пить, что готова была утолить жажду даже водой из реки мертвых; пусть она горька, думалось мне, но, верно, холодна, раз течет из краев, где никогда не встает солнце. Я шла лет сто, не меньше. Но наконец пустыня кончилась, и я оказалась у подножия высоких гор, таких крутых, что никто не смог бы на них взобраться. Со склонов часто срывались камни, глыбы с грохотом бились о скалы, а потом с глухим ударом падали на песок — и других звуков там не было. Глядя на скалы, я сперва подумала, что на них ничего нет; копошение на камнях я приняла за игру света и тени. Но потом я разглядела, что это было на самом деле: бесчисленные змеи и скорпионы ползали и свивались в клубки на склонах гор. Это была огромная пыточная, где орудиями пытки были ползучие гады и скорпионы. И мне стало ясно, что родник, к которому я так стремлюсь, лежит в самом сердце этих гор.
— Мне не добраться до цели, — сказала я.
Я села и сидела на огненном песке, пока мне не стало казаться, что мое мясо сварилось и вот-вот отделится от костей. И тут тень набежала на то место, где я сидела. «Великие боги! — подумала я. — Неужто облако?» Я посмотрела на небо и чуть не ослепла, потому что солнце по-прежнему ярко сияло; казалось, я попала в страну, где вечно царит день. Но, несмотря на ослепительный свет, который словно прожигал мои глаза до самого мозга, я заметила в небе черную точку, слишком маленькую для облака. Она двигалась кругами, и тут я поняла, что это птица. Когда она спустилась ниже, стало видно, что это огромный орел, куда больше тех, что обитают в горах Фарсы. Орел опустился на песок и посмотрел на меня. Его лицо чем-то походило на лицо старого Жреца, но это был не его дух, а иное существо Божественной Природы.
— Женщина, — сказало оно, — кто ты?
— Оруаль, Царица Гломская, — ответила я.
— Значит, это не тебе меня послали помочь. Что за свиток у тебя в руках?
Я увидела, что все это время у меня в руках был не кувшин, а книга, и это неприятно удивило меня. Все мои надежды пошли прахом.
— Это моя жалоба на богов, — сказала я.
Орел забил крыльями, поднял голову и проклекотал:
— Наконец явилась! Явилась жена, обвиняющая богов! Тысячекратное эхо прокатилось по склонам гор:
— Явилась… обвиняющая богов… богов.
— Идем, — сказал орел.
— Куда? — спросила я.
— В суд. Твой иск рассмотрят.
И он снова громко проклекотал:
— Явилась! Явилась!
И тогда из каждой расщелины и трещины выползли темные тени в человеческом облике и столпились вокруг меня; я уже не могла убежать. Они хватали меня и кидали один другому, возглашая громкими голосами, так что горы звенели от эха:
— Явилась! Жена явилась!
И голоса из горных недр отвечали им (мне так показалось):
— Ведите ее! Ведите ее на суд. Ее дело рассмотрят.
Меня тащили, толкали, иногда поднимали, пока не затянули в большую темную пещеру.
— Ведите ее! Суд ждет, — выкрикивали.
В пещере я задрожала — там было очень холодно после палящего зноя пустыни. И снова в спешке меня потащили в глубины горы, передавая с рук на руки и не переставая выкрикивать:
— Вот она, наконец явилась, к судье, к судье! Затем голоса стали спокойней и тише:
— Отпустите ее! Пусть встанет! Тише! Тише! Дайте ей огласить жалобу! Странные создания отпустили меня и оставили одну (так мне сначала показалось) во тьме. Затем разлился какой-то сумеречный свет, и я увидела, что стою на каменном постаменте посреди такой огромной пещеры, что не видно ни стен ее, ни свода. Вокруг меня клубилась неспокойная мгла, но вскоре глаза привыкли к полутьме, и я рассмотрела, что мгла эта была живой; это было собрание, посреди которого я стояла на каменном столбе. Никогда, ни во время мира, ни во время войны, мне не доводилось представать перед такой толпой. Там были десятки тысяч теней, и все они смотрели на меня. Среди них я различила Батту, моего отца, Лиса и даже Эргана. Как я раньше не догадывалась, что страна мертвых так густо населена! Духи стояли рядами, а ряды поднимались вверх амфитеатром невообразимых размеров, так что вскоре не только лиц, но и отдельных рядов уже нельзя было различить — они колебались серым зыбким маревом. Пещера была безмерной, но духам в ней было тесно. Судилище собралось.
Сам судья сидел прямо напротив и вровень со мной. Пол этого существа я не могла определить; оно было все с головы до ног окутано черным туманом.
— Снимите с нее все, — промолвил судья.
Чьи-то руки тотчас сорвали покров с моего лица, а затем и все, что на мне было. Дряхлая старуха с лицом Унгит стояла нагая перед бесчисленными зрителями. Ни одной нитки не осталось на мне; только моя книга, которую я сжимала в руке.
— Зачитай твою жалобу! — велел судья.
Я посмотрела на свиток и поняла, что это вовсе не моя книга; свиток был слишком маленьким и древним, пожелтевшим и истрепанным. Он был совсем не похож на ту книгу, которую я дописывала, пока Бардия лежал при смерти. Я решила, что брошу свиток себе под ноги, и растопчу, и скажу, что они украли у меня мою жалобу и подменили чем-то совсем другим. Но, против своей воли, я развернула свиток. Он был весь исписан, но не моим почерком; это были каракули — вычурные и в то же время уродливые, как тот рык, который слышался в надменном голосе моего отца, как лики, которые можно угадать в каменной Унгит. Ужас охватил меня. «Пусть делают со мной что хотят, но читать я этого не буду! Отдайте мне мою книгу!» — сказала я про себя. Но оказалось, что я уже начала читать вслух следующее:
— Я заранее знаю, что вы мне скажете. Вы скажете, что настоящие боги совсем не похожи на Унгит и я должна бы помнить это, потому что была в доме истинного бога и видела его самого. Лицемеры! Все это мне известно. Но разве это исцелит мою рану? Мне было бы легче стерпеть, будь вы все такими, как Унгит или Чудище. Вам известно, что у меня не было причин ненавидеть вас, пока Психея не завела речь о своем любовнике и его чертогах. Почему вы солгали мне, сказав, что Чудище пожрет ее? Почему этого не случилось? Тогда бы я оплакала ее, предала земле останки, поставила бы надгробие и… и… Но вы украли у меня ее любовь! Неужто вы не понимаете этого? Неужто вы полагаете, что нам, смертным, будет легче смириться с богами, если мы узнаем, что боги прекрасны? Напротив, тем будет хуже для нас. Ибо тогда (мне известна власть красоты) в вас — соблазн и чары. Ибо тогда вы не оставите нам ничего стоящего. В первую очередь вы заберете у нас тех, кого мы любим больше всего, тех, кто более всего достоин любви. О, я уже вижу, как это случится: с течением веков слава о вашей красоте распространится все шире и шире, и сын покинет мать, невеста — жениха, подчиняясь соблазнительному зову богов. Они уйдут туда, куда мы не сможем пойти за ними. Для нас было бы лучше, будь вы мерзки и кровожадны. Лучше бы вы пили кровь любимых, чем крали их сердца! Но как это подло — похитить у меня ее любовь, дать ей умение видеть невидимое мне… Пусть лучше любимые будут нашими мертвецами, чем бессмертными у вас. Ах, вы скажете (сорок лет вы нашептываете мне это), что мне было дано достаточно знаков, чтобы поверить в незримый чертог, а я сама не хотела знать правды. А с чего мне было хотеть, скажите-ка? Девочка была моя. На каком основании вы украли ее и спрятали на ваших жутких высотах? Вы скажете, что я просто завидую. Завидую? Пока Психея была со мной, с чего мне было завидовать? Если бы открыли мои глаза, а не ее, вы бы вскоре убедились, что я и сама могу все объяснить ей, научить ее тому, чему научили меня, я позволила бы ей стать вровень с собой. Но слышать болтовню девочки, у которой в голове не было ни одной собственной мысли, кроме тех, что я туда вложила, слышать, как она разыгрывает из себя ясновидящую, пророчицу… чуть ли не богиню… кто бы смог стерпеть такое? Вот почему я утверждаю, что нет разницы, прекрасны вы или отвратительны. Боги существуют нам на горе и на беду. В этом мире нет места и для вас и для нас. Вы — как дерево, в тени которого мы чахнем от отсутствия света. Мы хотим жить собственной волей. Я жила собственной волей, а Психея жила моей, и никто, кроме меня, не имел на нее права. Конечно, вы скажете, что дали ей радость и счастье, подобных которым я не смогла бы ей дать, и посему я должна радоваться вместе с ней. С чего бы? Почему мне должно быть дело до какого-то нового, ужасного счастья, которое не я ей дала и которое разлучило нас? Неужто вы думаете, что я хочу, чтобы она была счастлива любым счастьем? Да лучше бы Чудище разорвало ее в клочья у меня на глазах! Вы украли ее, чтобы дать ей счастье? Что ж, то же самое могла бы сказать любая прельстительная шлюха, которая уводит мужа у жены, любой воришка, который сманивает от хозяина его раба или собаку. Вот именно, собаку. Свою я смогу прокормить сама, ей не нужно лакомств с вашего стола. Вы что, не помните, чья это была девчонка? Моя. Моя! Не знаете этого слова? Моя! Воры, мошенники! Сама виновата, еще не сказала вам, что вы пьете людскую кровь и пожираете людскую плоть. Но я не буду пока об этом…
— Довольно, — перебил меня судья.
Вокруг царило молчание. И тут до меня дошло, что я делала. Еще когда я читала жалобу, меня удивило, что я читаю так долго такой маленький свиток. Теперь я осознала, что книга была прочитана мною вслух раз десять, и я бы читала ее вечно, начиная читать каждый раз с первой строки, если бы судья не остановил меня. Голос, которым я читала книгу, звучал как-то странно, но именно поэтому я была наконец уверена, что это — мой собственный голос.
Молчание тянулось так долго, что, наверное, я успела бы прочесть жалобу целиком еще один раз. Наконец судья сказал: — Ты получила ответ?
— Да, — сказала я.
Глава четвертая
Моя жалоба и была ответом. Я должна была сама выслушать ее из собственных уст. Люди редко говорят то, что хотят сказать на самом деле. Когда Лис учил меня писать по-гречески, он часто говаривал: «Дитя, сказать именно то, что ты намереваешься, все целиком, ничего не упустив и не прибавив, — в этом и заключается радостное искусство слов». Бойко сказано, но я отвечу на это, что, когда приходит время произнести речь, которая готовилась всю жизнь, которая ни на миг не покидала сердца, твердилась и зубрилась наизусть, — тут уже не до радостного искусства слов. Я отлично знаю, почему боги не говорят с нами открыто, и не нам ответить на их вопросы. Пока мы не научились говорить, почему они должны слушать наш бессмысленный лепет? Пока мы не обрели лиц, как они могут встретиться с нами лицом к лицу?
— Предоставьте девчонку мне, — сказал знакомый голос. — Уж я научу ее! Это сказал призрак моего отца.
Но тут сзади раздался новый голос — голос Лиса. Я думала, что он будет свидетельствовать против меня, но учитель сказал:
— О Минос, Радамант[37] или Персефона, каким бы ни было твое имя, во всем виноват я, я и должен быть наказан по заслугам. Я научил ее повторять вслед за мной, как говорящую птицу: «Выдумки поэтов» и «Унгит — это лживый образ». Я приучил ее к мысли, что так можно ответить на все вопросы. Я ни разу не сказал ей: «Унгит — это, увы, слишком подлинный образ. И все другие лики Унгит, сколько бы тысяч их ни было… и в них есть истина. Настоящие боги в большей степени существа, чем слова и помышления». Я никогда не говорил ей, почему старый Жрец в темноте Дома Унгит испытывал такое, чего не могли доставить мне мои трезвые рассуждения. Она никогда не спрашивала меня (и я был этому рад), почему люди продолжают предпочитать бесформенный камень раскрашенной кукле Арнома. Разумеется, ответа я не знал, но не признался ей в этом. Я и сейчас не знаю. Все, что я знаю, — это то, что путь к истинным богам скорее лежит через Дом Унгит… нет, и это неверно, так же не верно, как то, что я сейчас вижу сон; но начинать нужно с этого, это первый урок, и только глупец застрянет на нем навечно. Жрецу хотя бы ведома необходимость жертвы. И жертвой станет — человек. Самая сердцевина его, самый корень — то, что в нем темно, сильно и дорого, как кровь. Пошли меня в Тартар[38], Минос, если только Тартаром можно исцелить пристрастие к бойкой речи. Я приучил ее к мысли, что лепета рассудка довольно для жизни — лишь бы слова были жидкими и прозрачными, как вода; ведь я вырос в тех краях, где воды в избытке и потому ее не особенно ценят. Я вскормил ее словами.
Мне хотелось закричать, что все это ложь — ведь учитель вскормил меня не словами, а любовью, которую он отдал мне, а не богам. Но было поздно. Суд, по-видимому, закончился.
— Успокойся, — перебил учителя судья. — Женщина — истица, а не подсудимая. Она обвиняет богов. Боги ей ответили. Если они выдвинут встречное обвинение против нее, потребуется другой, высший суд. Отпустите ее.
Куда мне было идти? Я стояла на каменном столбе, и кругом, куда ни посмотри, была пустота. Наконец я решилась и бросилась со столба прямо в волнующееся море призраков. Но не успела я достичь земли, как меня подхватили чьи-то сильные руки. Это был Лис.
— Дедушка! — заплакала я. — Ты живой, ты настоящий. А Гомер говорил, что никому не дано обнять души мертвых…[39] что они только тени.
— Мое дитя, мое любимое дитя, — приговаривал Лис, целуя меня, как прежде, в глаза и лоб. — В одном я не ошибся — поэты часто лгут. Но за все остальное — ты же простишь меня?
— Я — тебя, дедушка? Нет, дай мне сказать: я же знаю, что те доводы, которые ты приводил, когда остался в Гломе, хоть и получил свободу, были только масками, под которыми ты спрятал свою любовь. Я же знаю, что ты остался только из жалости и любви ко мне. Я же знаю, что сердце твое разрывалось от тоски по Греции, — я должна была отправить тебя домой. А я набросилась на любовь, которую ты мне дал, как голодный пес на кость. Ах, дедушка, Ансит права. Я утучняла себя человечиной… Правда? Ведь правда же?
— Ах, доченька, ты права. Мне есть что прощать тебе, и я рад этому. Но я не судья тебе. Мы должны пойти к настоящим судьям. Я сам отведу тебя.
— К судьям?
— Конечно, доченька. Ты обвиняла богов, теперь их черед.
— Они не пощадят меня.
— Надейся на пощаду — и не надейся. Каков ни будет приговор, справедливым ты его не назовешь.
— Разве боги не справедливы?
— Конечно нет, доченька! Что бы сталось с нами, если бы они всегда были справедливы? Но пойдем, ты сама все поймешь.
Он повел меня куда-то. Мы шли, и становилось все светлее… Свет был ярким, с оттенком зелени, каким-то летним. Наконец я поняла, что это солнечный свет пробивается через листья винограда. Мы очутились в прохладной зале, с трех сторон окруженной стенами, а с четвертой — только колоннадой, затянутой густой зеленеющей лозой. За зеленью, в просветах между листьями я видела пышные травы и сияние вод.
— Здесь мы будем ждать, пока тебя не пригласят, — сказал Лис. — Но тут есть на что посмотреть.
Я увидела, что все стены залы расписаны рисунками, представлявшими различные истории. У нас в Гломе нет искусных художников, поэтому сказать, что я была в восторге от этих картинок — значит, ничего не сказать. Но я полагаю, они изумили бы любого смертного.
— Начало здесь, — сказал Лис, взяв меня за руку.
Он подвел меня к стене, и я сперва испугалась, что он ведет меня к зеркалу, как уже дважды проделал мой отец. Но когда мы подошли ближе к картине, ее красота развеяла все мои страхи.
Мы стали перед первой картиной, и я увидела, что на ней изображено: женщина направлялась к берегу реки — то есть, я хочу сказать, было видно, что она не стоит, а именно идет. Сперва я не могла понять, в чем тут дело, но пока я думала, ожила вся картина: по воде пробежала рябь, тростник пришел в движение, и трава пригнулась от ветра, женщина же подошла к обрыву, наклонилась и стала делать что-то непонятное со своими ногами. Затем я разглядела, что она связывает себе ноги поясом. Я присмотрелась, но женщина на картине не была мною. Она была Психеей.
Я уже немолода, и у меня нет времени в который раз описывать ее красоту. Но даже если бы я взялась за это, мне не удалось бы найти верных слов — она была неописуемо прекрасна. Я смотрела на нее так, словно никогда не видела ее прежде.
Может, я просто забыла… нет, это невозможно — даже на миг, даже ночью во сне забыть такую красоту. Но все эти мысли только пронеслись в голове, потому что в следующее же мгновение меня охватил ужас — я поняла, что она собирается делать.
— Не делай этого! Не делай! — кричала я, как будто Психея могла меня слышать. Тем не менее она остановилась, развязала себе ноги и ушла. Лис подвел меня к следующей картине. Она тоже ожила, и я увидела, как Психея в лохмотьях, скованная цепями, в непроглядной тьме какого-то мрачного места — пещеры или темницы — перебирает зерна, раскладывая их по отдельным кучам. Но, удивительное дело, я не заметила, вопреки ожиданиям, на ее лице ни следа страдания. Она работала спокойно, наморщив лоб, как обычно в детстве, когда ей попадалась слишком трудная задачка (но и это выражение ей шло — а что ей не шло?). Во взгляде ее не было отчаяния, и я поняла почему: ей помогали муравьи. Весь пол был черен от бесчисленных маленьких тварей.
— Дедушка, — сказала я, — она…
— Тс-с! — шикнул на меня Лис, приложив толстый старческий палец (сколько лет прошло с тех пор, как это случилось в последний раз?) к моим губам. Он взял меня за руку и повел к следующей картине.
И я снова увидела угодья богов. Я увидела Психею, которая осторожно, как кошка, крадется вдоль колючих зарослей, думая, как бы добыть хотя бы клочок золотой шерсти. И снова, еще больше, чем в прошлый раз, меня потрясло выражение ее лица. Психея была озадачена, но как бывают озадачены какой-нибудь трудной игрой; мы обе часто так смотрели на Пуби, играющую в свои бусы. Казалось, она даже посмеивается над своим замешательством. (Я замечала, когда Психея была еще ребенком, что даже наедине с собой она теряет терпение так же редко, как в обществе учителя.) Но ей не пришлось долго думать: овны увидели какого-то пришельца, подняли свои ужасные рогатые головы и кинулись на противоположный конец поля, на бегу тесня свои ряды по мере приближения к врагу, пока спины их не стали казаться сплошной золотой стеной. Тогда Психея рассмеялась, захлопала в ладоши и стала собирать драгоценный урожай с колючих ветвей.
На следующей картине я увидела Психею вместе с собой, но я была только тенью. Мы брели по горячему песку: она — с кувшином в руке, я — с книгой, полной горечи и яда. Она не видела меня, и хотя лицо ее было бледно от жары, а губы потрескались от жажды, она вовсе не казалась жалкой. Она была не более несчастной, чем когда в жаркий летний день возвращалась вместе со мной и Лисом с прогулки по холмам. Она была в прекрасном настроении, и по тому, как шевелились ее губы, можно было предположить, что она поет. У подножия гор я куда-то исчезла, а к Психее прилетел орел, взял у нее из рук кувшин, а потом принес его назад, полный воды из страны мертвых.
Мы обошли уже две стены из трех.
— Доченька, — сказал Лис, — ты все поняла? — Это правда — все, что на этих картинах?
— Здесь все правда.
— Но как она могла… правда ли, что она… совершила такое… в таких местах… и не?.. Дедушка, она подвергалась ужасной опасности, но при этом была чуть ли не счастлива.
— Потому что другая взяла на себя все ее страдания и муки…
— Неужели — я? Неужели?
— Разве ты не помнишь, что я объяснял тебе? Мы все — члены и органы единого целого, значит, мы — как одно тело, одно существо: боги, люди, все живое. Трудно сказать, где кончается одно бытие и начинается другое.
— О великие боги! Как я благодарна вам. Значит, это и в самом деле я!..
— …несла ее муки. Но благодаря этому она со всем справилась. Или ты предпочитаешь справедливость?
— Ты смеешься надо мной, дедушка? Справедливость? Да, я была царицей, я знаю, что нельзя оставаться глухой, когда народ требует справедливости. Но не о справедливости же стенала я, брюзжала какая-нибудь Батта, хныкали разные Редивали: «Почему ей можно, а мне нельзя? Почему ей дано, а мне не дано? Это нечестно, нечестно!» Фу, какая мерзость!
— Неплохо сказано, доченька! А теперь соберись с духом и посмотри, что изображено на третьей стене.
На картине мы увидели Психею, которая спускалась по подземному ходу в глубь Земли; ход был просторным, но вел только вниз, все время вниз.
— Это последнее испытание, которое назначила ей Унгит. Она должна…
— Значит, Унгит на самом деле существует?
— Все мы, и Психея тоже, рождены в Доме Унгит. И все мы должны обрести от нее свободу. Или еще говорят, что Унгит в каждом должна породить своего сына — и умереть родами. Ты видишь Психею, которая спускается в страну мертвых, чтобы принести оттуда в ларце красоту царицы этой страны — самой Смерти; этот ларец она должна отдать Унгит, чтобы та стала красивой. Но есть одно условие: если, из страха ли, любезности, любви или жалости, она заговорит с кем-нибудь на обратном пути, она никогда больше не увидит солнечного света. Она должна идти молча, пока не выйдет за границы царства Повелительницы Теней. А теперь — смотри!
Он мог бы меня и не упрашивать. Мы глядели не отрываясь: Психея шла, спускалась все глубже и глубже, и вокруг становилось все темнее и холоднее. В одном месте проход, по которому она шла, раздался и открылся вид куда-то вбок, откуда лился холодный свет и где стояла большая толпа людей. По одежде и выговору было видно, что это — жители Глома. Я узнала знакомые лица.
— Истра! Царевна! Унгит! — кричали они, простирая к Психее руки. — Останься с нами! Будь нашей богиней! Прими наши жертвы! Правь нами! Изрекай нам пророчества! Будь нашей богиней!
Психея прошла мимо, даже не посмотрев на них.
— Кто бы ни был ее противник, с его стороны глупо было предполагать, что она поддастся на это.
— Постой, — сказал Лис.
Психея, глядя только вперед, спускалась все ниже и ниже, пока слева от нее снова не появился свет, а в свете — чья-то фигура. Присмотревшись, я с удивлением повернула голову, чтобы выяснить, здесь ли Лис. Лис был на месте, тем не менее человек, ставший на пути Психеи, тоже был Лис — только более старый, седой и бледный, чем тот Лис, что стоял рядом со мной.
— Ах, Психея, Психея! — сказал Лис на картине (или в другом мире, потому что я уже поняла, что все эти изображения — на самом деле не изображения). — Что за безумие ты творишь? Куда ты бредешь по этому подземелью? Что?! Ты думаешь, что так ты попадешь в страну мертвых? Это все выдумки жрецов и поэтов, детка. Ты всего лишь в заброшенном руднике. Страны мертвых, такой, о которой ты думаешь, не существует, и богов тоже не существует. Неужели ты совсем у меня ничему не научилась? Бог, которому ты должна служить, — бог внутри тебя: разум, трезвый рассудок, самообладание. Фи, неужели ты погрязла в варварстве навсегда? А я хотел дать тебе зрелую, прекрасную греческую душу… Но еще есть время: подойди ко мне, и я выведу тебя из этого мрака на зеленый луг, под грушевые деревья, где все было так светло, надежно, просто и понятно!
Но Психея прошла мимо, даже не посмотрев на него. Затем в третий раз заблистал свет (на этот раз — слева). В нем возникло нечто вроде женской фигуры; лицо было мне незнакомо. От взгляда на нее сердце мое наполнилось такой пронзительной жалостью, что я чуть не умерла. Женщина эта не плакала, но по глазам ее было видно — она не плачет просто потому, что у нее не осталось слез. Отчаяние, униженность, мольба, беспредельный упрек — все это можно было прочесть в ее взоре. Мне стало страшно за Психею. Я знала, что этот образ явлен ей только для того, чтобы сбить ее с пути и поймать в ловушку. Но знает ли она сама об этом? А если знает, то сможет ли, такая заботливая и сострадательная, пройти мимо? Это было чрезмерно тяжкое для нее испытание. Психея по-прежнему смотрела только вперед, но было ясно, что она все видит краем глаза. Ее трясло, а губы кривились от неслышных рыданий. Она даже прикусила губу, чтобы сдержаться. «Великие боги, спасите ее, — сказала я про себя. — Дайте, о дайте ей пройти мимо».
Женщина простерла руки к Психее, и я увидела, что из ее левого запястья капает кровь. Затем она заговорила; у нее был такой низкий и страстный голос, что мог бы тронуть любого, даже если бы произносил незначащие слова. Он мог бы разжалобить даже железное сердце.
— Ах, Психея! — воззвал голос. — Ах, дитя мое, моя единственная любовь. Вернись! Вернись! Вернись туда, где мы были счастливы прежде! Вернись к Майе!
Психея прикусила губу так сильно, что на ней выступила кровь, и расплакалась. Я подумала, что ее горе больше, чем горе этой причитающей Оруали. К тому же Оруали было легче: она могла всецело посвятить себя страданиям, Психее же приходилось еще и идти вперед, и Смерть становилась все ближе и ближе. Такова была последняя из картин.
Все погасло, и мы с Лисом снова остались вдвоем.
— Неужели мы таковы, какими увидели себя? — спросила я.
— Да. Все здесь правда.
— Но мы же говорили, что любим ее.
— Это так. У нее не было врагов опаснее нас. И чем ближе день, когда боги станут прекрасными, или, вернее, явят нам свою изначальную красоту, тем больше будет ревность смертных к тем, кто стремится слиться душой с Божественной Природой. Мать и жена, сын и друг станут стеной на пути у них.
— Значит, Психея тогда, в те ужасные дни, когда я считала ее злой… она страдала, может быть, больше, чем я?
Она взяла тогда на себя все твои муки. Потом наступила твоя очередь.
— Правда ли, что придет день, когда боги станут прекрасными, дедушка?
— Так говорят… хотя мне трудно понять. Я мертв уже давно, но так и не могу постичь до конца их язык. Только отдельные слова разбираю. Одно я понял наверняка: наш век станет вскоре далеким прошлым. Божественная Природа в силах изменить даже прошлое. Мы видим вокруг себя незавершенный мир.
Не успел Лис договорить, как снаружи раздался многоголосый хор. Голоса эти были чудесными, но в то же время наполняли сердце страхом. Они восклицали:
— Она идет, повелительница возвращается домой! Богиня Психея вернулась из страны мертвых и принесла с собой ларец с красотой Царицы Теней!
— Идем, — сказал Лис, и я пошла против своей воли. Лис взял меня за руку и вывел из темной залы на свет через арку, затянутую виноградом. Мы стояли посреди двора, заросшего ярко-зеленой травой; небо над нами было таким синим, как бывает только в горах. В середине дворика был бассейн с ключевой водой — такой величины, что много людей смогли бы одновременно купаться и плавать в нем. Кругом слышны были шаги и дыхание невидимых созданий и продолжали звучать (уже значительно тише) голоса. В следующий миг я распласталась ниц, потому что Психея вошла, и я припала к ее стопам.
— О Психея, богиня, — сказала я. — Никогда более не назову я тебя своей, но все, что считала моим, отдаю тебе. Увы, теперь тебе все ведомо. Я никогда не желала тебе истинного добра, никогда не думала о тебе так, чтобы не думать в первую очередь о себе. Я была алчущей бездной.
Психея наклонилась, чтобы поднять меня с земли. Но поскольку я отказывалась встать, она молвила:
— Майя, милая Майя, ты должна встать. Я еще не отдала тебе ларец! Ты же знаешь, сколько мне пришлось пройти, чтобы принести красоту для Унгит.
Тогда я встала, вся влажная от настоящих слез, которыми не плачут в том мире. Психея протянула мне что-то, и я поняла, что она действительно богиня, потому что ее прикосновение обожгло меня тем особенным пламенем, не причиняющим боли. От нее исходило сладкое, волнующее грудь веяние; вдохнув запах ее волос, я словно бы помолодела и задышала полной грудью. Но (и это труднее всего объяснить), несмотря на все, она оставалась той же Психеей; в тысячу раз больше Психеей, чем в день перед Жертвоприношением. Ибо все то, что прежде проскальзывало во взглядах и движениях, все то, о чем я прежде лишь догадывалась, теперь раскрылось в полной мере и заполнило все существо Психеи, оставаясь зримым и очевидным каждый миг. Она стала богиней? Возможно, но никогда прежде я не видела женщины столь земной.
— Разве я не говорила тебе, Майя, — сказала она, — что настанет день, и мы встретимся в моем дворце, и тогда уже ни одно облачко не пробежит между нами?
Я не могла ни слова молвить от радости. Мне подумалось, что я достигла высшей, предельной полноты жизни, которую только может вместить в себя человеческая душа. Но что это? Ты, наверно, видел, читатель, как меркнет свет факелов, когда поднимают занавеси и сияние яркого летнего утра врывается в пиршественную залу? Именно это и произошло. Внезапно, по странному выражению глаз Психеи (я видела, что она знает что-то, чего еще не знаю я), или по тому, как торжественно углубилось над нами ярко-синее небо, или по тому, какой громкий вздох вырвался из тысячи незримых уст, или по тому, как засомневалось, заволновалось и всполошилось мое сердце, я поняла, что все пережитое мной до того — не более чем пролог. Близилось нечто большее. Голоса зазвучали вновь, но на этот раз приглушенно. В них слышался благоговейный трепет.
— Он идет, — повторяли они.. — Бог идет к себе домой. Он идет судить Оруаль. Если бы Психея не держала меня за руку, я бы лишилась чувств. Она подвела меня к самому краю бассейна. Воздух вокруг нас светился, словно его пожирало пламя. С каждым вздохом меня переполняли ужас, радость, и странная сладость будто тысячью стрел пронзала мое сердце. Существо мое исчезало, и я обращалась в ничто. Но и Психея — сама Психея! — тоже обращалась в ничто. Я любила ее так, как не смела и мечтать раньше, так, что готова была принять за нее любую казнь. И все-таки сейчас дело было не в ней. Или, вернее, дело было в ней (и еще как в ней!), но прежде всего в ком-то другом, том, ради которого существуют и звезды, и земля, и солнце. И этот кто-то шел к нам, ужасный и прекрасный — о нет! сам ужас и сама красота. Он шел к нам, и колонны, которыми замыкался дворик, заколебались от его близости. Я опустила глаза.
И увидела в водной глади бассейна два отражения — мое и Психеи. Но что это? Это были две Психеи: одна нагая и другая — закутанная в одежды. Да, две Психеи, обе прекрасные (впрочем, какое это теперь имело значение?), обе неотличимо похожие, но все же разные.
— Ты теперь тоже Психея, — прогремел знакомый голос, Я подняла взгляд (не знаю, как я на это решилась), но не увидела ни бога, ни колоннады. Видение погасло за пол мига до того, как прозвучал голос. Я сидела в дворцовом саду с моей глупой книгой в руке.
С тех пор прошло четыре дня. Меня нашли лежащей на траве и лишившейся речи. Речь вернулась ко мне не сразу: подобные видения не проходят бесследно для старческой плоти. А для души они, возможно, уже не будут видениями — кто знает! Я заставила Арнома сказать правду: мне осталось жить совсем немного. Он будет плакать, будут плакать и мои служанки. Это странно. Что я им сделала хорошего? Жаль, что я не призвала Даарана в Глом вовремя: не успела полюбить его сама и не научила любить моих подданных.
Моя первая книга заканчивалась словами: «Нет ответа. Теперь я знаю, Повелитель, почему ты не отвечаешь нам. Потому что ты сам — ответ. Пред твоим лицом умирают все вопросы. Разве есть ответ полнее? Все слова, слова, слова, которые спорят с другими словами. Как долго я ненавидела тебя, как долго боялась! Я могла бы…»
(Я, Арном, жрец Афродиты, сохранил этот свиток и положил его в храме. По пятнам после слов «Я могла бы…» легко заключить, что, когда Царицу настигла смерть, голова ее упала на свиток. По этой причине мы не можем прочесть последние слова. Эта книга была написана Оруалью, Царицей Гломской, самой мудрой, доблестной и милостивой властительницей в наших краях. Если путник, направляющийся в Грецию, найдет эту книгу, пусть он возьмет ее с собой, ибо таково было самое заветное желание нашей Царицы. Я поручу Жрецу, моему преемнику, отдать этот свиток любому чужеземцу, который поклянется доставить его в Грецию в целости и сохранности.)
Примечания автора
История Купидона и Психеи впервые упоминается в одном из немногих сохранившихся античных романов, «Метаморфозах» (известном также как «Золотой осел»). Написал этот роман некий Луций Апулей Платоник, родившийся около 125 г. от Рождества Христова.
Сюжет вкратце таков.
У царя и царицы было трое дочерей. Младшая была так хороша собой, что люди стали почитать ее как богиню вместо Венеры. По этой причине у Психеи (так звали младшую дочь) не было женихов: никто не осмеливался просить руки и сердца у божества. Тогда отец Психеи обратился за советом к Дельфийскому оракулу. «Не ищи для своей дочери мужа среди смертных, — ответствовал оракул. — Отведи ее на гору и там принеси в жертву дракону». Царь повиновался.
Но Венера, которая завидовала красоте Психеи, приготовила для нее худшую кару. Она повелела своему сыну Купидону внушить Психее непреодолимую страсть к самому низкому из всех людей на земле. Купидон, однако, увидев Психею, влюбился в нее сам. С помощью Западного Ветра (Зефира) он унес ее в тайное место, где выстроил для нее чудесный дворец. В нем Купидон посещал Психею по ночам и предавался с ней любви. Днем он не появлялся, поскольку Психея не должна была видеть его лицо. Через некоторое время Психея попросила у бога разрешения увидеться со своими сестрами. Тот нехотя согласился, и царские дочери явились во дворец. Психея устроила для них роскошный пир, и сестры пришли в неописуемый восторг от всего, что увидели. Но внутри их мучила зависть, потому что их мужья не были богами и дворцы их были намного бедней.
Тогда они замыслили разрушить счастье Психеи. Придя в следующий раз, они стали убеждать Психею, что муж ее на самом деле не бог, а чудовищный змей. «Ты должна принести в спальню лампу, укрытую плащом, и острый кинжал, — сказали сестры. — Когда твой муж уснет, открой лампу, и ты увидишь чудовище, с которым жила. Тогда заколи его кинжалом». Покорная Психея обещала именно так и сделать.
Когда же она открыла лампу, то увидела спящего бога и стала любоваться им и не могла насытиться. Но тут капля горячего масла из лампы упала на плечо спящего бога и разбудила его. Проснувшись, он расправил свои сияющие крыла и покинул Психею, горько укоряя ее за то, что она сделала.
Сестры недолго радовались своему злодейству, разгневанный Купидон погубил их обеих. Психея же отправилась скитаться по свету, одинокая и несчастная. Она попыталась утопиться в первой же реке, но бог Пан помешал ей и приказал больше никогда этого не делать.
После многих бедствий Психея очутилась в руках у своей злейшей неприятельницы, Венеры, которая сделала ее своей рабыней, била и требовала выполнять невыполнимые задания.
С первым таким заданием (нужно было рассортировать кучу зерна) ей помогли справиться муравьи. Затем Венера потребовала, чтобы Психея добыла ей золотую шерсть волшебных овнов, которые убивали всех, кто пытался к ним приблизиться. Тогда речной тростник нашептал Психее, что золотую шерсть можно собрать с веток колючего кустарника. Потом Венера послала Психею принести чашу со стигейской водой.
По пути к Стиксу нужно было преодолеть высокие горы, что не удавалось до тех пор ни одному из смертных. Но орел взял чашу из рук Психеи и принес ее обратно уже полную воды. И наконец, богиня послала Психею в царство мертвых, чтобы взять у Персефоны, царицы подземного мира, шкатулку, в которой та хранила свою красоту. Таинственный голос подсказал Психее, как вернуться назад из царства мертвых: на обратном пути ей будут встречаться родные и близкие и молить ее о помощи, но она должна отказывать им всем. Шкатулку же с красотой Персефоны нельзя открывать ни в коем случае. Психея выполнила все это, но в последнюю минуту не смогла сдержать любопытства и заглянула в шкатулку.
Она тут же впала в смертельное оцепенение, но Купидон, уже простивший ее, поспешил к ней на помощь. Он обратился с мольбой к Юпитеру, и тот разрешил ему вступить в брак с Психеей и сделать ее богиней. Венере пришлось смириться. Купидон и Психея счастливо зажили вместе.
Главное изменение, внесенное мною в миф, — то обстоятельство, что дворец Психеи невидим для глаз прочих смертных. Впрочем, изменение — не вполне точное слово; я почувствовал, при первом же прочтении книги, что именно так должно было быть. Можно даже сказать, что эта мысль пришла мне под воздействием внешней силы. Эта поправка, безусловно, изменила характер героини и сделала весь миф менее однозначным, пока в конце концов полностью не поменяла его на другой лад. Я не чувствовал никакой потребности быть верным Апулею, который и сам, почти наверняка, всего лишь пересказал миф, а не сочинил его. Ничто не было дальше от моих намерений, чем воспроизводить стиль «Метаморфоз», этой странной смеси плутовского романа, литературы ужасов, трактата мистагога, порнографии и стилистических экспериментов. Нет сомнений, Апулей был одаренным писателем, но для меня его труд был скорее «источником», чем «моделью» или «образцом».
Версии Апулея довольно точно следует Уильям Моррис («Земной Рай») и Роберт Бриджес («Эрот и Психея»). Ни та ни другая поэмы, на мой взгляд, не самое лучшее у этих авторов. Новейший перевод полного текста «Метаморфоз» был выполнен Робертом Грейвзом (Penguin Books, 1950).
К. С. Льюис
Примечания
[1] Обрезание волос как жертва духу покойного части себя — обычай, отмеченный не только у греков, но и у других народов в различных частях мира.
[2] Афродита — в греческой мифологии богиня любви и красоты. Афродита вавилонян — имеется в виду Иштар — богиня любви и плодородия в ассиро-вавилонской мифологии (в западносемитской мифологии — Астарта). Детали культа Унгит (храмовая проституция, голубиные жертвоприношения) делают ее больше похожей на Иштар, чем на Афродиту классической Греции.
[3] Анхиз — в греческой и римской мифологиях отец героя Энея. Анхиз был поражен ударом молнии за то, что разгласил тайну своей связи с богиней Афродитой.
[4] Гесиод. Работы и дни, 308. Перевод В. Вересаева.
[5] Первая и последняя строки из стихотворения Сафо «Луна и Плеяды скрылись…». Перевод В. Вересаева.
[6] Представление, свойственное очень многим народам. На Руси, например, в случае трудных родов не только оставляли открытыми двери в доме, но просили священника отворить в храме Царские врата.
[7] Болиголов.
[8] Психея (греч., ψυχή — душа, дыхание) — в греческой мифологии олицетворение души.
[9] Елена — в греческой мифологии дочь верховного божества Зевса и смертной женщины Леды, прекраснейшая из женщин; троянский царевич Парис похитил ее, что послужило поводом к Троянской войне.
[10] Андромеда — в греческой мифологии дочь эфиопского царя Кефея, прекрасная дева, спасенная Персеем от морского чудовища.
[11] Гомер. Илиада. Песнь третья, 156–158. Перевод П. Гнедича.
[12] Речь идет об Ифигении, дочери царя Агамемнона. Царь принес Ифигению в жертву, чтобы умилостивить богиню Артемиду; в момент жертвоприношения Артемида заменила девушку на алтаре ланью.
[13] Это представление близко воззрениям Платона (древнегреческий философ, 427–347 до P. X.), орфиков (древнегреческое религиозное движение, возникшее в VI в. до P. X.) и пифагорейцев (древнегреческая религиозно-философская школа, основанная Пифагором в конце VI в. до P. X.).
[14] Антигона — в греческой мифологии дочь фиванского царя Эдипа. Она прославилась как образец родственных чувств, потому что, несмотря на строжайший запрет своего дяди, царя Креонта, предала земле тело своего брата Полиника.
[15] Во многих мифопоэтических традициях известен образ мирового яйца, из которого возникает Вселенная.
[16] Архитрав — балка, лежащая непосредственно на капителях колонн, поддерживающая остальные балки и крышу.
[17] Спаситель — одна из функций Зевса (отвратитель бед, заступник находящихся в опасности).
[18] Персонажи греческой мифологии. Гермес — бог торговли, вестник богов, проводник душ умерших. Одиссей — один из героев Троянской войны. Оба воплощают крайнюю степень хитроумия и изобретательности в трудных положениях.
[19] Имеется в виду один из эпизодов жизни Эдипа: чудовище Сфинкс, жившее на горе около Фив, убивало всех путников, которые не могли отгадать загадку: «Кто ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех?» Эдип дал правильный ответ: человек в младенчестве, зрелости и старости.
[20] Гоплиты — тяжеловооруженная древнегреческая пехота.
[21] Согласно предсказанию, Эдип убил своего отца и женился на матери, не зная, что это его родители, и не будучи узнан ими. Когда правда раскрылась, Эдип был вынужден покинуть Фивы, долго странствовал и умер на чужбине.
[22] Артемида — в греческой мифологии девственная богиня-охотница. Психея соединяет в себе чистоту Артемиды и красоту Афродиты.
[23] В данном значении даймон, согласно греческой мифологии, — некая злая или (реже) благодетельная божественная сила, непосредственно воздействующая на человека, определяющая его поступки.
[24] В Древней Греции женщины надевали на голову покрывало и могли закрывать им лицо.
[25] Оруаль имеет в виду следующее: ее книгу будут читать не низшие слои населения, а обеспеченные, из которых и формировалось ополчение гоплитов.
[26] Персонажи греческой мифологии. Орфей — певец и музыкант, искусству которого покорялись не только люди, но и боги, и природа. Сирены — полуптицы-полуженщины, обладавшие божественными голосами.
[27] Обол — весовая единица и самая мелкая монета в Древней Греции. Талант — самая крупная древнегреческая весовая и денежная единица.
[28] «Илиада». Эпизод оплакивания Патрокла — в песне восемнадцатой (всего в «Илиаде» 24 песни).
[29] Еврипид (ок. 480–406 до P. X.) — древнегреческий драматург; его трагедия «Вакханки» сохранилась, но о трагедии «Андромеда» нам только известно.
[30] Скорее всего, не дошедшая до нас «Экономика» древнегреческого философа и ученого Аристотеля (384–322 до P. X.). Сократ (ок. 470–399 до P. X.) — древнегреческий философ. Он не оставил каких- либо сочинений, но его ученик Платон — автор диалогов, в большинстве из которых Сократ — главное действующее лицо.
[31] Стесихор (род. ок. 600 до P. X.) — древнегреческий поэт. Его настоящее имя — Тисий. Есть легенда о том, что, написав порочащую Елену поэму, он ослеп и прозрел лишь после того, как создал опровержение на эту поэму.
[32] Гераклит (ок. 520 — ок. 460 до P. X.) — древнегреческий философ; написал не дошедшее до нас сочинение «О природе», от которого сохранились лишь фрагменты.
[33] В мифологиях многих народов существует представление об умирающем и воскресающем боге (смерть или уход бога — увядание природы, его воскресение или возвращение — пробуждение природы).
[34] В большинстве мифологий мира главное женское божество — богиня-мать, которая обычно соотносится с землей; она участвует в творении мира, в создании всего, что в нем существует.
[35] Речь идет об Элевсинских мистериях, древнегреческих религиозных таинствах, основанных на предании о том, как повелитель царства мертвых Аид похитил дочь богини Деметры Персефону. В Элевсинских мистериях использовалась символика странствия по царству мертвых и последующего воскресения.
[36] Подобные мысли Сократ высказывает в диалоге Платона «Федон».
[37] Минос — в греческой мифологии критский царь; после смерти он и его брат Радамант стали судьями в царстве мертвых.
[38] Тартар — в греческой мифологии мрачная бездна в глубине земли, нижняя часть преисподней.
[39] См.: Гомер. Одиссея. Песнь одиннадцатая, 205–220. Перевод В. Жуковского.
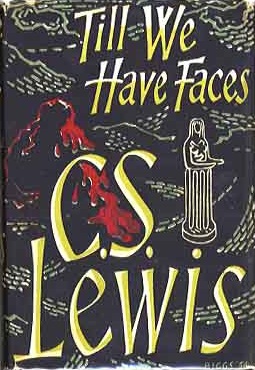
Комментировать