«Глория Скотт»
— У меня здесь кое-какие бумаги, — сказал мой друг Шерлок Холмс, когда мы зимним вечером сидели у огня. — Вам не мешало бы их просмотреть, Уотсон. Это документы, касающиеся одного необыкновенного дела — дела «Глории Скотт». Когда мировой судья Тревор прочитал вот эту записку, с ним случился удар, и он, не приходя в себя, умер.
Шерлок Холмс достал из ящика письменного стола потемневшую от времени коробочку, вынул оттуда и протянул мне записку, нацарапанную на клочке серой бумаги. Записка заключала в себе следующее:
«С дичью дело, мы полагаем, закончено.
Глава предприятия Хадсон, по сведениям, рассказал о мухобойках все.
Фазаньих курочек берегитесь».
Когда я оторвался от этого загадочного письма, то увидел, что Холмс удовлетворен выражением моего лица.
— Вид у вас довольно-таки озадаченный, — сказал он.
— Я не понимаю, как подобная записка может внушить кому-нибудь ужас. Мне она представляется нелепой.
— Возможно. И все-таки факт остается фактом, что вполне еще крепкий пожилой человек, прочитав ее, упал, как от пистолетного выстрела.
— Вы возбуждаете мое любопытство, — сказал я. — Но почему вы утверждаете, что мне необходимо ознакомиться с этим делом?
— Потому что это — мое первое дело.
Я часто пытался выяснить у своего приятеля, что толкнуло его в область расследования уголовных дел, но до сих пор он ни разу не пускался со мной в откровенности. Сейчас он сел в кресло и разложил бумаги на коленях. Потом закурил трубку, некоторое время попыхивал ею и переворачивал страницы.
— Вы никогда не слышали от меня о Викторе Треворе? — спросил Шерлок Холмс. — Он был моим единственным другом в течение двух лет, которые я провел в колледже. Я не был общителен, Уотсон, я часами оставался один в своей комнате, размышляя надо всем, что замечал и слышал вокруг, — тогда как раз я и начал создавать свой метод. Потому-то я и не сходился в колледже с моими сверстниками. Не такой уж я любитель спорта, если не считать бокса и фехтования, словом, занимался я вовсе не тем, чем мои сверстники, так что точек соприкосновения у нас было маловато. Тревор был единственным моим другом, да и подружились-то мы случайно, по милости его терьера, который однажды утром вцепился мне в лодыжку, когда я шел в церковь. Начало дружбы прозаическое, но эффективное. Я пролежал десять дней, и Тревор ежедневно приходил справляться о моем здоровье. На первых порах наша беседа длилась не более минуты, потом Тревор стал засиживаться, и к концу семестра мы с ним были уже близкими друзьями. Сердечный и мужественный, жизнерадостный и энергичный, Тревор представлял собой полную противоположность мне, и все же у нас было много общего. Когда же я узнал, что у него, как и у меня, нет друзей, мы сошлись с ним еще короче.
В конце концов он предложил мне провести каникулы в имении его отца в Донифорпе, в Норфолке, и я решил на этот месяц воспользоваться его гостеприимством…
У старика Тревора, человека, по-видимому, состоятельного и почтенного, было имение. Донифорп — это деревушка к северу от Лагмера, недалеко от Бродз. Кирпичный дом Тревора, большой, старомодный, стоял на дубовых сваях. В тех местах можно было отлично поохотиться на уток, половить рыбу. У Треворов была небольшая, но хорошо подобранная библиотека. Как я понял, ее купили у бывшего владельца вместе с домом. Кроме того, старик Тревор держал сносного повара, так что только уж очень привередливый человек не провел бы здесь приятно время.
Тревор давно овдовел. Кроме моего друга, детей у него не было. Я слышал, что у него была еще дочь, но она умерла от дифтерита в Бирмингеме, куда ездила погостить. Старик, мировой судья, заинтересовал меня. Человек он был малообразованный, но с недюжинным умом и очень сильный физически. Едва ли он читал книги, зато много путешествовал, много видел и все запоминал. С виду это был коренастый, плотный человек с копной седых волос, с загорелым, обветренным лицом и голубыми глазами. Взгляд этих глаз казался колючим, почти свирепым, и все-таки в округе он пользовался репутацией человека доброго и щедрого, был хорошо известен как снисходительный судья.
Как-то вскоре после моего приезда, мы сидели после обеда за стаканом портвейна. Молодой Тревор заговорил о моей наблюдательности и моем методе дедукции, который мне уже удалось привести в систему, хотя тогда я еще не представлял себе точно, какое он найдет применение в дальнейшем. Старик, по-видимому, считал, что его сын преувеличивает мое искусство.
— Попробуйте ваш метод на мне, мистер Холмс, — со смехом сказал он: в тот день он был в отличном расположении духа, — я прекрасный объект для выводов и заключений.
— Боюсь, что о вас я немногое могу рассказать, — заметил я. — Я лишь могу предположить, что весь последний год вы кого-то опасались.
Смех замер на устах старика, и он уставился на меня в полном недоумении.
— Да, это правда, — подтвердил он и обратился к сыну: — Знаешь, Виктор, когда мы разогнали шайку браконьеров, они поклялись, что зарежут нас. И они в самом деле напали на сэра Эдвара Хоби. С тех пор я все время настороже, хотя, как ты знаешь, я не из пугливых.
— У вас очень красивая палка, — продолжал я. — По надписи я определил, что она у вас не больше года. Но вам пришлось просверлить отверстие в набалдашнике и налить туда расплавленный свинец, чтобы превратить палку в грозное оружие. Если б вам нечего было бояться, вы бы не прибегали к таким предосторожностям.
— Что еще? — улыбаясь, спросил старик Тревор.
— В юности вы часто дрались.
— Тоже верно. А это как вы узнали? По носу, который у меня глядит в сторону?
— Нет, — ответил я, — по форме ушей, они у вас прижаты к голове. Такие уши бывают у людей, занимающихся боксом.
— А еще что?
— Вы часто копали землю — об этом свидетельствуют мозоли.
— Все, что у меня есть, я заработал на золотых приисках.
— Вы были в Новой Зеландии.
— Опять угадали.
— Вы были в Японии.
— Совершенно верно.
— Вы были связаны с человеком, инициалы которого Д. А., а потом вы постарались забыть его.
Мистер Тревор медленно поднялся, устремил на меня непреклонный, странный, дикий взгляд больших голубых глаз и вдруг упал в обморок — прямо на скатерть, на которой была разбросана ореховая скорлупа. Можете себе представить, Уотсон, как мы оба, его сын и я, были потрясены. Обморок длился недолго. Мы расстегнули мистеру Тревору воротник и сбрызнули ему лицо водой. Мистер Тревор вздохнул и поднял голову.
— Ах, мальчики! — силясь улыбнуться, сказал он. — Надеюсь, я не испугал вас? На вид я человек сильный, а сердце у меня слабое, и оно меня иногда подводит. Не знаю, как вам это удается, мистер Холмс, но, по-моему, все сыщики по сравнению с вами младенцы. Это — ваше призвание, можете поверить человеку, который кое-что повидал в жизни.
И, знаете, Уотсон, именно преувеличенная оценка моих способностей навела меня на мысль, что это могло бы быть моей профессией, а до того дня это было увлечение, не больше. Впрочем, тогда я не мог думать ни о чем, кроме как о внезапном обмороке моего хозяина.
— Надеюсь, я ничего не сказал такого, что причинило вам боль? — спросил я.
— Вы дотронулись до больного места. Позвольте задать вам вопрос: как вы все узнаете, и что вам известно?
Задал он этот вопрос полушутливым тоном, но в глубине его глаз по-прежнему таился страх.
— Все очень просто объясняется, — ответил я. — Когда вы засучили рукав, чтобы втащить рыбу в лодку, я увидел у вас на сгибе локтя буквы Д. А. Буквы были все еще видны, но размазаны, вокруг них на коже расплылось пятно — очевидно, их пытались уничтожить. Еще мне стало совершенно ясно, что эти инициалы были вам когда-то дороги, но впоследствии вы пожелали забыть их.
— Какая наблюдательность! — со вздохом облегчения воскликнул мистер Тревор. — Все так, как вы говорите. Ну, довольно об этом. Худшие из всех призраков — это призраки наших былых привязанностей. Пойдемте покурим в бильярдной.
С этого дня к радушию, которое неизменно оказывал мне мистер Тревор, примешалась подозрительность. Даже его сын обратил на это внимание.
— Задали вы моему отцу задачу, — сказал мой друг. — Он все еще не в состоянии понять, что вам известно, а что неизвестно.
Мистер Тревор не подавал вида, но это, должно быть, засело у него в голове, и он часто поглядывал на меня украдкой.
Наконец я убедился, что нервирую его и что мне лучше уехать.
Накануне моего отъезда произошел случай, доказавший всю важность моих наблюдений.
Мы, все трое, разлеглись на шезлонгах, расставленных перед домой на лужайке, грелись на солнышке и восхищались видом на Бродз, как вдруг появилась служанка и сказала, что какой-то мужчина хочет видеть мистера Тревора.
— Кто он такой? — спросил мистер Тревор.
— Он не назвал себя.
— Что ему нужно?
— Он уверяет, что вы его знаете и что ему нужно с вами поговорить.
— Проведите его сюда.
Немного погодя мы увидели сморщенного человечка с заискивающим видом и косолапой походкой. Рукав его распахнутой куртки был выпачкан в смоле. На незнакомце была рубашка в красную и черную клетку, брюки из грубой бумажной ткани и стоптанные тяжелые башмаки. Лицо у него было худое, загорелое, глазки хитренькие. Он все время улыбался; улыбка обнажала желтые кривые зубы. Его морщинистые руки словно хотели что-то зажать в горсти — привычка, характерная для моряка. Когда он своей развинченной походкой шел по лужайке, у мистера Тревора вырвался какой-то сдавленный звук; он вскочил и побежал к дому. Вернулся он очень скоро, и когда проходил мимо меня, я почувствовал сильный запах бренди.
— Ну, мой друг, чем я могу быть вам полезен? — осведомился он.
Моряк смотрел на него, прищурившись и нагло улыбаясь.
— Узнаете? — спросил он.
— Как же, как же, дорогой мой! Вне всякого сомнения, вы — Хадсон? — не очень уверенно спросил Тревор.
— Да, я — Хадсон, — ответил моряк. — Тридцать с лишним лет прошло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот у вас собственный дом, а я все еще питаюсь солониной из бочек.
— Сейчас ты убедишься, что я старых друзей не забываю! — воскликнул мистер Тревор и, подойдя к моряку, что-то сказал ему на ухо. — Поди на кухню, — продолжал он уже громко, — там тебе дадут и выпить и закусить. И работа для тебя найдется.
— Спасибо, — теребя прядь волос, сказал моряк. — Я долго бродяжничал, пора и отдохнуть. Я надеялся, что найду пристанище у мистера Бедоза или у вас.
— А разве ты знаешь, где живет мистер Бедоз? — с удивлением спросил мистер Тревор.
— Будьте спокойны, сэр: я знаю, где живут все мои старые друзья, — со зловещей улыбкой ответил моряк и вразвалку пошел за служанкой в кухню.
Мистер Тревор пробормотал, что он сдружился с этим человеком на корабле, когда они ехали на прииски, а затем пошел к дому. Когда мы через час вошли в столовую, то увидели, что он, мертвецки пьяный, валяется на диване.
Этот случай произвел на меня неприятное впечатление, и на другой день я уже не жалел о том, что уезжаю из Донифорпа, я чувствовал, что мое присутствие стесняет моего друга.
Все эти события произошли в первый месяц наших каникул. Я вернулся в Лондон и там около двух месяцев делал опыты по органической химии.
Осень уже вступила в свои права, и каникулы подходили к концу, когда я неожиданно получил телеграмму от моего друга — он вызывал меня в Донифорп, так как нуждался, по его словам, в моей помощи и совете. Разумеется, я все бросил и поехал на север.
Мой друг встретил меня в экипаже на станции, и я с первого взгляда понял, что последние два месяца были для него очень тяжелыми. Он похудел, у него был измученный вид, и он уже не так громко и оживленно разговаривал.
— Отец умирает. — Это было первое, что я от него услышал.
— Не может быть! — воскликнул я. — Что с ним?
— Удар. Нервное потрясение. Он на волоске от смерти. Не знаю, застанем ли мы его в живых.
Можете себе представить, Уотсон, как я был ошеломлен этой новостью.
— Что случилось? — спросил я.
— В том-то все и дело… Садитесь, дорогой поговорим… Помните того субъекта, который явился к нам накануне вашего отъезда?
— Отлично помню.
— Знаете, кого мы впустили в дом?
— Понятия не имею.
— Это был сущий дьявол, Холмс! — воскликнул мой друг.
Я с удивлением посмотрел на него.
— Да, это был сам дьявол. С тех пор у нас не было ни одного спокойного часа — ни одного! С того вечера отец не поднимал головы, жизнь его была разбита, в конце концов сердце не выдержало — и все из-за этого проклятого Хадсона!
— Как же Хадсон этого добился?
— Ах, я бы много дал, чтобы это выяснить! Мой отец — добрый, сердечный, отзывчивый старик! Как он мог попасть в лапы к этому головорезу? Я так рад, что вы приехали. Холмс! Я верю в вашу рассудительность и осторожность, я знаю, что вы мне дадите самый разумный совет.
Мы мчались по гладкой, белой деревенской дороге. Перед нами открывался вид на Бродэ, освещенный красными лучами заходящего солнца. Дом стоял на открытом месте; слева от рощи еще издали можно было разглядеть высокие трубы и флагшток.
— Отец взял к себе этого человека в качестве садовника, — продолжал мой друг, — но Хадсону этого было мало, и отец присвоил ему чин дворецкого. Можно было подумать, что это его собственный дом, — он слонялся по всем комнатам и делал, что хотел. Служанки пожаловались на его грубые выходки и мерзкий язык. Отец, чтобы вознаградить их, увеличил им жалованье. Этот тип брал лучшее ружье отца, брал лодку и уезжал на охоту. С лица его не сходила насмешливая, злобная и наглая улыбка, так что, будь мы с ним однолетки, я бы уже раз двадцать сшиб его с ног. Скажу, положа руку на сердце, Холмс: все это время я должен был держать себя в руках, а теперь я говорю себе: я дурак, дурак, зачем только я сдерживался?.. Ну, а дела шли все хуже и хуже. Эта скотина Хадсон становился все нахальнее, и наконец за один его наглый ответ отцу я схватил его за плечи и выпроводил из комнаты. Он удалился медленно, с мертвенно-бледным лицом; его злые глаза выражали угрозу явственнее, чем ее мог бы выразить его язык. Я не знаю, что произошло между моим бедным отцом и этим человеком, но на следующий день отец пришел ко мне и попросил меня извиниться перед Хадсоном. Вы, конечно, догадываетесь, что я отказался и спросил отца, как он мог дать этому негодяю такую волю, как смеет Хадсон всеми командовать в доме.
— Ах, мой мальчик! — воскликнул отец. — Тебе хорошо говорить, ты не знаешь, в каком я положении. Но ты узнаешь все. Я чувствую, что ты узнаешь, а там будь что будет! Ты не поверишь, если тебе скажут дурное о твоем бедном старом отце, ведь правда, мой мальчик?..
Отец был очень расстроен. На целый день он заперся у себя в кабинете. В окно мне было видно, что он писал. Вечер, казалось, принес нам большое облегчение, так как Хадсон сказал, что намерен покинуть нас. Он вошел в столовую, где мы с отцом сидели после обеда, и объявил о своем решении тем развязным тоном, каким говорят в подпитии.
— Хватит с меня Норфолка, — сказал он, — я отправляюсь к мистеру Бедозу в Хампшир. Наверно, он будет так же рад меня видеть, как и вы.
— Надеюсь, вы не будете поминать нас лихом? — сказал мой отец с кротостью, от которой у меня кровь закипела в жилах.
— Со мной здесь дурно обошлись, — сказал он и мрачно поглядел в мою сторону.
— Виктор! Ты не считаешь, что обошелся с этим достойным человеком довольно грубо? — обернувшись ко мне, спросил отец.
— Напротив! Я полагаю, что по отношению к нему мы оба выказали необыкновенное терпение, — ответил я.
— Ах, вот как вы думаете? — зарычал Хадсон. — Ладно, дружище, мы еще посмотрим!..
Сгорбившись, он вышел из комнаты, а через полчаса уехал, оставив моего отца в самом плачевном состоянии. По ночам я слышал шаги у него в комнате. Я был уверен, что катастрофа вот-вот разразиться.
— И как же она разразилась? — с нетерпением в голосе спросил я.
— Чрезвычайно просто. На письме, которое мой отец получил вчера вечером, был штамп Фордингбриджа. Отец прочитав его, схватился за голову и начал бегать по комнате, как сумасшедший. Когда я наконец уложил его на диван, его рот и глаза были перекошены — с ним случился удар.
По первому зову пришел доктор Фордем. Мы перенесли отца на кровать. Потом его всего парализовало, сознание к нему уже не возвращается, и я боюсь, что мы не застанем его в живых.
— Какой ужас! — воскликнул я. — Что же могло быть в этом роковом письме?
— Ничего особенного. Все это необъяснимо. Письмо нелепое, бессмысленное… Ах, Боже мой, этого-то я и боялся!
Как раз в это время мы обогнули аллею. При меркнущем солнечном свете было видно, что все шторы в доме спущены. Когда мы подъехали к дому, лицо моего друга исказилось от душевной боли. Из дома вышел господин в черном.
— Когда это произошло, доктор? — спросил Тревор.
— Почти тотчас после вашего отъезда.
— Он приходил в сознание?
— На одну минуту, перед самым концом.
— Что-нибудь просил мне передать?
— Только одно: бумаги находятся в потайном отделении японского шкафчика.
Мой друг вместе с доктором прошел в комнату умершего, а я остался в кабинете. Я перебирал в памяти все события. Кажется никогда в жизни я не был так подавлен, как сейчас… Кем был прежде Тревор? Боксером, искателем приключений, золотоискателем? И как он очутился в лапах у этого моряка с недобрым лицом? Почему он упал в обморок при одном упоминании о полустертых инициалах на руке и почему это письмо из Фордингбриджа послужило причиной его смерти.
Потом я вспомнил, что Фординтбридж находится в Хампшире и что мистер Бедоз, к которому моряк поехал прямо от Тревора и которого он, по-видимому, тоже шантажировал, жил в Хампшире. Письмо, следовательно, могло быть или от Хадсона, угрожавшего тем, что он выдаст некую тайну, или от Бедоза, предупреждающего своего бывшего сообщника, что над ним нависла угроза разоблачения. Казалось бы, все ясно. Но могло ли письмо быть таким тривиальным и бессмысленным, как охарактеризовал его сын? Возможно, он неправильно истолковал его. Если так, то, по всей вероятности, это искусный шифр: вы пишете об одном, а имеется в виду совсем другое. Я решил ознакомиться с этим письмом. Я был уверен, что если в нем есть скрытый смысл, то мне удастся его разгадать.
Я долго думал. Наконец заплаканная служанка принесла лампу, а следом за ней вошел мой друг, бледный, но спокойный, держа в руках те самые документы, которые сейчас лежат у меня на коленях.
Он сел напротив меня, подвинул лампу к краю стола и протянул мне короткую записку — как видите, написанную второпях на клочке серой бумаги.
«С дичью дело, мы полагаем, закончено. Глава предприятия Хадсон, по сведениям, рассказал о мухобойках все. Фазаньих курочек берегитесь».
Должен заметить, что, когда я впервые прочел это письмо, на моем лицо выразилось такое же замешательство, как сейчас на вашем. Потом я внимательно перечитал его.
Как я и предвидел, смысл письма был скрыт в загадочном наборе слов. Быть может, он кроется именно в «мухобойках» или в «фазаньих курочках»? Но такое толкование произвольно и вряд ли к чему-нибудь привело бы. И все же я склонялся к мысли, что все дело в расстановке слов. Фамилия Хадсон как будто указывала на то, что, как я и предполагал, он является действующим лицом этого письма, а письмо скорее всего от Бедоза. Я попытался прочитать его с конца, но сочетание слов: «Берегитесь курочек фазаньих» — меня не вдохновило. Тогда я решил переставить слова, но ни «дичь», ни «с» тоже света не пролили. Внезапно ключ к загадке оказался у меня в руках.
Я обнаружил, что если взять каждое третье слово, то вместе они составят то самое письмо, которое довело старика Тревора до такого отчаяния.
Письмо оказалось коротким, выразительным, и теперь, когда я прочел его моему другу, в нем явстенно прозвучала угроза:
«Дело закончено. Хадсон рассказал все. Берегитесь».
Виктор Тревор дрожащими руками закрыл лицо.
— Наверное, вы правы, — заметил он. — Но это еще хуже смерти — это бесчестье! А при чем же тут «Глава предприятия» «фазаньи курочки»?
— К содержанию записки они ничего не прибавляют, но если у нас с вами не окажется иных средств, чтобы раскрыть отправителя, они могут иметь большое значение. Смотрите, что он пишет: «Дело… закончено…», — и так далее. После того как он расположил шифр, ему нужно было заполнить пустые места любыми двумя словами. Естественно, он брал первое попавшееся. Можете быть уверены, что он охотник или занимается разведением домашней птицы. Вы что-нибудь знаете об этом Бедозе?
— Когда вы заговорили о нем, я вспомнил, что мой несчастный отец каждую осень получал от него приглашение поохотиться в его заповедниках, — ответил мой друг.
— В таком случае не подлежит сомнению, что записка от Бедоза, — сказал я. — Остается выяснить, как моряку Хадсону удавалось держать в страхе состоятельных и почтенных людей.
— Увы, Холмс! Боюсь, что их всех связывало преступление и позор! — воскликнул мой друг. — Но от вас у меня секретов нет. Вот исповедь, написанная моим отцом, когда он узнал, что над ним нависла опасность. Как мне доктор и говорил, я нашел ее в японском шкафчике. Прочтите вы — у меня для этого недостанет ни душевных сил, ни смелости.
— Вот эта исповедь, Уотсон. Сейчас я вам ее прочитаю, так же как в ту ночь, в старом кабинете, прочел ему. Видите? Она написана на обороте документа, озаглавленного:
«Некоторые подробности рейса „Глории Скотт“, отплывшей из Фалмута 8 октября 1855 года и разбившейся 6 ноября под 15°20′ северной широты и 25°14′ западной долготы».
Написана исповедь в форме письма и заключает в себе следующее:
«Мой дорогой, любимый сын! Угроза бесчестья омрачила последние годы моей жизни. Со всей откровенностью могу сказать, что не страх перед законом, не утрата положения, которое я здесь себе создал, не мое падение в глазах всех, кто знал меня, надрывает мне душу. Мне не дает покоя мысль, что ты меня так любишь, а тебе придется краснеть за меня. Между тем до сих пор я мог льстить себя надеждой, что тебе не за что презирать меня. Но если удар, которого я ждал каждую минуту, все-таки разразится, то я хочу, чтобы ты все узнал непосредственно от меня и мог судить, насколько я виноват. Если же все будет хорошо, если милосердный Господь этому не попустит, я заклинаю тебя всем святым, памятью твоей дорогой матери и нашей взаимной привязанностью: когда это письмо попадет к тебе в руки, брось его в огонь и никогда не вспоминай о нем. Если же ты когда-нибудь прочтешь эти строки, то это будет значить, что я разоблачен и меня уже нет в этом доме или, вернее всего (ты же знаешь: сердце у меня плохое), что я мертв. И в том и в другом случае запрет снимается. Все, о чем я здесь пишу, я пишу тебе с полной откровенностью, так как надеюсь на твою снисходительность.
Моя фамилия, милый мальчик, не Тревор. Раньше меня звали Джеймс Армитедж. Теперь ты понимаешь, как меня потрясло открытие, сделанное твоим другом, — мне показалось, что он разгадал мою тайну. Под фамилией Армитедж я поступил в лондонский банк и под той же фамилией я был осужден за нарушение законов страны и приговорен к ссылке. Не думай обо мне дурно, мой мальчик. Это был так называемый долг чести: чтобы уплатить его, я воспользовался чужими деньгами, будучи уверен, что верну, прежде чем их хватятся. Но злой рок преследовал меня.
Деньги, на которые я рассчитывал, я не получил, а внезапная ревизия обнаружила у меня недостачу. На это могли бы посмотреть сквозь пальцы, но тридцать лет тому назад законы соблюдались строже, чем теперь. И вот, когда мне было всего двадцать три года, я, в кандалах, как уголовный преступник, вместе с тридцатью семью другими осужденными, очутился на палубе «Глории Скотт», отправляющейся в Австралию.
Это со мной случилось в пятьдесят пятом году, когда Крымская война была в разгаре и суда, предназначенные для переправки осужденных, в большинстве случаев играли роль транспортных судов в Черном море. Вот почему правительство было вынуждено воспользоваться для отправки в ссылку заключенных маленькими и не очень подходящими для этой цели судами. «Глория Скотт» возила чай из Китая. Это было старомодное, неповоротливое судно, новые клипера легко обгоняли ее. Водоизмещение ее равнялось пятистам тоннам. Кроме тридцати восьми заключенных, на борту ее находилось двадцать шесть человек, составлявших судовую команду, восемнадцать солдат, капитан, три помощника капитана доктор, священник и четверо караульных. Словом когда мы отошли от Фалмута, на борту «Глории Скотт» находилось около ста человек. Перегородки между камерами были не из дуба, как полагалось на кораблях для заключенных, — они были тонкими и непрочными. Еще когда нас привели на набережную, один человек обратил на себя мое внимание, и теперь он оказался рядом со мной на корме «Глории». Это был молодой человек с гладким, лишенным растительности лицом, с длинным, тонким носом и тяжелыми челюстями. Держался он независимо, походка у него была важная, благодаря огромному росту он возвышался над всеми. Я не видел, чтобы кто-нибудь доставал ему до плеча. Я убежден, что росту он был не менее шести с половиной футов. Среди печальных и усталых лиц энергичное лицо этого человека, выражавшее непреклонную решимость, выделялось особенно резко. Для меня это был как бы маячный огонь во время шторма. Я обрадовался, узнав, что он мой сосед; когда же глубокой ночью, я услышал чей-то шепот, а затем обнаружил, что он ухитрился проделать отверстие в разделявшей нас перегородке, то это меня еще больше обрадовало.
— Эй, приятель! — прошептал он. — Как тебя зовут и за что ты здесь?
Я ответил ему и, в свою очередь, поинтересовался, с кем я разговариваю.
— Я Джек Прендергаст, — ответил он. — Клянусь Богом, ты слышал обо мне еще до нашего знакомства!
Тут я вспомнил его нашумевшее дело, — я узнал о нем незадолго до моего ареста. Это был человек из хорошей семьи, очень способный, но с неискоренимыми пороками. Благодаря сложной системе обмана он сумел выудить у лондонских купцов огромную сумму денег.
— Ах, так вы помните мое дело? — с гордостью спросил он.
— Отлично помню.
— В таком случае вам, быть может, запомнилась и одна особенность этого дела?
— Какая именно?
— У меня было почти четверть миллиона, верно?
— Говорят.
— И этих денег так и не нашли, правильно?
— Не нашли.
— Ну, а как вы думаете, где они? — спросил он.
— Не знаю, — ответил я.
— Деньги у меня, — громким шепотом проговорил он. — Клянусь Богом, у меня больше фунтов стерлингов, чем у тебя волос на голове. А если у тебя есть деньги, сын мой, и ты знаешь, как с ними надо обращаться, то с их помощью ты сумеешь кое-чего добиться! Уж не думаешь ли ты, что такой человек, как я, до того запуган, что намерен просиживать штаны в этом вонючем трюме, в этом ветхом, прогнившем гробу, на этом утлом суденышке? Нет, милостивый государь, такой человек прежде всего позаботиться о себе и о своих товарищах. Можешь положиться на этого человека. Держись за него и возблагодари судьбу, что он берет тебя на буксир.
Такова была его манера выражаться. Поначалу я не придал его словам никакого значения, но немного погодя, после того как он подверг меня испытанию и заставил принести торжественную клятву, он дал мне понять, что на «Глории» существует заговор: решено подкупить команду и переманить ее на нашу сторону. Человек десять заключенных вступило в заговор еще до того, как нас погрузили на корабль. Прендергаст стоял во главе этого заговора, а его деньги служили движущей силой.
— У меня есть друг, — сказал он, — превосходный, честнейший человек, он-то и должен подкупить команду. Деньги у него. А как ты думаешь, где он сейчас? Он священник на «Глории» — ни больше, ни меньше! Он явился на корабль в черном костюме, с поддельными документами и с такой крупной суммой, на которую здесь все что угодно можно купить. Команда за него в огонь и в воду. Он купил их всех оптом за наличный расчет, когда они только нанимались. Еще он подкупил двух караульных, Мерсера, второго помощника капитана, а если понадобится, подкупит и самого капитана.
— Что же мы должны делать? — спросил я,
— Как что делать? Мы сделаем то, что красные мундиры солдат станут еще красней.
— Но они вооружены! — возразил я.
— У нас тоже будет оружие, мой мальчик. На каждого маменькиного сынка придется по паре пистолетов. И вот, если при таких условиях мы не сумеем захватить это суденышко вместе со всей командой, то нам ничего иного не останется, как поступить в институт для благородных девиц. Поговори со своим товарищем слева и реши, можно ли ему доверять.
Я выяснил, что мой сосед слева — молодой человек, который, как и я, совершил подлог. Фамилия его был Иване, но впоследствии, как и я, он переменил ее. Теперь это богатый и преуспевающий человек; живет он на юге Англии. Он выразил готовность примкнуть к заговору, — он видел в этом единственное средство спасения. Мы еще не успели проехать залив, а уже заговор охватил всех заключенных — только двое не участвовали в нем. Один из них был слабоумный, и мы ему не доверяли, другой страдал желтухой, и от него не было никакого толка. Вначале ничто не препятствовало нам овладеть кораблем. Команда представляла собой шайку головорезов, как будто нарочно подобранную для такого дела. Мнимый священник посещал наши камеры, дабы наставить нас на путь истинный. Приходил он к нам с черным портфелем, в котором якобы лежали брошюры духовно-нравственного содержания. Посещения эти были столь часты, что на третий день у каждого из нас оказались под кроватью напильник, пара пистолетов, фунт пороха и двадцать пуль. Двое караульных были прямыми агентами Прендергаста, а второй помощник капитана — его правой рукой. Противную сторону составляли капитан, два его помощника, двое караульных, лейтенант Мартин, восемнадцать солдат и доктор. Так как мы не навлекли на себя ни малейших подозрений, то решено было, не принимая никаких мер предосторожности, совершить внезапное нападение ночью. Однако все произошло гораздо скорее, чем мы предполагали.
Мы находились в плавании уже более двух недель. И вот однажды вечером доктор спустился в трюм осмотреть заболевшего заключенного и, положив руку на койку, наткнулся на пистолеты. Если бы он не показал виду, то дело наше было бы проиграно, но доктор был человек нервный. Он вскрикнул от удивления и помертвел. Больной понял, что доктор обо всем догадался, и бросился на него. Тревогу тот поднять не успел — заключенный заткнул ему рот и привязал к кровати. Спускаясь к нам, он отворил дверь, ведшую на палубу, и мы все ринулись туда. Застрелили двоих караульных, а также капрала, который выбежал посмотреть, в чем дело. У дверей кают-компании стояли два солдата, но их мушкеты, видимо, не были заряжены, потому что они в нас ни разу не выстрелили, а пока они собирались броситься в штыки, мы их прикончили. Затем мы подбежали к каюте капитана, но когда отворили дверь, в каюте раздался выстрел. Капитан сидел за столом, уронив голову на карту Атлантического океана, а рядом стоял священник с дымящимся пистолетом в руке. Двух помощников капитана схватила команда. Казалось, все было кончено.
Мы все собрались в кают-компании, находившейся рядом с каютой капитана, расселись на диванах и заговорили все сразу — хмель свободы ударил нам в голову. В каюте стояли ящики, и мнимый священник Уилсон достал из одного ящика дюжину бутылок темного хереса. Мы отбили у бутылок горлышки, разлили вино по бокалам и только успели поставить бокалы на стол, как раздался треск ружейных выстрелов и кают-компания наполнилась таким густым дымом, что не видно было стола. Когда же дым рассеялся, то глазам нашим открылось побоище. Уилсон и еще восемь человек валялись на полу друг на друге, а на столе кровь смешалась с хересом. Воспоминание об этом до сих пор приводит меня в ужас. Мы были так напуганы, что, наверное, не смогли бы оказать сопротивление, если бы не Прендергаст. Наклонив голову, как бык, он бросился к двери вместе со всеми, кто остался в живых. Выбежав, мы увидели лейтенанта и десять солдат. В кают-компании над столом был приоткрыт люк, и они стреляли в нас через эту щель.
Однако, прежде чем они успели перезарядить ружья, мы на них набросились. Они героически сопротивлялись, но у нас было численное превосходство, и через пять минут все было кончено. Боже мой! Происходило ли еще такое побоище на другом каком-нибудь корабле? Прендергаст, словно рассвирепевший дьявол, поднимал солдат, как малых детей, и — живых и мертвых — швырял за борт. Один тяжело раненый сержант долго держался на воде, пока кто-то из сострадания не выстрелил ему в голову. Когда схватка кончилась, из наших врагов остались в живых только караульные, помощники капитана и доктор.
Схватка кончилась, но затем вспыхнула ссора. Все мы были рады отвоеванной свободе, но кое-кому не хотелось брать на душу грех. Одно дело — сражение с вооруженными людьми, и совсем другое — убийство безоружных. Восемь человек — пятеро заключенных и три моряка — заявили, что они против убийства. Но на Прендергаста и его сторонников это не произвело впечатления. Он сказал, что мы должны на это решиться, что это единственный выход — свидетелей оставлять нельзя. Все это едва не привело к тому, что и мы разделили бы участь арестованных, но потом Прендергаст все-таки предложил желающим сесть в лодку. Мы согласились — нам претила его кровожадность, а кроме того, мы опасались, что дело может обернуться совсем худо для нас. Каждому из нас выдали по робе и на всех — бочонок воды, бочонок с солониной, бочонок с сухарями и компас. Прендергаст бросил в лодку карту и крикнул на прощание, что мы — потерпевшие кораблекрушение, что наш корабль затонул под 15° северной широты и 25° западной долготы. И перерубил фалинь.
Теперь, мой милый сын, я подхожу к самой удивительной части моего рассказа. Во время свалки «Глория Скотт» стояла носом к ветру. Как только мы сели в лодку, судно изменило курс и начало медленно удаляться. С северо-востока дул легкий ветер, наша лодка то поднималась, то опускалась на волнах. Иване и я, как наиболее грамотные сидели над картой, пытаясь определить, где мы находимся, и выбрать, к какому берегу лучше пристать. Задача оказалась не из легких: на севере, в пятистах милях от нас, находились острова Зеленого мыса, а на востоке, примерно милях в семистах, — берег Африки. В конце концов, так как ветер дул с юга, мы выбрали Сьерра-Леоне и поплыли по направлению к ней. «Глория» была уже сейчас так далеко, что по правому борту видны были только ее мачты. Внезапно над «Глорией» взвилось густое черное облако дыма, похожее на какое-то чудовищное дерево. Несколько минут спустя раздался взрыв, а когда дым рассеялся, «Глория Скотт» исчезла. Мы немедленно направили лодку туда, где над водой все еще поднимался легкий туман, как бы указывая место катастрофы.
Плыли мы томительно долго, и сперва нам показалось, что уже поздно, что никого не удастся спасти. Разбитая лодка, масса плетеных корзин и обломки, колыхавшиеся на волнах, указывали место, где судно пошло ко дну, но людей не было видно, и мы, потеряв надежду, хотели было повернуть обратно, как вдруг послышался крик: «На помощь!» — и мы увидели вдали доску, а на ней человека. Это был молодой матрос Хадсон. Когда мы втащили его в лодку, он был до того измучен и весь покрыт ожогами, что мы ничего не могли у него узнать.
Наутро он рассказал нам, что, как только мы отплыли, Прендергаст и его шайка приступили к совершению казни над пятерыми уцелевшими после свалки: двух караульных они расстреляли и бросили за борт, не избег этой участи и третий помощник капитана. Прендергаст своими руками перерезал горло несчастному доктору. Только первый помощник капитана, мужественный и храбрый человек, не дал себя прикончить. Когда он увидел, что арестант с окровавленным ножом в руке направляется к нему, он сбросил оковы, которые как-то ухитрился ослабить, и побежал на корму.
Человек десять арестантов, вооруженных пистолетами, бросились за ним и увидели, что он стоит около открытой пороховой бочки, а в руке у него коробка спичек. На корабле находилось сто человек, и он поклялся, что если только до него пальцем дотронутся, все до одного взлетят на воздух. И в эту секунду произошел взрыв. Хадсон полагал, что взрыв вернее всего вызвала шальная пуля, выпущенная кем-либо из арестантов, а не спичка помощника капитана. Какова бы ни была причина, «Глории Скотт» и захватившему ее сброду пришел конец.
Вот, мой дорогой, краткая история этого страшного преступления, в которое я был вовлечен. На другой день нас подобрал бриг «Хотспур», шедший в Австралию. Капитана нетрудно было убедить в том, что мы спаслись с затонувшего пассажирского корабля. В Адмиралтействе транспортное судно «Глория Скотт» сочли пропавшим; его истинная судьба так и осталась неизвестной. «Хотспур» благополучно доставил нас в Сидней. Мы с Ивансом переменили фамилии и отправились на прииски. На приисках нам обоим легко было затеряться в той многонациональной среде, которая нас окружала.
Остальное нет нужды досказывать. Мы разбогатели, много путешествовали, а когда вернулись в Англию как богатые колонисты, то приобрели имения. Более двадцати лет мы вели мирный и плодотворный образ жизни и все надеялись, что наше прошлое забыто навеки. Можешь себе представить мое состояние, когда в моряке, который пришел к нам, я узнал человека, подобранного в море! Каким-то образом он разыскал меня и Бедоза и решил шантажировать нас. Теперь ты догадываешься, почему я старался сохранить с ним мирные отношения, и отчасти поймешь мой ужас, который еще усилился после того, как он, угрожая мне, отправился к другой жертве».
Под этим неразборчиво, дрожащей рукой было написано:
«Бедоз написал мне шифром, что Хадсон рассказал все. Боже милосердный, спаси нас!»
Вот что я прочитал в ту ночь Тревору-сыну. На мои взгляд Уотсон, эта история полна драматизма. Мой друг был убит горем. Он отправился на чайные плантации в Терай и там, как я слышал, преуспел. Что касается моряка и мистера Бедоза, то со дня получения предостерегающего письма ни о том, ни о другом не было ни слуху ни духу. Оба исчезли бесследно. В полицию никаких донесений не поступало, следовательно, Бедоз ошибся, полагая, что угроза будет приведена в исполнение. Кто-то как будто видел Хадсона мельком. Полиция решила на этом основании, что он прикончил Бедоза и скрылся. Я же думаю, что все вышло как раз наоборот: Бедоз, доведенный до отчаяния, полагая, что все раскрыто, рассчитался наконец с Хадсоном и скрылся, не забыв захватить с собой изрядную сумму денег. Таковы факты, доктор, и если они когда-нибудь понадобятся вам для пополнения вашей коллекции, то я с радостью предоставлю их в ваше распоряжение.
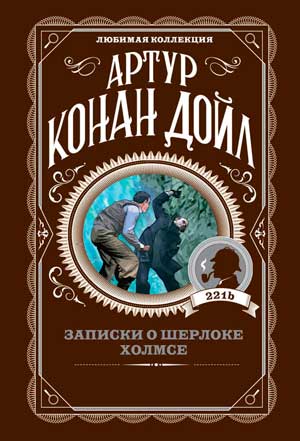
Комментировать