Февраль
Страдание святого мученика Трифона
1 февраля
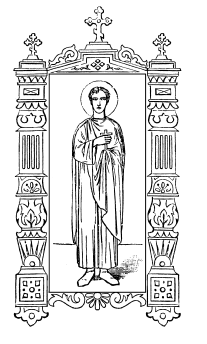
Святой Трифон родился в начале III века во фригийском селении Кампсаде, близ города Анамеи. Родители его, бедные поселяне, были христианами. Когда еще он был отроком, Господь благоволил вселить в него благодать Духа Своего Святого и даровал ему чудотворную силу целить болезни.
В то время царствовал в Риме Гордиан, язычник, но не преследовавший христиан. У него была дочь, девица редкой красоты и мудрости; многие славные князья сватались к ней; но вдруг девица впала в тяжкий недуг, о котором упоминается часто в Евангелии и который Господь Иисус Христос целил благодатной силой Своей. Дух нечистый вселился в девицу и жестоко мучил ее. Огорченный отец испытал всевозможные средства, призывал искуснейших врачей, но все старания остались тщетными, девица продолжала тяжко мучиться и среди страданий твердила, что один только Трифон может исцелить ее. Никто не знал, кто этот Трифон, о котором упоминает больная; император послал искать его по государству своему, многие являлись во дворец, назывались этим именем, но не могли исцелить царскую дочь. Наконец посланные царя пришли в селение, где жил Трифон. Семнадцатилетний юноша в это время пас гусей близ озера. Посланные, узнав, что его зовут Трифоном, взяли его с собой и привели в Рим, во дворец царский.
Когда Трифон узнал, чем страдает девица, он наложил на себя пост и провел шесть дней в молитве, прося Бога помочь ему. Господь исполнил молитву его и дал ему власть над духом злым. Именем Господа Иисуса Христа Трифон изгнал беса из девицы и потом спросил у него, какой властью он мучил ее.
– Мы не имеем власти над теми, которые знают Бога и веруют в единородного Сына Его, – отвечал дух нечистый, – от них мы со страхом бежим, но имеем власть над теми, которые не веруют в Господа и творят дела, угодные нам. Отчуждая себя от Бога, Создателя своего, они самовольно делаются нашими друзьями.
Эти слова и чудо, сотворенное именем Господним, изумили всех присутствовавших. Многие оставили идолопоклонство и обратились к Богу истинному. Царь, обрадованный исцелением дочери, наградил Трифона богатыми дарами, но Трифон раздал все бедным; возвратившись в селение свое, он стал жить по-прежнему и продолжал угождать Господу верой и добрыми делами.
Через некоторое время после этого настало гонение на христиан. Император Декий вступил на престол и повелел областным начальниками предавать мучениям и смерти всех христиан, которые не согласятся отречься от веры своей. Донесли на Трифона, что он верует во Христа и старается обращать язычников в веру свою. Аквилин, епарх, или губернатор области, послал за ним воинов. Воины легко нашли Трифона. Полный ревности к закону Господню, он ясно исповедовал Христа, не старался скрыться и уйти от преследователей, но сам отдался в руки воинов, которые повели его к епарху, в город Никею. Губернатор, окруженный оруженосцами и служителями, призвал на суд Трифона и спросил об имени, звании, вере и отечестве его.
– Имя мое – Трифон, – отвечал он, – отечество – Кампсада, во Фригии; звание – свободно, ибо я служу одному Богу. Христос есть вера моя, Христос слава моя и венец главы моей.
– Ты, может быть, еще не знаешь о повелении царском, – сказал губернатор, – всякий, называющийся христианином и не поклоняющийся богам, будет, по его приказанию, предан мучительной смерти. Образумься и отрекись от ложной веры своей.
– О, если бы мне сподобиться принять мучения за имя Христа и Бога моего! – воскликнул Трифон.
– Советую тебе поклониться богам, – возразил Аквилин. – Я вижу, что ты еще молод и не совершен в разуме, и мне жаль осудить тебя на мучительную смерть.
– Я тем докажу, что я совершен в разуме, если я неизменно сохраню в сердце святое сокровище веры и пожертвую собой за Того, Кто Сам был жертвой за меня, – отвечал Трифон.
– Я предам тебя огню, – сказал губернатор.
– Ты грозишь мне огнем, который угасает, – твердо отвечал Трифон. – Я же угрожаю вам огнем вечным, если не отступите от идолов ваших и не познаете истинного Бога.
Тогда губернатор велел жестоко бить Трифона; но страдания не поколебали твердости христианина, и губернатор снова обратился к нему с увещаниями.
– Раскайся, Трифон, – говорил он, – и поклонись богам: противящийся царскому велению не избежит мучительной смерти.
– А я говорю вам, что отрекающийся от Небесного Царя не наследует жизни вечной, – возразил Трифон спокойно и твердо.
– Этот небесный царь – Зевес20; поклонись ему, – сказал губернатор.
– Все поклоняющиеся ему погибнут, – отвечал Трифон. – Вы верите нелепым басням, поклоняетесь бездушным идолам и не хотите познать Бога истинного, Который создал небо, основал на водах землю, воздухом окружил ее, Который сотворил человека и поставил его господином над всем созданием. Он – Отец Небесный, умилосердившись над согрешившими людьми, послал на землю единородного Своего Сына, Который, сделавшись Человеком, страданиями и смертью Своей спас людей от погибели. Сей Сын Божий, принявший на кресте вольную смерть, воскрес в третий день и вознесся на небо, где сидит одесную Бога Отца. Он придет опять с силой и славой судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его. Он есть Царь царей и Бог Вечный. Ему поклонитесь, если хотите спастись от вечного огня.
Тогда губернатор, который в этот день отправлялся на охоту, велел привязать Трифона к лошади и гнать за собой. Каких мучений ни вытерпел святой, влачимый по земле и попираемый лошадью, но надежда на Господа укрепляла его; он взывал к Богу, повторяя слова Давида: «Соверши стопы мои во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои» (Пс. 16:5); «Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие» (Пс. 118:133). Полный кротости и любви, он молился о мучителях своих. «Господи! – говорил он. – Не поставь им греха сего!»
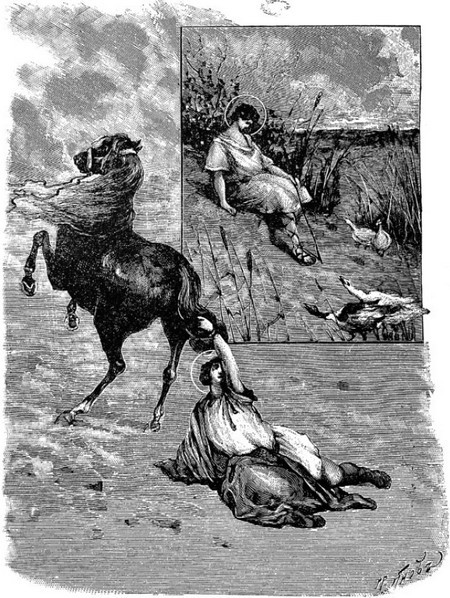
Возвратившись с охоты, губернатор призвал к себе мученика и спросил у него:
– Согласен ли ты теперь принести жертву богам или упорствуешь в безумии твоем?
– Ты сам исполнен безумия, ибо не хочешь познать Спасителя вселенной и поклониться Ему, – отвечал Трифон. – Я же доказываю мудрость свою тем, что не хочу отречься от спасающей меня истины.
Губернатор велел заключить Трифона в темницу и через несколько дней вновь призвал его.
– Страдания и заточение доказали ли тебе, что безумно противиться воле царской? – спросил губернатор.
– Бог и Господь мой, Которому я служу, наказуя, научил меня, – отвечал Трифон, – и утвердил меня, да сохраню непоколебимую веру. Ему единому поклоняюсь, а богов, которых ты почитаешь, презираю.
Тогда Аквилин приказал вновь жестоко мучить Трифона. Вколотили гвозди в ноги его и вели его по всем улицам города, жестоко ударяя его; но все это Трифон переносил терпеливо, укрепленный несокрушимой надеждой на Господа. Привели его опять к губернатору, который не мог надивиться его твердости, и говорил ему:
– Доколе не коснется тебя мучение?
– Доколе не познаешь ты силы Христовой, укрепляющей меня? – отвечал ему мученик. – Доколе не уразумеешь, что могущество Христово непреодолимо?
Губернатор велел снова мучить Трифона; били его нещадно, опаляли огнем раны его; но вдруг мучители увидели небесный свет, озаряющий лицо мученика, и венец, сходивший на главу его. Они в ужасе пали на землю; Трифон же, укрепленный силой свыше, воскликнул радостно: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты не оставляешь меня без помощи в руках врагов моих, но осеняешь главу мою в день брани, даешь мне прибежище спасения, и десница Твоя приемлет меня. Молю Тебя, Господи, будь всегда со мной, утверждая и защищая меня, и дай мне силу совершить подвиг мой, да сподоблюсь получить венец правды со всеми, возлюбившими святое имя Твое!»
Видя непоколебимую твердость Трифона среди страданий, губернатор попытался еще склонить его к отречению ласковыми словами и обещаниями почестей и наград; но и это оставалось так же безуспешно. Тогда он осудил его на смертную казнь. Святого вывели за город, чтобы исполнить над ним смертный приговор; но прежде, чем меч палача коснулся его, он с молитвой предал душу Богу.
Христиане, жившие в Никее, обвили тело его плащаницей, помазали благовонным миром, по тогдашнему обычаю, и хотели похоронить его в своем городе; но святой мученик явился им и велел перенести его в Кампсаду, что и было исполнено.
Страдания святых мучениц Перпетуи и Феликитаты
в тот же день
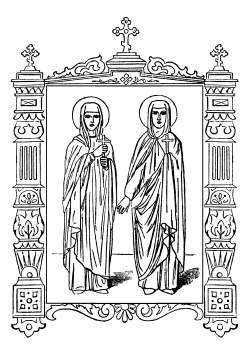
Между повествованиями о страданиях святых мучеников в первые века христианства замечателен рассказ о страданиях Перпетуи, Феликитаты и бывших с ними. Вивия Перпетуя была молодой женщиной двадцати двух лет, из знатного и богатого дома карфагенского. Она вместе с братом своим и с некоторыми домашними и друзьями своими готовилась принять Святое крещение, как вдруг началось сильное гонение по повелению императора Септима Севера (это гонение считается в истории пятым; оно началось в 202 году). Взяли всех оглашенных21 и повели их на суд. Тут были: Вивия Перпетуя, брат ее, служанка ее Феликитата, юноши Сатурнин, Секунд и Ревокат. Судьи стали убеждать их принести жертву богам; но все они с твердостью ответили, что веруют во единого истинного Бога и не могут поклониться идолам.
Во время допроса пришел отец Перпетуи, ревностный язычник, и вместе с судьями стал убеждать дочь отречься от веры христианской; но и его убеждения остались тщетными. Тогда отпустили на время всех оглашенных, имея над ними надзор. Однако они нашли средство принять Святое крещение. «Наставленная Духом Святым, я молилась лишь об одном, – говорит Перпетуя, – я молила Бога даровать мне терпение среди предстоявших страданий». Через некоторое время отвели их в темницу. Тут они ужасно страдали: темница была так тесна, так переполнена узниками, что в ней едва можно было дышать, сторожа обращались с ними грубо и жестоко. Все это было тем труднее для бедных женщин, что Филикитата должна была скоро родить, а Перпетуя кормила грудью младенца, но христианские жены переносили все с терпением. Два христианских диакона наконец выхлопотали, чтобы их перевели в более просторную темницу, где родные могли посещать их. Перпетуя с твердостью ожидала страдания, но ее огорчала скорбь родителей, особенно скорбь престарелого отца, который не переставал умолять ее, чтобы она согласилась принести жертву богам.
– Дочь моя, – говорил он, – пожалей о моей старости, вспомни, что я всегда любил тебя более всего на свете; сжалься над невинным младенцем своим; как будет он жить без тебя? Не бесчести всего рода твоего; возможно ли будет нам показаться куда-нибудь, если ты погибнешь от руки палача?
Вслед за тем старик, заливаясь слезами, падал на колена, целовал руки дочери своей; но мать молчала и только плакала; вероятно, и она втайне была христианкой и понимала, что дочь не может жертвовать верой своей даже для отца и ребенка своего. Сердце разрывалось у Перпетуи при виде отчаяния отца; она плакала, целовала его, но не соглашалась отречься от Господа.
– Не скорби, отец мой, – говорила она, – все в руках Господних. Мы не от себя зависим, а от святой воли Его.
Эта полная покорность воле Божией внушала Перпетуе удивительное спокойствие, и темница и самые мучения казались ей отрадой, потому что она страдала для Бога. Господь в милости Своей укреплял ее чудными видениями, обещая небесные венцы всем страдающим для Господа.
Однажды призвали всех узников на публичный допрос. В судилище, куда привели их, собралось множество народа. Узники громогласно исповедовали Господа Иисуса Христа. Когда очередь дошла до Перпетуи, то отец ее, держа в руках ребенка ее, протеснился сквозь толпу и начал снова умолять ее отречься.
– Сжалься, – говорил он, – над этим младенцем, что с ним будет?
Судья Иларий присоединился к несчастному старцу.
– Неужели, – говорил он Перпетуе, – не тяжело тебе омрачить скорбью последние годы отца, покинуть невинного младенца? Согласись принести жертву.
– Не могу, – отвечала Перпетуя.
– Так ты решительно объявляешь себя христианкой? – спросил судья.
– Да, я христианка.
Между тем несчастный отец все продолжал умолять ее; судья велел ему удалиться, и один из воинов, видя, что он не повинуется, ударил старца. Это очень огорчило Перпетую. Судья громогласно прочел приговор: все христиане осуждались на растерзание зверями в день рождения наследника престола. Выслушав этот приговор, они спокойно, даже радостно возвратились в темницу.
Феликитате наступило время родить. Она стонала, мучась родами. Кто-то сказал: «Если ты так страдаешь теперь, то что будет, когда тебя бросят зверям?» – «Теперь я страдаю за себя, – отвечала она, – но тогда я буду страдать за Христа, и Он поможет мне».
Накануне дня, назначенного для казни, множество народа пришло из любопытства посмотреть на осужденных христиан, пока они обедали. Христиане начали говорить с язычниками, умоляя их бежать от грядущего гнева и обратиться к истине; они говорили им о радости духовной, которой исполнены сердца их, и о блаженстве, которое ожидает их в будущей жизни. «Всмотритесь хорошенько в ваши лица, – говорил Сатурнин, – чтобы узнать их в день суда».
Когда повели христиан на казнь, то не страх, а радость выражалась на лицах их. Перпетуя пела радостную песнь, Сатурнин смело говорил Иларию о суде Божием. Перед тем, как вывести их на зрелище, их жестоко били, потом выпустили на них зверей. «Пребудьте тверды, – сказала Перпетуя страдавшим с ней, – и не убойтесь мучений». Выпущенные на них звери не уязвили до смерти христианок, тогда язычники потребовали, чтобы их казнили мечом, что тут же было исполнено.
Сретение господне. Память святого Симеона Богоприимца и святой Анны Пророчицы
2 и 3 февраля
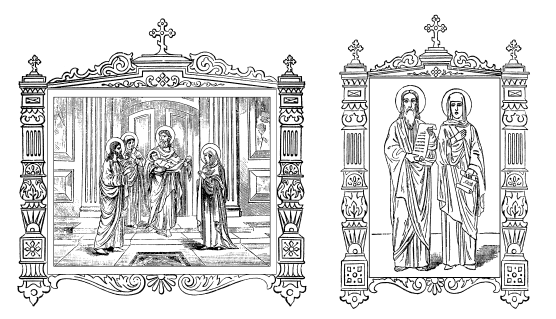
Через сорок дней по Рождестве Господа нашего Иисуса Христа Богоматерь, Пречистая Дева Мария, принесла Младенца, Сына Своего, в храм Иерусалимский. Закон Моисеев повелевал, чтобы всякий первенец мужского пола посвящаем или представляем был Господу. Это было установлено в память избавления израильских первенцев от смерти, поражавшей всех первенцев египетских от человека до скота. Всякий первенец, как собственность Господа, должен был определенной законом ценой быть искуплен у Господа. По исполнении же сорока дней, дней очищения, мать новорожденного приносила в жертву всесожжения Богу ягненка; если же была бедна – горлицу или двух птенцов голубиных. Этому закону смиренно повиновалась и Пресвятая Богородица, хотя и знала, что Родившийся от Нее родился наитием Духа Святого и есть Сын Божий, Спаситель мира.
В это время жил в Иерусалиме благочестивый старец по имени Симеон. Он с верой ожидал пришествия Мессии, или Избавителя: ему было обещано Духом Святым, что он не умрет, не увидев Христа Господня. По внушению Духа Святого Симеон вошел в храм, когда принесли Иисуса. Увидев Божественного Младенца, он взял Его на руки и в духе пророческом воскликнул: «Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Иосиф и Пресвятая Дева дивились словам старца. Он же, благословив их, обратился к Марии и сказал: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих во Израиле, и в предмет противоречия. Тебе же самой пройдет меч в душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:25–35).
Эти слова, тогда не ясные для слышавших, объяснены нам земной жизнью Спасителя. Он дал людям новый закон, закон благодати и любви; но святое учение Его, как и Сам Божественный Учитель, сделались для многих предметом ненависти и противоречия. Пресвятая же Богородица во время страданий и крестной смерти Сына Своего вынесла такую скорбь, что действительно, по словам Симеона, меч прошел Ее душу.
Кроме Симеона, еще Анна Пророчица узнала в Младенце Иисусе обещанного Мессию. Анна, дочь Фануилова, овдовевшая в молодости, посвятив себя служению Господу, находилась неотступно при храме и с твердою верой ожидала пришествия Спасителя. Увидев Иисуса, она стала благословлять Бога и пророчествовать о Младенце всем, ожидавшим избавления через Мессию.
Церковь причисляет Сретение Господне к двенадцати великим праздникам, и на следующий день, 3 февраля, совершает память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Этот праздник, установленный еще в первых веках христианства, стал совершаться с особенной торжественностью со времен императора Юстиниана, в VI веке. «Радуйся, благодатная Богородице Дево, – воспевает Святая Церковь, – из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение».
Событие праздника – представление Младенца Иисуса в храме пред Господом – как собственности Божией, да напомнит и нам, что все мы, искупленные кровью Спасителя, не принадлежим уже себе, но Господу и потому должны посвятить Его служению все силы, всю жизнь свою. Как можем мы это сделать? С юных лет мы должны изучать слово Божие, стараться уразуметь закон Господень и молить Бога, чтобы Он Своей благодатью помог нам исполнять Его волю. Главные заповеди Его – любовь к Богу и любовь к ближнему; в них заключаются все наши обязанности.
Память преподобного Исидора Пелусиота
4 февраля
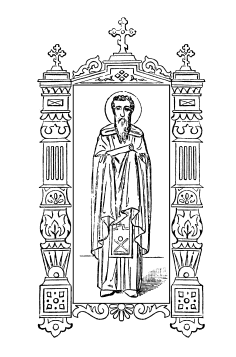
В числе великих подвижников, которые избрали пустынное житие ради любви Христовой, Церковь чтит преподобного Исидора Пелусиота. Он оставил много писем и сочинений, исполненных мудрости и назидательных наставлений. Святой Исидор жил в V веке. Он родился в Египте от богатых родителей, получил хорошее образование и в молодых летах оставил мир, желая уединения. Он постригся, потом поселился в пустынном месте, близ города Пелузии, в нижнем Египте. Тут он жил в строгом воздержании, носил грубую одежду и питался одними кореньями, беспрестанно молился и возносился мыслью к Богу. Слух о его строгой и благочестивой жизни привлек к нему других подвижников, и он был избран в настоятели монастыря. Постоянно заботясь о душевной пользе братии, он руководил ею мудрыми наставлениями, учил словом и примером смирению, кротости, нестяжанию, борьбе против страстей и мирских помыслов.
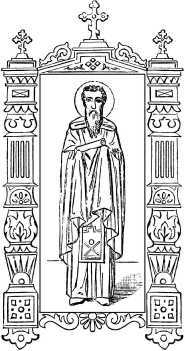
«Что пользы, – говорил он, – от удаления в пустыню, если предаешься влечению собственных помыслов, если живешь в пустыне, как среди народной толпы? Когда душа при внешней тишине возмущается мятежными помыслами и вожделениями, то такое состояние и в чувствах производит омрачение, совершенные уже подвиги покрывает бесславием, страстям облегчает победу над духом и вооруженного на битву ратника делает робким беглецом». «Жизнь инока, – пишет еще Исидор, – должна быть чужда гнева, гордости, сребролюбия, самолюбия, удалена от попечения о теле. Уста инока должны быть всегда готовы к благодарению Господа и молитве о полезном, – напротив, неподвижны на злословие».
Впрочем, не к одним инокам и пустынножителям обращал преподобный Исидор поучения свои. Его сочинения содержат много назидательного для людей всякого звания. В письмах, которых дошло до нас более двух тысяч, он обращался и к правителям, и к епископам с мудрыми советами; он опровергает лжеучения, излагает догматы веры, объясняет Священное Писание, так что всякий может из них почерпнуть себе полезное наставление. Изучив глубоко науки и словесность, Исидор понимал, как несравненно выше всего христианская мудрость. Он советует изучать со вниманием слово Божие и жалеет, что так многие обращаются «не к той словесности, которая уцеломудривает, но только к той, которая забавляет слушателей; не к той, которая возбуждает от усыпления души, но к той, которая ласкает слух; не к живой, одушевленными делами говорящей, но к принимаемой ради сладкозвучия мертвым слухом». Он беспрестанно увещевает, возносится чувствами и мыслями к Богу. «Мудрость мирская, – говорит он, – если не укрощается мудростью Божественной, не полезна, как ничем не обузданная. Все непостоянно для тех, которые сами непостоянны к Богу».
Обращаясь с любовью к слабым и немощным, Исидор строго укоряет тех, которые, стоя на высокой степени мирской или духовной власти, жизнью своей подают дурной пример тем, кто употребляет во зло данные им средства и увлекается пристрастием или корыстолюбием. Он пишет императору Феодосию Младшему, склоняя его к кротости и щедрости; сильного любимца царского увещевает к правосудию. Он считает обязанностью всякого христианина бороться против зла и по мере сил способствовать распространению добра и истины, храня между тем кротость и смирение духа.
«Твоя обязанность, – пишет он одному епископу, – свободу речи растворять кротостью; а дело Божьей десницы – подавать исцеления».
«Мы равно виновны, – пишет он еще, – и тогда, когда хотим мстить за наши собственные обиды, и когда не трогаемся оскорблениями, наносимыми Богу. Когда обижают нас, мы должны сносить с кротостью и терпением, а когда оскорбляют Бога, то беззаконно сносить это оскорбление равнодушно; мы должны тогда высказывать наше неудовольствие. Мы так раздражительны, что не хотим простить нашим врагам; между тем кротки с теми, кто восстает против Бога. Правда, всемогущий Бог может отмстить за Себя, но Он хочет, чтобы добрые люди гнушались греха и других заставляли гнушаться его».
Преподобный Исидор терпел гонения за строгие обличения свои, но он не переставал твердо и неизменно стоять за истину и защищать пред правителями невинно гонимых. Так, является он твердым защитником святого Иоанна Златоуста и строго укоряет врага его, Феофила, архиепископа Александрийского, за беззаконные его действия против святого. – «Я всегда буду любить добродетель, – пишет преподобный Исидор, – хотя бы и обремененную поношениями; буду гнушаться порока, хотя бы он был и увенчан славою».
Преподобный Исидор скончался в глубокой старости.

В тот же день память преподобного Николая, игумена Студийского, много пострадавшего вместе со святым Феодором Студитом от иконоборцев.
Страдание святой мученицы Агафии
5 февраля
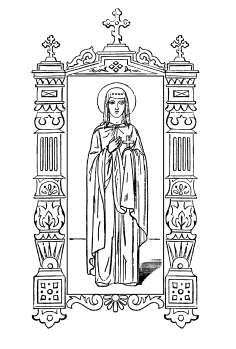
При римском императоре Декии, в середине III столетия, было жестокое гонение против христиан. Во всех областях империи было велено предавать их мучениям и казни. В это время на Сицилии, острове Средиземного моря, в городе Палермо, жила молодая девица по имени Агафия. Она была христианка и славилась красотой, добродетелью и знатностью рода. Родители оставили ей великое богатство, но она мало дорожила благами земными, любила Бога более всего на свете, и потому, когда до Сицилии дошла весть о гонении против христиан, она стала готовиться к мученичеству.
Действительно игемон, или правитель страны, по имени Квинтиан, не замедлил прислать воинов за Агафией. Девица, услышав об их прибытии, вошла в комнату свою, помолилась Богу и потом со спокойствием и твердостью пошла за воинами в город Катану. Правитель поместил ее к одной богатой женщине, язычнице, которая с пятью дочерьми своими вела жизнь роскошную и грешную. Он поручил этой женщине, которую звали Афродисией, употребить все старания, чтобы отвлечь Агафию от веры ее. Афродисия исполнила повеление правителя: она уговаривала девицу принести жертву богам и старалась внушить ей любовь к радостям земным. Она дарила ей драгоценные наряды, превозносила красоту ее, устраивала различные увеселения в надежде отвлечь девицу от постоянной ее мысли. Всякий день в доме ее были веселые собрания, танцы, музыка и пение. Средства были хорошо избраны, ибо сильная привязанность к благам земным, к удовольствиям и роскоши охлаждает нашу любовь к Богу и легко заставляет нас забывать о Господе и о жизни вечной. Но Агафия устояла против всех искушений. Она не принимала участия в увеселениях, хранила твердую веру и, полная любви к Господу, с радостью ждала мученичества за имя Христово.
Через некоторое время Афродисия пришла к правителю и сказала ему: «Легче смягчить камень, нежели отвлечь эту девицу от Бога ее. Я и дочери мои увещевали ее беспрестанно, дарили ей роскошные наряды, дорогие каменья и жемчуга; она все это презирает». Правитель, видя, что увещания тщетны, призвал Агафию к себе на суд. На вопрос его, из какого она рода, девица отвечала:
– Родители мои были благородны, и все семейство мое славно и богато.
– Если ты из славного и богатого рода, почему ты, как раба, носишь бедную одежду? – спросил правитель.
– Я раба Христова, – отвечала Агафия.
– Почему же ты называешь себя рабой, если ты из славного и богатого рода?
– Благородство наше и свобода состоят в том, чтобы быть рабами Христа.
– Стало быть, мы свободны, потому что не служим Христу вашему? – спросил правитель.
– Вы рабы и пленники греха и поклонники бесчувственных идолов, – отвечала девица.
– Если ты станешь хулить богов наших, то предам тебя мучению, – возразил правитель. – Скажи мне, почему ты отвергаешь богов?
Агафия стала доказывать правителю ложность и суету богов языческих. Он велел ее бить по лицу, грозя ей еще более жестокими мучениями, но девица отвечала ему:
– Не боюсь ничего. Если ты дашь меня на съедение зверям, они укротятся именем Господа; если бросишь меня в огонь, ангелы освежат меня небесной росой; если ты предашь меня мучениям, помощником мне будет Дух истины, Который избавит меня из рук твоих.
Правитель велел отвести Агафию в душную и мрачную темницу и на следующий день вновь призвал ее на суд. Он стал опять уговаривать ее отречься от Христа.
– Отрекись лучше ты от ложных богов своих, – говорила святая, – и приступи к Богу истинному, создавшему тебя, да не предан будешь муке вечной.
Тогда правитель велел привязать ее к столбу и бить.
– Поклонись богам, и жива будешь, – говорил он ей, но девица отвечала ему:
– Я радуюсь мучениям, как иные радуются сокровищу. Эти временные страдания полезны мне, ибо как не всыпают пшеницы в амбар, не очистив ее сперва от сора, так и мне невозможно войти в рай, если сперва не буду очищена страданиями.
Правитель велел еще сильнее мучить святую и потом отвести ее вновь в темницу. Ночью Господь послал ей чудесную помощь. Ей явился святой апостол Петр, который именем Господним исцелил раны ее. Всю ночь необычайный свет озарял ее темницу; стражи, устрашенные этим чудным явлением, разбежались, оставив незапертыми двери темницы. Но Агафия не хотела этим воспользоваться, чтобы не лишиться венца мученического и не ввести стражей в беду.
На пятый день после этого Агафию вновь привели к правителю. Он изумился, когда увидел, что она исцелилась от нанесенных ей ран; но это не обратило его к Богу.
Он придумал новые мучения: велел насыпать на землю горячих углей и раскаленных черепиц и положить на них Агафию. Но вдруг началось страшное землетрясение, и граждане катанские в ужасе стали умолять Квинтиана, чтобы он отпустил девицу, говоря, что небо карает их за ее страдания. Квинтиан, устрашившись землетрясения и народного волнения, приказал отвести Агафию в темницу. Войдя в темницу, она подняла руки к небу и воскликнула: «Благодарю Тебя, Господи, что сподобил меня страдать за имя святое Твое и, отняв у меня любовь к временной жизни, подал мне силу и терпение. Ныне же, умоляю Тебя, призови меня к Себе!» С этими словами мученица предала душу Богу. Граждане катанские похоронили тело ее.
Через некоторое время после этого Квинтиан отправился в Палермо, чтобы завладеть имением святой мученицы. При перевозе через реку лошади его вдруг рассвирепели, устремились на него и сбросили его в реку, где он утонул. Видя, как Бог наказал жестокого мучителя, преемник его уже не посмел тревожить сродников святой мученицы.
Между тем слава о подвиге святой Агафии разнеслась по всей стране, и через некоторое время после ее кончины построили церковь над ее гробницей; бедную одежду, которую она обыкновенно носила, положили на гроб в память ее смирения. Жители катанские благоговейно хранят ее память. Недалеко от города находится огнедышащая гора Этна, извергающая по временам огонь и горячую лаву. Однажды, когда страшное извержение грозило городу гибелью, они взяли одежду святой и держали ее против огня. Беда миновала, и жители Катаны благодарили святую мученицу за ее заступничество. Это было в годовщину ее кончины.
С какой непоколебимой твердостью древние христиане хранили закон Господень! Не только мужчины, но слабые женщины и даже иногда дети соглашались скорее перенести самые ужасные страдания, нежели отречься от веры во Христа и изменить Богу. Стараемся ли и мы приобрести ту же твердость духа? Имеем ли столько любви к Христу Богу? Так ли стараемся исполнять заповеди Господни? Теперь нам не грозят мучениями и смертью за имя Христа, но как легко соблазняют нас выгоды и радости мира! Как они отвлекают нас от Бога! Пусть каждый из нас испытает себя и спросит, не возлюбил ли он богатство, почести, похвалу людей или другие какие мнимые блага более Господа? Ради этих идолов не забываем ли мы часто Творца и Спасителя нашего? Не поклоняемся ли мы этим идолам? Не приносим ли мы им в жертву обязанности наши? Станем же молить Бога о всесильной помощи Его. Попросим Его, чтобы Он даровал нам силу твердо стоять против искушений мира и верно и неизменно служить Тому, Кто пострадал и умер для нашего спасения.
Память святителя Феодосия Углицкого, архиепископа Черниговского
в тот же день
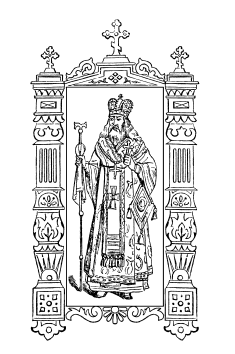
Святитель Феодосий, живший во второй половине XVII столетия, происходил из дворянской заднепровской фамилии Поланецких, предки которых приняли прозвание Углицких; отец его, по имени Никита, был священником в Малороссии. Несомненно, что еще в доме родителей (Никиты и Марии), под влиянием их наставлений, он получил задатки того высокого благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. Воспитанный в страхе Божием в доме родительском, он еще более развил высокие качества своей души во время обучения своего в Киево-Братской Богоявленской школе, которой был признателен всю свою жизнь, что и выразил своими благотворениями Киевскому Братскому монастырю.
По окончании образования он принял монашество и митрополитом Киевским Дионисием Балабаном был поставлен в архидиакона при Киево-Софийском соборе. После удаления из Киева митрополита Дионисия он назначен был наместником митрополичьего кафедрального дома. В 1662 году ему поручается управление Корсунским монастырем, находящимся в Каневском уезде, Киевской епархии. В 1664 году он назначается игуменом Выдубицкого монастыря близ Киева. Новому настоятелю много пришлось потрудиться над благоустройством этой обители, которая незадолго перед тем была возвращена из-под власти униатов и находилась в большом упадке. Ревностный и строгий ревнитель православия, Феодосий много способствовал восстановлению его влияния там, где еще так недавно господствовала уния.
Подвижническая жизнь игумена Феодосия и его попечительность о благосостоянии Выдубицкой обители доставили ему всеобщее уважение киевлян. Особенно же отличал его своим вниманием тогдашний блюститель Киевской митрополии черниговский архиепископ Лазарь Баранович. В письме своем (1674 г.) он пророчески передавал Феодосию желание свое, чтобы «имя его написано было на небесах». Как блюститель Киевской митрополии, архиепископ Лазарь назначил Феодосия своим наместником по митрополии.
В 1685 году гетман с малороссийским духовенством возложили на игумена Феодосия вместе с переяславским игуменом Иеронимом, как на «людей заслуженных Малороссийской Церкви», поручение отправиться в Москву с просьбой к царям Иоанну и Петру Алексеевичам и к патриарху Иоакиму об утверждении епископа Луцкого Гедеона, князя Четвертинского, на кафедре митрополита Киевского. Во время пребывания своего в Москве Феодосий исходатайствовал Выдубицкому монастырю дозволение присылать братьев в Москву для сбора подаяний.
В 1687 году Феодосий, по желанию ариепископа Лазаря, назначен был архимандритом черниговского Елецкого монастыря. С этого времени его отношения с архиепископом Лазарем становятся еще более близкими. Он исполняет различные поручения престарелого иерарха по управлению епархией и тем заслуживает со стороны его еще большую к себе любовь и расположение. Наконец архиепископ Лазарь пожелал иметь его своим помощником; с согласия гетмана Малороссии он в 1691 году послал Феодосия в Москву к патриарху Адриану с просьбой назначить его помощником ему в управление епархией. Патриарх исполнил желание преосвященного Лазаря и грамотой уведомил об этом гетмана Малороссии.
В сане архимандрита Елецкого, будучи помощником преосвященного Лазаря, Феодосий, как видно из грамоты от 11 июля 1691 года об основании Андрониковой пустыни, подписывался так: «3 воли его пастырской милости, я тут руку мою подкладываю, Феодосий Углицкий, архимандрит Елецкий – Черниговский». Исполненный признательности за ревностное участие Феодосия в управлении паствой, архиепископ Лазарь пожелал еще при жизни своей видеть
Феодосия в сане святительском, чтобы он вполне мог помогать ему при жизни и чтобы по смерти приготовить себе достойного преемника. Преосвященный Лазарь и гетман писали об этом прошение к царю и патриарху, при чем освидетельствовали, что «пречестный архимандрит Феодосий – муж благий, украшенный добродетелями монашеской жизни, которую ведет с молодых лет, опытен в управлении монастырями, исполнен страха Божия и духовной опытности, просвещен, весьма усерден к церковному благолепию, способен управлять домом кафедры и епархиею Черниговскою». Ходатайство это было уважено, и архимандрит Феодосий в 1692 году приехал в Москву, где 11 сентября совершено было наречение его во епископа, а 13 сентября он был хиротонисан во архиепископа, о чем патриарх Адриан грамотой своей от 3 ноября 1692 года уведомлял гетмана Малороссии: «Преосвященный архиепископ Феодосий Черниговский и Новгорода-Северского в сию епархию, в дело служения своего, в благокрасование и правление Святой Церкви отпущен бысть». Следовательно, новопосвященный архиепископ пробыл в Москве около двух месяцев по желанию патриарха, относившегося с уважением к святителю Феодосию и воспользовавшегося удобным случаем для того, чтобы задержать его в Москве для бесед и совместного совершения богослужения. В сан архиепископа при хиротонии Феодосий был возведен потому, что Большим Московским собором 1667 года в Чернигове была учреждена архиепископия, и кафедра Черниговская была поставлена первой по степени между другими архиепископами Российской Церкви. Между другими преимуществами, полученными при посвящении в сан архиепископа, святитель Феодосий получил право совершать богослужение в саккосе, как и архиепископ Лазарь, что в те времена было исключительной привилегией патриарха и митрополитов, епископы же все служили в фелони. По возвращении из Москвы в Чернигов архиепископ Феодосий продолжал оставаться послушным помощником преосвященного Лазаря. На грамотах, выдававшихся рукополагаемым во священники в последние годы святительства Лазаря, святитель Феодосий подписывался так: «Феодосий Углицкий, архиепископ и архиепископии Черниговской и Новгород-Северской коадъютор, архимандрит Елецкий».
Недолго Господь судил черниговской пастве видеть предстоящими у престола Господня двух архиереев, двух великих столпов православия!.. 3 сентября 1693 года архиепископ Лазарь скончался после тридцатишестилетнего управления епархией и был погребен в Борисоглебском храме Черниговского кафедрального собора за левым клиросом. Донося об этом царю, Феодосий писал, прося, чтобы он изволил иметь его в своей царской милости, а гетман писал царю, что «о преставлении преосвященного Лазаря он со старшиною и полковниками имел сетование и печаль, а ныне находит утешение и отраду в том, что по кончине оного в неотложном времени тот архиепископский престол восприял преосвященный Феодосий Углицкий, который своими добротами может украсить Церковь и благорассмотрением устроить дел правление». В начале следующего, 1694 года царь в грамотах как гетману, так и преосвященному Феодосию писал одно и то же: именно что он будет иметь его, Феодосия, в такой же царской своей милости, какой пользовался преставившийся предместник его, преосвященный Лазарь. Патриарх Адриан в грамоте своей объяснял гетману, что рукоположение Феодосия Углицкого в архиепископа Черниговского при жизни архиепископа Лазаря устроено промыслом всеблагого Бога на благо Черниговской епархии; преосвященному же Феодосию патриарх прислал с иеромонахом Пахомием ставленную грамоту и, сверх того, увещание всесовершенно управлять людьми Божиими.
Святитель Феодосий в делах управления проявил отеческую заботливость о своей пастве, снисходительность к нуждам каждого, суд не только справедливый, но и всегда милостивый.
Особенно он заботился об усилении в пастве любви к житию подвижническому и для этого старался не только поддерживать существовавшие монастыри, но и основывал новые иноческие обители.
Приближаясь к кончине, святитель Феодосий вызвал к себе в Чернигов наместника Брянского Свенского монастыря иеромонаха Иоанна Максимовича и в первой половине 1695 года посвятил его в архимандрита Черниговского Елецкого монастыря, которым до этого управлял сам. Вскоре после этого, 5 февраля 1696 года, святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском Борисоглебском соборе за правым клиросом.
Ряд чудесных проявлений благодати Божией молитвенным предстательством святителя Феодосия Углицкого открылся вскоре после его блаженной кончины благодатным исцелением оттяжкой болезни его преемника по Черниговской кафедре, архиепископа Иоанна Максимовича (1697–1712).
Без сомнения, чудесные исцеления от мощей святителя Феодосия продолжались беспрерывно, но они не записывались, потому что не было на это прямого распоряжения. Переходя из уст в уста, сказания о чудесах укрепили в народе глубокую уверенность в святости архиепископа Феодосия и в том, что молитвы его сильны и действенны перед Богом. С начала XIX столетия благоговейное чествование святителя Феодосия как благодатного чудотворца заметно усиливается.
9 сентября 1896 года по определению Священного Синода мощи святителя Феодосия были открыты, положены в серебряную раку и помещены между колоннами на правой стороне Спасо-Преображенского собора.
Страдание святой мученицы Дорофеи
6 февраля
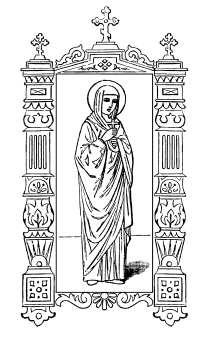
В III столетии, когда жестоко преследовали христиан, жила в городе Кесарии молодая христианка по имени Дорофея. Она была очень хороша собой; мудрость ее удивляла всех, знавших ее; но в особенности отличалась она добродетелями христианскими и ревностью к закону Господню. Она не захотела вступить в брак, а, совершенно посвятив себя Богу, старалась угождать Ему добрыми делами и праведной жизнью.
Саприкий, игемон, или правитель, Каппадокийской области, призвал на суд Дорофею, как христианку. Девица, молясь Богу и испросив Его всесильной помощи, безбоязненно предстала пред правителем. Он начал убеждать ее принести жертву богам, как то повелевал царь. Девица отвечала, что Бог, Царь Небесный, повелел поклоняться Ему одному и что она исполнит Его закон и не станет поклоняться идолам. Правитель грозил ей жестокими мучениями, если она не отречется от веры своей.
– Мучения эти временные, – отвечала Дорофея, – муки же геенские вечны, спасусь вечных мук, если не устрашусь временных. Я помню слова Господа моего: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28).
Правитель велел поставить Дорофею на место мучений, надеясь, что она убоится мук и согласится отречься от веры своей, но девица говорила ему:
– Зачем медлишь и не велишь мучить меня! Дай мне скорее увидеть Того, за Которого я не боюсь страдать и умереть.
– Кто же это? – спросил правитель.
– Христос, Сын Божий, – отвечала девица.
– Где этот Христос?
– Всемогуществом Божества Своего Он вездесущ, – отвечала Дорофея, – человечеством же Он на небесах, одесную Отца Своего. С Отцом и с Духом Святым Он есть единый Бог. Он призывает нас в рай, где радость вечная, где сады вечно цветут, плоды всегда зреют и души святых веселятся о Христе. Уверуй словам моим, Саприкий, и избавишься от погибели, и войдешь в рай небесный.
Но слова святой не вразумили Саприкия; он продолжал увещевать ее поклониться богам, выйти замуж и тем спасти жизнь свою, но девица решительно отвечала ему: «Не принесу жертвы идолам, ибо я христианка; не выйду замуж, ибо я невеста Христова. Вера моя введет меня в рай и в чертог Жениха моего». Видя, что увещания его бесполезны, Саприкий велел жестоко девицу мучить.
После этого правитель придумал другое средство, чтобы склонить Дорофею к отречению от веры. В Кесарии жили две сестры, Христина и Каллиста, которые прежде были христианками, но отреклись от веры своей из страха мучений. За отречение свое они получили от язычников много денег и жили в богатстве и роскоши, среди суетных удовольствий. Саприкий понадеялся, что пример его подействует на Дорофею. Он отправил к ним девицу, обещав им богатые дары, если они склонят ее к отречению. Дорофея провела у них несколько дней, и они усердно уговаривали ее последовать их примеру, представляя ей, с одной стороны, все радости житейские, с другой – мучительную смерть.
– Не губи ты в муках сию радостную жизнь, – говорили они, – спаси себя от преждевременной смерти, послушайся совета нашего.
– Послушайтесь лучше вы совета моего, – отвечала им Дорофея, – покайтесь в отречении вашем и обратитесь снова ко Христу. Господь наш бесконечно благ и милостиво приемлет тех, которые искренно обращаются к Нему.
– Что нам уже думать о Христе? – говорили сестры. – Мы погубили свою надежду на Него, отрекшись от Христа, и не можем возвратиться к Нему.
– Вы тяжко согрешили, поклонившись идолам, – отвечала Дорофея, – но еще более грешите, отчаиваясь и сомневаясь в милосердии Господнем. Он может и хочет исцелить ваши раны. Потому Он и называется Искупителем, что искупает нас от греха, и Спасителем, что спасает нас и врачует наши душевные болезни. Обратитесь к нему всем сердцем и не сомневайтесь в Его милосердии.
Услышав эти слова, обе сестры с рыданием пали к ногам Дорофеи и просили ее помочь им своими молитвами. Как видно, среди богатства и безопасности они не имели высокого блага – покоя душевного. Им пользуются только те, кто твердо уповает на Господа; а променяв Христа на временные блага, они не смели не только надеяться на Него, но и думать о Нем. Слова Дорофеи еще более пробудили в них голос совести, но вместе с тем и исполнили души их надеждой. Они начали молиться; Дорофея стала на колена и тоже молила Бога, да приимет Он их покаяние. «Боже милостивый! – говорила она. – Ты не хочешь смерти грешника, но покаяния и исправления его. Ты сказал, что на небесах силы небесные радуются об одном кающемся грешнике! Яви же милость Твою этим заблудившимся овцам и, как Пастырь добрый, приими их вновь в ограду Твою!» Сестры молились со слезами и сокрушением сердечным; Господь услышал молитву их и даровал им силу доказать на деле раскаяние свое.
Через несколько дней Саприкий призвал к себе Дорофею и двух сестер. Отведя Христину и Каллисту в сторону, он спросил у них, склонили ли они Дорофею к отречению; но сестры отвечали ему: «Мы сами заблуждались, мы сами согрешили, когда из страха мучения отреклись от Христа. Но Господь дал нам покаяние, и мы молим Его простить нам тяжкий грех наш».
Саприкий рассердился, велел связать сестер и предать их сожжению. Они твердо вынесли мучение и взывали к Господу: «Господи Иисусе Христе, приими покаяние наше и подай нам прощение!» Дорофея с радостью смотрела на подвиг их, говоря им о награде, которая ожидает их на небесах. Так скончались сестры и восприяли мученический венец. После кончины Христины и Каллисты Саприкий велел жестоко мучить Дорофею. Среди страшных страданий лицо мученицы сияло неизреченной радостью.
– Чему радуешься? – говорил ей озлобленный Саприкий.
– Во всей жизни моей не было для меня более радостного дня, – отвечала святая, – Бог помог мне снова обратить к нему две души, которые ты, с помощью диавола, отвратил было от Господа. О них ныне великая радость на небесах. Радуются и торжествуют ангелы и все силы небесные, апостолы, пророки и мученики святые. Что медлишь, Саприкий? Дай мне скорее возрадоваться на небесах с теми, с которыми я плакала на земле.
Тогда Саприкий велел еще усилить мучения Дорофеи; опаляли ее огнем, били ее по лицу; она все переносила с радостным спокойствием. Наконец правитель, потеряв надежду, что она отречется от веры своей, осудил ее на казнь. Когда святая услышала смертный приговор, она радостью воскликнула: «Благодарю Тебя, Господи, что призываешь меня в рай Твой и вводишь в пресветлый Твой чертог!» Повели ее на казнь.
Рассказывают, что, когда вели святую на смерть, один языческий ученый, по имени Феофил, смеясь над нею, ибо считал безумием веру ее, закричал ей вослед: «Послушай, невеста Христова, пришли мне плодов и цветов из рая Жениха твоего!» – «Воистину пришлю», – кротко отвечала девица. Придя на место казни, она упросила палача, чтобы он дал ей время помолиться, и, когда она окончила молитву, ей явился ангел Божий в образе светлого отрока, державшего в руках цветы и плоды. «Отнесите это Феофилу», – сказала святая. После этих слов она преклонила голову под меч, и чистая душа ее взлетела к Господу, Которого так пламенно любила.
В тот же день Феофил, собрав друзей и товарищей своих, рассказывал им, смеясь, шутку свою. Он говорил им: «Нынче, когда вели на смерть Дорофею, которая называла себя невестой Христовой и уверяла, что идет в рай небесный, я сказал ей: „Невеста Христова, пришли мне цветов и плодов из рая Жениха твоего», и она мне ответила, что пришлет». Все смеялись, но вдруг Феофилу явился отрок светлый и прекрасный, державший в руках три яблока и три розана; он подал их Феофилу и сказал: «Дорофея, по обещанию своему, присылает тебе это из рая Жениха своего». С этими словами отрок удалился, а в руках у Феофила остались плоды и цветы. Феофил смутился и воскликнул: «Истинный Бог есть Христос!»
«С ума ли ты сошел, Феофил?» – говорили изумленные приятели. Но Феофил показал им цветы и плоды, напоминал им, что в эту пору, зимой, вся Каппадокия покрыта снегом и в ней не растут ни цветы, ни плоды. «Блаженны верующие во Христа и страдающие ради имени Его! – воскликнул он в заключение речи своей. – Ибо Он есть Бог истинный, и верующие в Него воистину премудры!» Товарищи его с изумлением внимали его словам; наконец, видя, что Феофил продолжает славить Бога истинного, некоторые из язычников донесли на него правителю. Правитель призвал его к себе. Феофил исповедовал бесстрашно Иисуса Христа.
– Дивлюсь, – сказал правитель, – как ты, человек мудрый и ученый, вдруг хвалишь имя Того, Которого хулил до сих пор.
– Поэтому и познал, что Он истинный Бог, что так внезапно отвратил меня от заблуждений и дал мне узнать путь правды, – отвечал Феофил.
Правитель старался отклонить его от веры, но Феофил продолжал с твердостью исповедовать Христа.
– Я доселе заблуждался, – говорил он, – и потому хулил имя Христа; ныне же каюсь в прежних грехах и хулениях. От всего сердца верую в бессмертного Христа, Сына Божия, и исповедую имя Его святое.
– Я вижу, что ты желаешь погибнуть злой смертью, – сказал правитель.
– Напротив, я желаю обрести благую жизнь, – отвечал Феофил.
– Перед смертью я предам тебя жестоким мучениям, – говорил правитель.
– Я желаю умереть за Христа Бога.
– Вспомни о жене и о детях своих, – говорил правитель, – не великое ли безумие самовольно идти на мучение и казнь?
– Не безумие, а мудрость великая – не бояться временных мук и искать жизни вечной, – говорил Феофил.
– Неужели же ты любишь мучения более спокойствия и смерть более жизни? – спросил правитель.
– Я боюсь не мучений и смерти, – отвечал Феофил, – но тех мук, которые не имеют конца, и той смерти, которая ведет за собой вечную казнь.
Тогда правитель, видя, что увещания бесполезны, велел повесить Феофила на дерево и жестоко бить, а мученик радовался, что страдает за Господа, и благодарил Бога. Правитель велел еще усилить мучения: рвать тело его железными когтями и опалять его огнем; но среди страданий лицо Феофила сияло радостью, и он продолжал исповедовать имя Христа. Наконец его осудили на смертную казнь. Феофил преклонил голову под меч и со словами: «Благодарю Тебя, Христе, Боже мой» – отошел к Господу.
В тот же день память святого Вукола, поставленного святым Иоанном Богословом в епископа Смирнского.
Память преподобного Парфения, епископа Лампсакийского
7 февраля
Преподобный Парфений, епископ Лампсакийский, родился в Мелитополе и в детстве не получил образования; но, усердно молясь в церкви и слушая внимательно чтение священных книг, возлюбил Господа всем сердцем и старался исполнять Его заповеди и помогать нуждающимся; сам он был беден, ловил рыбу в ближнем озере и, продавая ее, помогал бедным. Господь сподобил молодого Парфения благодати Своей и дал ему силу целить недуги призыванием имени Его. Епископ Мелитопольский, узнав об этом, призвал Парфения, позаботился о его образовании и впоследствии посвятил его в пресвитеры. Святой Парфений стал еще усерднее служить Богу и помогал ближним, пользуясь чудотворной силой. Он был избран в епископы города Лампсака, пас верно паству свою и творил много чудес.
В тот же день память преподобного Луки Элладского. Он был сыном бедного земледельца и с ранних лет отказывал себе во всем, чтобы помогать неимущим. Он раздавал им пищу свою, снимал с себя одежду и отдавал бедным, часто перенося за то брань и побои от родителей. Пожелав посвятить себя вполне Богу, он сделался иноком и провел всю жизнь в трудах и молитве. Господь сподобил его дара чудотворений. Он скончался в середине X века.
Страдание святого великомученика Феодора Стратилата
8 февраля

В начале IV столетия, при императорах Константине и Ликинии, Феодор, родом из Евхаит, славился в стране своей добродетелью, мудростью и храбростью. Страшный змей опустошал окрестности города, все боялись подойти к пропасти, в которой гнездилось чудовище; но молодой Феодор, призвав имя Бога, ибо был христианин, вооружился мечом и умертвил змея. С этих пор слава его особенно возросла; он был назначен стратилатом, или воеводой, в город Ираклию, близ Черного моря. Феодор мудро правил вверенным ему городом; и многие, видя его добродетели, его кротость и правосудие, славили Бога, Которому он служил, и принимали веру Христову.
Это дошло до императора Ликиния, который правил восточной частью империи, где находился город Ираклия. Хотя в первые годы царствования своего Ликиний издал вместе с Константином несколько указов, благоприятствовавших христианам, но в душе он ненавидел христиан и стал впоследствии строго преследовать их. Услышав, что Феодор обращает многих ко Христу, он послал звать его к себе в Никомидию.
Скрывая гнев свой, Ликиний поручил посланным обращаться ласково с Феодором; они говорили ему: «Приди в Никомидию к царю; он любит тебя, ибо много слышал о храбрости твоей и о мудрости твоей, он очень желает тебя видеть, чтобы наградить тебя дарами и почетом».
Феодор легко понял, в чем дело. Он не боялся умереть за веру свою, но ему хотелось принять мученичество в своем городе, чтобы примером своим утвердить в вере вновь обращенных. Поэтому он написал царю и просил его самого приехать в Ираклию.
Ликиний согласился. В сопровождении сановников двора своего и многочисленных воинов он отправился в Ираклию и велел нести за собой идолов золотых и серебряных.
В эту самую ночь чудное явление предвестило Феодору, что близко время подвига его. Во время молитвы вдруг небесный свет осиял его, и он услышал голос, говоривший ему: «Дерзай, Феодоре, Я с тобою!» Феодор понял, что ему скоро надо будет страдать за имя Христово, и сердце его исполнилось радости.
Между тем царь подходил к городу. Феодор, узнав о его приближении, вошел в комнату свою и, став на колени, усердно молился Богу. «Господи Боже истинный! – говорил он. – Не оставляющий Своей помощью тех, которые уповают на Тебя! Яви мне милость Свою и сохрани меня от искушений врага! Укрепи меня и дай мне силу стоять мужественно за имя Твое и, если нужно, положить жизнь мою за Тебя, умершего ради нашего спасения!»
Укрепившись молитвой, Феодор надел богатую одежду, сел на коня и выехал с гражданами и воинами навстречу царю, которому почтительно поклонился. Ликиний принял Феодора милостиво, при звуке музыки труб и литавр въехал он торжественно в город.
На следующий день царь сел на престол, приготовленный для него на площади, посреди города. Оруженосцы и сановники окружили его; он обратился к Феодору и стал хвалить и мужество, и красоту его, и мудрость его распоряжений, и порядок, который нашел в городе. Вслед за этим он повелел ему принести жертву богам перед всем собранным народом. Феодор упросил царя отложить это жертвоприношение на два дня и на это время позволить ему взять идолов к себе домой. Ликиний согласился; отнесли золотых и серебряных истуканов в дом Стратилата, который в ту же ночь раздробил их на части и эти части потом раздал нищим.
По прошествии двух дней царь, вновь собрав народ на площади, призвал Феодора и сказал ему: «Премудрейший Феодор, любимый наш воевода! Вот настал день празднества и жертвоприношения. Принеси же жертву богам, чтобы весь народ, видя благочестие твое, служил им с большим усердием». Прежде чем Феодор успел ответить царю, один из воинов подошел к Ликинию и сказал ему:
– Государь! Тебя обманывает Стратилат. Я вчера видел золотую голову одного из богов у нищего, который сказал мне, что он получил ее от Феодора.
Царь был так поражен этим известием, что долго в недоумении молчал.
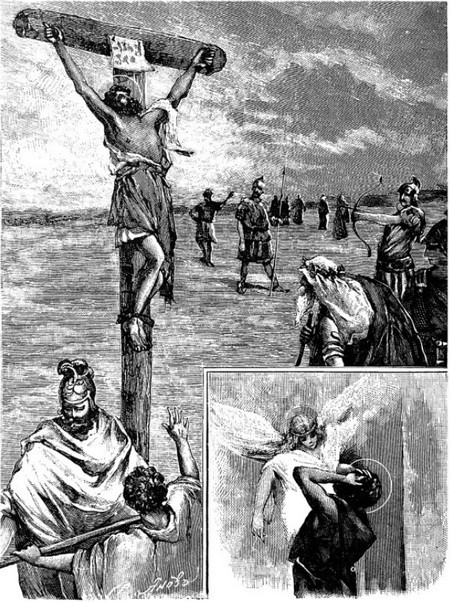
– Этот воин говорит правду, – сказал Феодор. – Я действительно сокрушил богов твоих, и хорошо сделал. Как могут они помочь тебе, когда сами не могли спастись от разрушения?
Долго Ликиний не мог от гнева выговорить ни одного слова, но наконец разразился страшными угрозами на Стратилата; но тот спокойно отвечал: «За что гневаешься, государь? Я доказал тебе ложность богов твоих; если бы они были истинными богами, почему не послали они огня с неба, чтобы истребить меня, когда я разрушил их? Я не боюсь гнева твоего и радуюсь гибели кумиров твоих. Ты поклоняешься богам ложным, я же поклоняюсь Богу живому, вечному и Его одного славлю».
Ликиний приказал жестоко бить Феодора воловьими жилами и, глумясь над его страданиями, говорил ему: «Что же, Феодор, избавил ли тебя Бог твой?» Феодор спокойно отвечал: «Делай что хочешь; ни скорбь, ни гонения, ни страдания, ни самая смерть не лишат меня любви Христовой». Ликиний не мог понять, что Господь Бог невидимо, но всемогущей силой помогал страдавшему за имя Его; ибо что, если не благодать Господа, дает твердость немощному естеству нашему терпеливо переносить страдания? Не видя помогающего, Ликиний глумился над могуществом Бога. В ярости своей он велел еще сильнее мучить Стратилата, бить его оловянными прутьями, опалять его огнем, острыми черепицами тереть раны его. Святой все переносил с терпением, повторяя только: «Слава Тебе, Боже мой!» После долгих истязаний заключили его в темницу и в продолжение пяти дней не давали ему есть.
Между тем Ликиний велел приготовить крест и по прошествии пяти дней вывел святого из темницы, чтобы распять его. Пригвоздили руки и ноги его ко кресту, и воины по повелению Ликиния стреляли из лука в лицо его и выкололи ему глаза. При страдании Феодора присутствовал верный служитель его Авгарь, который записывал все происходившее. Видя господина своего изнемогавшего, он с плачем пал к ногам его, прося его благословения и последнего слова. «Авгарь, – сказал ему мученик, – запиши все мои страдания и день кончины моей». Потом он обратился с молитвой к Господу и излил перед Ним скорбь души, изнемогавшей от страданий. «Господи! – говорил он. – Ты обещал мне быть со мной; зачем же Ты оставил меня ныне? Меня растерзали Тебя ради; выкололи мне глаза, уязвили лицо, ранами покрыли тело мое. Вся плоть моя раздробилась, и одни кости висят на кресте сем. Помяни меня, Господи, страдающего ради имени Твоего, и приими дух мой, ибо отхожу от жизни сей». После этих слов мученик умолк. Ликиний, полагая, что он скончался, удалился к себе и велел оставить тело на кресте.
В первую22 стражу ночи ангел Божий явился Феодору; сняв его со креста, он исцелил раны его и сказал ему: «Радуйся и укрепляйся благодатью Господа нашего Иисуса Христа, ибо с тобой Господь Бог; зачем сказал ты, что Он оставил тебя? Соверши подвиг твой, и приидешь ко Господу принять уготованный тебе венец бессмертия!» Сказав это, ангел сделался невидимым, а святой мученик Феодор, исцеленный и укрепленный благодатью Божией, стал громко славить Господа.
Рано поутру царь послал двух сотников, Антиоха и Патрикия, снять с креста тело Стратилата. Он имел намерение положить его в оловянный ящик и бросить в море; ибо не хотел, чтобы тело мученика досталось христианам, которые благоговейно чтили останки умерших за Христа. Каково же было удивление посланных, когда они увидели Феодора, сидящего у подножия креста и громко славящего имя Господа! Патрикий, изумленный чудом, познал силу Господа и воскликнул: «Велик Бог христианский и нет Бога другого!» Оба сотника, подойдя к Феодору, сказали ему: «Молим тебя, мученик Христов, приими нас; от сего часа и мы христиане». Вместе с сотниками уверовали и пришедшие с ними семьдесят воинов.
Ликиний, узнав об этом, послал одного из главных начальников, по имени Сикст, и триста воинов, чтобы взять всех уверовавших; но и посланные обратились к Богу, видя чудеса, творимые Феодором. Около него собралось множество народа, который восклицал: «Един Бог, Богхристиан!» – и с гневом порицал Ликиния. Но Феодор усмирял волнение народа и проповедовал покорность и кротость, указывая на пример Христа, Который среди страданий молился за мучителей Своих. Он учил обратившихся закону Божию, одним прикосновением руки исцелял больных, и число верующих умножалось с каждым часом. Все они окружили его, внимая его учению, а христиане, находившиеся в толпе, ободряли прочих и восклицали: «Даже до смерти подвизайтесь о истине, и Господь Бог поборет по нас» (Сир. 4:32).
Один из близких царю людей пошел к Ликинию и объявил ему, что весь город оставляет богов и обращается к Тому, Которого проповедует Феодор. Ликиний послал палача, чтобы взять Феодора и предать его казни. Народ с яростью бросился на палача, чтобы убить его, но Феодор усмирил волновавшуюся толпу, говоря: «Подобает мне идти к Господу моему Иисусу Христу». Помолившись и благословив уверовавших и служителя своего Авгаря, он отдался в руки палача и с покорностью пошел на казнь. Все христиане со свечами и кадилами сопровождали тело его до места погребения. Впоследствии оно было перенесено в родной город святого великомученика Евхаиты.
Авгарь, присутствовавший при страданиях святого Феодора, записал все, что видел, дабы сохранилась память о святом мученике и дабы прочие христиане почерпнули из этого повествования благой пример и твердое упование на Бога, не оставляющего Своей помощью тех, которые право веруют в Него и с самоотвержением исповедуют святое имя Его.
Страдание святого мученика Никифора
9 февраля
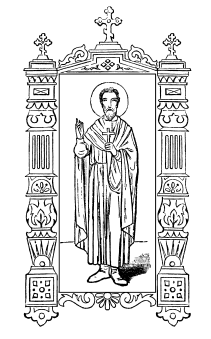
В городе Антиохии священник по имени Саприкий и мирянин по имени Никифор, христиане, были связаны между собой тесной дружбой. В таком согласии прожили они несколько лет; но дух злобы, от которого приходят все грешные мысли, вражда и зависть, возмутил мир, господствовавший между друзьями, они рассорились, и страшная вражда заменила прежнюю дружбу. Через некоторое время, однако, Никифор, поняв, как грешны и неугодны Богу чувства вражды, пожелал помириться с Саприкием, но Саприкий об этом и слышать не хотел. Напрасно Никифор прибегал к посредничеству общих приятелей, напрасно он сам со слезами умолял Саприкия простить ему, если он в чем виноват, и возвратить ему прежнюю дружбу. Он напоминал ему, что Иисус Христос, Которому они служат, заповедал нам любить друг друга и прощать обиды. Но Саприкий упорствовал во вражде своей, забывая, что Господь не приемлет молитвы тех людей, которые хранят в сердце своем злобу на ближнего. Саприкий не хотел и слышать о Никифоре, и, когда тот со слезами падал к ногам его и молил его о примирении, он молча уходил прочь и не хотел даже взглянуть на прежнего друга своего.
Это было в середине III столетия. Настало тяжкое гонение на христиан. Саприкий, как священник, был взят одним из первых и приведен на суд к правителю. Он безбоязненно исповедал пред ним веру свою.
– Наши цари, Валериан и Галлиен, – сказал правитель, – повелевают, чтобы все, называющие себя христианами, принесли жертвы богам или были преданы мучительной смерти.
– Я христианин, – отвечал Саприкий, – поклоняюсь одному истинному Богу, Создателю мира, и не могу поклониться идолам, которые сами – создания рук человеческих.
Правитель велел жестоко мучить Саприкия; с необычайной твердостью вынес Саприкий ужасные страдания и говорил правителю: «Ты имеешь власть только над телом моим; дупгуже мою хранит Бог, создавший ее!» Правитель, видя, что мучения не склоняют Саприкия к отречению от веры, осудил его на смертную казнь.
Повели пресвитера на казнь. Вдруг шествие было остановлено Никифором. Припав к ногам Саприкия, он говорил ему: «Мученик Христов, прости меня, если я виноват перед тобой!» Но Саприкий с гневом отвернулся и продолжал путь свой. Никифор вновь обратился к нему: «Мученик Христов! – повторял он. – Прости меня, если я, как человек, согрешил перед тобой. Ты скоро примешь венец мученичества от Христа, ибо не отрекся Его и твердо исповедовал имя святое Его. Прости меня перед смертью твоей!»
Но Саприкий не захотел и отвечать Никифору: так сильна была его вражда. Воины, которые вели его на казнь, удивлялись, как может человек перед смертью своей хранить столько злобы и ненависти. Они говорили Никифору:
– Этот человек идет на смерть; он уже тебе вредить не может. К чему так настоятельно просить тебе у него прощения?
– Вы не знаете, чего я желаю от исповедника Христова, – отвечал Никифор, – но Бог это знает.
Когда пришли на место казни, Никифор в третий раз сказал Саприкию: «Молю тебя, мученик Христов, прости меня, если я, как человек, согрешил против тебя. Писано: „Просите и дастся вам“ (Мф. 7:7). Я прошу у тебя прощения».
Но и тут Саприкий остался неумолим, не внял молению брата, не смягчил гнева своего; и Господь наказал его за его жестокосердие. Сказано в Евангелии: «Отпустите и отпустится вам; в нюже меру мерите, возмерится вам» (Мф. 7:2). Господь, Судия праведный, исполнил слова эти над Саприкием. Он отнял у него благодатную силу, укреплявшую его среди мучений, и сердце Саприкия, немилосердное и жестокое, исполнилось вдруг робостью и малодушным страхом смерти. Когда пришлось ему склонить голову под меч, он вдруг отрекся от Христа и воскликнул громким голосом: «Не убивайте меня! Я сделаю все, что повелевают цари: поклонюсь богам и принесу им жертву».
Эти слова ужаснули Никифора. «Что делаешь, брат возлюбленный! – воскликнул он. – Опомнись, не отрекайся от Господа нашего, не губи венца небесного, который ты сплел себе многими страданиями. Ты уже стоишь у двери чертога Христова, и Господь воздаст тебе жизнь вечную за временную смерть, которую приимешь за имя Его!» Но увещания Никифора остались бесполезны. Как Саприкий затворил сердце свое для голоса любви и милосердия, так оно теперь оставалось закрыто и для спасительных советов и внимало только внушениям страха и малодушия. Он повторил отречение свое. Тогда Никифор, обратившись к воинам, воскликнул: «Предайте меня казни; я христианин!» Один из воинов отправился к правителю и сообщил ему, что Саприкий отрекся от Христа, но другой объявляет себя христианином и готов умереть за веру свою. Правитель велел освободить Саприкия, а Никифору отсечь голову. Никифор радостно склонил голову под меч.
Как поучителен для каждого из нас пример Саприкия, лишенного благодати Бога и всесильной помощи Его зато, что не исполнил заповеди Господней, которая повелевает нам любить ближних и прощать им согрешения и обиды! Оставленный Богом и лишенный Его милости, Саприкий не мог уже довершить начатого им подвига, ибо мы сильны не сами собой, а Богом, Который подает крепость и силу. Правда, не все мы призваны доказать нашу веру трудными подвигами, великими и громкими делами: это участь очень немногих; но все мы призваны исполнять ежедневные христианские обязанности: все мы можем служить и помогать ближним, прощать обиды, сносить терпеливо оскорбления и разные мелкие неприятности. Исполнением этих ежедневных обязанностей мы можем доказать нашу любовь к Богу, приобрести постоянное внимание к Его закону, сделаться угодными Господу, Который, видя наше усердие и веру, даст нам всесильную помощь Свою. Без нее мы слабы и немощны и не можем перенести, как следует, испытаний, выпадающих на долю каждого из нас, не можем твердо устоять против искушений и не падать духом перед опасностью.
Память священномученика Харалампия, епископа Магнезии
10 февраля
Харалампий пострадал в начале III века, при римском императоре Септимии Севере. Он был епископом в городе Магнезии, в Малой Азии. Не страшась гонения, он смело проповедовал Бога истинного и старался отвратить людей от поклонения идолам. Он говорил: «Царь мой Иисус Христос послал пророков и апостолов, чтобы все люди вразумились проповедью их святой и шли неуклонно путем правды. Поклоняющиеся идолам предают души свои смерти; Иисус же Христос пророками и апостолами послал нам слова небесной жизни, которыми расточатся враги наши и погибнет сила бесовская. Следует же верить словам, указывающим путь жизни вечной, а не приставать к делам, приносящим душе гибель вечную».
Власти языческие схватили святого епископа, привели его к судье, который долго увещевал его поклониться идолам; епископ решительно отказался отречься от Господа Бога, и тогда предали его страшным истязаниям. Терзали тело его железными когтями, но старец с терпением и мужеством переносил страдание и говорил мучителям: «Благодарю вас, что, терзая ветхое тело мое, обновляете дух мой, желающий облечься в новую, вечную жизнь».
Видя изумительную твердость старца и чудесные явления силы Божией, множество язычников уверовало. Стали они славить Бога истинного, и многие из них были осуждены на смертную казнь. Чудесно исцеленный от ран своих, святой епископ призывал язычников к разумению истины, исцелял больных и силой Божией творил чудеса. По повелению императора он был осужден на смертную казнь, но отошел к Господу прежде, чем его коснулся меч палача.
Память священномученика Власия
11 февраля
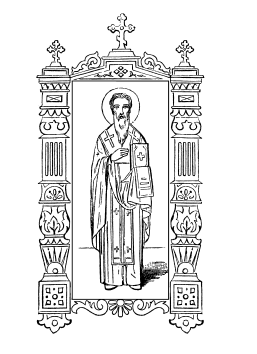
Святой Власий, с юности служивший Богу, был епископом в каппадокийском городе Севастии. Когда при Диоклетиане началось жестокое гонение на христиан, епископ увещевал к терпению страдающих, посещал заключенных в темницах и утешал их словами любви и веры. Во время этого гонения многие из севастийских христиан претерпели мучения; многие удалились в пустыни и леса, ожидая там прекращения бедствия. Тогда и Власий, видя, что в городе почти не оставалось христиан, удалился и поселился в пещере, в горе, называемой Аргеос. Там он проводил дни в молитве, труде и строгом воздержании. Только дикие звери разделяли одиночество праведного; они подходили к нему, останавливались у входа в пещеру, когда он стоял на молитве, и Власий, выходя, ласкал их, клал на них руки и даже лечил их болезни и раны. В этой отдаленной пещере скрывался Власий во время гонения Диоклетиана и в начале гонения Ликиния.
В царствование Ликиния воины, посланные правителем страны в пустыню на ловлю диких зверей, пришли однажды к горе Аргеос. У пещеры, где обитал святой Власий, они увидели множество зверей и, подойдя ближе, нашли и старца, стоявшего на молитве. Не сказав святому ни слова, они возвратились к правителю и объявили ему о том, что видели. Правитель послал их вновь в пустыню, чтобы они привели к нему скрывавшихся христиан, которых найдут.
Воины пошли и объявили Власию о приказании правителя. Власий, спокойно выслушав их, сказал: «Хорошо, дети мои, пойдемте; Господь вспомнил обо мне. Он в эту ночь явился мне трижды и сказал мне: „Встань и принеси Мне жертву, по обычаю священства твоего"».
Власий отправился с воинами и дорогой обратил многих из спутников своих к истинному Богу, объясняя им с кротостью и любовью закон Господень и силой Божией творя чудеса. Множество народа стекалось к нему по пути, принося больных и прося его помощи, и Власий, добрый и милосердный ко всем, оказывал помощь не только людям, но еще и животным. Одна бедная вдова, упав к ногам его, рассказала ему со слезами, что волк похитил у нее последнего поросенка. Власий улыбнулся и сказал ей: «Не плачь, возвратится поросенок твой цел и невредим». Действительно, к удивлению и радости убогой вдовы, волк принес назад свою добычу. У нас и поныне святой Власий почитается покровителем животных.
Когда в Севастии святого Власия привели на суд, правитель старался сперва ласковыми увещаниями склонить его к отречению, но Власий ответил ему решительно, что не поклонится идолам; тогда правитель велел жестоко бить его. Власий с твердостью перенес истязание и говорил правителю: «Напрасно думаешь ты мучениями отклонить меня от Божия исповедания. Я имею Иисуса Христа, укрепляющего меня, делай со мной, что хочешь!»
После истязания Власий был отведен в темницу. Бедная вдова, которой он помог, узнав об этом, заколола своего поросенка, сварила голову его и ноги и, обложив блюдо овощами и плодами, принесла блюдо святому в темницу. Он с радостью видел ее благодарность, принял приношение и благословил ее. Он повелел ей ежегодно совершать память по нем и обещал ей, что на доме ее пребудет благословение Божие.
Через некоторое время Власия привели вновь к правителю.
– Если не принесешь жертвы богам, то погибнешь в жестоких мучениях, – сказал ему правитель.
– Боги, не сотворившие неба и земли, да погибнут, – отвечал Власий. – Смерть же, которой ты мне угрожаешь, исходатайствует мне жизнь вечную.
Правитель, видя его непреклонность, велел снова жестоко мучить его. Повесили его на дерево и терзали его тело железными орудиями, но святой, твердо перенося мучения, говорил правителю:
– Думаешь ли страданиями устрашить меня, имеющего помощника в Иисусе Христе? Не боюсь видимых мук, ибо взираю на будущие блага, обещанные Господом любящим Его.
Правитель велел снять мученика с дерева и отвести его в темницу. Когда вели его, за ним следовали семь благочестивых жен, которые с благоговением собирали падающие от ран его капли крови. Служители правителя, видя это, схватили их и привели на суд, говоря: «И они христианки». Правитель повелел им принести жертву богам. Благочестивые жены, чтобы дать идолопоклонникам спасительный урок о суете идолов, притворились готовыми исполнить повеление правителя, только просили его позволить им прежде помыться в ближайшем озере и взять с собой идолов для поклонения им там же. Охотно отпуская их под стражей, правитель вручил им и идолов. Святые жены, взяв идолов, побросали их в озеро. Правитель, услышав об этом, призвал святых жен и, чтобы устрашить их и склонить к отречению, велел принести страшные орудия казни и разложить их на одной стороне, на другой же стороне положить богатые одежды и украшения и, указывая на те и другие, говорил женам: «Изберите, что желаете: поклонитесь богам и принесете им жертвы – спасете жизнь свою и будете украшаться этими драгоценными нарядами; если же не захотите поклониться богам, то погибнете в жестоких мучениях».
Одна из женщин, с которой было двое детей, взяла драгоценную одежду и бросила ее в огонь; дети же говорили матери своей: «Честная мать наша, не оставь нас погибнуть на земле, но как ты в младенчестве питала нас молоком твоим, так и ныне приобщи нас к трапезе и насыти нас Царствия Небесного».
Тогда, убедившись, что христианки не соглашаются отречься от Христа, правитель велел жестоко мучить их: терзали тела их железными орудиями. Но ангел Божий явился им и укреплял их, говоря: «Не бойтесь, но продолжайте подвиг ваш. Как хороший, усердный работник, который, начав жатву, кончает ее и, окончив, принимает награду от господина и возвращается, радуясь, в дом свой, так и вы подвизайтесь, да приимите от Спасителя вечную бессмертную жизнь».
Правитель велел бросить мучениц в огонь, но они вышли оттуда невредимы и продолжали с твердостью свидетельствовать о Господе. Наконец велено было отсечь им головы мечом. Перед казнью они встали на колена и молились, говоря: «Слава Тебе, великому Богу нашему! Слава Тебе, Христе, царствующему вовеки и призвавшему нас на путь благостыни Твоей, сподобившему нас отступить от тьмы и прийти к истинному и сладкому свету Твоему! Молим Тебя, Господи, причти и нас к святой первомученице Фекле и прими молитвы о нас святого отца нашего Власия, наставившего нас на путь истинный!» Окончив молитву свою, семь святых мучениц были усечены мечом.
Власия третий раз привели на суд; он продолжал хранить ту же непоколебимую твердость.
– Терзай тело мое, как хочешь, – говорил он правителю, – над душой же моей властен один Бог.
– Поможет ли тебе Христос твой, если я велю бросить тебя в озеро? – сказал правитель.
– И на воде явится сила Бога моего, – отвечал Власий.
Правитель исполнил угрозу свою; но Власий, брошенный в озеро, пошел по воде, как посуху. Достигнув середины озера, он сел и обратился к воинам, убеждая их сделать то же силой богов их. Шестьдесят восемь воинов, призвав богов своих, решились идти, но потонули в озере. Ангел же Господень явился святому и сказал ему: «Исполненный благости архиерей Божий, сниди с воды и прими уготованный тебе венец от Бога». С лицом, озаренным чудным светом, священномученик вновь пришел на берег. Правитель, обвинив его в смерти шестидесяти восьми воинов, осудил его на смертную казнь.
На месте казни святой сперва помолился о всем мире, о тех, которые по смерти его будут чтить его память, и, получив от Христа обещание, что прошение его будет исполнено, склонил голову под меч. С ним казнили и двух отроков, сыновей одной из семи мучениц.
Житие святого Мелетия, архиепископа Антиохийского
12 февраля
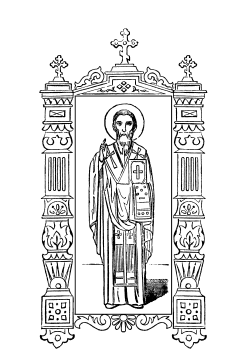
В IV веке распри и различные ереси возмущали спокойствие Церкви. В особенности распространилась ересь Ария, который отвергал единосущие Сына Божия с Богом Отцом. Отвергнутая и осужденная Никейским Вселенским собором, эта ересь нашла, однако же, много последователей. Император греческий Констанций, один из сыновей Константина Великого, был склонен к арианству и преследовал епископов, не согласных с ним. Во многих городах было по два епископа, народ и духовенство приставали то к одному, то к другому, и попеременно торжествовало то православие, то арианство. Но сами ариане разделялись на две секты – чистых ариан и полуариан, которые враждовали между собой. Везде вражда, мщение и часто кровавые распри заменили любовь и мир, завещанные Иисусом Христом.
Среди этих трудных обстоятельств Мелетий, родом из Армении, бывший епископом Севастийским, был единодушно избран архиепископом в Антиохию. На это избрание согласились и ариане, которых в Антиохии было больше, нежели православных. Они надеялись в новом архиепископе найти единомышленника себе, но вскоре убедились, что ошиблись в ожиданиях своих. Дней через тридцать после избрания своего Мелетий проповедовал в храме. Все присутствовавшие, православные и ариане, с нетерпением ожидали от него изложения веры его. Мелетий стал прославлять догматы, утвержденные Никейским собором, и исповедовать Иисуса Христа как единосущного Отцу, равного Ему в силе и славе и, как Он, Творца вселенной. Это всенародное исповедание православия сильно рассердило ариан; один из архидиаконов, приверженец лжеучения, приступил к архиепископу и рукой зажал ему рот. Тогда архиепископ, подняв руку, показал народу три перста в знамение Святой Триипостасной Троицы и потом, согнув два пальца, показал один, тем знаменуя Единое Божество. Архидиакон схватил его за руку, и Мелетий стал вновь устами исповедовать и прославлять нераздельную Троицу и единое Божество, увещевая народ твердо и неизменно держаться истины. Рассерженный архидиакон то удерживал руку, то заграждал уста святого, так ревностно проповедовавшего истинную веру.
Православные начали громко выражать радость свою и славить Пресвятую, Единосущную, Нераздельную Троицу; рассерженные же ариане изгнали из церкви архиепископа и стали с тех пор хулить его и называть еретиком.
С твердостью духа Мелетий соединял необычайную кротость и постоянно старался усмирить распри и вражду. Он подавал пастве своей пример всех добродетелей и умел окружать себя людьми достойными. Он посвятил в диакона святого Василия Великого, пришедшего из Иерусалима в Антиохию; предузнав великие дарования святого Иоанна Златоуста, который в то время был еще очень молод, он убеждал его изучать церковное писание, окрестил его и потом назначил чтецом при церкви.
Между тем ариане, видя, что они ошиблись в надеждах своих, убедили императора Констанция низложить святого Мелетия и сослать его в заточение в Армению; сами же избрали себе епископа из ариан. Но все это дело было незаконно, потому что Мелетия, избранного всем собором, нельзя было низложить иначе, как созвав опять собор. Бумага с подписью избравших святого Мелетия хранилась у Евсевия, епископа Самосатского. Ариане уговорили Констанция вытребовать ее у Евсевия, но Евсевий с твердостью сказал посланным: «Общего определения, вверенного мне, я не отдам, разве вверившие его мне соберутся и пожелают этого». Царь, разгневавшись, грозил отсечь правую руку епископа. «Отсеките обе руки, – говорил Евсевий посланным, – но бумаги я не отдам». Твердость епископа устрашила врагов его: они оставили его в покое, но Мелетий был в изгнании до самой смерти Констанция.
После Констанция взошел на престол Юлиан, племянник Константина Великого. Юлиан был воспитан в христианской вере, но в душе ненавидел ее и, как только сделался императором, отрекся от нее и стал с величайшим усердием служить богам языческим. Убедившись, что жестокие гонения не мешают христианскому закону распространяться, Юлиан прибегнул к более хитрым мерам. Он стал оказывать христианам величайшее презрение, закрывал христианские училища, отнимал у церквей доходы их, под предлогом, что христианам простота приличнее, нежели великолепие. Между тем он старался возвысить и очистить язычество. Он предписывал язычникам покаяние в грехах, строгую жизнь, удаление от суетных увеселений, милостыню; учреждал училища, больницы, странноприимные дома; украшал языческие храмы. Этими мерами он думал дать язычникам превосходство над христианами.
Вместе с этим, объявив полную веротерпимость, Юлиан вызвал из ссылки всех изгнанных епископов, как православных, так и ариан. Он надеялся, что спорами своими о вере они сами помогут ему ослабить силу христианского учения. Вместе с другими епископами и Мелетий был возвращен, но он нашел православных разделенными между собой. Одни признавали епископом Павлина, избранного во время его отсутствия, другие, ожидая возвращения Мелетия, отказывались быть в общении с павлинианами. Эти распри огорчали епископа, и он с кротостью старался водворить мир и согласие. Вскоре новое гонение заставило его удалиться из Антиохии.
Юлиан, предприняв поход против персов, прибыл в Антиохию. Там, в предместье, называемом Дафне, стоял храм, посвященный Аполлону. Этот храм прежде был великолепен и богат, но с распространением христианства языческий храм утратил свое прежнее значение. В нем уже не делалось усердных жертвоприношений, и он часто стоял пуст; между тем как великое множество народа стекалось в близ находившуюся церковь, в которой лежали мощи святого мученика Вавилы23. Юлиан посетил храм Аполлона, чтобы вопросить идола об успехе войны; но идол не дал ему ответа. Жрецы, ненавидевшие христиан, приписали эту неудачу соседству мощей мученика. Велено было убрать мощи. Христиане с торжеством и псалмопением перенесли их в Антиохийский собор, а Юлиан приказал великолепно отделать храм Аполлона. Но в ночь на тот самый день, когда Юлиан хотел с торжеством открыть возобновленный храм, он сгорел до основания. Обвинили христиан, хотя сами жители предместья Дафне рассказывали, что они видели, как ночью огонь с неба пал на идольское капище. Началось жестокое гонение. Много христиан было замучено. Мелетий снова был изгнан.
Вскоре после этого Юлиан скончался на войне. Наследник его, Иовиан, возвратил святого Мелетия из ссылки и созвал в Антиохии поместный собор, на котором ариане подписали свое согласие с догматами, утвержденными Никейским собором. Но Иовиану вскоре наследовал на престоле Валент, ревностный приверженец арианства; вновь ересь на время восторжествовала, вновь жестокое гонение постигло православных епископов, и Мелетий был в третий раз изгнан из Антиохии.
Император Грациан возвратил его. Мелетий стал вновь управлять паствой своей, но смуты в ней продолжались: приверженцы Павлина не признавали Мелетия; сам же Павлин снискал себе покровительство папы римского Дамаса. Святой Мелетий употреблял все старания, чтобы водворить согласие. Ему ревностно помогал святой Василий Великий, епископ Кесарийский, убеждая христиан стоять твердо в православии. Мелетий мудрыми поучениями просвещал паству свою и всем подавал пример благочестивой, истинно христианской жизни, исполненной кротости, смиренномудрия и твердости духа. При нем святой Симеон Столпник предпринял многотрудный подвиг свой. Услышав, что святой подвижник приковал себя железной цепью к огромному камню, святой Мелетий взошел к нему на гору и сказал ему: «Человек может и без оков владеть собой; не железной цепью, но волей и разумом должен он приковать себя». Симеон, осознав справедливость этих слов, снял с себя оковы и все более и более старался связать волю свою и совершенно подчинить ее духу.
Незадолго до кончины святого Мелетия вступил на престол Феодосий Великий. Феодосий еще до избрания своего на царство видел однажды во сне святого Мелетия, возлагающего на него венец и царскую порфиру. Этот пророческий сон вскоре сбылся. Грациан, чувствуя себя слишком слабым, чтобы отражать беспрестанные набеги варваров, избрал себе в соправители храброго своего военачальника Феодосия; а по смерти Грациана Феодосий стал царствовать один и ознаменовал свое царствование победами и мудрыми распоряжениями, которыми заслужил прозвание Великого.
Как мы сказали, распри и несогласия в то время волновали Церковь; ариане усилились в прошедшие царствования; кроме того, возникла другая ересь – ересь Македония, отвергавшего Божественность Духа Святого, отчего и последователи этой ереси назывались духоборцами. Феодосий, желая усмирить распри, созвал в Константинополе собор в 381 году. Это был Второй Вселенский собор. На нем осуждена ересь Македония, и Символ веры дополнен учением о Духе Святом. Между прочими епископами был призван в Константинополь и святой Мелетий, который должен был председательствовать на соборе. Феодосий, никогда не видавший его, узнал в нем того старца, которого видел во сне, венчающим его на царство. Мелетий на соборе с твердостью защищал истинные догматы веры; он умер до окончания собора, в глубокой старости. После его смерти председателем собора был назначен святой Григорий Богослов. Тело святого архиепископа было перенесено из Константинополя в Антиохию и положено близ мощей священномученика Вавилы.
Житие святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца
в тот же день
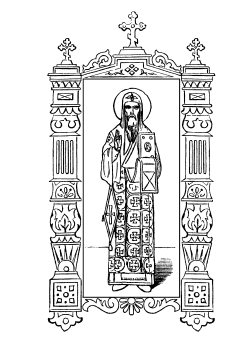
Святой Алексий родился около 1293 года в Москве. Отец его, Феодор Бяконт, был одним из именитых бояр княжества Черниговского и считается родоначальником рода Плещеевых. Частые набеги татар на Южную Россию принудили Бяконта оставить Черниговскую область, и он переселился в Москву, где княжил в то время сын Александра Невского, князь Даниил Александрович. Бяконт пользовался почетом при дворе княжеском; сын князя, Иоанн, был крестным отцом старшего сына его, который в крещении назван был Елевферием. Отрок Елевферий воспитывался в родительском доме. Одно странное событие предзнаменовало его будущую судьбу. Однажды он расставлял сети для ловли птиц; ловля не удавалась, и мальчик, утомившись, заснул. Вдруг он слышит во сне слова: «Алексий, что всуе трудишься? Тебе предстоит ловить человеков!» Елевферий проснулся. Непонятны были ему и значение слов, и новое имя Алексий. Но с этих пор в нем произошла удивительная перемена. Мальчик стал задумчив, молчалив, удалялся от детских игр и охотнее начал читать Божественные книги. Таинственный голос как будто разбудил его дремавшую душу и от забав детских обратил ее к более важным занятиям и помышлениям.
Наклонность к чтению и молитве росла в нем с каждым годом; скоро он стал желать одного – вступить в монастырь, чтобы совершенно посвятить себя Богу. Он без сожаления оставил мир, в котором мог бы занять блестящее место, и поступил в московский Богоявленский монастырь, где и постригся двадцати лет от роду под именем Алексий.
В монастыре Алексий ревностно и добросовестно исполнял все обязанности иноческого жития. Беспрестанная молитва и самый строгий образ жизни укрепляли его душу; он все более привязывался сердцем к Божественному закону и в продолжение двадцати лет, проведенных им в Богоявленском монастыре, усовершенствовался во всех добродетелях истинного христианина. Желая как можно лучше узнать Священное Писание, он занялся изучением греческого языка; и тогда, сличив с греческим подлинником славянский перевод Святого Евангелия, он сделал в нем значительные поправки. Евангелие, исправленное святым Алексием, до сих пор хранится в Чудовом монастыре и выносится во время литургии в дни, посвященные его памяти. Московский митрополит Феогност, преемник святителя Петра, узнав Алексия и оценив его добродетели и высокие дарования, приблизил его к себе и впоследствии возложил на него управление судами церковными; в то время духовенство разбирало всякого рода семейные распри и дела. Эта обязанность, которую Алексий исполнял в продолжение многих лет, познакомила его в подробности с делами Церкви. Около этого времени Алексий также близко сошелся со святым Сергием, уже посвятившим себя пустынножительству в радонежских лесах. Старший брат Сергия, Стефан, был игуменом Богоявленского монастыря, где жил Алексий. До кончины своей святитель Алексий был связан дружбой с преподобным Сергием. Различна была деятельность этих двух святых мужей: святой Сергий был весь предан молитве и жизни созерцательной, между тем как обстоятельства заставили святого Алексия принимать деятельное участие в делах гражданских; но один дух жил в обоих, как говорит апостол: «Дары различны, но Дух один и тот же… и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1Кор. 12:4,6).
Чем ближе митрополит Феогност узнавал Алексия, тем более он ценил его добродетели и желал иметь его своим преемником. Он посвятил его в епископы, уступив ему одну из своих епархий, Владимирскую; и потом, чтобы еще более упрочить выбор свой и тем устранить после смерти своей смуты и беспорядки, он, с согласия великого князя, послал в Константинополь просить патриарха и императора греческого, чтобы они не назначали в Россию другого митрополита, кроме Алексия. В то время русские митрополиты принимали посвящение в Царьграде, еще не покоренном турками. Патриарх согласился на прошение Феогноста и вызвал к себе Алексия, но посланные в Царьград по возвращении своем в Москву уже не застали в живых ни митрополита Феогноста, ни великого князя. Смертоносная язва, известная под именем «черной смерти», свирепствовала в России. Митрополит скончался, и вскоре за ним и великий князь Симеон, завещав братьям своим слушаться и почитать Алексия, избранного усопшим митрополитом. Алексию было в это время уже около шестидесяти лет.
По смерти великого князя князья стали спорить и отправились на суд к татарам в Орду, ибо в это время великий князь не мог занять престола без подтверждения татарского хана, которому Россия была подвластна. Алексий уже уехал в Царьград, чтобы получить благословение от патриарха. Патриарх благословил Алексия на принятие святительского сана, однако назначение Алексия не обошлось без смут. Болгарский патриарх без всякого на то права назначил одного Феодорита митрополитом в Россию. Патриарх Константинопольский не утвердил этого назначения, но затем появился новый соперник, Роман. В самом Константинополе по случаю двух искателей греческого престола возникли смуты, которые отозвались и на делах церковных в России. Филофей, державший сторону одного из искателей престола, удалился при торжестве соперника его, а новый патриарх посвятил Романа в митрополиты всей России. Алексий, только что возвратившийся в Москву, должен был вновь ехать в Царьград, ибо Церковь волновалась назначением двух митрополитов. Патриарх не мог иначе решить вопроса, как разделением епархий. Алексию было дано управление епархиями великорусскими, а Роману – малороссийскими, за исключением Киева, который, как первая епархия, остался за митрополитом Алексием.
Возвратившись в Москву, Алексий стал с неутомимой ревностью заниматься делами церковными. Подавая пастве своей пример деятельности, трудолюбия и ревностного исполнения обязанностей, он поучал ее и словом – давал в окружных посланиях своих назидательные для всех советы и наставления и увещевал к взаимной любви, к внимательному слушанию слова Божия, к беспрестанной молитве.
«Прежде всего, – пишет он в одном из окружных посланий своих, – предлагаю вам, дети, притчу, изреченную неложными устами Спасителя: „Се изыде сеятель сеять семя свое. Иное упало при пути, иное на камень, иное в терние и иное на добрую землю“ (Мк. 4:3–9). Семя есть слово
Божие, а земля – сердце человека. Да не будут же, дети, сердца ваши землею тернистою, не приносящею плода духовного от лености и небрежности; ни каменистою, не имеющею в себе страха Божия, ни землею при пути, которую, от пристрастия к миру, враг Божий попирает ногами. От всего этого да избавит вас Господь. Но да будет сердце ваше землею доброю для принятия истинного слова Божия, Евангелия, и да приносит плод духовный в тридцать, в шестьдесят и во сто раз».
«Вспоминаю вам, дети, слова Спасителя ученикам Своим: „Заповедаю вам, да любите друг друга; посему узнают, что вы ученики Мои, если сохраните между собою любовь“ (Ин. 13:34–35). Когда приходите в церковь, имейте со всеми мир и со всеми любовь, ибо Спаситель сказал: „Когда приносишь дар твой к алтарю и вспомнишь, что брат имеет неудовольствие на тебя, то иди прежде и помирись с братом твоим“ (Мф. 5:23–24). А входя в церковь, вострепещи душою и телом, ибо не в простую комнату входишь, а в церковь Божию; с боязнью и благоговением и со страхом Божиим в церковь входите. Если так будете делать, то и молитва церковная за вас дойдет до Бога».
Новый и необыкновенный подвиг предстоял святителю. Слава о его добродетелях и святости дошла до дальней столицы татарского хана. Супруга хана, Тайдула, впала в жестокую болезнь и ослепла. Никакое лечение не возвращало ей зрения, и она решилась обратиться к митрополиту Алексию, о котором слышала как о святом муже. Хан прислал послов в Москву с письмом к великому князю Иоанну Иоанновичу. «Слышали мы, – писал он, – что есть у вас служитель Божий, который если что попросит у Бога, то Бог его в том послушает. Пришлите его к нам; если его молитвами исцелеет царица, то будете иметь со мною мир; если же не пришлете, то пойду войной на вашу землю». Великий князь передал это письмо Алексию, умоляя его исполнить желание хана. Тут Алексий доказал твердую веру свою в Бога и пламенную любовь к отечеству. Отказ его мог бы навлечь на Россию неисчислимые бедствия; неудача могла подвергнуть его самого мучительной смерти; но он, не колеблясь, отвечал великому князю: «Дело выше сил моих, но я верую, что Бог, даровавший зрение слепорожденному, поможет и мне милостию Своею», – и стал собираться в путь. Он отслужил молебен в Успенском соборе, при гробнице митрополита Петра; во время молебствия свеча, стоявшая у гроба святителя, вдруг зажглась сама собой, что всеми было принято как счастливое предзнаменование. Между тем Господь утвердил и веру Тайдулы удивительным сном, в котором она увидела приближавшегося святителя. На другой же день она заказала ризы для митрополита и всего клира, наподобие тех, какие видела во сне. Святитель прибыл в столицу хана. Подойдя к одру больной, он зажег свечу, взятую им от гроба святителя Петра, отслужил молебен, окропил царицу святой водой, и вдруг Тайдула прозрела. Пораженные чудом, хан и супруга его в знак благодарности вручили Алексию богатые дары и отпустили его с честью в Москву. Но вскоре благо отечества вновь заставило Алексия предпринять тот же путь. Один из сыновей хана восстал против него, умертвил отца и братьев и, завладев престолом, наложил на Россию тяжкую дань и требовал, чтобы русские князья прибыли в Орду, грозя войной в случае неисполнения его требований. Ужас объял всех. Россия, ослабленная междоусобиями, не могла и думать о непослушании. Решились прибегнуть к посредничеству святого Алексия, так недавно прославившегося в Орде чудесным исцелением царицы. Великий князь и народ упросили его ехать в Орду; вновь святитель, уже удрученный годами, предпринял тот же долгий и трудный путь, и вновь успех увенчал его веру и старания. С помощью Бога, в руках Коего сердца царей, он успел склонить хана на милость и возвратился в Россию с подтверждением всех прав, дарованных прежними ханами. Его повсюду встречали как избавителя от тяжких бед. В Нижнем Новгороде, где он вышел на берег после плавания по Волге народ и князья вышли к нему навстречу, и на этом самом месте святитель Алексий впоследствии воздвигнул монастырь в честь Благовещения. Везде ожидали его торжественные встречи, все духовенство выходило к нему с иконами и хоругвями; бесчисленное множество народа теснилось вокруг него, стараясь прикоснуться к краям его одежды.
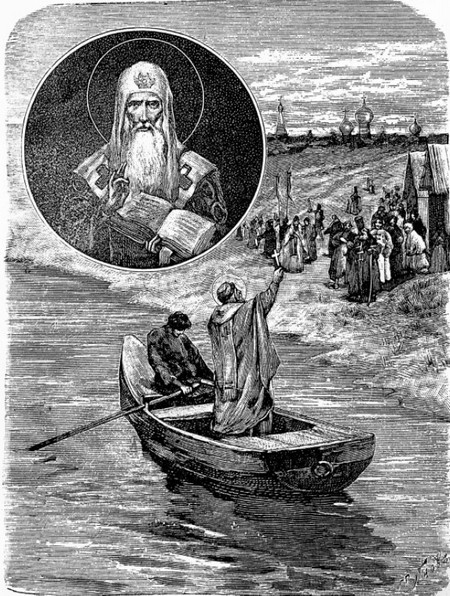
Освободив Россию от опасности, митрополит должен был вскоре предпринять новое путешествие, чтобы оградить Церковь от грозившего ей влияния латинства. Император Карл и латинские епископы старались всеми мерами ввести римскую веру в наши пограничные области. Митрополит поспешил в Киев, поучениями своими утвердил колебавшихся, почтил память трех мучеников: Иоанна, Антония и Евстафия, недавно пострадавших в Вильне за христианскую веру от язычников, и установил память этих мучеников 14 апреля.
Затем новая деятельность открылась для святителя. Великий князь Иоанн скончался, и престол перешел не к малолетнему сыну его, но к князю суздальскому, Димитрию Константиновичу, который и венчался в столице своей, Владимире. Но Алексий остался верен Москве и роду князей московских. Вскоре молодой князь Димитрий, впоследствии нареченный Донским, объявил свои права на престол и поехал в Орду домогаться великокняжеского достоинства. Хан утвердил его, и соперник уступил ему престол; но смуты между князьями не прекратились. Князья нижегородские спорили между собой. Князь тверской Михаил объявил себя великим князем и, претерпев заточение в Москве, призвал на Россию литовского князя Ольгерда. Два раза Ольгерд возобновлял набеги на Россию, осаждал Москву, опустошал огнем и мечом мирные села и города. Во все это время смут и беспорядков святитель Алексий являлся умиротворителем между враждовавшими князьями и постоянным мудрым советником молодого Димитрия, который уважал его, как отца. Наконец смуты утихли. Димитрий утвердился на престоле, и митрополит, против воли своей вовлеченный в дела гражданские, мог снова предаться делам Церкви. К этому времени относится построение многих церквей и монастырей, между прочими – Спасо-Андроникова, сооруженного во имя Спаса Нерукотворенного, вследствие обета, который Алексий дал, когда буря застигла его на Черном море, на обратном пути из Царьграда. Женский монастырь Алексиевский и обитель в Кремле, во имя чуда Архангела Михаила (Чудов монастырь), были тоже сооружены в это время.
Наконец, чувствуя, что ему недолго остается жить, Алексий пожелал избрать себе преемника и вызвал из Троицкой обители святого Сергия. Объявив ему желание свое, он велел принести себе драгоценный крест, чтобы возложить его на преподобного. Но Сергий, поклонившись ему до земли, сказал: «Прости меня, великий архиерей Христов, от юности моей я не был златоносцем, а теперь тем более хочу остаться в нищете». Никакие просьбы не могли склонить святого Сергия к принятию архипастырского престола. Между тем великий князь тщетно просил святителя благословить себе в преемники архимандрита Михаила, которого он любил. Алексий знал, что Михаил нрава гордого и кичливого, и не склонился на просьбу Димитрия.
Святитель достиг глубокой старости. Перед смертью он призвал к себе великого князя Димитрия, благословил его, дал ему благие советы и с молитвой предал душу Богу 12 февраля 1378 года, будучи 85 лет от роду.
Великий князь, духовенство и множество народа с плачем сопровождали тело святителя, который был похоронен в созданном им храме Архистратига Михаила.
Через 60 лет после кончины святителя во время богослужения свод церкви обвалился. Князь Василий велел построить новый храм, каменный вместо деревянного, и, когда начали копать рвы для основания церкви, нашли нетленные мощи святителя Алексия. Впоследствии, при князе Иоанне Васильевиче, они были перенесены в новый храм, сооруженный во имя святителя в Чудовской обители, а во второй раз, уже в царствование царей Иоанна и Петра, 20 мая 1696 года, перенесены вновь и поставлены между обеими церквами Благовещения и Святителя Алексия, которые были соединены под одной кровлей. Многочисленные чудеса прославляют святые останки угодника Божия, которому Церковь поет:
«Апостольских догмат опасна хранителя, Церкви Российския пастыря и учителя, преблаженнаго Алексия святителя память празднующе, славословим Христа Бога нашего песньми достодолжными, даровавшаго нам угодника Своего, яко обильный источник точащь врачевания, граду же Москве похвалу и утверждение».
20 мая воспоминается перенесение мощей святителя Алексия.

13 февраля совершается память преподобного Марти – ниана, подвизавшегося пустынной жизнью с восемнадцатилетнего возраста.
Память преподобного Авксентия
14 февраля
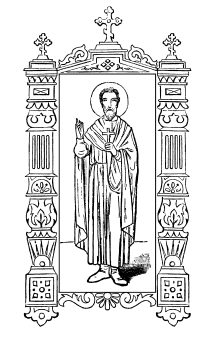
Преподобный Авксентий был сыном богатых и знатных родителей и в юных летах пользовался великим почетом при дворе Феодосия Юнейшего; но, желая всецело отдаться Богу, он оставил мир и сделался иноком. Добродетель, мудрость и обширные познания прославили имя его; он был, говорит древний историк, «муж, верный Господу, богатый сведениями разного рода, уважаемый иноками и людьми учеными». Избегая славы, смиренный Авксентий удалился на гору близ Вифинии, но и тут не мог укрыться: толпы благочестивых людей стекались к нему, желая получить от него благословение и поучение. Приносили к нему больных, прося его помощи, ибо он получил от Господа чудотворную целебную силу. Гора, на которой он жил в тесной келье, стала известна под именем горы Авксентьевой. Через некоторое время смиренный подвижник был призван на Вселенский Халкидонский собор и ревностно стоял за истину против лжеучителя Евтихия. Это навлекло на него немало оскорблений. По окончании собора он снова поселился в любимой пустыне; к пещере его опять стало стекаться множество народа, которому он предлагал поучение простое, но исполненное духовной мудрости и силы.
Святой подвижник дожил до глубокой старости.

В тот же день память преподобного Исаакия, затворника Печерского, и преподобного Кирилла, первоучителя славян. Он вторично воспоминается вместе с братом своим Мефодием 11 мая.
Житие святого апостола Онисима
15 февраля
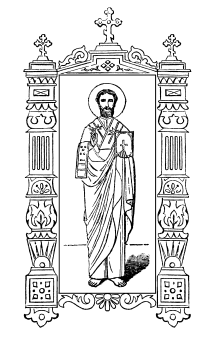
Во Фригии, области Малой Азии, жил богатый и знатный человек по имени Филимон. Когда святые апостолы проповедовали Евангелие, Филимон уверовал и был причислен впоследствии к 70 апостолам.
У Филимона, еще до его обращения, был раб по имени Онисим. Провинившись в чем-то перед господином своим, Онисим побоялся наказания и убежал от него в Рим, где тогда проповедовал святой апостол Павел. Множество римлян, слыша слова святого апостола, обращались к Господу. Пришлось и Онисиму услышать проповедь Павла. Слова его возбудили в нем искреннее раскаяние и пламенную веру. Он стал следовать за апостолом. Когда Павел подвергся гонениям и заточению, Онисим не отстал от него, принял от него Святое крещение и продолжал усердно служить ему. Павел полюбил Онисима и желал его навсегда удержать при себе; но, узнав, что он принадлежит Филимону, он не счел себя вправе оставлять его без воли господина. Он послал Онисима к Филимону с письмом, в котором просил за него прощения и увещевал Филимона милостиво принять раба своего, как брата по Христу. Это письмо, Послание к Филимону, помещено между прочими Посланиями святого апостола Павла.
Филимон не только простил Онисиму, но и даровал ему свободу. Онисим возвратился к святому апостолу и служил ему с ревностью и усердием. Он сам, наученный Павлом, сделался одним из апостолов и после смерти святого учителя своего пошел проповедовать слово Божие в отдаленные страны. Он проповедовал в Испании, во многих городах Греции и Малой Азии и уже в глубокой старости был поставлен епископом в Ефес, после Тимофея и Иоанна Богослова. Святой Игнатий Богоносец упоминает о нем в одном из посланий своих как о человеке благочестивом и деятельном, ревностно исполнявшем обязанности свои. Несколько лет был он епископом Ефесским, обращал язычников ко Христу, укреплял верующих поучениями и примером добродетельной жизни. В царствование Траяна возникло гонение на христиан, и Онисим был призван в Рим.
Приведенный на суд к епарху Тертуллу, Онисим с твердостью исповедовал имя Христа. На вопрос епарха, кто он и какого рода, он отвечал:
– Я христианин; в молодости был рабом человека; ныне же я верный раб Господа и Бога моего Иисуса Христа.
– Какой ценой купил тебя новый Господин твой? – спросил епарх.
– Сын Божий, Иисус Христос, честной Своей кровью искупил меня от погибели, – отвечал Онисим, – как написано: «…не тленным серебром или золотом искушены вы от суетной жизни, преданной вам от отцев, но драгоценною кровию Христа, как Агнца непорочного и пречистого» (1Пет. 1:18–19).
На вопрос епарха, что называется суетным житием, Онисим поименовал пороки, удаляющие нас от Господа и от закона Его: сребролюбие, ради которого мы часто обижаем ближнего; гордость, зависть, внушившую Каину братоубийство; злословие, ложь и лицемерие, враги истины; гнев, вызывающий на ссоры и родитель убийства; невоздержность и пьянство, порождающие столько зла.
– Все это называется суетным житием, – говорил Онисим, – и всему этому источник и причина – поклонение ложным богам; оно помрачает ум, делает вас пленниками греха и удаляет от спасительного познания Бога и закона Его. От этого суетного жития, обличаемого Священным Писанием, я старался удалиться, как от волнующегося моря, и пристал к доброму пристанищу, которое есть вера во единого Бога и любовь к ближнему. И тебя увещеваю, Тертулл: познай истину, оставь суету временную, прими закон любви к ближнему и обратись с верой к Создателю и Спасителю. Он примет тебя, ибо не хочет погибели прогневляющих Его, но радуется их покаянию и обращению и прощает им прежние их согрешения.
Эти слова, исполненные кротости и любви, раздражили епарха.
– Так ты не только сам упорствуешь в заблуждениях своих, – воскликнул он, – но и нас желаешь обратить к ним? Ты за это будешь наказан мучениями.
– Мучения не страшат меня, – отвечал Онисим, – среди страданий надежда на будущую жизнь утешит, и сила Христова укрепит меня.
Епарх повелел отвести Онисима в темницу; в ней святой провел восемнадцать дней; но он был утешаем частыми посещениями христиан и сочувствием их. Неверующим же он проповедовал слово Божие, и многие из них обратились к истине. По прошествии восемнадцати дней епарх изгнал Онисима из Рима и послал его в заточение в Путеол. И там святой Онисим продолжал без страха проповедовать Евангелие и обращать язычников. Узнав об этом, Тертулл вновь призвал его на суд; видя, что он непреклонен в вере своей, он велел его жестоко бить и потом предал смертной казни. Одна христианка, царского рода, взяла обезглавленное тело святого мученика и положила его в серебряную раку.
Страдание святых мучеников Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия и прочих пострадавших с ними
16 февраля

В начале IV века жил в Кесарии палестинской святой муж, глубоко уважаемый всеми, Памфил пресвитер. Вся жизнь его была посвящена Богу и ближним. Он получил прекрасное образование в родном своем городе Берите и в Александрии и потом поселился в Кесарии, где и принял пресвитерский сан. Жил он весьма бедно, ибо все, что имел, раздавал нищим, и неутомимо трудился над сличением рукописей Священного Писания. В то время текст Священного Писания был очень поврежден переписчиками. Памфил тщательно занимался исправлением его. Он был так убежден в необходимости сделать священные книги как можно более доступными всем христианам, что покупал и сам переписывал рукописи, чтобы раздавать их. Трудами и заботами его была собрана в Кесарии обширная библиотека духовных книг, всячески старался он распространить святую веру и истинное просвещение. Во время гонения, возникшего при Диоклетиане, он увещевал и ободрял христиан мужественно стоять в исповедовании веры. Гонители не могли оставить без внимания святого мужа, который так много потрудился во славу Божию. Его схватили и подвергли жесточайшим истязаниям, стараясь склонить его к отречению от веры; но Памфил вытерпел мужественно истязания и потом был заключен в темницу. Вместе с ним, после истязания за веру, заключены были в темницу диакон Валент и Павел, уже раз и прежде пострадавший за исповедание Христа.
Прошло два года. Исповедники все еще были в темнице; гонение все усиливалось. Оно было особенно сильно в областях, которыми правил император Максимин, в том числе в Палестине и Египте. Христиан мучили страшным образом и потом отправляли их на тяжелую работу в рудники, лишив их правого глаза и подрезав жилу правой ноги. Сто тридцать исповедников пострадали таким образом в Египте и были отправлены на киликийские рудники. Пять братьев христиан, провожавшие их, на обратном пути должны были остановиться в Кесарии Палестинской. У ворот города стражи спросили, кто они и откуда идут. Они все отвечали, что они христиане и что, проводив единоверцев своих до Киликии, они теперь возвращаются домой. Их тотчас же взяли и заключили в темницу. На следующий день призвали их к допросу и вместе с ними святых Памфила, Валента и Павла, томившихся в темнице уже два года. Правитель Фирмилиан стал сперва допрашивать каждого из египетских юношей об имени и отечестве его; они назвали себя именами великих ветхозаветных пророков, исповедовали себя христианами, и один из них сказал, что отечество их есть Иерусалим горний. Правитель не знал этого имени, так как со времен императора Адриана, в середине II века, древний Иерусалим был срыт и на его месте построен новый город, который велено было именовать Элией Адрианой; язычники забыли и об имени древнего Иерусалима. Правитель спросил, что это за город и какой народ живет в нем. Христианин, придавая словам своим смысл иносказательный и разумея небесный град, отвечал, что одни христиане имеют право гражданства в этом городе, стоявшем на Востоке и освещенном первыми лучами солнца. Правитель из этого ответа вывел, что христиане выстроили себе где-то на Востоке город, в котором надеются укрыться от власти римлян, и велел жестоко мучить юношу. Тот вынес мужественно ужасные истязания, славя Христа. Подобным же мучениям были подвергнуты и товарищи его, и потом все осуждены на смертную казнь. У прежних исповедников, Памфила, Валента и Павла, правитель спросил, готовы ли они теперь повиноваться царскому велению, и, получив ответ, что они не оставят веры своей, велел и им отсечь головы мечом.
Повели святых исповедников на казнь; в это время восемнадцатилетний юноша по имени Порфирий, слуга и воспитанник Памфила пресвитера, встал перед правителем, прося о позволении взять тела святых мучеников, чтобы честно похоронить их. Правитель спросил его о вере; он объявил бесстрашно, что верует во Христа; его подвергли самым страшным истязаниям, допытываясь отречения. Юноша терпел все с изумительной твердостью: не слышали от него ни крика, ни стона. Повесив его, разложили под ним огонь; пламя обдало его; он с лицом, сияющим святой радостью, призвал имя Господа Иисуса и предал Богу чистую душу свою.
Правитель, однако, приходил в ярость, видя, что ничем не может победить твердости христиан; малейший знак сочувствия к мученикам наказывали смертью. Один заслуженный воин по имени Селевк, бывший свидетелем казни Порфирия, пошел объявить о ней Памфилу. Он застал Памфила уже творящим последнюю молитву перед тем, как склонить голову под меч. Услышав о славной смерти воспитанника своего, он поблагодарил Бога, поцеловал Селевка и принял радостно удар палача. Донесли правителю о поступке Селевка, и правитель велел тотчас же казнить его. Селевк же был давно христианином и радостно встретил смерть. После него приобщился к лику мучеников святой Феодул, старец, служивший при правителе, тайный служитель Христов. Он подошел к мученикам, которых вели на казнь, и, облобызав их, просил их помолиться о нем Богу. Правитель, как только узнал об этом, велел распять его на кресте. Наконец, христианин из Каппадокии по имени Юлиан довершил собой число двенадцати мучеников, пострадавших в этот день. Он подходил к Кесарии и, увидев за городом тела, брошенные на съедение зверям и птицам, догадался, что это тела христиан, пожертвовавших жизнью за веру во Христа, подошел к ним и облобызал их, славя подвиг святых мучеников. Воины, наблюдавшие, дабы кто-нибудь не украл тела мучеников, донесли об этом начальству. Юлиан был приведен к правителю и, исповедав веру свою, был предан огню.
Так увенчались мученичеством эти двенадцать верных служителей Христа и сподобились вечной славы в Царствии Небесном. Подробности о них сообщает историк Евсевий, бывший учеником святого Памфила, в своей истории палестинских мучеников.
Страдания великомученика Феодора Тирона
17 февраля

Цари Максимиан и Максимин, жившие в начале IV века, в ревности своей к языческой вере повелели принуждать христиан приносить жертвы богам. В это время в понтийском городе Амасии находился молодой воин по имени Феодор Тирон. Когда начальник полка хотел принудить его к жертвоприношению, Феодор объявил ему, что он христианин, имеет Бога и Царя на небесах и не принесет жертвы идолам. Начальники войск и города убеждали его покориться, но Феодор продолжал исповедать Иисуса Христа как Бога Всевышнего. Начальники оставили его на время, надеясь, что он образумится и покорится их воле; он же, не страшась опасности, громогласно славил Бога.
Между тем продолжали строго преследовать христиан и принуждать их к жертвоприношению идолам. Не хотевших же исполнить этого повеления заключали в темницы, Феодор провожал их, увещевая к твердости и терпению. В эту ночь Феодор, движимый ревностью к истинной вере, поджег один из главных идольских храмов и был замечен некоторыми язычниками, которые донесли на него градоначальнику.
Правитель призвал Феодора к себе на суд. Феодор без всякого страха признался в поступке своем, и правитель велел его бить и грозил ему еще более жестокими мучениями, если он не повинуется царскому повелению. Но Феодор спокойно отвечал ему, что он не боится мук, ибо чаяние грядущих благ укрепляет его. «Муки, тобою наносимые, для меня не муки, – говорил он, – ибо имею пред собой Господа и Царя моего Иисуса Христа; ты не видишь Его, ибо не зришь духовными очами».
Правитель велел Феодора отвести в темницу, двери же темницы запереть и запечатать, ибо он хотел уморить его голодом. Ночью, когда Феодор молился, ему явился Господь Иисус Христос и сказал: «Дерзай, Феодор, Я с тобой. Не принимай пищи и пития земного; тебе будет другая жизнь, не гибнущая и вечная со Мной на небесах». Укрепленный чудесным видением и исполненный неизъяснимой радости, Феодор стал в громких песнях хвалить и благословлять Господа. Стражи, услышав пение, подошли к окну темницы и с изумлением увидели, что вокруг Феодора множество юношей в белых одеяниях, которые поют вместе с ним, а между тем печать и замок у двери были целы. Пораженные ужасом, они поспешили уведомить о том правителя. Правитель подошел к темнице. Услышав пение нескольких голосов, он подумал, что к Феодору вошли христиане, но замок был цел; войдя в темницу, правитель нашел в ней Феодора одного. Ужас объял всех; правитель поспешно вышел и на следующее утро снова призвал Феодора на суд.
– Принеси жертву богам, – говорил он ему, – и получишь великие дары и почести.
Феодор, подняв глаза к небу, перекрестился и твердо отвечал:
– Предай меня огню, зверям, терзай тело мое жесточайшими муками; но пока есть во мне жизнь, не отрекусь от имени Христа моего!
Правитель велел терзать Феодора острыми железными когтями; но среди жестоких страданий мученик хранил непоколебимое терпение и только восклицал: «Благословлю Господа во всякое время! Хвала Ему непрестанно в устах моих!» (Пс. 33:2).
– Не стыдно ли тебе, – говорил правитель, – уповать на человека, который умер позорной смертью на кресте?
– Пусть будет позор сей и мне, и всем, призывающим имя Господа Иисуса Христа! – отвечал мученик.
Долго еще продолжались мучения Феодора; правитель снова стал уговаривать его принести жертву богам.
– Не боишься ли Бога, давшего тебе власть и силу? – отвечал Феодор. – Им цари царствуют, а ты хочешь, чтобы я отрекся от Бога живого и поклонился бездушному камню!
– Что ж ты хочешь: с нами быть или со Христом твоим? – спросил опять правитель после некоторого молчания.
– Со Христом моим буду вечно! – радостно воскликнул Феодор. – Делай со мной, что хочешь!
Тогда правитель вынес Феодору следующий приговор: «Феодора, не повинующегося власти славных царей и великих богов, а верующего во Иисуса Христа, который был распят при Понтийском Пилате, повелеваю предать огню».
Слуги правителя принесли дров, сложили костер и развели огонь; после этого они повели Феодора на место казни. Феодор, перекрестившись, сам мужественно взошел на костер и с молитвой и славословием предал душу Богу. «И видели мы, – пишет очевидец, – святую его душу, как молнию, взятую на небо». Одна благочестивая христианка, по имени Евсевия, взяла останки святого мученика, похоронила у себя в городе Евхаитском и ежегодно совершала его память.
Около пятидесяти лет после кончины Феодора Юлиан Отступник царствовал в Греции. Он ненавидел христиан и старался делать им всевозможное зло. Зная, что они на первой неделе Четыредесятницы соблюдают строгий пост, он для того, чтобы поглумиться над ними, приказал епарху цареградскому окропить кровью идольских жертв все съестные припасы, продаваемые на торжищах. Повеление его было исполнено; но архиепископу в видении явился святой мученик Феодор и сказал ему: «Запрети христианам покупать что-либо на торжищах, потому что все съестные припасы окроплены кровью идольских жертв; вели же тем, которые не имеют припасов у себя, сделать коливо, то есть сварить пшеницу с медом». Удивленный архиепископ спросил у него, кто он, заботящийся о христианах. «Я мученик Христов, Феодор Тирон, – отвечал святой, – и послан Богом в помощь христианам». С этими словами мученик стал невидим. Архиепископ исполнил веленное, и всю неделю христиане питались коливом. Юлиан, видя, что мера его не удалась, велел снова продавать съестные припасы, как прежде. Церковь, в благодарность святому Феодору, сохранила доныне обычай в субботу первой недели Великого поста совершать коливом память святого великомученика.
Память святого Льва, папы римского, и память святого Флавиана, патриарха Цареградского
18 февраля
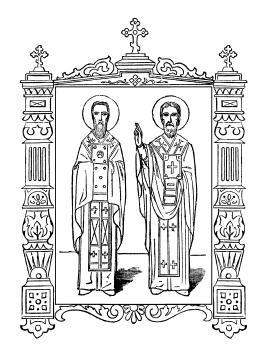
Святой Лев родился в Италии и с ранних лет посвятил себя служению Богу. Возведенный на папский престол по смерти Сикста III, он, как добрый пастырь, заботился о вверенном ему стаде, подавал ему пример благочестия и ревностно защищал его от внешних и внутренних врагов.
Ужасное бедствие угрожало в то время Италии: Аттила, царь гуннов, прозванный бичом Божиим, около 452 года напал на Италию и шел с войском на Рим. Лев, усердно помолившись Богу и попросив заступничества святых апостолов Петра и Павла24, вышел с сенаторами римскими навстречу грозному царю и стал умолять его о пощаде. Аттила, выслушав речь святителя, обещал пощадить всю
Римскую область и действительно удалился, к крайнему изумлению своих воинов, не привыкших видеть в нем такое милосердие. Они с удивлением спрашивали у него, почему он послушался папы и так легко отказался от выгод, которые покорение Рима обещало ему.
– Разве вы не видели того, что видел я? – спросил у них Аттила. – Пока папа говорил со мной, два светлые мужа держали надо мной обнаженные мечи и грозили мне смертью, если я не послушаюсь архиерея Божия.
Во время святительства Льва в Риме другое бедствие тяготело над Церковью. Ереси беспрестанно волновали христиан. Осужденные на Вселенских и поместных соборах, они возникли вновь с некоторыми изменениями и приобрели себе великое число последователей. Главным предметом споров был в то время догмат о естестве Иисуса Христа. Из Святого Евангелия мы видим, что Господь Иисус Христос был и Богом, и Человеком; но один лжеучитель, по имени Евтихий, утверждал, что в Иисусе Христе было только одно естество, Божеское. В это время патриархом в Царьграде был святой Флавиан, твердый защитник православия, человек добродетельный и благочестивый. Но его возненавидели придворные императора Феодосия Младшего. Главным врагом его был евнух Хрисанф, любимец царя; он всячески старался вредить ему и возводил на него разную клевету.
Флавиан, видя, что лжеучение распространяется, созвал в 448 году поместный собор и потребовал, чтобы на него явился Евтихий. Долго Евтихий не покорялся повелению патриарха и наконец пришел, сопровождаемый вооруженными воинами, которых выпросил у императора для защиты себе. Высказав свое учение, он не захотел и выслушать миролюбивых увещаний собранных епископов. Они за его упорство лишили его священнического сана. Евтихий жаловался папе Льву. Папа тоже осудил его и в послании Флавиану изложил учение о воплощении Сына Божия. Но Евтихий, который был умен и хитер, соединился с врагами Флавиана и сумел расположить в свою пользу императора и супругу его. На следующий год созван был в Ефесе собор, состоявший из единомышленников Евтихия под председательством Диоскора, патриарха Александрийского. На этом соборе, известном в истории под названием разбойничьего, или Ефесского, разбоя, Флавиан был оклеветан, как вносивший новые догматы в Церковь. Многие епископы угрозами были принуждены подписать свое согласие с учением Евтихия. Призвали святого Флавиана. Диоскор и его единомышленники осудили его, как лжеучителя, лишили сана и определили изгнать в Египет. Но некоторые епископы заступились за Флавиана; произошли смуты. Диоскор потребовал войско; Флавиану нанесли жестокие удары, и он через несколько дней после этого скончался.
Узнав об этом, святой Лев объявил недействительными определения беззаконного собора, и по его настоянию при императрице Пульхерии и супруге ее Маркиане был созван Четвертый Вселенский собор в Халкидоне в 451 году. Собор этот, на котором присутствовало 630 епископов, осудил ересь Евтихия и определил признавать Иисуса Христа имеющим два естества неслиянно, нераздельно, неразлучно и неизменно. Читали послание святого Льва к Флавиану, в котором папа излагал учение о воплощении Сына Божия, и все отцы Халкидонского собора признавали его за учение апостольское. Диоскор был низложен, как убийца святого Флавиана, и тело последнего было перенесено в Константинополь. Память его совершается также 18 февраля, как и память святого папы Льва.
Святой Лев скончался в глубокой старости и в истории назван Великим. При нем Гензерих, король вандалов, напал на Рим; но святой папа, уже раз прежде избавивший отечество свое от жестокости Аттилы, умел и Гензериху внушить милосердие и заступиться за римских жителей, которых пощадил жестокий завоеватель.
Память святых апостолов Архиппа и Филимона и святой Апфии
19 февраля
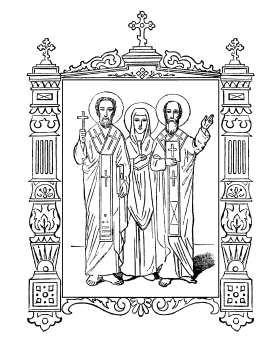
Святой апостол Архипп был после святого Епафраса епископом в Колоссах, городе фригийском. В том же городе жил и святой Филимон, к которому апостол Павел писал послание по поводу бегства его раба, Онисима. Филимон, обратившись в веру Христову, жил благочестиво; в доме его верные совершали Божественную службу. Павел, посвятив его в епископы, поручил ему благовествовать слово Божие, что Филимон усердно исполнял. Жена его, святая Апфия, также со своей стороны служила Богу, помогая тем, которые трудились ради Христа в благовествовании слова. Она принимала их в дом свой, кормила, ходила за больными и во всем показывала себя верной помощницей святого Филимона. Вместе с апостолами Архиппом и Филимоном и святая Апфия сподобилась мученической кончины. Во время языческого празднества они, собравшись с прочими христианами, совершали молитву Богу истинному. Язычники, узнав, что все христиане собраны на молитву в дом Филимона, напали внезапно на них, разогнали молившихся, а Филимона и Архиппа со святой Апфией представили градоначальнику ефесскому, который предал их истязаниям и смертной казни.

В тот же день память преподобного Досифея, сына знатного вельможи. Поступив в ученики к благочестивому иноку, авве Дорофею, он особенно отличался самым полным, безропотным послушанием, всецелым отречением собственной воли своей и в течение непродолжительного времени путем совершенного послушания угодил Господу наравне с отцами, долго и много подвизавшимися, как это узрели в видении по кончине его.
Память святого Льва, епископа Катанского
20 февраля
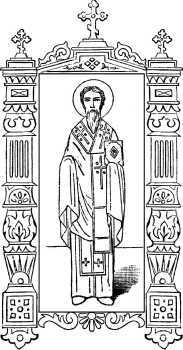
Святой Лев был в X веке епископом в сицилийском городе Катане; с любовью заботился он о сиротах, вдовах, нищих, больных, странниках, усердно поучал паству свою закону Господню и сподобился от Бога великой чудотворной силы.
Память священномученика Садока и 128 христиан, пострадавших с ним
в тот же день
В начале IV века вера христианская стала проникать в Персию, где до этого поклонялись солнцу и огню. Царь персидский Сапор сначала смотрел равнодушно на распространение новой веры, но волхвы, или маги персидские, были этим очень недовольны и старались возбудить царя против христиан. Началась у Сапора война с христианским императором Константином; и тогда стали уверять царя, что христианские подданные его, сочувствуя единоверцам своим, изменяют ему. Сапор стал тогда требовать от христиан, чтобы они поклонились солнцу и огню, а несоглашавшихся преследовал строго, как ослушников воли его. Епискон Симеон и около ста человек из духовенства скончались мученической смертью за имя Господа, Которому остались верны до конца.
По смерти Симеона христиане избрали себе в епископы Садока, который оказался таким же ревностным и усердным служителем Христа, как и предшественник его. Он во сне был извещен, что и его ожидает та же высокая участь – мученичество за веру истинную.
Собрав клир, он рассказал о бывшем ему сновидении. «В сию ночь, – сказал он, – я видел во сне лестницу, касающуюся небес; наверху ее стоял епископ Симеон в великой славе и воззвал ко мне, стоящему на земле: „Взыди ко мне, Садок, взыди и не бойся; я вчера взошел, а ты нынче“. Это значит, – прибавил епископ, – что он скончался в прошедшем году, а мне в нынешнем году предстоит мученическая кончина».
Вслед за тем епископ стал поучать клир свой и увещевал церковнослужителей мужественно встретить гонение. «Отцы и братья мои возлюбленные, – говорил он, – возлюбим Бога от всей души и, облекшись в броню веры, не устрашимся опасности, если придет на нас казнь смертная, не убоимся; но каждый да встретит ее, как мужественный воин Христов. Умрем за Спасителя нашего, не страшась меча, чрез который перейдем в жизнь вечную. Молю Господа, чтобы скоро сбылось сновидение мое. Кто живет духом, тот с радостью, и желанием, и любовью ожидает мученической смерти за Христа; кто же живет лишь плотью, тому ужасен час смертный, ибо он более любит мир сей, нежели Бога, и потому он старается спастись от смерти. Любящие Бога разлучаются от тела радостно; любящие мир остаются в жизни сей на бедствия и воздыхания».
Такой же ревностью было исполнено большинство христиан. Они и не думали укрываться от гонения, а, напротив, жаждали мученической кончины как высшего блага. Скоро и осуществилось пророческое сновидение епископа. По повелению царя он был взят и в оковах ввержен в темницу. Той же участи подверглись 128 христиан, большей частью из духовенства. Убеждали их отречься от Христа и поклониться солнцу и огню, подвергали их страшным истязаниям, чтобы вынудить от них отречение, но все они пребыли тверды в вере своей.
«Мы, христиане, поклоняемся Богу единому, Творцу неба и земли, – говорил мучителям святой епископ, – и Ему служим всей душой и всей крепостью нашей, солнцу же и огню, созданным Им на служение человеку, мы не поклонимся. Не отречемся от Бога нашего и не страшимся смерти, ибо она от временного и суетного сего жития приведет нас к жизни вечной».
Царь сильно желал склонить узников к отречению, чтобы пример их подействовал и на прочих христиан. Он велел сказать узникам: «Если вы повеления моего не исполните и не сотворите воли моей, то близок злой час вашей гибели».
Святые на это отвечали как бы едиными устами: «Не погибнем мы у Бога нашего, не умрем во Христе, ибо Он оживит нас блаженной и вечной жизнью и даст нам бессмертное царство в наследие и покой. Не медли же, ибо мы готовы радостно умереть за Бога нашего, и не поклонимся солнцу и огню, ибо в отречении от Бога для нас смерть и гибель».
Тогда царь осудил всех на смерть. Они пошли на казнь радостно, воспевая хвалу Богу. Все 128 христиан и после них всех святой епископ Садок были усечены мечом. Это было в середине IV века.
Гонение не остановило успехов христианской веры в Персии, и вскоре еще около 1000 христиан скончались мученически за веру свою.
Память святого Евстафия, епископа Антиохийского
21 февраля
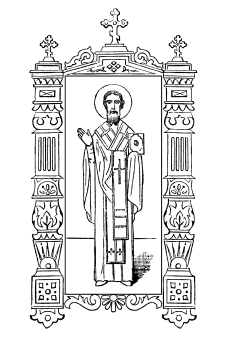
Святой Евстафий, исповедник за веру Христову во время десятого гонения, был единодушно избран христианами в епископы Антиохии. В этом сане принимал он участие во Вселенском соборе Никейском и твердо и ревностно защищал истинное учение против еретика Ария. В 326 году отправился он в Грузию, только что просвещенную верой христианской, чтобы поставить там пастырей для новообращенных. Возвратившись, он продолжал усердно заниматься делами Церкви и был любим и уважаем христианами, как муж, исполненный добродетели и высокой христианской мудрости.
По смерти императора Константина сын его Констанций сделался царем восточной части империи. Он благоприятствовал арианам, которые приобрели над ним такое влияние, что самовластно преследовали и угнетали всех тех, которые держались истинного вероучения. Многие из арианских епископов сами на Никейском соборе подписали свое согласие с исповеданием веры, изложенным на соборе, но потом они отреклись от него и настоятельно требовали того и от других епископов; кто не соглашался с ними, подвергался низложению, ссылке и непрерывным гонениям. Так они низложили константинопольского епископа Павла и изгнали его, употребляли все усилия, чтобы погубить святителя Афанасия Александрийского. Некоторые из них, отправляясь в Иерусалим на освящение храма, прибыли и в Антиохию с тайным намерением низложить Евстафия. Епископ, не подозревая их злых умыслов, принял их с величайшим радушием. Вдруг они открыли собор, на котором стали рассматривать дела и мнения Евстафия. Все уже было между ними устроено и решено заранее: они возвели клевету на благочестивого епископа, обвинив его в безнравственной жизни и в склонности к ереси, донесли об этом императору, возбудили в Антиохии народное волнение и вслед за тем низложили святого Евстафия и отправили его в заточение во Фракию с некоторыми пресвитерами и диаконами, которые не хотели отлучиться от него. И там святой епископ много терпел от злобы врагов; потом из места изгнания был переведен в другое; но все переносил терпеливо и благодушно, как испытание, посланное ему волей Господней. Он скончался в Филиппах в 345 году, оставив несколько замечательных писаний.

22 февраля Церковь празднует обретение мощей святых мучеников, пострадавших в Евгении. Во времена гонений, как известно, христиане с опасностью жизни уносили тела мучеников и честно предавали их земле в потаенных местах. Впоследствии чудесные исцеления указывали на места, где были похоронены останки святых служителей Господних. Так случилось и в Евгении; были обретены мощи многих мучеников, имена которых неизвестны Церкви; но полагают, что между ними находились тела святого апостола Андроника и Юнии, супруги его.
Страдание святого мученика Маврикия и семидесяти воинов
22 февраля

Император Максимиан, царствовавший в IV веке, был одним из самых жестоких гонителей христиан. Он издавал против них строжайшие повеления, и сам, объезжая государство свое, наблюдал за исполнением этих повелений. Так, приехал он однажды в сирский город Апамею. Тут ему донесли, что один из военачальников по имени Маврикий уверовал во Христа и что семьдесят воинов, состоявших под его начальством, тоже христиане. Это известие ужасно рассердило царя. Он повелел Маврикию и воинам его предстать в назначенный день на суд к нему перед всем народом. Их привели, и царь, обратившись к Маврикию, сказал ему:
– Мы надеялись, Маврикий, что, получая от нас почести и богатство, ты верно служишь нам, что ты вразумляешь тех, кто отвращается от закона нашего, и преследуешь противящихся нам. Теперь же мы слышим о тебе совсем иное: вместо того, чтобы увещевать и вразумлять других, ты сам восстаешь против богов наших, оскорбляешь их, не принося им жертв и не поклоняясь им. Правда ли все это?
– Правда, – отвечал Маврикий, – мы не поклоняемся богам твоим, но прославляем Того, Кто есть истинный Бог, создавший небо, и землю, и море, и все, что в них находится; идолов же не следует называть богами.
– Так ли ты благодаришь богов, по милости которых ты получил почести и первое место в войске нашем? – сказал царь.
– Никаких благ я никогда не получал от идолов ваших, – отвечал Маврикий, – я не хочу воздавать им чести, ибо безумен тот, кто забывает Бога вечного и поклоняется созданиям рук человеческих.
Тогда царь велел отвести Маврикия, а сам обратился к остальным воинам.
– Кто вас прельстил и научил отстать от поклонения богам и называть богом человека, распятого за злодеяния? – говорил он им. – Оставьте заблуждения ваши.
Двое из воинов, Феодор и Филипп, выступив вперед, отвечали за всех товарищей своих:
– Мы и тебе желаем, царь, избавиться от заблуждений, от которых избавились мы, ибо мы поклоняемся истинному Богу, Отцу всемогущему, единородному Сыну Его, Который есть Божия премудрость, и Святому Его Духу, вдохнувшему в нас познание и разумение, да исповедуем Троицу единосущную и возгнушаемся ложной твоей веры.
Надеясь преклонить воинов к отречению от Христа, царь увещевал их, то обещая им дары и почести, то грозя мучениями и смертью. Но старания его остались тщетными, воины единодушно отвечали ему, что они не боятся мук, ибо нет страха в душе того, кто любит Господа. Тогда царь велел снять с них пояса и одежды воинские, что считалось тогда позором; но они говорили ему:
– Ты можешь отнять у нас чин воинский и одежды наши, но Бог, Которого мы почитаем, облечет нас в одежды нетленные и оденет нас небесной славой, которую ты и видеть, и понимать недостоин.
По приказанию царя воинов отвели в темницу, где они молитвой готовились к священному подвигу мученичества. Они молили Бога даровать им силу, разум и терпение и причислить их к тем, которые угодны Господу. Через три дня Максимиан вновь призвал их на суд и перед всем народом стал увещевать их отречься от веры и тем спасти жизнь свою; но они все объявили ему, что готовы на смерть за имя Христа.
Между воинами один юноша привлек внимание царя. Царь спросил у него, кто он.
– Имя мое Фотин, – отвечал юноша, – я римлянин и сын Маврикия, который дал мне познание Господа Иисуса Христа и воспитал меня в святой вере.
– Ты молод и неразумен, – отвечал царь, – ты сам не знаешь, что полезно тебе; поклонись богам, и спасешь жизнь свою.
– Ты называешь меня неразумным оттого, что я не поклоняюсь идолам твоим, – сказал юноша. – Но я разумнее вас, ибо верую в Господа моего Иисуса Христа, Которого вы не знаете.
Царь начал вновь грозить христианам мучительной смертью, но они с твердостью сказали ему:
– Из слов Фотина познай веру нашу и нашу силу. Если этот юноша посрамил тебя правой верой и познанием Христовым, то не вытерпим ли мы с твердостью мучений, да посрамим диавола и угодим Христу Богу нашему?
Царь тогда повелел жестоко бить христиан воловьими жилами. Кровь их лилась рекой под ударами, они же в страданиях взывали к Господу, моля Его о помощи. И Бог помогал им, укрепляя их сердца в терпении и Божественной любви. Царь продолжал убеждать их отречься от веры своей, но они говорили ему:
– Знай, жестокий царь, что как ты не разумеешь света и любви Христовой, потому что ты омрачен тьмой заблуждения, так мы не чувствуем наносимых нам мук, потому что мы просвещены верой и любовью Христа Бога нашего. Выдумывай и новые более жестокие мучения; мы желаем их, да скончаемся среди страданий и узрим Бога живого, царствующего вовеки.
Тогда Максимиан, исполненный гнева, велел возжечь великий огонь и бросить туда мучеников; но Бог ради них сотворил чудо, и они оставались невредимыми в огне. Потом царь велел терзать тела их железными орудиями, но и это мучение они вытерпели спокойно, и Маврикий говорил царю:
– Не разумеешь ли ты слабости своей? Ты видишь, что и юноша этот с твердостью вынес истязания. Думаешь ли ты еще нас всех одолеть?
Максимиан, желая отомстить Маврикию за такие слова его, велел на его глазах казнить сына его, молодого Фотина. Но Маврикий радовался, что сын его сподобился умереть за имя Христово, и продолжал говорить царю, что он и товарищи его готовы претерпеть новые мучения.
Жестокий царь велел вывести мучеников за город и там, в болотистом месте, привязать их к деревьям, намазав сперва тела их медом. Было лето, и погода стояла жаркая. Над болотом роилось огромное множество насекомых: мух, комаров, оводов, которые жестоко терзали привязанных воинов. В страшных страданиях прожили они несколько дней, но вера и твердость их не поколебались. Наконец, чувствуя уже приближение смерти, они произнесли последнюю молитву свою к Господу.
– Господи Боже наш, – говорили они, – создавший нас по образу и подобию Твоему и просветивший нас познанием истины Твоей, познанием Твоего Божества, Единородного Сына Твоего и Святого Твоего Духа! В Твои руки предаем души наши и молим, да вселишь нас со святыми Твоими, от века Тебе угодившими. Мы возлюбили Тебя от всей души и ради Тебя пошли на смерть, ибо Ты один Бог, всеблагий и милостивый, и Тебе подобает слава вовеки. Аминь!
С этими словами святые мученики предали Богу души свои. Царь велел отсечь им головы и оставить тела без погребения, но христиане тайно ночью предали их земле.
Житие священномученика Поликарпа, епископа Смирнского
23 февраля
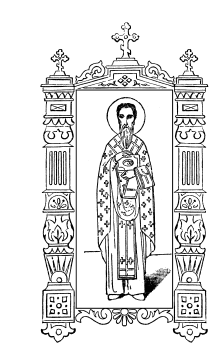
Во времена апостольские в городе Смирне жила благочестивая и богатая вдова по имени Каллиста. Любя Господа, она усердно исполняла заповеди Иисуса Христа и щедро помогала неимущим. Она была бездетна и взяла к себе на воспитание осиротевшего отрока, которого звали Поликарпом. Вскоре она полюбила его, как собственного сына, и, когда он вырос, поручила ему весь дом свой. Поликарп заслуживал любовь благодетельницы своей и с самого юного возраста был добр и благочестив. Умирая, Каллиста оставила Поликарпу все состояние свое; но он не любил богатства земного и все раздал бедным, а сам жил в великом воздержании, беспрестанно молился, служил бедным, больным и престарелым.
Епископ Смирнский, святой Вукол, полюбил благочестивого юношу. Видя в нем великую ревность к закону Господню, он назначил его сперва клириком, потом диаконом и велел ему проповедовать слово Божие. В это время святые апостолы Иоанн Богослов и Павел проповедовали в Малой Азии. Поликарп слушал их, сделался их учеником и сопровождал их во многие города Малой Азии, помогая им в распространении святого учения. Следуя воле святых апостолов, святой Вукол рукоположил Поликарпа во священники. В этом звании Поликарп продолжал ревностно служить Богу: он проповедовал народу, рассказал ему о жизни и чудесах Спасителя, изъяснил Его закон, призывал язычников к познанию истины. Слушая его, множество людей оставило идолопоклонство и уверовало в Господа.
Перед смертью своей святой Вукол имел откровение, что Поликарп должен быть его преемником, и, умирая, поручил ему свою паству. При посвящении Поликарпа в епископство чудесные явления засвидетельствовали перед всем народом о том, что благодать Божия пребывала на нем. Чудный свет осиял церковь, и некоторые из верующих увидели белую голубицу, летавшую вокруг главы Поликарпа. Кому-то он показался в образе воина, вооруженного мечом и готового к битве; другие видели его облеченным в царскую порфиру и озаренным неземным светом.
Эти чудесные явления предвозвещали будущую судьбу святого Поликарпа, который вскоре сделался самым уважаемым епископом в Малой Азии. Даже язычники почитали его за его добродетели, твердость духа и кротость. Многих обратил он ко Христу, и ученики его прославились в свою очередь святостью жизни, как святой Ириней, Папий, Пионий. Он беспрестанно проповедовал слово Божие, писал послания вновь обращенным христианам, неусыпно заботился о благе и душевной пользе паствы своей. Святой Игнатий Богоносец упоминает в посланиях своих о святой жизни епископа Смирнского. На пути в Рим, уже осужденный на казнь, святой Игнатий пробыл несколько дней у Поликарпа в Смирне и оттуда писал послания к Церквам. Господь прославил и перед людьми святого Поликарпа даром чудотворения: Он дал ему силу исцелять болезни, охранял его среди бед и опасностей. Однажды, путешествуя по Малой Азии, Поликарп остановился в гостинице. Вдруг ночью он был пробужден явлением ангела, который приказывал ему немедленно выйти из гостиницы. Едва Поликарп успел исполнить повеление ангела, как гостиница разрушилась, задавив обломками своими всех находившихся в ней.
Во время епископства святого Поликарпа христиане подвергались жестоким гонениям и преследованиям. Однако же Поликарп долгое время правил Смирнской Церковью и дожил до глубокой старости. Около 167 года, при императоре Марке Аврелии Антонине, гонение с особенной силой свирепствовало в Малой Азии. Множество христиан скончалось среди страшных мучений, славя и благодаря Господа. Язычники, и особенно иудеи, были озлоблены против Поликарпа, ибо они знали, с какой силой и ревностью он проповедовал Христа, и потому они неотступно требовали, чтобы его привели на суд. Поликарп не страшился смерти и с твердостью ждал, чтобы взяли его; но христиане желали спасти жизнь возлюбленного епископа своего и умоляли его удалиться из города на некоторое время, надеясь, вероятно, что строгие преследования скоро прекратятся. Святой Поликарп согласился исполнить их просьбу и уехал в деревню, находившуюся поблизости. Там он проводил дни в молитве, но вскоре ему было видение, предвозвестившее, что час его мученичества близок. Он видел, что будто бы изголовье одра его пылает огнем, и спокойно сказал находившимся с ним: «Я буду сожжен огнем за имя Господа Иисуса Христа». Действительно, убежище его сделалось известным, и через три дня после его видения воины, посланные из Смирны, пришли в деревню, где находился Поликарп. Узнав об их прибытии, Поликарп сказал: «Да будет воля Господа Бога моего» – и вышел к ним навстречу. При виде почтенного старца, лицо которого сияло кротостью и неземными спокойствием, воины почувствовали невольное благоговение и не посмели наложить на него рук. Поликарп кротко говорил с ними, приказал приготовить им обед и попросил, чтобы они дали ему час на молитву. Пока воины обедали, он пламенно молился, благодаря Бога за все Его благодеяния, прося Его помощи для Церкви, гонимой и рассеянной по всей земле. Укрепленный молитвой, святой Поликарп вышел к воинам, которые посадили его на осла и повезли в Смирну.
Два сановника смирнские, встретив на пути всеми уважаемого епископа, посадили его в свою колесницу и начали убеждать его, чтобы он, хоть на словах, отрекся от Христа, уверяя, что сами начальники желают избавить его от смерти. Он решительно отказался. Тогда сановники, рассердившись, столкнули его с колесницы, и святой старец, упав, вывихнул себе ногу.
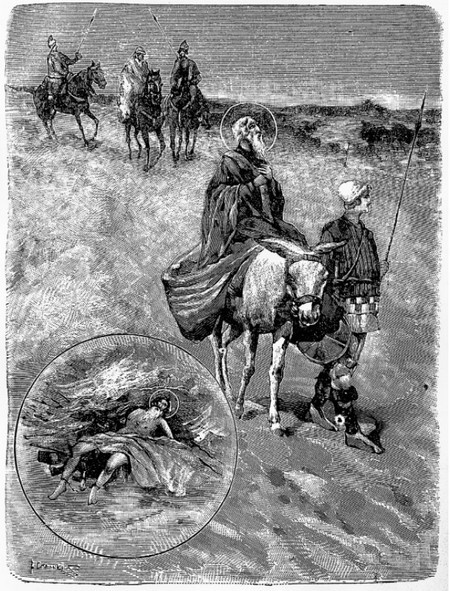
Когда привели его на судилище, все неверные воскликнули радостно: «Взят Поликарп нечестивый!», ибо они справедливо считали его главой христиан в Малой Азии. Христиане же, находившиеся в толпе, и сам Поликарп услышали голос с неба: «Мужайся, Поликарп!» Этот голос ободрил всех и исполнил святого старца новой силой.
Судья начал убеждать Поликарпа отречься от Христа и злословить Его.
– Я восемьдесят шесть лет служу Господу Богу моему, – спокойно отвечал Поликарп, – и Он мне никогда не делал зла, но даровал много благ; как же стану я хулить Царя моего?
– В таком случае выпущу на тебя разъяренных зверей, – сказал судья.
– Делай что хочешь; я все-таки не променяю своей лучшей участи на худшую.
– Предам тебя огню, – говорил судья, надеявшийся подействовать угрозами на Поликарпа, ибо и сам желал спасти его; но епископ спокойно сказал ему:
– Ты грозишь мне огнем угасающим, но не знаешь об огне вечном, приготовленном для неверующих и для творящих беззаконие.
Тогда судья велел громко провозгласить, что Поликарп исповедует себя христианином. Язычники и иудеи стали с яростью требовать его казни, восклицая: «Это развратитель всей Малой Азии, отец христиан, разоритель нашего закона, да будет он сожжен!»
Тогда судья, видя ярость толпы и не надеясь склонить Поликарпа к отречению, велел принести дров и хвороста. Сложили костер и, взяв святого старца, хотели приковать его к костру; но Поликарп сказал мучителям: «Не нужно приковывать меня. Тот, Кто дал мне желание, Тот даст и силу терпеть мучение и оставаться неподвижным на костре». Тогда связали его и положили на костер. Он молился, говоря: «Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты причислил меня к ученикам и исповедникам Твоим и что пью чашу страдания Христа Твоего и делаюсь причастником Его болезни, да в воскресении буду с Ним причастником жизни вечной. Прими меня как жертву благоугодную. Славлю и хвалю Тебя, Боже, и Иисуса Христа, Сына Твоего, Первосвященника Вечного. С Ним же и с Духом Святым подобает Тебе всякая честь и слава, ныне и всегда и во веки веков. Аминь!»
Между тем язычники, и в особенности иудеи, с усердием подкладывали хворост и, когда Поликарп окончил молитву свою, зажгли великий огонь. Но тут совершилось чудо, которое исполнило всех изумлением и явило всем присутствовавшим силу Божию: пламя только окружило святого, сходясь над ним наподобие свода и не касаясь тела его, которое оставалось невредимо и источало благоухание. Судья повелел тогда одному воину пронзить Поликарпа длинным копьем. Это было исполнено, и кровь, обильно вытекая из раны, погасила пламенеющий костер.
Пораженные чудесными явлениями, которые сопровождали мученичество святого Поликарпа, иудеи упросили судью, чтобы он повелел сжечь тело его, ибо они боялись, чтобы христиане не почтили его как Бога. «Они не знают, – говорится в послании, в котором описано мученичество святого Поликарпа, – что мы не можем отступить от Христа Господа, умершего на кресте за спасение всего мира, и иметь другого Бога. Ему, как истинному Сыну Божию, мы воздаем Божественную честь. Мучеников же, как учеников и подражателей Христовых, пострадавших за любовь к Нему, мы достойно почитаем и желаем подражать им. Сотник по повелению судьи сжег тело Поликарпа; мы же (так пишут смирнские христиане ко всем Церквам) собрали от пепла кости его, драгоценнейшие злата и многоценных камней, и схоронили в чистом месте, где будем с веселием праздновать день его страданий в память тех, которые пострадали за Христа, и в укрепление тем, которые такой же смертью будут исповедовать и прославлять Христа, истинного Бога нашего. Сие посылаем вам чрез брата Марка; когда прочтете, то доставьте сие послание прочим братьям, да и они прославят Бога, показавшего нам такого верного избранника и могущего и нас исполнить Своей благодатью и ввести в вечное царство Свое Сыном Своим Единородным Иисусом Христом. Ему же слава и честь и царство и величество вовеки. Аминь».
Мы выписали здесь несколько строк из послания, которым смирнские христиане извещали братьев своих о мученической кончине святого епископа своего. Подобные послания посылались из одной церкви в другую, дабы возбудить во всех христианах ревность ко Господу и дабы все христиане могли достойно чествовать память святых мучеников, умерших за Христа. К сожалению, немного таких посланий дошло до нас, ибо во время гонений язычники тщательно отыскивали и сжигали все рукописи христианские.
Святой Поликарп оставил несколько посланий. В них он преподает правила христианской жизни и побуждает христиан к исполнению обязанностей их, к твердости, покорности и терпению, примером Того, «Который все претерпел за нас, дабы нам жить в Нем».
День первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи
24 февраля
Когда по навету Иродиады отсечена была глава Иоанна Крестителя, то убийцы не захотели положить главы Предтечи вместе с телом его, боясь, как бы он не воскрес. Ученики похоронили тело Предтечи в Севастии, а главу враги скрыли во дворце Иродовом, в месте бесчестном. Об этом узнала Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода, о которой упоминается в Евангелии как об одной из последовательниц Христа. Она тайно взяла честную главу и, положив ее в сосуд, с благоговением погребла в поместье Ирода, на горе Елеонской. Прошло много лет. Поместье это было куплено человеком благочестивым по имени Иннокентий; он пожелал построить церковь. Когда стали копать землю для основания, то обрели честную главу. По чудесам, делавшимся на том месте, и по откровению от Бога Иннокентий узнал, что у него глава великого Пророка и Крестителя Господня. Он хранил ее у себя как бесценную святыню. Это было первое обретение главы Предтечи.
Перед смертью своей Иннокентий, видя, что везде властвуют язычники, и желая уберечь от поругания честную главу, опять скрыл ее в том месте, на котором обрел ее.
Уже в царствование Константина Великого, когда воцарилась в мире вера Христова, два инока, бывшие на поклонении Святым местам в Иерусалиме, получили откровение о месте, где находилась глава Предтечи, и вынули ее из земли. Возвращаясь на родину, они встретили одного бедного человека, скудельника, и поручили ему свою ношу, тяготясь сами нести ее. Скудельнику явился Предтеча и повелел удалиться от спутников своих. Он принес к себе домой, в Емесу, честную главу, и с тех пор дом его благословен был обилием и всякой благодатью. Перед смертью скудельник открыл тайну сестре своей, завещав ей хранить честно святую главу Предтечи и после себя завещать ее достойнейшему из христиан.
С течением времени честная глава как-то попала в руки одного человека, зараженного арианской ересью. Принужденный оставить жилище свое, он опять скрыл в земле главу Предтечи. На том месте образовался монастырь. И долго никто не знал ничего о сокровище, скрытом в земле, пока в середине V века благочестивый архимандрит Маркелл не узнал о нем через явление самого Предтечи. По повелению императора Маркиана она была перенесена из Емесы в Халкидон, а потом в Константинополь.
Третье обретение главы Предтечи воспоминается 25 мая. Во время иконоборства глава была перенесена из Константинополя в Команы, и место, где она находилась, было некоторое время неизвестно; в 857 году она была обретена и снова перенесена в Константинополь.
Житие святого Тарасия, патриарха Константинопольского
25 февраля
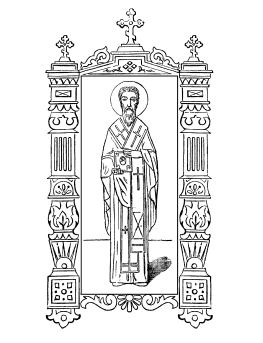
Тарасий родился в Константинополе в середине VIII века от родителей богатых и знатных, которые воспитали его в страхе Божием и дали ему хорошее образование. Он вполне оправдал старания родителей: высокие его достоинства и добродетели привлекли к нему общее внимание, и он, еще очень молодой, был возведен в важную гражданскую должность и сделался одним из советников царских.
В то время царствовал малолетний император Константин с матерью своей Ириной, которая управляла делами государства. Распри и ересь иконоборческая возмущали мир Церкви. Ирина старалась восстановить православное почитание икон, но ересь, сильно поддерживаемая ее предшественниками, имела многочисленных последователей. Сам патриарх Павел, человек добрый, но слабый, способствовал этому ибо в прошедшем царствовании из страха и малодушия подписал, против убеждения своего, правила, изложенные иконоборцами. Но эта малодушная уступка тревожила совесть патриарха. Он с сокрушением сердечным каялся в ней, молил у Бога прощения и наконец пожелал оставить архипастырский престол. Он объяснил это императрице Ирине, прося ее, чтобы избран был вместо него другой патриарх, который бы мог правоверием и твердостью духа восстановить мир в Церкви. Он указал на Тарасия как на человека, вполне достойного принять этот важный сан, а сам желал в отдалении от мира в молитве и покаянии провести остаток жизни. Через несколько дней после объяснения с императрицей Павел скончался.
Духовенство собралось для избрания преемника ему. Ирина передала слова Павла, и общее мнение было согласно с указанием патриарха: все единодушно избрали Тарасия. Но он сам считал себя недостойным высокого сана и неспособным управлять Церковью в такое смутное и трудное время. Не внимая отговоркам его, все, однако же, продолжали настаивать на своем выборе, и наконец Тарасий согласился с тем условием, чтобы был немедленно созван Вселенский собор, который бы разрешил спорные вопросы и своими постановлениями водворил бы мир и согласие в Церкви. «Ибо, – говорил он, – я вижу расторгнутую Церковь Божию, распри между Востоком и Западом, обоюдную вражду там, где должно бы быть единство веры и любви». Все собрание нашло слова Тарасия справедливыми. Решено было созвать Вселенский собор, а Тарасий, пройдя все церковные степени, был посвящен в сан патриарха.
Первым действием его было написать послание ко всем патриархам и епископам восточным и западным и призвать их на Вселенский собор. Он написал в том числе и папе римскому Адриану. В ответе своем Адриан обнаружил уже те властолюбивые притязания, которые впоследствии были отчасти причиной окончательного разрыва Восточной Церкви с Западной, однако же прислал на собор двух епископов.
Собор назначен был в Константинополе, и для совещаний избран храм, построенный Константином Великим. Но едва собрались в нем епископы под председательством Тарасия, как толпа воинов, державшихся иконоборчества, окружила храм, грозя смертью епископам. Они говорили, что не позволят внести идолов в храм Божий: иконоборцы в заблуждении своем называли идолами иконы, не понимая, что православные христиане почитают в иконах изображение Божества и святых, а не сами доски, на которых они написаны.
Для избежания смут собор разошелся и на следующий, 788 год снова собрался в городе Никее, менее Константинополя зараженном ересью. Это был Седьмой Вселенский собор. На нем присутствовало под председательством Тарасия более 360 епископов; они единодушно утвердили несколько правил церковных и, ссылаясь на Священное Писание и на изречения святых отцов, разрешили вопрос о почитании икон, положив, что следует «чествовать святые иконы и оным кланяться не яко Богу, но яко Его и святых воспоминательному начертанию».
Когда таким образом был разрешен вопрос, волновавший Церковь в продолжение стольких лет, Тарасий предался вполне и с неутомимой деятельностью обязанностям своего важного духовного сана. Он тотчас по избрании своем в патриархи изгнал из дома своего всякую роскошь и водворил в нем строгую простоту; все имение свое употребил на вспомоществование бедным, на устройство больниц и на другие богоугодные дела. Всех приходивших к нему он принимал с любовью и со вниманием выслушивал, имея всегда перед собой пример Христа, Который пришел «не да послужат Ему, но да Сам послужит» (Мк. 10:45). Подавая собою пример и беспрестанно поучая словами и письмами, он требовал от всего духовенства деятельности, благочестия и ревностного исполнения обязанностей.
Но недолго продолжались тишина и спокойствие. Смуты иного рода потребовали всей твердости духа патриарха. Император Константин, достигнув совершеннолетия, стал царствовать один и вскоре предался страстям и порокам. Полюбив одну родственницу свою, находившуюся при царице, он задумал жениться на ней и развестись с женой своей, Марией25. Для того, чтобы сколько-нибудь оправдать такой поступок, он оклеветал Марию, говоря, что она хотела отравить его. Приближенные царя не смели из страха опровергнуть ужасную клевету; но когда эта весть дошла до Тарасия, он сильно вознегодовал. Вскоре император послал к Тарасию одного из сановников своих, которому поручил рассказать ему выдуманную клевету и узнать, благословит ли патриарх новый брак его. Тарасий, выслушав весь рассказ, сказал посланному: «Я не знаю, как царь будет требовать от подданных своих, чтобы они жили честно и целомудренно, после того как он подает им такой пример. Царица невинна, – я в этом уверен, и скорее умру, чем дам благословение на новый брак. Вот ответ мой; так будет отвечать и все духовенство. Донеси это царю». Константин опечалился; но, боясь явно идти против патриарха, которого все уважали за его добродетели, он призвал его к себе, надеясь лестными словами склонить его на свою сторону.
Патриарх отправился к царю вместе с уважаемым и благочестивым старцем Иоанном. Константин принял его с почтением, стал уверять, что любит и почитает его, как отца, и вслед за тем рассказал подробно возводимую на царицу клевету. Но льстивые слова нисколько не подействовали на Тарасия. Он безбоязненно отвечал царю: «Не восставай, царь, против закона Божия! Не воюй тайным коварством против истины! Царю подобает действовать открыто, свободно, с чистой совестью и не замышлять втайне против закона Господня. Ты знаешь, как и все, невинность царицы и клеветой срамишь скипетр свой царский. Я потому и не разрушу законного супружества твоего и на беззаконный брак благословения своего не дам. Можно ли будет почитать тебя, когда ты явно преступишь закон Господень? Можно ли будет тебе причаститься Святых Таин вместе с другими? Я перед Богом говорю тебе: хотя ты и царь, но я не пущу тебя к алтарю для причащения Святых Христовых Таин, ибо в Священном Писании сказано иереям: «Не дадите попрать алтаря Моего». Старец Иоанн тоже увещевал царя оставить свое преступное намерение; но царь только раздражился и велел с бесчестием выгнать из дворца Тарасия и Иоанна.
Вслед за тем Константин принудил жену свою поступить в монастырь, а сам женился на родственнице своей. Нашелся один пресвитер, Иосиф, который благословил беззаконный брак. Он впоследствии за то был осужден судом церковным, а этот брак навлек на Константина много нареканий.
Тарасий не расторгнул беззаконного брака, боясь, как бы царь не воздвиг вновь иконоборческой ереси, но с тех пор оставался чужд царю, ограничиваясь исполнением своих обязанностей, и с терпением и кротостью переносил неприятности и гонения от Константина. Но Константин недолго царствовал. Тарасий дожил до глубокой старости и скончался при императоре Никифоре, около 806 года. Он похоронен в построенном им монастыре, в Босфоре Фракийском, и много чудных исцелений совершилось при гробе его.
Житие святого Порфирия, епископа Газского
26 февраля
Святой Порфирий, родом из Фессалоник, или Солуни, жил в IV веке. Стремясь к подвижнической жизни, он в двадцать пять лет оставил богатый дом отца своего и отправился в Египет, где сделался иноком. Пробыв пять лет в пустыне Скит, он посетил Иерусалим, с благоговейной любовью поклонился Святым местам и поселился затем в стране Иорданской, где жил в посте и в молитвах непрестанных.
Через несколько лет он тяжело заболел и упросил одного знакомого ему человека довезти его в Иерусалим. Там он каждый день посещал храм Воскресения Господня и поклонялся Кресту Святому, иногда на коленях доползая до Святых мест, ибо не мог ходить. Один молодой инок, видя его труд и страдания, стал служить ему Бога ради и по его поручению ездил в Солунь и привез оттуда часть богатства, оставленного Порфирию отцом его. Большую часть имущества Порфирий отдал братьям своим, а то, что привез инок, Порфирий раздал нищим и бедным монастырям, не оставив себе ничего. Он даже чувствовал себя обогащенным милостью Божьей, ибо был чудесно исцелен от недуга своего явлением Христа, Которого он увидел как бы сходящим с Креста к нему, при чем услышал слова: «Храни древо сие».
Вскоре после этого Порфирий был возведен в священники, и ему было поручено хранить честное древо Креста Господня. Тут он пребывал в постоянной молитве, радуясь служению своему. Но через несколько лет Бог указал ему иное дело. В палестинском городе Газе умер епископ, и христиане газские пришли к митрополиту Кесарии палестинской просить его, чтобы он избрал для них епископа достойного. Митрополит пламенно молил Господа о помощи, и ему было указано откровением свыше, что достойным епископом будет Порфирий, пресвитер иерусалимский, хранитель Животворящего древа. Митрополит написал об этом патриарху Иерусалимскому, который, призвав Порфирия, велел ему ехать в Кесарию.
– Воля Божия да будет, – отвечал Порфирий.
Поклонившись святыне иерусалимской и отдав патриарху врученное ему на хранение сокровище – древо Крестное, снарядился в путь. Только в Кесарии узнал он назначение свое, и, хотя по искреннему и глубокому смирению считал себя недостойным епископского сана, он должен был принять служение, на которое призвал его Господь.
Служение было трудное. Со времени нечестивого Юлиана, гонителя христиан, идолопоклонство очень усилилось в Газе, и христиане терпели притеснения от язычников. В городе была только одна церковь христианская, да и та – малая и убогая; а капищ идольских было множество. Между ними отличался красотой и великолепием храм главного языческого бога, которому поклонялись в Газе, – идола Марнаса.
Язычники, недовольные назначением в Газу нового епископа, встретили его крайне враждебно и старались всячески оскорбить его. Но Порфирий не унывал и пас верно малое стадо свое, совершая с полным усердием служение свое. Бог помог ему, даровав ему чудотворную силу, и многие стали обращаться к Богу истинному. Но это еще более раздражало врагов Христа, и они всячески оскорбляли и угнетали верующих. Спустя некоторое время епископ счел нужным отправиться в Царьград, чтобы просить помощи и защиты императора Аркадия. Архиепископом Царьградским был в то время святой Иоанн Златоуст. Он принял Порфирия с любовью, но не мог оказать ему великой помощи, потому что сам терпел гонение от императрицы Евдоксии. Но Бог даровал успех ревностному епископу.
Порфирий предсказал императрице, что она скоро родит сына, давно желанного наследника престола. И когда это предсказание действительно сбылось, она щедро одарила епископа и расположила в его пользу супруга своего. Порфирий, вернувшись в Газу, стал строить святые церкви на средства, полученные в Царьграде. Язычники присмирели и не смели более угнетать христиан, число которых стало быстро возрастать. Языческие капища были уничтожены, и на том месте, где стоял храм идола Марнаса, воздвиглась обширная и красивая церковь Богу истинному; воздвигся также дом, в котором призревались странники и убогие. Святой Порфирий пас Церковь Газскую двадцать пять лет, совершил много чудес, обратил ко Христу великое число язычников и отошел ко Господу в 401 году.
Память преподобного Прокопия Декаполита
27 февраля
Святой исповедник Прокопий Декаполит много пострадал за почитание святых икон при императоре Льве Исаврянине. Вместе с ним пострадал и спостник Прокопия, святой Василий, память которого совершается в следующий день, 28 февраля. По прекращении гонения со смертью Льва преподобные исповедники были освобождены от уз и заточения и в постнических трудах мирно окончили свою жизнь.
Память священномученика Протерия
28 февраля
Священномученик Протерий, патриарх Александрийский, был избран на это служение после низложения и изгнания недостойного Диоскора, о чем мы рассказали в житии святого Флавиана. Хотя лжеучение Евтихия и было осуждено Четвертым собором, но волнения, произведенные им, продолжались еще долго. Происходили распри, смятения и часто кровопролитные схватки, особенно в Сирии и Египте. Люди, желавшие воспользоваться этими смутами для собственных выгод, поддерживали между христианами дух вражды, столь противный учению Христову, и возбуждали в разных городах народные мятежи. Во время такого мятежа святой патриарх Протерий был убит в крестильнице в Великую субботу.
Память преподобного Кассиана Римлянина
29 февраля
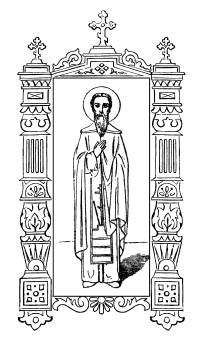
Преподобный Кассиан жил в конце IV и первой половине V века. В это время духовное просвещение было всего более распространено на Востоке. На Востоке же развилась во всей силе подвижническая жизнь пустыни, и горы были заселены святыми иноками, которых славные имена чествовались всем христианским миром. Стремясь к духовному любомудрию, Кассиан оставил свое отечество, Рим, и прибыл на Восток. Он прожил некоторое время в Скитской пустыне, в Вифлееме принял иночество, обошел все пустынные обители Фиваиды, в Константинополе слушал святого Иоанна Златоуста и только уже через много лет возвратился в Рим. Это было во время гонения, воздвигнутого на Иоанна Златоуста. Кассиан был из числа тех, которые искали ему защиты. Через некоторое время он переселился в Южную Галлию, в город Марсель, и первый ввел в эту страну иноческую общежительную жизнь по примеру Востока. Он написал много книг, в которых познакомил западных христиан с постановлениями и правилами восточных иноческих обителей, изложил беседы отцов пустынных о разных духовных предметах и опровергал лжеучения. Преставился в 435 году.
* * *
Зевес – главное языческое божество.
Оглашенными назывались готовившиеся ко Святому крещению.
Римляне и иудеи имели обычай разделять ночи на четыре части, называемые стражами: вечер, полночь, петлоглашение и наступление утра.
Святой Вавила, епископ Антиохийский, пострадал за веру при императоре Декии. В темнице он обратил трех отроков; придя с ними на казнь, он был усечен мечом. Память его совершается 4 сентября.
Святые апостолы Петр и Павел, скончавшиеся и погребенные в Риме, почитаются покровителями этого города.
Внучка святого Филарета Милостивого.
