Живопись XI–XII веков в Македонии397
Проблема местных и национальных школ является одной из центральных проблем истории византийского искусства. Недалеко то время, когда за произведения греческого мастерства выдавались чуть ли не все фрески и иконы Древней Руси, Сербии, Болгарии, Грузии. Достаточно было открыть греческую надпись в той или иной росписи или на той или иной иконе, чтобы они тотчас же объявлялись работой византийского мастера и включались в историю византийской живописи. Мы теперь прекрасно знаем, что действительное положение вещей было гораздо более сложным, нежели это представлялось исследователям рубежа XIX–XX веков.
Рядом с Константинополем, игравшим ведущую роль и несомненно задававшим тон, в средние века существовало немало местных художественных центров, опиравшихся на свои собственные традиции, порою весьма древние. Особое место занимали национальные школы, которые, как правило, постепенно эмансипировались от византийских влияний и обычно выходили на самостоятельный путь развития. Но процесс этот был противоречивым и протекал в разных странах по-разному. Моменты сближения с Византией сменялись моментами отчуждения, грекофильские течения боролись с местными, народная струя то усиливалась, то слабела. Всякий раз это обусловливалось конкретной исторической ситуацией, неповторимо индивидуальной на каждом этапе. Поэтому лишь изучив ту реальную обстановку, в условиях которой развивалось интересующее нас художественное явление, можно дать ему верную оценку. Это положение приобретает особую актуальность в применении к искусству Македонии, вокруг которого ведутся и по сей день горячие споры, нередко продиктованные узко националистическими установками, к науке не имеющими никакого отношения.
Среди открытий последних десятилетий одно из первых мест принадлежит памятникам Македонии. Хотя они были известны уже давно, но лишь в наше время они подверглись умелой реставрации (в первую очередь здесь следует упомянуть фрески церкви св. Софии в Охриде, церкви Панагии τῶν Χαλκέων в Фессалонике, храма св. Пантелеймона в Нерези) и тем самым сделались достоянием науки. Весьма важным было также открытие прелестной небольшой росписи в Курбинове. Весь этот комплекс памятников, датируемых XI–XII веками, позволяет теперь по-новому ставить вопрос о македонской живописи, которая находила себе в старых трудах не только неполное, но и неправильное освещение.
Основание научному изучению памятников Македонии было заложено Н.П. Кондаковым398. Совершив путешествие по Македонии, он внимательно обследовал ее постройки, росписи, предметы прикладного искусства. Его книга богата острыми и тонкими наблюдениями. В частности, Н.П. Кондаков очень хорошо уловил наличие в Македонии «греко-восточной» струи, противостоявшей византийскому искусству и особенно ясно давшей о себе знать в книжном орнаменте399. Так как Н.П. Кондаков имел дело либо с записанными, либо с сильно загрязненными фресками и мозаиками, а ряд известных нам сегодня памятников он вообще не видел, то он лишен был возможности составить себе верное представление о македонской живописи.
Не в лучшем положении находились авторы больших сводных трудов о византийском искусстве, появившихся во втором – третьем десятилетии нашего века (Милле, Далтон, Вульф, Диль). В их работах ранние памятники Македонии совсем не упоминаются. Когда Диль400 пишет о македонской школе, то он ссылается лишь на росписи XIV века, трактовка которых совпадает у него полностью с точкой зрения Милле, подробно изложенной и обоснованной в книге «Recherches sur l’iconographie de l’Evangile»401. Поскольку македонские памятники XIII–XIV веков выпадают из хронологических рамок настоящей работы, постольку я не буду здесь останавливаться на теории Милле, тем более, что я уже имел случай подвергнуть ее критическому рассмотрению402.
В деле ознакомления с ранней македонской живописью огромную роль сыграли основополагающие труды Петковича403 и Милле404, впервые давших систематический обзор и публикацию расчищенных македонских росписей. Ценным вкладом в науку явились также монографические исследования Пелеканидиса о фресках Кастории405, Евангелидиса о фресках церкви Панагии τῶν Χαλκέων в Фессалонике406 и Мильковича-Пепека о фресках св. Софии в Охриде407. Все эти работы, содержавшие впервые публикуемый материал, не только углубили наши знания о македонской живописи, но намного расширили общие представления о средневековой художественной культуре. Поэтому авторы новых сводных трудов о византийском искусстве (Тальбот Райс408, А.Н. Грабар409, Амманн410) уже не могли обойти молчанием ранние фрески Македонии, без которых общая картина развития была бы неполной.
Совсем новую точку зрения применительно к памятникам македонской живописи выдвинул один из лучших ее знатоков Ксингопулос411. По его мнению, главным центром македонской школы была Фессалоника, от которой она целиком зависела и откуда она черпала основные художественные кадры. Эту школу Ксингопулос противопоставляет Константинополю: «L’école de Constantinople représente l’idéalisme et l’académisme, l’école macédonienne le réalisme et l’amour de la vie et du mouvement»412. Специфические черты македонской живописи начали кристаллизоваться уже в XI веке и получили полное развитие к XIV веку, на который падает расцвет македонской школы. При таком толковании последняя превращается в простой придаток фессалоникской школы, якобы определявшей весь ход развития. Ни о каких местных течениях или местных традициях Ксингопулос ничего не говорит. Он их полностью игнорирует.
Если для Ксингопулоса сохранившиеся на почве Македонии росписи являются работами заезжих фессалоникских мастеров, то для Мавродинова это произведения болгарских художников413. Без всяких колебаний он включает их в историю болгарской живописи, усматривая в них уже ряд специфически национальных черт. Чтобы подкрепить эту теорию, Мавродинов произвольно относит часть фресок церкви св. Софии в Охриде и церкви св. Врачей в Кастории к эпохе царя Самуила (до 1014 года). И для него отличительное свойство македонской живописи – реализм: «В Македония е съществувала безсъмнено една местна школа, архаизираща, но еволюирала по вкуса на про- винцията до реализъм»414. После захвата Македонии византийцами в 1018 году реалистическое направление постепенно сошло на нет. «Вкусът към реализъм, – пишет Мавродинов, – който тя е развила, е бил обаче вкус на народните маси и той няма да се загуби»415.
Из этого краткого историографического обзора явствует, что македонская живопись получала самые противоречивые оценки. Наша задача сводится к тому, чтобы попытаться определить ее объективное историческое место. Можно ли вообще говорить об особой македонской школе живописи в XI–XII веках? Чем она обязана Фессалонике? Каковы ее связи с Константинополем? Насколько сильно сказались в ней те изменения состава населения, которые повлекло за собою вторжение славян на Балканы? Имеются ли основания усматривать в ранних росписях Македонии специфически болгарские черты? Вот тот круг вопросов, который неизбежно встает перед всяким исследователем, изучающим памятники македонской живописи интересующего нас периода.
Македония, расположенная между Византией, Болгарией и Сербией, была издавна яблоком раздора. Часто меняла она своих хозяев, а в связи с этим и свои географические границы. На нее зарились все средневековые завоеватели, захватывая ее при первом удобном случае и не выпуская ее из рук до конечного разгрома их армий. В средние века многократно входила она в состав Византийской империи, дважды владели ею болгары, в XIII веке ее южная часть попала в руки крестоносцев, в XIV столетии она была завоевана сербами, чтобы затем стать на долгие столетия хищнической добычей турок. При всех этих изменениях политические границы Македонии не оставались стабильными, и поскольку отдельные ее части порою находились в разных руках, постольку, естественно, она нередко утрачивала свою целостность. К этому следует присоединить частые и опустошительные вторжения в Македонию печенегов, узов, венгров, норманнов, которые безжалостно разоряли страну, нанося ей глубокие раны.
Какой этнический элемент в условиях столь большой неустойчивости господствовал в средневековой Македонии? На этот вопрос современная наука дала ясный ответ. Это были славяне416. Оседая с VI века на Балканах, они проникали и в глубь Греции. Византия, занятая борьбой с персами и арабами, не имела возможности помешать продвижению славян. На Балканском полуострове славяне образовывали союзы племенных княжеств, крупнейшие из которых находились в VII веке в Македонии417. Густые поселения славян были также расположены вокруг и по соседству с важным торговым центром империи – Фессалоникой418 и с via Egnatia, связывавшей Константинополь и Фессалонику с западными районами. О степени заселения Македонии славянскими племенами можно судить по тому, что именно к ней византийские и арабские писатели в первую очередь применяли термин Σκλαυινίαι419. Ее жители в значительной мере сохраняли свою независимость вплоть до начала IX века, когда их войска пришли на помощь болгарским славянам в их борьбе против Византии420. Лишь в IX веке Склавинии перестали существовать, и часть их территории, примыкавшая к Фессалонике, вошла в состав Византийской империи421.
В течение VII–IX столетий на Балканах образовалось три крупных славянских государства: хорватов, сербов и болгар. На ранних этапах развития наибольшее значение имело для Македонии Болгарское государство.
Появление в конце VII века на Балканском полуострове воинственных протоболгар Аспаруха, народа тюркской группы, привело к далеко идущим последствиям. Хотя протоболгары постепенно растворились в массе славянского населения, утратив свою старую культуру и язык, тем не менее на ранних этапах развития протоболгарская знать оттеснила на второй план славянскую. Ведя энергичную завоевательную политику, болгарские ханы добились около 681 года официального признания Болгарского государства Византией. При преемниках хана Омортага (814–831) болгары подчинили своей власти ряд областей в Македонии, до того входивших в состав Склавиний. Златарский полагает, что уже в это время болгары заняли Западную Македонию до Охрида и Прилепа, а также область по среднему течению реки Стримон422.
Приняв христианство в 864 году, болгарский князь Борис обеспечил тем самым Византии возможность широкого культурного воздействия на его страну. В Болгарии была создана архиепископская кафедра, подчиненная константинопольскому патриарху. Когда князь Симеон (893–927), в результате энергичной военной экспансии, создал огромную, но эфемерную Болгарскую империю, полностью поглотившую, в частности, и Македонию, он созвал в 919 году собор болгарских епископов, провозгласивших болгарскую церковь совершенно независимой и избравших болгарского патриарха.
После эпохи междоусобиц и завоевания Болгарии Иоанном Цимисхием царь Самуил (976–1014) создал мощное южнославянское государство, объединив под своей властью множество земель, центром которых стала Македония (кроме Фессалоники). Столицей новой империи Самуил сделал Преспу, а затем Охрид, куда позднее была переведена восстановленная болгарская патриархия, временно ликвидированная Цимисхием423.
В Первом болгарском царстве славянская культура переживала большой подъем, продолжившийся и в царстве Самуила. Широкое строительство церквей и дворцов, усовершенствование славянской письменности, расцвет литературы, многочисленные переводы на славянский язык греческих книг – все это привело к тому, что к моменту захвата византийцами Балканского полуострова, и, в частности, Македонии, славянская культура имела здесь уже свои крепкие традиции, борьба с которыми становилась неизбежной для любого нового завоевателя.
После разгрома войска царя Самуила в 1014 году и после торжественного вступления Василия II в Охрид в 1018 году Македония сделалась одной из многочисленных провинций Византийской империи, каковой она оставалась вплоть до конца XII века. Поначалу Василий II обошелся милостиво с покоренной страной и ее церковью. Хотя охридская патриархия низведена была на уровень архиепископства, возглавлявший ее славянин Иоанн Дебрский не только сохранил свои старые права, но и приобрел некоторые новые. Он не был подчинен константинопольскому патриарху; его избрание санкционировалось непосредственно самим императором424. Таким образом автокефальное охридское архиепископство заняло одно из первых мест в византийской церковной иерархии.
В дальнейшем, после смерти Иоанна, умершего в 1037 году, архиепископы назначались в Охрид только из греков. Постепенно и все епископские кафедры заняли греки, так что славяне оказались полностью вытесненными с высших церковных должностей. Лишь низший клир пополнялся выходцами из славянской среды, и то не всегда. С конца XI века греческий язык все более вытеснял в богослужении славянский, и славянские училища постепенно закрывались.
Завоевание византийцами Македонии привело не только к засилью греческого духовенства, но, в первую очередь, и к засилью греческой администрации. И хотя последняя всячески содействовала проникновению в Македонию греческих поселенцев, основной состав ее населения оставался славянским (особенно в окрестностях Скопле, Охрида и Кастории). Таким образом, в XI–XII веках Македония являла своеобразную картину: с одной стороны – численно преобладавшее славянское население со своими старыми, порою весьма архаическими традициями, с другой стороны – греческая администрация и греческое духовенство, обладавшие большими запасами культуры, которые они умели превосходно использовать в своих чисто политических целях. На этой двойственной основе и развивалось в XI–XII веках искусство Македонии.
Так как все известные нам памятники македонской монументальной живописи возникли уже после завоевания Македонии византийцами, то, естественно, возникает вопрос, как протекал процесс сотрудничества греческих и местных художников. Или, быть может, никакого сотрудничества не было и в помине, и все здания возводились и расписывались артелями, состоявшими из одних греческих ремесленников?
К сожалению, мы очень плохо осведомлены о формах организации труда строителей и живописцев в Византии и в ее провинциях. XXII глава «Книги эпарха» мало что дает в этом отношении. Но имеется ряд разрозненных свидетельств в других источниках и, в частности, в житиях святых, которые бросают известный свет на эту проблему.
Как и на Западе, в Византии строители (οἰκοδόμοι или τεχνῖται) образовывали артели, переезжавшие с места на место в зависимости от получения работы. По-видимому, члены строительной артели не входили в состав особого цеха425. Они набирались из местных либо приглашенных со стороны ремесленников. Возглавлял такую артель главный мастер, который мог одновременно выступать и как подрядчик. По выполнении заказа артель либо распадалась, либо переезжала на другое место. Например, Феофан сообщает, что император Константин V (741–775) собрал для постройки акведука «из различных мест технитов – из Азии и Понта 1000 строителей, каменщиков 200; из Эллады и с островов – изготовляющих цемент 500 человек; из самой Фракии 5000 и 200, изготовляющих кирпичи»426. Совершенно очевидно, что такие наемные рабочие были организованы в артели, чаще всего состоявшие из земляков и отличавшиеся крепкой товарищеской спайкой427. В раннем житии Симеона Столпника упоминаются строительные рабочие – исавряне. Возводя стены в Антиохии, они держались сплоченно, охотно помогая друг другу и заботясь о товарищах, утративших трудоспособность428. В житии Германа Козинитского X века идет речь о крестьянской артели строителей, нанявшейся за 100 номисм на строительство небольшой церкви429. Очень интересные сведения находим мы у хрониста XII века Михаила Глики. Повествуя о возведении Юстинианом храма св. Софи, Глика рассказывает о том, как однажды в субботу строители отправились позавтракать, причем оставили свои инструменты на попечение сына протомагистра, т.е. старшего, или главного, мастера (τοῦ πρωτομαΐστορος)430.
В отличие от строительных артелей, артели живописцев были гораздо менее многочисленными. При выполнении заказа на роспись небольшой церкви артель могла состоять из двух – пяти человек, причем, как правило, ее должен был возглавлять главный мастер (т.е. протомагистр), чаще всего выступавший и в роли подрядчика. В надписи от 1307 года в церкви Богородицы Левишкой упоминаются два протомагистора – Никола и Астрапа, из которых первый возглавлял строительную артель, а второй – артель живописцев431. Обычно протомагистр был старшим и наиболее квалифицированным среди ремесленников. Он руководил всей работой и отвечал за ее своевременное выполнение. Свою артель он мог комплектовать по-разному: либо она состояла полностью из его ближайших учеников и помощников, либо он пополнял ее местными ремесленниками, которые работали под его прямым руководством. Учитывая трудности и неудобства далеких путешествий, в средние века охотнее прибегали ко второй форме сотрудничества. Это, в частности, доказывают мозаики и фрески Софии Киевской432. И эта практика, как наиболее разумная, должна была применяться также в Македонии.
Не приходится сомневаться в том, что на Балканах существовали свои национальные кадры ремесленников, отлично усвоившие уроки многоопытных византийцев. Иоанн Экзарх, болгарский писатель X века, упоминает в своем предисловии к «Шестодневу» о строителях кораблей, о медниках, золотых дел мастерах, ткачах, кожевниках, оружейниках, кузнецах. При этом Иоанн Экзарх делает весьма любопытное замечание о том, что «човѣшкитѣ изкуства се нуждаятъ одно от друго»433. Эти слова дают основание говорить об известной специлизации ремесленного производства в Болгарии X века.
В документах ряда македонских монастырей фигурируют «протомаистори», а в поздних хрисовулах балканских властителей неоднократно встречаются упоминания «технитариев» и «маисторов»434. Помимо городов, славянские ремесленники проживали при крупных монастырях и богатых феодальных поместьях, обслуживая своим искусством не только своих прямых хозяев, но и сельскую округу.
Особенно весомым свидетельством наличия славянских кадров высококвалифицированных ремесленников могут служить раскопки в Преславе и в Патлейне (неподалеку от Преслава)435. Здесь были раскопаны остатки мастерских для изготовления расписной керамики (тигли с эмалями, шлаки, следы расплавленной стеклянной массы, большое количество полуфабрикатов и бракованных изделий, специальные печи для обжига полихромной керамики). При этом были открыты изразцы, на обороте которых имеются знаки в виде букв славянского алфавита, как глаголицы, так и кириллицы. С другой стороны, весьма показательно, что в греческих надписях попадаются характерные фонетические ошибки. Если на рубеже IX–X веков рядом с греками подвизались в Болгарии местные ремесленники, и притом в столь сложном производстве, как керамическое, то есть все основания полагать, что и в Македонии XI–XII веков практиковалось сотрудничество греков со славянами в области того вида творчества, которое нас в первую очередь интересует, иначе говоря, в области монументальной живописи.
Самые ранние фресковые ансамбли Македонии датируются второй четвертью XI века. Это были десятилетия, непосредственно следовавшие за завоеванием Македонии Василием II, когда еще живы были воспоминания об империи Самуила и когда, вплоть до 1037 года, охридским архиепископом был славянин Иоанн, которого после его смерти сменил присланный из Константинополя хартофилакс Великой церкви Лев.
Наиболее полный подбор фресок второй четверти XI века сохранился в церкви св. Софии в Охриде. К сожалению, исчерпывающей архитектурной публикации памятника до сих пор не появилось, что дало повод к высказыванию разного рода необоснованных гипотез. Если совершенно несомненно, что на месте дошедшего до нас здания находились более старые постройки, наиболее древняя из которых могла восходить еще к раннехристианской эпохе, то сложнее обстоит дело с оценкой существующего здания. В то время как Филов436 и Мавродинов437, введенные в заблуждение немецким архитектором Шмидтом-Аннабергом438, относят восточную часть церкви еще к эпохе царя Самуила, все югославские и македонские исследователи, основываясь на новых данных, считают, что церковь, представлявшая из себя купольную трехнефную базилику с трансептом, была полностью перестроена при архиепископе Льве (1037–1056)439. При этом обычно ссылаются на свидетельство греческой рукописи XIII века – Cod. Paris, gr. 880 – где на листах 407 об.–408 приведен список охридских архиепископов и около имени Льва (Леона) сообщается: «Ὁ κτίσας τὴν κάτω ἐκκλησίαν ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἁγίας τοῦ θεοῦ Σοφίας»440. К этому весьма солидному аргументу проф. Коцо441 присоединил еще один существенный довод. Он обратил внимание на одно место из жития св. Климента, из которого можно сделать вывод, что вторая церковь св. Климента в Охриде была некоторое время архиепископским храмом442. По-видимому, это совпало с годами пребывания на архиепископской кафедре Иоанна, когда старая церковь св. Софии, воздвигнутая при Самуиле, лежала в развалинах после взятия византийским войском Охрида, а новая церковь, построенная архиепископом Львом, еще не была завершена443. Совокупность всех приведенных фактов склоняет к тому, чтобы рассматривать дошедший до нас храм св. Софии как постройку, полностью возведенную при архиепископе Льве (1037–1056).
Фрески св. Софии в Охриде, подвергшиеся недавно умелой реставрации, представляют большой научный интерес444. Им свойственны черты ярко выраженного архаизма, что решительно препятствует связывать их с памятниками константинопольского круга.
Уже изображенная в конхе апсиды Богоматерь, которая сидит на троне и держит перед собой овальный щит с фигурой благословляющего Спаса Эммануила, поражает с первого взгляда архаическим строем своих форм (см. ниже). Совсем плоская коротконогая фигура с непомерно большой головой, строго фронтальное положение корпуса и ног, почти симметрично размещенные складки плаща – все это придает образу какой-то застылый, нарочито иконный характер. Представленный здесь иконографический тип восходит к весьма древним традициям [печати византийских императоров VI–VII веков, фрески 28-й капеллы в Бауите и в Санта Мария Антиква, миниатюры сирийского Евангелия VII века в Париже (syr. 341), армянского Евангелия из Эчмиадзина и другие памятники]445. Из сказанного можно сделать лишь один вывод – расписавший конху художник принадлежал к старшему поколению, имевшему слабое представление о новшествах искусства XI века. Не случайно его фигура Богоматери выдает такое разительное сходство с аналогичным образом в конхе церкви св. Софии в Фессалонике (см. ниже)446.

Богоматерь с младенцем. Фреска в конхе апсиды церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов

Богоматерь с младенцем. Мозаика в конхе апсиды церкви св. Софии в Фессалонике. 843– около 880/885 годов
Руку другого мастера обнаруживает фреска, размещенная под конхой, над окнами апсиды. Здесь представлено, как и в Киеве, «Причащение апостолов» (см. ниже), причем фигура Христа, стоящего под киворием, дана в строго фронтальной позе. Фланкирующие киворий ангелы с рипидами размещены на более высоком уровне, чем фигуры подходящих с обеих сторон апостолов, благодаря чему зритель воспринимает их как бы парящими в воздухе. Такая постановка фигур, уподобляющая центральную часть композиции плоскому геральдическому построению, ясно указывает, насколько автор фрески был далек от мышления пространственными категориями. И столь же плоскостно трактован нижний регистр апсиды, включающий в себя фигуры святителей (см. ниже), которые даны, как и на мозаике Софии Киевской447, в строго фронтальных положениях.

Христос из сцены «Причащение апостолов». Деталь фрески в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов

Апостол Петр из сцены «Причащение апостолов». Деталь фрески в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов

Неизвестный апостол из сцены «Причащение апостолов». Деталь фрески в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов

Иоанн Златоуст. Фреска в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов
Свод вимы заполняет эффектная многофигурная сцена – «Вознесение» (см. ниже). Эта часть росписи подкупает монументальным размахом. Композиция данной сцены, хорошо приспособленная для заполнения круглого зеркала купола, где она обычно и размещается, здесь развернута на довольно длинном коробовом своде, что повлекло за собой ее существенную переработку. Утратив свой центрический характер, она оказалась вытянутой в длину, причем на стыке свода и стен вимы художники дали два фриза с фигурами коленопреклоненных ангелов, чем еще сильнее подчеркнули горизонтальный разворот всей композиции.

Апостолы из сцены «Вознесение». Деталь фрески свода вимы в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов

Богоматерь из сцены «Вознесение». Деталь фрески свода вимы в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов
Стены вимы украшает ряд ветхозаветных сцен («Встреча Авраамом трех странников», «Гостеприимство Авраама», «Жертвоприношение Авраама», «Три отрока в пещи огненной», «Лествица Иакова»), дополненных двумя редко встречающимися сюжетами – «Литургия Василия Великого», «Видение Иоанна Златоуста». Этот своеобразный комплекс сцен во многом перекликается с почти одновременными фресками на хорах Софии Киевской (здесь мы находим первые четыре из выше перечисленных сцен)448. Роспись Софии Киевской напоминает и полуфигурный «Деисус» с ангелами, размещенный над конхой апсиды449. Такие полуфигурные «Деисусы», в наиболее наглядной форме воплощающие идею заступничества, заменяли те иконы, которые позднее стали ставить на архитрав алтарной преграды450.
Ряд фресок сохранился также в жертвеннике, диаконнике и нефах. Апсиду диаконника украшают фигуры римских пап и полуфигура Иоанна Крестителя, а примыкающий свод – сцены из его жизни. В апсиде жертвенника изображены сорок мучеников севастийских и полуфигура Христа, а на примыкающем своде – сцены из жизни севастийских мучеников. Трансепт и нефы также были расписаны (здесь уцелели фрагменты «Рождества Христова», «Введения во храм» и фигуры святых; всю западную стену заполняет монументальная композиция «Успения»; под ней представлены два архангела, а над ней – два пророка). Эти фрески исполнены в несколько иной манере, но у нас нет никаких оснований относить их, вслед за Мавродиновым451, к более поздней эпохе (напомню, что фрески алтарной части проф. Мавродинов датировал эпохой царя Самуила, а фрески второй группы – временем архиепископа Льва). Здесь может идти речь лишь о различных манерах письма, а не о различных стилистических этапах развития.
На восточных столбах, между которыми находилась алтарная преграда, написаны два более поздних изображения Богоматери с младенцем, не принадлежащих к первоначальной росписи452. Фрески же, размещенные по низу стен и на арках, полностью относятся к этой росписи453. Мы находим здесь изображения патриархов и епископов Константинополя, Антиохии, Иерусалима, Александрии и римских пап (см. ниже). Ставленник Константинополя Лев, первый из греческих архиепископов на охридской кафедре, хотел, вероятно, тем самым подчеркнуть вселенский характер византийской церкви, в рамках которой автокефальная охридская кафедра занимала одно из первых мест454. Есть серьезные основания полагать, что архиепископ Лев осуществил реконструкцию храма св. Софии ближе к началу своего пребывания в Охриде, что склоняет датировать раннюю группу фресок первыми годами пятого десятилетия XI века455.

Папы римские Лев, Григорий и Сильвестр. Фреска в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов

Папа римский Лев. Фреска в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов

Папа римский Сильвестр. Фреска в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов
Если задать себе вопрос, что наиболее характерно для стиля охридских фресок, то прежде всего хочется отметить их ярко выраженный архаический строй форм, лишенный и намека на столь типичную для константинопольских памятников утонченность. Тяжелые фигуры, массивные головы, преувеличенно большие глаза, фронтальный разворот композиций, как бы распластывающихся по плоскости, упрощенный рисунок, резкие контрасты между освещенными и затененными частями – вот что сближает охридские фрески с во многом близкими к ним по стилю росписями Фессалоники и Киева. Но в охридских фресках есть и свои особенности. Это искусство прежде всего подкупает своей силой и мужественностью, а порою и наивной патриархальностью. В этом плане примечательна сцена с изображением «Жертвоприношения Авраама» (см. ниже), где животные походят на народные игрушки, а прислужники Авраама воспринимаются как чисто жанровые фигурки простых деревенских ребят. Не менее своеобразны фигуры римских пап, более напоминающие сельских священников либо македонских крестьян, чем наместников святого престола. В пронзительных взглядах святых есть обычно что-то резкое, лица очерчены тяжелыми черными линиями, карнация имеет темный зеленовато-коричневый оттенок, румянец положен в виде контрастно выступающих красных пятен, энергичные высветления противостоят плотным зеленым теням. Главным средством художественного выражения является в руках живописцев линия, которую они подвергают гораздо более сильной стилизации, нежели константинопольские мастера. В данном отношении они намного опережают последних, предвосхищая стиль зрелого XII века. Одеяния некоторых фигур апостолов из «Вознесения» разбиты на такие мелкие, беспокойно извивающиеся складочки, что невольно вспоминаются английские миниатюры зрелого X века (например, Бенедикционарий св. Этельвальда в собрании герцога Девонширского в Chatsworth)456, а лещадки (уступы) гор в сцене «Встреча Авраамом трех странников» образуют столь фантастические нагромождения отвлеченных форм, что они мало чем отличаются от трактовки горок на византийских миниатюрах позднего XII столетия. Даже света на лицах тяготеют к линейному узору. В подборе красок работавшие в св. Софии мастера также следуют своим путем. Они отдают предпочтение плотным и тяжелым краскам, в силу чего в колорите есть что-то суровое, отчуждающее. Охридские фрески лишний раз показывают, сколь разнообразной была монументальная живопись XI века. Поэтому было бы большой ошибкой сводить все ее развитие к одному Константинополю и тем самым недооценивать роль и значение локальных школ.

Жертвоприношение Авраама. Фреска в церкви св. Софии в Охриде. Около 1040–1045 годов
В оценке исторического места охридских фресок наблюдается большой разнобой мнений. Проф. Тальбот Райс457 усматривает в них точки соприкосновения с фресками Кастельсеприо (sic!) и полагает, что они стоят под несомненным константинопольским влиянием. Ведущее значение этих влияний признает и Милькович-Пепек. Но рядом с ними он допускает и воздействие живописи Фессалоники. В то же время Милькович-Пепек не хочет отрывать охридские фрески от культуры эпохи царя Самуила, рассматривая их как памятник македонской школы458. Весьма убедительно местное происхождение охридских фресок отстаивает Мирьяна Чорович-Любинкович459, вполне основательно полагая, что вряд ли столь значительный культурный и церковный центр Македонии, как Охрид, мог довольствоваться одними заезжими художниками и что он, несомненно, владел своими собственными кадрами мастеров. Против этой точки зрения решительно выступает проф. Ксингопулос460, приписывающий охридские фрески фессалоникским мастерам, которые, по его мнению, задавали тон во всей Македонии.
Следует с самого же начала со всей решительностью отмести гипотезу константинопольских влияний на охридские фрески. Достаточно одних мозаик Софии Константинопольской, чтобы стало ясным, насколько несхожими были эстетические идеалы столичных художников и работавших в Охриде мастеров. Это две разные линии развития, два различных подхода к решению художественных задач. Придворным константинопольским мастерам живопись их охридских собратьев показалась бы «варварской», а подвизавшиеся в Охриде живописцы, вероятно, восприняли бы мозаики и фрески Константинополя как слишком вылощенные и чрезмерно утонченные.
Совсем по-иному обстоит дело, когда мы обращаемся к памятникам Фессалоники. Здесь действительно имеются фрески, близкие по стилю к охридским. Вообще в фессалоникской живописи очень сильна была архаическая струя, что доказывают хотя бы мозаики церкви св. Софии. Эта архаическая струя, легко объясняемая воздействием народного искусства, настойчиво выступает и в фессалоникских фресках второй четверти XI века, обнаруживающих несомненную близость к охридской росписи. Это плохо сохранившиеся фрески церкви Панагии τῶν Χαλκέων, исполненные в 1028 году по заказу протоспафария Христофора, катепана Ломбардии, и недавно раскрытые фрески в нарфике церкви св. Софии (вторая четверть XI века).
Система росписи первого храма461 может быть восстановлена в своих основных элементах (Богоматерь Оранта между двумя ангелами в конхе, фигуры четырех Григориев между окнами апсиды, двухчастная композиция «Евхаристии» на стенах вимы, евангельские сцены на сводах и стенах, фигуры пророков в барабане, «Страшный суд» в нарфике). Бросается в глаза наличие в этой системе росписи двух старых пережитков: в куполе находится не полуфигура Пантократора, обычная для константинопольских храмов уже с IX столетия, а «Вознесение», паруса же украшены изображениями не евангелистов, а херувимов. Даже в далеком Киеве подобное решение показалось бы не на уровне века! Это говорит о том, что в Фессалонике крепко держались старые традиции. Об этом же свидетельствует и примитивный стиль фресок, в котором тщетно было бы искать прямых отголосков константинопольского искусства. Лишь одна черта сближает фессалоникскую роспись со столичными памятниками: заменяющая дорогую мозаику фреска не спускалась здесь ниже карниза мраморной облицовки стен. Тем самым интерьер сохранял ту строгую архитектоничность, которой на этом этапе развития так дорожили византийцы.
Весьма архаичны по своему стилю и фрески нарфика св. Софии462. Изображенные в рост святые (Феодосий, Евфимий, Елевгерий, Феодора Солунская, Феодора Александрийская и другие) обнаруживают разительное сходство с фресками в Охриде, на что правильно обратил внимание Пелеканидис. Но можно ли сделать отсюда вывод, что все подвизавшиеся в Охриде мастера происходили из Фессалоники? Нам такой вывод представлялся бы скороспелым и недостаточно обоснованным.
В самом деле, трудно допустить, чтобы Охрид, столица империи Самуила и ее церковный центр, обладавшая своими древними культурными традициями, не имела своих собственных кадров живописцев, выходцев из местной славянской среды. И неужели архиепископу Льву надо было выписывать художников из Фессалоники, когда они были у него под боком в Охриде? Не исключена, конечно, возможность, что он пригласил отдельных мастеров из Фессалоники, но в основном артель живописцев должна была быть укомплектована местными силами. И порукою этому служит подчеркнуто архаический стиль росписи. Можно без преувеличения утверждать, что мы имеем здесь дело с самым архаическим вариантом живописи XI века. В этом плане охридским фрескам уступают и фрески Киева, и фрески Фессалоники. В них особенно явственно пробивается народная струя, которую византийцы обычно квалифицировали как «варварскую».
И если эти фрески обнаруживают сходство с росписями Фессалоники, то прежде всего потому, что народная струя была очень сильной и в этом городе, имевшем крепкую славянскую прослойку463. Здесь мы сталкиваемся с характерным для средневекового искусства явлением варваризации византийских форм, что приводило не только к их огрублению, но и к тому, что художественный язык нередко приобретал большую полнокровность, свежесть и непосредственность464.
Таким образом, мы видим, что хотя ранняя группа охридских фресок была исполнена при греческом архиепископе Льве, она тесно связана с традициями той славянской культуры, которая находилась на подъеме еще в эпоху Первого болгарского царства. И тут нельзя не вспомнить, что вплоть до 1037 года архиепископскую кафедру в Охриде возглавлял славянин Иоанн. Но отсюда было бы неверно делать вывод о наличии в охридских фресках специфически болгарских черт и включать их безоговорочно в историю болгарского искусства (точка зрения Мавродинова). На этом этапе развития национальные черты еще не оформились, да и не могли оформиться. Поэтому гораздо правильнее говорить о славянских чертах, вернее, об общеславянских. Именно они определили архаический строй охридской росписи, разительно отличающейся от более поздних памятников Македонии.
После завоевания всего Балканского полуострова византийцами сложилась новая обстановка и для искусства. В частности, Македония сделалась одной из многочисленных провинций Византийской империи, управляемой греческими чиновниками. Постепенно и весь церковный аппарат попал в руки греков. В этих условиях неизбежен был процесс эллинизации Македонии, в которой элементы более старой славянской культуры оказались вовлеченными в сферу активного воздействия византийской государственности и византийской идеологии. Это, естественно, не могло не привести к ослаблению народных основ македонской культуры и к усилению византинизирующей струи в ее искусстве, что, в частности, выразилось в факте приглашения столичных, то есть константинопольских художников. С деятельностью последних в Македонии могут быть связаны два памятника – погибшая мозаика Митрополии в Серрах и фрески церкви св. Пантелеймона в Нерези.
Мозаика апсиды Митрополии в Серрах (см. ниже) получила совершенно неверную оценку в книге Н.П. Кондакова о Македонии. Прославленный русский византинист рассматривал ее как произведение «времен упадка и скорее всего второй половины XIII столетия»465. С этой датировкой солидаризировался Демус466. Однако уже Д.В. Айналов правильно отметил, что в серрской мозаике «herrscht eine Freiheit der Bewegungen und Gesten, die einen klaren Hinweis auf dieselbe Zeit, 11. oder Beginnendes 12. Jahrhundert, gibt»467. Действительно, по свободе группировки фигур, данных в разнообразных поворотах и на различном друг от друга расстоянии, серрская мозаика тяготеет к памятникам константинопольского круга, и притом XI столетия [сравни мозаику церкви Архангела Михаила в Киеве468, исполненную около 1108 года при участии константинопольских мастеров, и миниатюру литургического свитка в Патриаршей библиотеке в Иерусалиме (Σταυροῦ 109)469, изготовленного в Константинополе около этого же времени]. К сожалению, серрская мозаика уже до своего разрушения находилась в отвратительном состоянии сохранности470. Утраченные места были грубо дополнены масляной краской. Но те части, которые уцелели от первоначальной мозаики (как, например, головы апостолов слева), обнаруживали превосходное чувство пропорций, крепкий рисунок и уверенную мозаическую кладку. В сочетании с гибкой по своему ритму композицией и свободной живописной группировкой фигур все это указывает на столичную работу. Учитывая тесные связи серрской митрополии с Константинополем (а не с Охридом), вполне логично предположить, что для выполнения мозаики митрополичьей церкви были приглашены константинопольские мастера. Этот факт имеет немаловажное значение, так как он доказывает, что даже в городе, расположенном неподалеку от Фессалоники, решающую роль играла не фессалоникская, а константинопольская традиция.

Апостол Андрей (?) Из сцены «Причащение апостолов». Мозаика митрополии в Серрах. Вторая половина XI века
Вторым памятником, представляющим эту же традицию на почве Македонии, являются замечательные фрески церкви св. Пантелеймона в Нерези (см. ниже)471. Наряду с фресками Дмитровского собора во Владимире их можно смело рассматривать как лучшее, что нам осталось в наследство от византийской монументальной живописи второй половины XII века.

Епифаний Кипрский. Фреска в церкви св. Пантелеймона в Нерези. 1164 год

Мария с Младенцем из сцены «Сретение». Деталь фрески в церкви св. Пантелеймона в Нерези. 1164 год

Иосиф из сцены «Сретение». Фреска в церкви св. Пантелеймона в Нерези. 1164 год
Согласно свидетельству греческой надписи над главной входной дверью из нарфика в кафоликон, храм был воздвигнут в 1164 году «иждивением господина Алексея Комнина и сына порфирородной госпожи Феодоры». Г. Острогорский убедительно показал, что этот Алексей был сыном Константина Ангела и Феодоры, дочери императора Алексея I472. Таким образом, он принадлежал к царской семье. Уже один этот факт делает весьма вероятным участие в росписи приглашенных из Константинополя живописцев. Стиль фресок отнюдь не противоречит такого рода выводу. Более того, он служит существенным аргументом в его пользу.
Апсида церкви св. Пантелеймона украшена изображением «Евхаристии» под двумя видами (первоначальная роспись конхи утрачена). Ниже размещен святительский чин, в центре которого (уже под окнами) два ангела с рипидами фланкируют этимасию. В конхе диаконника зритель видит полуфигуру Иоанна Предтечи, в конхе жертвенника – полуфигуру Богоматери Оранты. Под ними представлены по две фигуры дьяконов. По сторонам от алтарной преграды написаны два изображения иконного типа – Богоматерь с младенцем и св. Пантелеймон. По стенам фрески располагались, как обычно, регистрами. По низу шла панель, представлявшая живописную имитацию мраморной облицовки, следующий регистр заполнен фигурами стоящих фронтально святых, а два верхних регистра, между которыми, возможно, находился фриз с вписанными в медальоны полуфигурами святых, содержали изображения евангельских сцен. Последние украшали также своды храма. От этого некогда обширного евангельского цикла уцелели лишь фрагменты «Рождества Богородицы», «Введения во храм», «Сретения», «Преображения», «Воскрешения Лазаря», «Входа в Иерусалим», «Снятия со креста» и «Оплакивания». На стенах нарфика были написаны сцены из жития св. Пантелеймона, а боковые помещения, перекрытые куполами, хранят довольно сильно поврежденные фрески с изображениями Пантократора, Христа Священника473 и различных фигур святых.
Роспись церкви св. Пантелеймона подкупает с первого же взгляда высоким совершенством выполнения. Работавшие здесь мастера (особенно главный мастер) имели за своей спиной крепкие художественные традиции. Все они пишут легко, уверенно, без всякого напряжения. Их искусство, пронизанное аскетическим духом, отмечено печатью большой строгости. В нем тщетно было бы искать смелых отступлений от канонов, почерпнутых из народных источников, живых, а порою и грубоватых, деталей. Здесь все отшлифовано и доведено до максимальной ясности выражения. Лучше всего удаются художникам индивидуальные характеристики лиц и передача драматических ситуаций. Но это еще не дает права говорить о реализме росписи. Как раз обратное – ее художественный язык представляет один из наиболее отвлеченных стилистических вариантов византийской живописи. Как ни индивидуальны лица, они всегда суровы и сосредоточены, и в них всегда господствует умозрительное начало. Как ни разнообразны положения фигур, последние все же неизменно тяготеют к плоскости, как тяготеют к ней и отвлеченные формы архитектурных кулис и пейзажа. Главным средством выражения служит линия, которой художники владеют с бесподобным совершенством. С помощью линий они выявляют сухие складки одеяний, в виде линий наносят они на лицах света, которые подвергаются настолько сильной стилизации, что порою образуют чисто орнаментальные плетения. Рядом с такой манерой письма встречается и другая, более живописная, когда высветления на карнации приобретают характер сочных бликов, в результате чего форма выигрывает в телесности и округлости (наиболее яркий пример – женские головы из сцены «Введение во храм», см. выше)474. Однако следует подчеркнуть, что в трактовке лиц преобладает первая, а не вторая манера письма. И это не случайно, поскольку в Нерези все средства выражения заострены в одном направлении – в направлении раскрытия спиритуалистической основы образа.
Фрески храма св. Пантелеймона были выполнены не одним, а несколькими мастерами (четырьмя или пятью). Главный мастер, которого мы склонны отождествлять с приглашенным из Константинополя художником, закрепил за собою, как это обычно водилось, наиболее ответственные и лучше всего освещенные участки росписи. Ему могут быть приписаны большинство фигур святых на стенах и фигуры отцов церкви в апсиде, а также такие сцены, как «Рождество Богородицы», «Введение во храм», «Сретение», «Преображение», «Вход в Иерусалим», «Снятие со креста», «Оплакивание Христа». Это мастер многоопытный и весьма уверенный в себе. Он пишет быстро и смело, владея широким диапазоном изобразительных приемов, в чем сказывается его первоклассная выучка. Света он накладывает настолько сочной кистью, что они порою образуют рельефный слой краски. И складки одеяний, и света на лицах, и даже отдельные блики он подвергает сильнейшей линейной стилизации. В его руках линия – совершенное средство для достижения нужных эмоциональных акцентов. Среди красок он отдает предпочтение более суровым и плотным цветам, помогающим ему выявить, когда это необходимо, драматизм ситуации. Он особенно любит контрастное сочетание темной зеленоватой карнации с яркими белыми светами, образующими прихотливые линейные узоры. Его ближайший помощник, исполнивший композицию «Евхаристии», а также фигуры воинов на южной стене западного рукава, работает в менее уверенной манере и пишет более жидкими красками. Два ученика, подвизавшиеся в нарфике и в смежных с ним угловых помещениях, еще более уступают в качестве главному мастеру. Рисунок у них несколько сбитый, они гораздо хуже чувствуют форму, лица их фигур лишены тонкого психологизма, их краски более бледные и плоские. Многое говорит за то, что главный мастер и его помощник использовали здесь местные силы.
Ксингопулос склонен связывать и нерезские фрески с фессалоникской школой475. В обоснование данного положения он ссылается на сходство сцены «Оплакивание Христа» с аналогичным изображением в нарфике церкви Панагии τῶν Χαλκέων476. Обычно такие сопоставления чисто иконографического порядка мало что дают для уточнения принадлежности того или иного памятника к той или иной школе. Особенно они рискованны, когда идет речь о столь распространенном сюжете, как «Оплакивание Христа», который входил в состав праздничного цикла и имел широчайшее распространение в византийских росписях. Можно напомнить, что среди фресок Спасо-Мирожского монастыря в Пскове фигурирует этот же сюжет, и притом в гораздо более близком к нерезской росписи иконографическом изводе477. Если же базироваться на стилистическом анализе, то никак нельзя признать близость нерезской фрески к фессалоникской. Даже те далекие от совершенства фотографии, которые приводит Ксингопулос, говорят о гораздо более примитивном строе форм и худшем качестве фессалоникской фрески. Искусство нерезского мастера находится на несоизмеримо более высоком уровне и по аристократическому характеру тяготеет к кругу столичных памятников. Для типов бородатых святых ближайшие стилистические аналогии мы находим в God. Vatic, gr. 1162 (fol. 5)478, для типа Иосифа из сцены «Сретения» – в миниатюре на тот же сюжет из Евангелия в Ивере, 1 (fol. 5)479, для типа Симеона из той же сцены «Сретения» – в мозаиках Чефалу (архангелы в апсиде, полуфигура Мельхиседека в пресбитерии)480.
Недавно была сделана неудачная попытка передатировки нерезских фресок, которые были отнесены к 1210–1230 годам481. Лишь полным непониманием хода развития византийской живописи можно объяснить эту фантастическую датировку. На самом деле те приемы линейной стилизации светов, которые мы находим в росписи Нерези, сложились уже к середине XII века, как об этом свидетельствует фрагмент фрески от 1156 года, некогда украшавший апсиду церкви Сан Пьетро «alli marmi» в Эболи482. Эти приемы широко применяются и в росписи Спасо-Мирожского монастыря в Пскове (до 1156 года)483 и церкви св. Георгия в Старой Ладоге (около 1167 года)484. И когда они фигурируют позднее в фресковых фрагментах от 1197–1198 годов в библиотеке монастыря в Ватопеде485 и в росписях позднего XII века в Новгороде (Аркаж, 1189 год; Нередица, 1199 год)486, то никогда не следует забывать, что эти приемы отнюдь не были новшеством зрелого XII столетия, а восходили к более ранним традициям. По-видимому, они были занесены в монументальную живопись из мозаики, где ими особенно охотно пользовались [сравни портреты Иоанна II Комнина, его супруги Ирины и их сына Алексея в Софии Константинопольской]487. Зарождение и развитие линейной стилизации светов было неразрывно связано с оплощением формы и с нарастанием отвлеченных тенденций в византийском искусстве XII века488. Все это вместе взятое не позволяет отрывать дату исполнения нерезской росписи от даты построения храма. И если необходим еще один решающий аргумент в пользу такого решения вопроса, то он может быть почерпнут из росписи Спасо-Мирожского монастыря в Пскове, возникшей не позднее 1156 года. Здесь встречается столь близкая к манере письма нерезских мастеров трактовка отдельных голов (ср. см. ниже), что сама собою отпадает предложенная Геодамом поздняя датировка нерезской росписи.

Голова Марии из сцены «Воскрешение Лазаря». Деталь фрески в церкви св. Пантелеймона в Нерези. 1164 год

Голова плачущей жены из сцены «Успение». Деталь фрески собора Спасо-Мирожского монастыря в Пскове. До 1156 года
Сходство нерезских и псковских фресок не случайно. В обоих случаях мы имеем дело со странствующими артелями, во главе которых стояли греческие мастера и которые обычно комплектовались выходцами из местного населения. Подвизавшаяся в Нерези артель должна была оставить глубокий след в искусстве Македонии, поскольку ее возглавлял выдающийся мастер. И так как в Македонии большинство городов отстояли друг от друга на сравнительно небольшом расстоянии, то вполне естественно предположить, что работавшие в Нерези мастера либо их ученики после окончания порученной им росписи разошлись по близ лежащим городам в поисках новых работ. Так оно, несомненно, и было, что доказывают росписи Кастории и Курбинова, принадлежащие к тому же художественному кругу, как и фрески церкви св. Пантелеймона.
К сожалению, по совершенно случайному стечению обстоятельств, памятники монументальной живописи Македонии распределяются во времени крайне неравномерно. Мы имеем группу росписей второй четверти XI века и второй половины XII века. Таким образом создается лакуна более чем в сто лет. И здесь мало что дают сильно попорченные фрагменты фресок из церкви св. Леонтия близ селения Водоча489, легкомысленно отнесенные Мавродиновым к болгарской школе живописи эпохи царя Самуила. Если основываться на фрагменте с изображением сорока севастийских мучеников, то роспись не могла возникнуть ранее последней трети XIII века. Но этот фрагмент принадлежит к третьему слою росписи, два же более ранних слоя датируются XI–XII веками. Недавно открытые изображения двух диаконов (Евпла и Исавра, см. ниже) и св. Пантелеймона обнаруживают несомненную стилистическую близость к фрескам св. Софии в Охриде, что не позволяет выводить их за пределы XI века. В отношении других фрагментов (процессия ангелов, фигура ангела с диском, Богоматерь Одигитрия, «Введение во храм», сцена из жития Иоанна Крестителя, «Евхаристия», сцены мученичеств) трудно делать какие-либо далеко идущие выводы, так как они находятся в очень плохом состояния сохранности490.

Св. Исавр. Фрагмент фрески из церкви св. Леонтия в Водоче. XI век. Народный музей в Штиле
Все остальные росписи Македонии, могущие быть датированными XII веком, сосредоточены на небольшой по размерам территории. Это Кастория, Сервич и лежащее около озера Преспа Курбиново. Уже один тот факт, что все эти места расположены на недалеком друг от друга расстоянии, позволяет à priori предполагать, что здесь подвизались мастера, если и не входившие в одну постоянную артель, то имевшие, во всяком случае, возможность легко переходить из одной артели в другую.
Наибольшее количество фресок сохранилось на почве Кастории (славянский Костур). Это был довольно крупный административный и церковный центр южной Македонии. Среди епархий, подчиненных охридскому архиепископу, касторийская была одной из самых обширных и богатых, что легко объясняет нам обилие ее церквей. Датировка украшающих эти церкви росписей наталкивается на большие трудности, так как отсутствуют точные даты построения храмов. Здесь всегда возможны ошибки, особенно памятуя о том, что провинциальные школы сильно отставали в своем развитии от Константинополя. То, что для столицы было уже давно пройденным этапом, в провинции нередко держалось десятилетиями, а то и столетиями. Поэтому было бы неправильно при датировке провинциальных росписей ориентироваться на самые передовые памятники столицы и закрывать при этом глаза на затяжной характер тех художественных процессов, которые протекали в провинции. На огромной территории Византийской империи данные процессы развертывались крайне неравномерно, в силу чего приходится всегда учитывать возможность разновременности сходных стилистических явлений. И как раз в этом плане росписи Кастории представляют особый интерес.
Если не принимать во внимание отдельные фрагменты более старой живописи, случайно уцелевшие в церковных постройках Кастории, то самым ранним ансамблем фресок следует считать роспись церкви св. Николая τοῦ Κασνίτζη491. В этой небольшой однонефной базилике сохранились фигуры Богоматери Оранты между двумя склоненными ангелами (апсида), различные евангельские сцены («Благовещение», «Рождество Христово», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «Вознесение», «Успение»), портреты ктиторов, фигуры и полуфигуры святых, сцены из жития св. Николая. Роспись была выполнена несколькими художниками, о чем свидетельствуют различные почерки – один более свободный, смелый и несколько небрежный («Успение», святые Евстратий, Нестор, Меркурий, ктиторы и другие), другой – более тонкий, почти что каллиграфический (Богоматерь Оранта с ангелами, «Благовещение», святые Мина и Николай), третий самый нейтральный, отмеченный печатью безличного академизма («Вознесение», «Крещение»). По характеру стиля роспись без труда укладывается в пределах 60–80-х годов XII века. Она возникла не ранее 1164 года, когда были написаны фрески Нерези, которые, несомненно, знали работавшие в церкви св. Николая мастера. Стоит только сравнить в обеих росписях такие сцены, как «Преображение»492 или такие фигуры, как св. Николая и святых воинов493, чтобы тотчас же стала очевидной преемственность касторийской росписи от нерезской. Отдельные головы, как, например, апостола Петра из «Преображения» и св. Мины, кажутся прямо перенесенными со стен нерезского храма494. Все это решительно препятствует датировать роспись церкви св. Николая τοῦ Κασνίτζη XI либо началом XII века, к чему склоняются Пелеканидис и Ксингопулос. Мы имеем здесь памятник зрелого XII века, с типичной для этого времени сухой линейной трактовкой лиц и драпировок и с подчеркнуто плоскостным разворотом композиции.
Ближе к 80-м годам XII века была исполнена роспись церкви св. Бессеребренников, или Врачей (Ἅγιοι Ἀνάργυροι)495. Ее датировка не представляет больших трудностей, поскольку выяснилось, что один из работавших здесь мастеров подвизался и в церкви св. Георгия в Курбинове, фрески которой теперь точно датируются 1191 годом на основе недавно опубликованной надписи496. Этот же стилистический этап в развитии провинциальной живописи представлен фресками церкви Панагии τοῦ Ἀράκου в Лагудера на Кипре, относящимися к 1192 году497.
Апсиду церкви св. Врачей украшает необычная для константинопольских храмов фигура сидящей Богоматери Одигитрии, которую окружают ангелы (их фигуры написаны на прилегающей к апсиде арке); в нижнем регистре апсиды изображены идущие к центру святители. Над апсидой зритель видит полуфигуру Христа Эммануила, а на лицевой стороне алтарных столбов – фигуры Косьмы и Дамиана и святых Евпла и Стефана. На стенах размещены сцены из жизни Христа и Богоматери, редкое для XII века «Чудо Георгия о змие»498, фигуры и полуфигуры святых и портреты ктиторов в рост. Наиболее высокие по качеству фрески сосредоточены в алтарной части и, как это обычно водилось, на наилучше освещенных местах. Это стоящие ангелы на алтарной арке (см. ниже), фигуры Косьмы и Дамиана, четырех святителей, Феодора Тирона, Феодора Стратилата, папы Льва, св. Елевферия, святых Флора и Лавра, св. Евпла, наконец, ктиторский портрет499. Автор данной группы фресок имеет свой излюбленный тип лица с изогнутым носом, отличающимся непомерно широкими крыльями, с глубоко посаженными глазами, чей взгляд как бы пронизывает зрителя. Кисть этого мастера полна энергии, но недостаточно точна. Он огрубляет форму, произвольно нарушает пропорции фигур, форсирует контрасты высветленных и затененных частей. Если ему предоставляется к тому возможность, то он членит на сотни мельчайших складочек драпировки, явно увлекаясь при этом самодовлеющей игрой линий. Его рука без труда опознается в лучших из фресок Курбинова («Благовещение», см. ниже, ангелы по сторонам от Богоматери с младенцем, св. Евпл, см. ниже)500, где он дает полную волю своей страсти к самым невероятным линейным изломам и извивам.

Ангел. Фреска в церкви св. врачей в Кастории. 80-е годы XII века

Ангел из сцены «Благовещение». Фреска в церкви св. Георгия в Курбинове. 1191 год
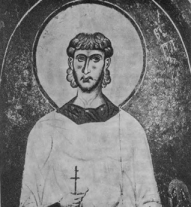
Св. Евпл. Фреска в церкви св. Георгия в Курбинове.
Остальные из работавших в церкви св. Врачей живописцев намного уступают главному мастеру. Особенно слабы авторы евангельских сцен501. Их творчество лишено всякой оригинальности и отмечено печатью глубокого провинциализма. Они знали искусство главного нерезского мастера (сравни сцену «Оплакивание Христа»)502, которое они подвергли, однако, такому упрощению, что оно полностью утратило в их руках свой утонченный спиритуализм.
Та же артель живописцев, которая подвизалась в церкви св. Врачей в Кастории, работала и в церкви св. Георгия в Курбинове, где сохранился самый поздний из дошедших до нас от XII века фресковый ансамбль Македонии (как уже отмечалось, он датируется 1191 годом)503. И в этой небольшой базилике апсиду украшает фигура сидящей Одигитрии, по сторонам от которой представлены два изящных ангела; ниже расположен фриз с фигурами идущих к центру святителей, а под окном зритель видит возлежащего на алтаре мертвого Христа (мы имеем здесь одно из самых ранних изображений популярной впоследствии композиции «Поклонение жертве»)504. По сторонам от триумфальной арки написаны эффектные, полные движения фигуры архангела Гавриила и Марии, а в нишах жертвенника и диаконника – полуфигуры диаконов (один из них Евпл). Стены расчленены на три регистра: сверху представлены пророки (уцелели лишь нижние части фигур), в средней зоне – сцены из жизни Христа и Марии, в нижнем ярусе фигуры различных святых в рост. Хорошо сохранившиеся фрески, счастливо избегнувшие записей, написаны в несколько стереотипной, но очень свободной и уверенной манере. Их авторы не были большими художниками. Тем более примечательна та техническая сноровка, которая позволяет им легко справляться с решением сложных композиционных задач. Лица их фигур порою очень выразительны, они любят темную зеленоватую карнацию, поверх которой кладут резкие света, охотно подвергая их линейной стилизации. Самому одаренному из этих художников [автору фигур ангелов в конхе и таких сцен, как «Благовещение», «Встреча Марии и Елизаветы» (см. ниже), «Сошествие во ад» и другие] нравятся фигуры непомерно вытянутые, в порывистом движении, с развевающимися одеяниями, которые расчленены на сотни мелких складочек. В поисках усложнения линейных ритмов он не останавливается перед нарочитым нагромождением драпировок, облегчая себе тем самым возможность блеснуть перед зрителем чисто декоративными эффектами. Отправной точкой его искусства была роспись в Нерези, но он доводит линейную стилизацию зрелого XII века до такой утрировки, что она уже приобретает отпечаток неприкрытой манерности. В искусстве этого художника, при всей его провинциальности, все же явственно чувствуется аромат fin de siècle.

Встреча Марии и Елизаветы. Фреска в церкви св. Георгия в Курбинове. 1101 год
Остальные росписи Македонии не вносят ничего нового в общую картину развития ее монументальной живописи. Это либо случайно уцелевшие от более старых ансамблей разрозненные фрагменты (как, например, сцена «Крещения», портретные фигуры членов дома Комнинов и «Древо Иесеево» в церкви Панагии Мавриотиссы в Кастории505, или изображения Христа Эммануила и Ветхого деньми, Косьмы и Дамиана, Константина и Елены, а также сцены «Воскрешение Лазаря» в церкви св. Стефана в той же Кастории506), либо настолько сильно попорченные фрески, что они мало что дают для анализа стиля (как, например, датируемые концом XII века остатки росписи на стенах базилики в Сервии507 или фрагменты фресок второй половины XII века в монастыре Богородицы Элеусы около села Велюсии508). Поэтому роспись церкви св. Георгия в Курбинове может рассматриваться для XII века как самый поздний из дошедших до нас памятников монументальной живописи Македонии509.
Оглядываясь на путь развития, который эта живопись проделала в XI–XII веках, следует с самого же начала заметить, что в ее истории четко разграничиваются два периода. Первый период, длившийся примерно до середины XI века, был неразрывно связан с подъемом той славянской культуры, центром которой была Македония. В эпоху Первого болгарского царства и царства Самуила эта культура, имевшая глубокие народные корни, отличалась особой полнокровностью. С ее живыми отголосками мы соприкоснулись в росписи храма св. Софии в Охриде, а также в современных ей фресках Фессалоники, в которых столь же явственно выступает архаическая струя. Многое говорит за то, что на данном этапе развития артели живописцев были в основном укомплектованы местными силами и что среди последних немаловажное место занимали выходцы из славянского населения. Положение стало постепенно меняться после завоевания Македонии византийцами, проводившими политику широкой эллинизации края. Это не преминуло отразиться на искусстве. Укрепились связи Македонии с Константинополем, помимо византийских чиновников и византийского духовенства в Македонию стали приезжать и константинопольские художники. Так в Македонию была занесена столичная традиция (мозаика Митрополии в Серрах и роспись Нерези), породившая широкий отклик у местных художников. Были ли последние в своем большинстве греками или славянами – сказать трудно. По-видимому, на этом этапе развития греческие мастера, связанные главным образом с местными церковными центрами, доминировали. И это привело к нейтрализации народной струи в искусстве, а вместе с тем и к ослаблению традиций славянской художественной культуры, первый расцвет которой падает на IX – начало XI века. Отойдя от этой традиции, художники Македонии не сумели в то же время полностью усвоить основы византийской эстетики. Поэтому в их работах все чаще всплывают черты неприкрытого провинциализма, особенно настойчиво дающие о себе знать в росписях Кастории.
Если задать себе в заключение вопрос можно ли считать, что Македония обладала в XI–XII веках своей особой живописной школой, центром которой являлась Фессалоника? – то ответ на этот вопрос должен быть, как мне представляется, отрицательным. Для Македонии этого времени характерно обилие местных небольших центров, со своими странствующими артелями живописцев, обслуживавших прилегающие к таким центрам районы (Нерези, Кастория, Курбиново). И у нас нет достаточных оснований для того, чтобы выводить все эти артели из одного города, то есть из Фессалоники, якобы игравшей роль руководящего, все и вся объединяющего центра. Македонские памятники XI–XII веков, с их обилием местных оттенков, решительно говорят против такого решения вопроса. Они свидетельствуют об ином – о распыленности художественной культуры Македонии в XI–XII веках, что и воспрепятствовало сложению на ее почве уже в это время особой живописной школы, со своими устойчивыми, четко выраженными стилистическими признаками. Такая школа впервые возникла на Балканах в XIII веке. Это была сербская школа живописи, в рамках которой очень быстро начали кристаллизоваться национальные черты. И если сербские мастера были многим обязаны на ранних этапах развития Македонии и Фессалонике510, это еще не дает права рассматривать их как македонских мастеров. Но тут мы соприкасаемся с совсем новой проблемой, выпадающей из хронологических рамок нашей темы.
* * *
Примечания
Статья была подготовлена в качестве доклада для XII Международного конгресса византинистов, состоявшегося в Охриде (Югославия) в 1961 году, и напечатана в трудах этого конгресса: В.Н. Лазарев. Живопись XI–XII веков в Македонии. – «XII-e Congrès international des études byzantines. Ochride, 1961. Rapports», V. Belgrade-Ochride, 1961, стр. 105–134, рис. 1–36. В настоящем издании перепечатывается без существенных изменений.
Н.П. Кондаков. Македония Археологическое путешествие. СПб., 1909.
Н.П. Кондаков. Ук. соч., стр. 54–58.
Ch. Diehl. Manuel d’art byzantin, II. Paris, 1926, p. 788–789, 818–824.
G. Millet. Recherches sur l’iconographie de l’Évangile aux XIV-e, XV-e et XVI-e siècles. Paris, 1916, p. 630–655.
В.Н. Лазарев. К вопросу о «греческой манере», итало-греческой и итало-критской школах живописи. – «Ежегодник Института истории искусств [Академии наук СССР], 1952». М., 1952, стр. 173–182.
V. Petković. La peinture serbe du Moyen Âge, I–II. Beograd, 1930–1934; его же. Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа. Београд, 1950.
G. Millet. La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie. fasc. I. Paris, 1954.
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, I. Βυζαντιναὶ τοιχογραφίαι. Θεσσαλονίκη, 1953.
Δ. Εὐαγγελίδης. Ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων. Θεσσαλονίκη, 1954.
П. Миљковиќ-Пепек. Материjали за македонската средновековна уметност. Фреските во светилиштето на црквата св. Софиjа во Охрид.–«Археолошкиот Музеj во Скопjе. Зборник», I (1955–1956). Скопjе, 1956, стр. 37–70.
D. Talbot Rice. Byzantine Art. London, 1954, p. 117; i d. The Beginnings of Christian Art. London, 1957, p. 105, 158, 163.
A. Grabar. La peinture byzantine. Genève, 1953, p. 139–143.
A. Ammann. La pittura sacra bizantina. Roma, 1957, p. 100–105.
A. Xyngopoulos. Thessalonique et la peinture macédonienne. Athènes. 1955. p. 1–25, 76.
Ibid., p. 8.
Н. Мавродинов. Старобългарската живопис. София, 1946, стр. 34–55, 68–78; его же. Старобългарското изкуство. Изкуството на Първото българско царство. София, 1959, стр. 281–294.
Н. Мавродинов. Старобългарското изкуство, стр. 283.
Там же.
Для истории вопроса см. не утратившую своего значения и на сегодняшний день превосходную работу: А.А. Васильев. Славяне в Греции – «Византийский временник», V, 1898, стр. 404–438, 626–670. Критический обзор новой литературы дают Лемерль (P. Lemerle. Philippes et la Macédoine orientale. Paris, 1945, p. 113–118) и Острогорский (G. Ostrogorsky. History of the Byzantine State. Oxford, 1956, p. 84–85). Немало ценных фактов можно найти в ряде старых работ: М. Дринов. Заселение Балканского полуострова славянами. – «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1872, кн. 4, стр. 1–174; С. Веркович. Топографическо-этнографический очерк Македонии. СПб., 1889; В. Кънчов. Македония. Етнография и статистика. София, 1900; Й. Иванов. Българите в Македония. София, 1917; И. Снегаров. Византийски свидетелства от XI–XIII в. за българския характер на Македония. – «Македонски преглед», год. I, кн. 5–6. София, 1925, стр. 1–17; Й. Иванов. Български старини из Македония. София, 1931. Проблемой заселения Балканского полуострова славянами много занимались за последние годы советские историки, заострившие свое внимание на социально-экономической стороне этого процесса. См. Е.Э. Липшиц. Византийское крестьянство и славянская колонизация (преимущественно по данным земледельческого закона). – «Византийский сборник». М. – Л., 1945, стр. 95–143; А. Дьяконов. Известия Иоанна Эфесского в сирийских хрониках о славянах VI–VII вв. – «Вестник древней истории», 1946, 1 стр. 20–34; Е.Э. Липшиц. Из истории славянских общин в Македонии в VI–IX вв. н. э. – «Сборник статей ко дню 70-летия академика Б.Д. Грекова». М., 1952, стр. 49–54. Я приношу большую благодарность А.П. Каждану и Г.Г. Литаврину, оказавшим мне существенную помощь при разработке исторической части этой статьи.
Ср. P. Lemerle. Philippes et la Macédoine orientale, p. 116. «Au VII-е et au VIII-е siècle, – пишет Лемерль, – la Macédoine toute entière est plus slave que grecque».
Ср. F. Dölger. Ein Fall slaviscber Einsiedlung im Hinterland von Thessalonike im X. Jahrhimdert. – «Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophische-historische Klasse», H. 1. München, 1952 (ср. «Byzantinische Zeitschrift», Rd. 46, 1953, S. 210–211 – ответ Дёльгера на критику Кириакидеса); G. Soulis. On the Slavic Settlement in Hierissos in the Tenth Century. – «Byzantion». XXIII, 1953, p. 67–72; Р. Наследова. Македонские славяне конца IX – начала X в. по данным Иоанна Камениаты. – «Византийский временник», XI, 1956, стр. 82–97; В. Тъпкова-Заимова. Сведения за българи в житието на св. Атанасий. – «Наследования в чест на акад. Д. Дечев». София, 1958, стр. 758 762, ее же. Нападения «варваров» на окрестности Солуни в первой половине VI века. – «Византийский временник», XVI, 1959, стр. 3–7.
Theophanes. Chronographia, I. Rec. C. de Boor. Lipsiae, 1883, p. 430; Johannis Cameniatae de Excidio Thessalonicensi in Theophanes Continuatus. Bonnae, 1838, p. 514 и др.
И. Дуйчев. Нови житийни данни за похода на имп. Никифора I в България през 811 год. – «Списание на Българската Академия на науките. Клон историко-филологичен и философско-обществен», кн. LIV. София, 1637, стр. 150. Ср. F. Dvornik. La vie de Grégoire le Décapolite et les slaves macédoniens au IX-e siècle. Paris, 1926, p. 35–36, 61.
«История Болгарии», т. I. Издание Института славяноведения АН СССР. М., 1954, стр. 54.
В.Н. Златарски. История на Българската държава през средните векове, 1–2. София, 1938, стр. 289.
Й. Иванов. Български старини из Македония, стр. 557.
G. Ostrogorsky. History of the Byzantine State, p. 276. Ср. H. Gelzer. Der Patriarchat von Achrida.–«Abhandlungen der philologisch-histonschen Klasse der königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissen-schaften», II, Nr. 5. Leipzig, 1902; Й. Иванов. Българите в Македония, стр. 80–87; И. Снегаров. История на Охридската архиепископия. София, 1924; его же. Град Охрид. Исторически очерк. – «Македонски преглед», IV, 1928, стр. 91–139; [I. Dujčev. I patriarcato bulgaro del sec. X. «Orientaha Christiana Analecta», 181, 1968; А. Игнатьев. Охридската архиепископия. «Духовната култура», 47, 4, 1967].
Ср. А.П. Каждан. Деревня и город в Византии IX–X вв. М., 1960, стр. 308, 335, 336. А.П. Каждан считает, что цехи строителей могли появиться в Византии уже в XII веке. Но упоминание в документах протомагистра отнюдь еще не говорит о наличии таких цехов.
Theophanes. Chronographia, I. Rec. C. de Boor, 440, 19–20.
М. Сюзюмов. Книга эпарха. Уставы византийских цехов десятого века. Свердловск, 1949, стр. 108.
А. Рудаков. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. М., 1917, стр. 142.
«Acta Sanctorum Bollandiana», Mai, III, p. 9.
Michael Glycas. Annales. Bonnae, 1836, p. 497, 7–9.
С. Радоjчић. Majстори старог српског сликарства. Београд, 1955, стр. 19, сл. 12.
Ср. В.Н. Лазарев. Мозаики Софии Киевской. М., 1960, стр. 154–156. В Софии Киевской работало не менее восьми мозаичистов, среди которых были и славянские выученики греческих мастеров. Для выполнения мозаик требовалось, как правило, больше рук, чем для выполнения фресок.
И. Дуйчев. Изъ старата българска книжнина, I. Книжовння исторически паметници отъ Първото българско царство. София, 1943, стр. 80.
I. Sakazov. Das Wirtschaftsleben des Balkans im Mittelalter. – «Revue internationale des études balkaniques». Beograd, 1936, S. 417–419.
Н. Мавродинов. Старобългарското изкуство, стр. 222–223, 238, 250–251 (с указанием специальной литературы).
В. Filov. Geschichte der altbulgarischen Kunst bis zur Eroberung des bulgarischen Reiches durch die Türken. Berlin und Leipzig, 1932, S. 38–40.
Н. Мавродинов. Старобългарското изкуство, стр. 264–267.
A. Schmidt-Annaberg. Die Basilik Aia Sofia in Ochrida. – «Deutsche Bauzeitung», LV, 1921, S. 193 ff., 205 ff. Автор этой монографии полагает, что в дошедшем до нас здании различаются четыре строительных периода [первый (середина IX века) – вся восточная часть, до третьей пары столбов, считая от апсиды; второй (около 1000 года) – вся западная часть, включая и предварительную планировку внутреннего нарфика; третий (XII век) – перекрытие нефов, возведение внутреннего нарфика и северо-западной пристройки с лестницей на хоры; четвертый (XIII–XIV века, до 1317 года) – внешний нарфик и башни]. Новейшие обследования памятника не подтвердили этих выводов.
Ћ. Бошковић. Основи средаевековне архитектуре. Београд, 1947, стр. 96, рис. 130; Д. Коцо. Црквата св. Софиjа во Охрид. – «Филозофски факултет на Универзитетот-Скопjе. Историско-филолошки оддел. Годишен зборник», књ. 2. Скопjе, 1949, стр. 344 358; Р. Љубинковић. Конзерваторска испитивања и радови на цркви свете Софиjе у Охриду. «Зборник загатите споменика културе», кн,. II, св. 1, 1951. Београд, 1952, стр. 201–204; его же. Конзерваторски радови на цркви «Св. Софиjе» у Охриду. Београд, 1955; Ћ. Бошковић. Архитектура средњег века. Београд, 1957, стр. 129, рис. 170. Ср. П.Н. Милюков. Христианские древности Западной Македонии. «Известия Русского Археологического института в Константинополе», т. IV, вып. 1. София, 1899, стр. 86; G. Millet. L’école grecque dans l’architecture byzantine. Paris, 1916, p. 41; St. Sophia of Ochrida, Preservation and Restoration of the Building and its Frecoes. Report of the UNESCO Mission of 1951 by F. Forlati, C. Brandi and Y. Froidevaux. Paris, 1953; D. Koco. Nouvelles considérations sur l’église de Sainte-Sophie à Ohrid. – «Archaeologia Jugoslavia», II, 1956, p. 139–144.
Й. Иванов. Български старини из Македония, стр. 566.
Д. Коцо. Климентовиот манастир «Св. Пантелеjмон» и раскопките при «Имарет» во Охрид. – «Филозофски факултет на Универзитетот-Скопjе. Историско-филолошки оддел. Годишен зборник», кн. 1. Скоще, 1948, стр. 180.
Теофилакт. Житие на св. Климента Охридски. Во превод од Д. Ласков. София, 1916, стр. 65.
Ср. П. Миљковиќ-Пепек. Матерjали за македонската средновековна уметност. Фреските во светилиштето на црквата св. Софиjа во Охрид, стр. 64–65.
К. Мано-Зиси. Св. Софиjа во Охрид .– «Старинар», VI, 1931, стр. 123–132; N. Okunev. Fragments de peintures de l’église Sainte Sophie d’Ochrida. – «Mélanges Ch. Diehl», II. Paris, 1930, p. 117–131. Н. Мавродинов. Старобългарската живопис, стр. 40–49; A. Grabar. La peinture byzantine, р. 139–141; G. Millet. La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie, fasc. I, p. VIII, pl. 1–10; Р. Кузмановски, Д. Шаљић. Охрид и околина. Београд, 1954, стр. 30–40; П. Миљковиќ-Пепек. Материjали за македонската средновековна уметност. Фреските во светилиштето на црквата св. Софиjа во Охрид; S. Radojčić. Yugoslavija. Srednjovekovne freske. UNESCO, 1955, стр. 16, табл. I VIII; М. Медић. Радови на конзервацщи архитектуре и живописи цркве Свете Софиjе у Охриду у лето 1954 године. – «Зборник заштите споменика културе», VI–VII, 1955–1956. Београд, 1956, стр. 251–252; П. Миљковић-Пелек. Порекло jедног стилског елемента на фрескама Св. Софиjе у Охриду. – «Српска Академика наука. Зборник радова», књ. LIX. Византолошки институт, књ. 5. Београд, 1958, стр. 125–129; A. Ammann. La pittura sacra bizantina, p. 100–101; O. Bihalji-Merin. Fresken und Ikonen. Mittelalterliche Kunst in Serbien und Makedonien. München, S. 7, Taf. 1, 3–12.
См. Н.П. Кондаков. Иконография Богоматери, т. I. СПб., 1914, стр. 304–311; A. Grabar. L iconoclasme byzantin. Paris, 1957, fig. 53, 56. Ср. A. Grabar. Iconographie de la Sagesse Divine et de la Vierge. – «Cahiers archéologiques», VIII. Paris, 1956, p. 259–260.
В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. II. Атлас. М., 1948, табл. 40; A. Grabar. L’iconoclasme byzantin, fig. 123, 124.
В.Н. Лазарев. История византийской живописи, т. II, табл. 116.
V. Lazarev. Nouvelles découvertes dans la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. – «Byzantinoslavica», XX (1), 1958, p. 91–92. Как в Охриде, так и в Киеве, в основе этих сцен лежит сложная символика, намекающая на жертвенную смерть Христа и на таинство евхаристии.
П. Миљковик-Пепек. Материjали за македонската средновековна уметност. Фреските во светилиштето на црквата св. Софиjа во Охрид, сл. 13; В.Н. Лазарев. Мозаики Софии Киевской, табл. 22–25.
Cp. V. Lasareff. La scuola di Vladimir-Susdal: due nuovi esemplari della pittura da cavaletto russa dal XII al XIII secolo (per la storia dell’icono stasi).– «Arte Veneta», X, 1956, p. 9–18.
Н. Мавродинов. Старобългарското изкуство, стр. 289–290.
П. Миљковиќ-Пепек. Една значаjна новооткриена фреска во Св. Софиjа во Охрид. – «Весник на музеjско конзерваторското друштво на НР Македонка». год III, бр. 2 Скопjе, 1955, стр. 48–51; S. Radojčić. Die serbische Ikonenmalerei vom 12. Jahrhundert bis zum Jahre 1459. – «Jahrbuch der Osterreichischen byzantinischen Gesellschaft», V, 1956, S. 68; П. Миљковик-Пепек. Умилителните мотиви во византиската уметност на Балканот и проблемот на Богородица Пелагонитиса.–«Археолошкиот Музеj во Скопjе. Зборник», II (1957–1958). Скопjе, 1958, стр. 15–18; id. La fresque de la Vierge avec le Christ du pilier situé au nord de l’iconostase de Sainte-Sophie à Ohrid. – «Akten des XI. Internationalen Byzantinisten-Kongresses. München, 1958». München, 1960, p. 388–391. Радойчич правильно относит эти фрески не к XI, а к XII веку.
XI веком датируются также сильно попорченные фрески внутреннего нарфика (в том числе и портрет Исаака Комнина и его супруги Ирины) и фрагмент «Жертвоприношения Авраама» на первоначальной наружной стене (в свое время к ней примыкал портик).
П. Миљковиќ-Пепек. Материjали за македонската средновековна уметност. Фреските во светилиштето на црквата св. Софиjа во Охрид, стр. 58, 64.
Ср. ibid., стр. 65. К этой датировке склоняет и наличие портретов римских пап, которые были бы уже невозможны ближе к 1050 году, когда разгорелась борьба между византийской и римской церквами, в которой архиепископ Лев принял активное участие как приверженец патриарха Михаила Кирулария (см. Е. Голубинский. Краткий очерк истории православных церквей болгарской, сербской и румынской, или молдовалашской. М., 1871. стр. 41; G. Ostrogorsky. Op. cit., S. 282, 296 298).
D. Talbot Rice. English Art. 871–1100. Oxford, 1952, pl. 48–53.
I d. The Beginnings of Christian Art, p. 106.
П. Миљковиќ-Пепек. Материjали за македонската средновековна уметност. Фреските во светилиштето на црквата св. Софиjа во Охрид, стр. 67.
M. Čorović-Ljubinković. Les Icônes d’Ohrid. Beograd, 1953.
A. Xyngopoulos. Thessalomque et la peinture macédonienne, p. 10–12.
D. Evangelidès. La restauration de l’église de Théotocos à Thessalonique et ses fresques du Xl-e siècle. – «Atti del V Congresso internazionale di studi bizantini», II. Roma, 1940, p. 106–107; i d. Ἡ Παναγία τῶν Χαλκέων. Θεσσαλονίκη, 1954. Проф. Лемерль («Revue des Études byzantines», XIII, Paris,1955, p.228–229) уточнил дату выполнения росписи и убедительно отнес ее не к 1044, а к 1028 году.
Σ. Πελεκανίδης. Νέαι ἔρευναι εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν Θεσσαλονίκης καὶ ἡ ἀποκατάστασις τῆς ἀρχαίας αὐτῆς μορφῆς. – «Πεπραγμένα τοῦ Θ´ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12–19 ἀπριλίου 1953)», τόμ. Α´. Ἀθῆναι, 1955, σελ. 404–407.
Известно, что в IX–X веках большинство солунских граждан говорили на славянском языке. См. Житие Мефодия, архиепископа Моравского. Издание О. Бодянского. – «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете», 1865, кн. 1, отд. III, стр. 1–95; ср. F. Dvornik. Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance. Prague, 1933, p. 386.
В этой связи невольно хочется вспомнить блестящую характеристику Ф.И. Буслаева, данную им орнаменту средневековых болгарских рукописей («Журнал Министерства народного просвещения», 1884, май, отдел «Критика и библиография», стр. 79): «Дальше этого одичалая чудовищность средневекового стиля не пошла ни в одной из славянских рукописей. Тут не беспомощная неумелость самоучки, который боязливо и вяло портит в своей убогой копии красивый образец, а смелая и бойкая рука отважного удальца, который привык громить классические сооружения античного мира и их монументальные развалины и узорчатый щебень пригонять на скорую руку к своим невзыскательным потребностям и поделкам».
Эту живую народную струю в средневековом искусстве нельзя смешивать с отсталым монашеским провинциальным искусством, хотя порою она проникает и в последнее. Мое понимание народной струи во многом перекликается с трактовкой Роберто Лонги романского течения в живописи дученто (R. Longhi. Giudizio sul Duecento. – «Proporzioni», II, 1948, p. 5–29).
Н.П. Кондаков. Македония. Археологическое путешествие, стр. 154.
E. Diez and O. Demus. Byzantine Mosaics in Greece. Hosios Lucas and Daphni. Cambr., Mass., 1931, p. 106, 116, fig. 122, 123.
D. Ainaloff. Die Mosaiken des Michaelklosters in Kiew. – «Belvedere», 1926, 9/10, S. 207.
Ibid., Abb. 1, 6, 8.
A. Grabar. Un rouleau liturgique constantinopolitain et ses peintures. – «Dumbarton Oaks Papers», No. 8. Cambr., Mass., 1954, p. 174, fig. 11.
См. P. Perdrizet et L. Chesney. La métropole de Serres. – «Monuments et mémoires publiées par l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», X. Paris, 1904, p. 126 et suiv. fig. 8–17;A. Α. Ὀρλάνδος. Ἡ Μητρόπολις τῶν Σερρῶν. – Ἀρχεῖον τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων τῆς Ἑλλάδος», 5, 1939–1940, σελ. 153–166; Ε. Στίκας. Ἀναστηλωτικαὶ ἐργασίαι ἐν Σέρραις. – «Πρακτικὰ Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας» 1952, σελ. 205–210. Разрушенная Митрополия недавно была полностью восстановлена. Фрагмент погибшей мозаики с изображением апостола передан в Фессалоникский музей.
N. Okunev. La découverte des anciennes fresques du monastère de Nérèz. – «Slavia», roč. VI, ses. 2–3. Praha, 1927, p. 603–609; i d. Алтарная преграда XII века в Нерезе. – «Seminarium Kondakovianum», III. Prague, 1929, стр. 5–23; P. Muratoff. La peinture byzantine. Paris, 1928, p. 121–123; Ф. Месеснел. Наjстариjи cлоj фресака у Нерезима. – «Гласник Скопског научног друштва», књ». VII–VIII, 1930, стр. 119–133; Ћ. Бошковић. Извештаj и кратке белешке са путавања. – «Старинар», VI, 1931, стр. 182–183; N. Okunev. Les peintures de l’église de Nérézi et leur date. – «Actes du III-e Congrès international d’études byzantines», Athènes, 1932, p. 247–248; M. Fauchon. Les peintures du Monastère St. Panteleimon de Nérèz. – «L’Art Sacré», IV, 1938, p. 213–217; «Рашка», II. Београд, 1935, табл. I–IV; Н. Мавродинов. Старобългарската живопис, стр. 68–78; В. Петковић. Преглед црквених споменика кроз повеспицу спрског народа, стр. 210–211; A. Grabar. La peinture byzantine, р. 141–145; G. Millet. La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie, fasc. I, p. VIII, pl. 15–21; S. Radojčić. Jugoslavia. Srednjovekovne freske, tabl. IX–XI; М. Раjковић. Из ликовне проблематике нереског живописа. – «Српска Академика наука. Зборник радова», књ. XLIV. Византолошки институт, књ. 3. Београд, 1955,стр. 196–206; A.Xyngopoulos. Thessalonique et la peinture macédonienne, p. 15–20; G. Gsodam. Die Fresken von Nerezi. Ein Beitrag zum Problem ihrer Datierung. – «Festschrift W.Sas-Zaloziecky zum 60. Geburtstag». Graz, 1956, S. 86–89; D. Talbot Rice. The Beginnings of Christian Art, p. 163; A. Ammann. La pittura sacra bizantina, p. 101–102; O. Bihalji-Merin. Fresken und Ikonen. Mitteialterliche Kunst in Serbien und Makedonien, Taf. 16–26.
Наиболее верную художественную оценку нерезской росписи дала М. Райкович.
Г. Острогорский. Возвышение рода Ангелов. – «Юбилейный сборник Русского Археологического общества в королевстве Югославии». Београд. 1936, стр. 116–119.
См. Д. Айналов. Новый иконографический тип Христа. – «Seminarium Kondakovianum», II. Prague, 1928, crp. 23. Образ Христа-священника встречается также в Софии Киевской (около 1043–1046), в Нередице (1199) и в трапезной Бертубани (1213–1222).
Эта манера письма близка к греческой части росписи Дмитриевского собора во Владимире (около 1195).
A. Xyngopoulos. Thessalonique et la peinture macédonienne, p. 15–20.
Α. Ξυγγόπουλος. Αἱ ἀπολεσθεῖσαι τοιχογραφίαι τῆς Παναγίας τῶν Χαλκέων Θεσσαλονίκης . – «Μακεδονικά». 1956, σελ. 1–19. Фрески нарфика, относимые Ксингопулосом к XII веку, не сохранились.
В.Н. Лазарев. Живопись Пскова. – В книге «История русского искусства», т. II. Изд-во АН СССР. М., 1954, рис. на стр. 344–345.
C. Stornajolo. Miniature delle Omilie di Giacomo Monaco (Cod. Vatic, gr. 1162) e dell’Evangeliario Greco Urbinate (Cod. Vatic. Urbin. gr. 2). Roma. 1910. tav. 3. Ватиканская рукопись была выполнена в Константинополе во второй четверти XII века.
F. Dölger. Mönchsland Athos. München, 1943, Abb. 96.
O. Demus. The Mosaic of Norman Sicily. London, 1950, fig. 3; V. Lasareff. The Mosaics of Cefalù. – «The Art Bulletin», XVII, 1935, fig. 4,7.
G. Gsodam. Op. cit., S. 86–89.
S. Ortolani. Inediti meridionali del Duecento. – «Bolletino d’Arte», XXXIII, 1948, p. 302, 314, fig. 4.
В.Н. Лазарев. Живопись Пскова, рис. на стр. 343, 348, 349. Заказчиком росписи был архиепископ новгородский Нифонт, умерший в апреле 1156 года. Его найденная в Новгороде свинцовая вислая печать не оставляет сомнения в том, что он был греком (Н.Г. Порфиридов. Древний Новгород. М., 1947, стр. 169; его же. Именные владычные печати Новгорода, – «Советская археология», 1958, № 3, стр. 222–223, рис. 1–2). Именно Нифонт должен был пригласить греческих мастеров, выполнивших роспись совместно с псковичами.
В.Н. Лазарев. Фрески Старой Ладоги. М., 1960, табл. 3, 15, 34, 41.
G. Millet. Monuments de l’ Athos, I. Les peintures. Paris, 1927, pl. 98–7; С. Радоjчић. Маjстори старог спрског сликарства, стр. 6–7, сл. 1.
В.Н. Лазарев. Искусство Новгорода. М. – Л., 1947, табл. 76, 15, 16, 20, 21.
Th. Whittemore. The Mosaics of Haghia Sophia at Istanbul. Third Preliminary Report. Work Done in 1935–1938. The Imperial Portraits of the South Gallery. Oxford, 1942, pl. XXV–XXVII, XXIX–XXXI, XXXIII–XXXV. Столь плоскостная трактовка лиц в столичной мозаике от 1118–1122 годов наглядно говорит о том, что уже в это время обработка карнации с помощью совсем невесомых тонких линий почиталась за самую «шикарную» манеру письма и в Константинополе.
Подробнее на этом интереснейшем явлении я останавливаюсь в моей книге «Фрески Старой Ладоги» (М., 1960), где сгруппирован весь относящийся к данной проблеме материал. См. также в настоящем издании выше.
N. Okunev. Fragments de peintures de l’église Sainte Sophie d’Ochrida, p. 126–129; Кр. Миятев. Църквата при с. Водоча. – «Македонски преглед», год II (1926), кн. 2; Ж. Татић. Водоча. – «Гласник Скопског научног друштва», III, 1928, стр. 83–84; Кр. Миятев. Фрагмент от фреската Св. Четиридесет Мъченици при с. Водоча до Струмица. – «Македонски преглед», год V (1929), кн. 4, стр. 58– 60; K. Mijatev. Les «Quarante Martyrs», fragment de fresque à Vodoca (Macédoine).–«L’art byzantin chez les slaves», I. Paris, 1930, p. 102–109; Н. Мавродинов. Старобългарската живопис, стр. 49–53; его же. Старобългарското изкуство, стр. 291–293; В. Петковић. Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, стр. 59; М. Jовановић. О Водочи и Вељуси после конзерваторских радова. – «Зборник на Штипскиот Народен музеj», I (1958–1959). Штип, 1959, стр. 125–135. В Водоче находилось местопребывание струмицкой епискоии, подчиненной охридскому архиепископу (см. Ћ. Радоjичић. Прилог историjи Велбушке и Струмичке епископиjе. – «Гласник Скопског научног друшва», III, 1928, стр. 284–286).
Часть фресок снята со стен храма и передана в Народный музей в Штипе.
Α. Ὀρλάνδος. Βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Καστορίας. Ἀθῆναι, 1939, σελ. 139–146; Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, σελ. 17, 24–26, πίν. 43–62; A. Xyngopoulos. Thessalonique et la peinture macédonienne, p. 11; М. Раjковић. Трагом jедног византиског сликара. – «Српска Академиjа наука. Зборник радова», Књ XLIV. Византолошки институт, књ. 3. Београд, 1955. стр. 209; A. Ammann. La pittura sacra bizantina, p. 103–104; O. Demus. Die Entstehung des Palӓologenstils in der Malerei. – «Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongresses. München, 1958». München, 1960, S. 25.
Райкович первой отнесла роспись церкви св. Николая к зрелому XII веку. В этом вопросе с ней полностью солидаризируется Демус. До появления второго тома монументальной работы Пелеканидиса я сознательно не затрагиваю личности ктитора и всех тех спорных хронологических проблем, которые в связи с ней возникают. Приношу глубокую благодарность проф. Радойчичу, любезно сообщившему мне ряд ценных сведений о фресках Кастории.
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 53; G. Millet. La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie, fasc. I, pl. 18 – 2.
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 57, 55, G. Millet. Op. cit., fasc. I, pl. 20 – 1, 3. Для типа св. Николая сравни аналогичную фигуру из святительского чина в нерезской церкви. Особую близость к святым воинам касторийской росписи выдают фигуры воинов в южном рукаве нерезской церкви.
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 53, 54.
Α. Ὀρλάνδος. Βυζαντινὰ μνημεῖα τῆς Καστορίας. σελ. 25–60; Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 1–42; A. Xyngopoulos. Thessalonique et la peinture macédonienne, p. 11, 17; М. Раjковић. Трагом jедног византиског сликара, стр 209–211; A. Ammann. La pittura sacra bizantina, p. 103–104; O. Demus. Die Entstehung des Palӓologenstils in der Malerei, S. 25.
Райкович подвергла убедительной критике раннюю датировку Пелеканидиса. Она относит фрески церкви св. Врачей не к XI, а к зрелому XII веку, в чем с ней солидарен Демус. Датировка Ксингопулоса (начало XII века) также не может быть принята как слишком ранняя. Мавродинов («Старобългарското изскуство», стр. 282–283) и Пелеканидис («Καστορία», πίν. 38 а, 41) относят к X веку изображения св. Василия, Николая и Константина и Елены. Без дополнительного обследования на месте этих фрагментов я не решаюсь судить о времени их исполнения.
А. Николовски и З. Блажиќ. Конзерваторски и истраживачки работи на средневековниот споменик црквата св. Торги во село Курбиново. «Разгледи», 1958, декабрь, стр. 468–477.
Γ. Σωτηρίου. Θεοτόκος ἡ Ἀρακιώτισσα τῆς Κύπρου. – «Ἀρχαιολογικὴ Ἐφημερίς», 1954, σελ. 87–91; Α. Στυλιανοῦ. Αἱ τοιχογραφίαι τοῦ ναοῦ τῆς Παναγίας τοῦ Ἀράκου, Λαγουδερά, Κύπρος. – «Πεπραγμένα τοῦ Θ΄ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη, 12–19 ἀπριλίου 1953)», τόμ. Α´. Ἀθῆναι, 1955, σελ. 459–467.
Иконография этой сцены очень близка к фреске на аналогичный сюжет в церкви св. Георгия в Старой Ладоге (около 1167). См. В.Н. Лазарев. Фрески Старой Ладоги, табл. 10–14.
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 8, 9, 12, 13α, 21α, 24, 25, 33, 34.
Р. Љубинковић. Стара црква села Курбинова. – «Старинар», XV, 1940, стр. 107–108, рис. 6, 7; O. Bihalji-Merin. Op. cit., Taf. 14, 15 Мила Райкович первой опознала руку работавшего в церкви св. Врачей мастера в ангелах из апсиды курбиновской церкви (М. Раjковић. Трагом jедног византиског сликара, стр. 211).
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 15–20. Для «Входа в Иерусалим», «Распятия» и «Оплакивания Христа» сравни крайне близкие по иконографии и манере письма соответственные сцены в Курбинове (см G. Millet. La peinture du Moyen Age en Yougoslavie, fasc. I, pl. 84 – 3, 4, 5; O. Bihalji-Merin Op. cit., Taf. 15).
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 17 β, 18, O. Bihalji-Merin. Op. cit., Taf. 24, 26.
Р.Љубинковић. Стара црква села Курбинова, стр. 102–123; G. Millet. La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie, fasc. I, p. IX, pl. 84, 85 – 1; М. Раjковић. Трагом jедног византиског сликара, стр. 207–212; O. Demus. Die Entstehung des Palӓologenstils in der Malerei, S. 25; O. Bihalji-Merin. Op. cit., Taf. 13–15.
Об иконографии этого распространенного в балканских росписях сюжета см. В. Ћурић Наjстариjи живопис испоснице пустиножитељя Петра Коришког. «Српска Академиjа наука. Зборник радова», књ. LIX. Византолошки институт, књ,. 5. Београд, 1958,стр. 172–178; В.Н. Лазарев. Фрески Старой Ладоги, стр. 22–26.
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 84–86. «Древо Иессеево» производит впечатление записанной либо освеженной фрески.
Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 89, 92, 98.
Α. Ξυγγόπουλος. Τὰ μνημεῖα τῶν Σερβίων. Ἀθῆναι, 1957, σελ. 37–75, πίν. 4, 5, 7–11.
М. Jовановић. О Водочи и Вељуси после конзерваторских радова, стр. 130–135. Йованович относит фрагменты фресок Велюси к XI веку, что представляется мне слишком ранней датировкой. И иконография, и характер линейной разделки лиц указывают на вторую половину XII столетия.
Я сознательно не упоминаю здесь основную группу фресок церкви Панагии Мавриотиссы в Кастории (Σ. Πελεκανίδης. Καστορία, πίν. 63–83). Пелеканидис относит их к XII веку, но они не могли быть выполнены ранее XIII столетия, на что верно указал уже Демус («Die Entstehung des Paläologenstils in der Malerei», S. 26). В пользу датировки XIII веком говорят утрата чистоты иконографической традиции (евангелисты в апсиде!), такая деталь, как упавшая в обморок Мария в сцене «Распятие», более реалистический тип ктиторского портрета (Μανουὴλ Μοναχός), главное же – крайне упрощенная манера письма, находящая себе ближайшую стилистическую параллель в относящихся к 1271 году фресках трехнефной базилики в Манастире (см. Д. Коцо, П. Миљковик-Пепек. Манастир. Скопjе, 1958). В эту же группу отсталых, сильно архиазирующих македонских росписей XIII века следует включать и роспись церкви св. Николая в Марков Варош близ Прилепа (см. Ф. Месеснел. Црква св. Николе у Марковоj Вароши краj Прилепа. – «Гласник скопског научног друштва», XIX, 1938, стр. 37–52; М. Раjковић. Трагом jедног византиског сликара, стр. 211, сл. 4).
Как известно, в Фессалонику и Константинополь ездил младший сын Стефана Немани Савва; здесь он заказывал местным мастерам различную церковную утварь, в том числе и иконы. Вероятно, из Македонии были приглашены те мастера, которые выполнили около 1168 года фрески в храме св. Георгия в Расе (Ћурћеви ступови). См. Н. Окунев. «Столпы святого Георгия», развалины храма XII века около Нового Базара. – «Seminarium Kondakovianum», I. Prague, 1927, стр. 225–246; G. Millet. La peinture du Moyen Âge en Yougoslavie, fasc. I, p. IX, pl. 22–29; С. Радоjчиh. Маjстрои старог српског сликарства, стр. 6–7, сл. 2. Предложенная Радойчичем датировка фресок (около 1180 года) представляется мне слишком поздней (см. В.Н. Лазарев. Фрески Старой Ладоги, стр. 89).
