1
В середине лета по Десне закипали сенокосы. Перед тем стояла ясная недокучливая теплынь, небо высокое, емкое, и тянули по нему вразброд, не застя солнце, белые округлые облака. Раза два или три над материковым обрывистым убережьем сходились облака в плотную синеву, и оттуда, с хлебных высот, от полужских тесовых деревень неспешно наплывала на луга туча в серебряных окоемках. Вставала она высокая, величавая, в синих рушниках дождей, разгульно и благодатно рокотала и похохатывала громами и вдруг оглушительно, весело шарахала в несколько разломистых колен, и стеклянным перезвоном отзывалась Десна под теплыми струями ливня. Полоскались в веселом спором дожде притихшие лозняки, набухали сахарные пески в излучинах, пили травы, пила земля, набирала влагу про запас в кротовые норы, и, опустив голову, покорно и охотно мокла среди лугов стреноженная лошадь. А в заречье, куда сваливалась туча, уже висела над синими лесами оранжевая радуга. Оттуда тянуло грибной прелью, мхами и умытой хвоей.
Лесные запахи мешались с медовыми и чайными запахами лугов в крепкий настой, от которого становилось хмельно и необъяснимо радостно и молодо на душе.
После таких дождей вдруг выметывала в пояс луговая овсяница, укрывала собой клевера, белые кашки, желтые подмаренники, выколашивалась над пестротравьем, и луга одевались нежной фиолетовой дымкой. И как только накатывал этот чуткий дымок на луга — днями быть сенокосу.
Первыми съезжались в пойму председатели и бригадиры — местные, из полужских колхозов, и дальние, с суходолов. Суходольские тоже имели здесь свой пай. Ходили по пояс в травах, осматривали деляны, ставили тычки. Дня через два-три начинали двигаться в луга тракторы, сенокосилки, колесные грабли. Суходольские косари спускались со знойных бугров и междуречий будто на великое переселение: в пароконках — бочки с горючим, артельные казаны, связанные по ногам бараны, кули с мукой и картошкой, пуки деревянных граблей, старых и новых, белых, только что наструганных. Ехали целыми семьями — с женами и ребятишками, ветхие старички и те увязывались, тряслись в новых рубахах, ухватясь черными сухими пальцами за грядки, будто ехали к причастию. Иные еще бодро сидели в передках, крутили концами вожжей над лошадьми, покрикивали с незлобной хрипотцой: «Ho-о, окаянные! Шевелись!» — а сами все поглядывали из-под картузов на буйную травяную вольницу, и в просветленных лицах была заметна хозяйственная озабоченность и много-много раз пережитая радость предстоящей сенокосной страды, крестьянской работы — праздника.
Молодежь ехала особняком. Парни в пестрых майках, крутые угловатые плечи в каштановом загаре, девчата, как одна, в косынках шалашиком. Сидели в больших сенных телегах, свесив босые ноги в бортовые решетки. Рыкала перебиваемая колесным перестуком гармошка, кто-то голосисто выкрикивал частушки, полоскались над головами, мельтешили листвой натыканные торчком березовые ветки.
Останавливались на самом берегу, глушили тракторы, в тени лозняков распрягали лошадей с темными пропотелыми холками, засыпали им вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики, а сами, изголодавшись на своих хлебных увалах по вольной воде, лезли в Десну. Гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотали головами, стирали с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркиваясь. Девчата визжали от ласки воды, неистово колотили ногами, выбрызгивая белые пузыристые столбы, полоумно шарахались от змеиных извивов водорослей, и растревоженная Десна била маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце.
А на мелком, присев на край и сперва попробовав воду вытянутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики, бледнотелые, с темными, непомерно большими кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями. У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины. Старики забредали недалеко, по коленки, и, не стыдясь сраму, в простой житейской потребности, ахая и придыхая, плескали на себя бегучую хрустальную теплынь. Потом долго намыливались, пуская шапки пены по струе, ласково разговаривая с пескарями, что доверчиво тыкались в ноги. Мылись обстоятельно, на весь год, до следующего сенокоса, если еще приведется…
Ребятишки, уже накупавшись до звона в ушах, жарились в песочных лунках, засыпали себя каленым крупитчатым сахаром, а потом, серые, шершавые от песка, который, просыхая, осыпался с приятным зудом во всем теле, бежали в лозняки, трещали кустами, визжали, обстрекаясь о крапиву, и объедались еще не успевшей покраснеть дармовой ничейной ежевикой.
На лужку, на обрыве, вытянув по траве ноги, сложив в подол между коленок ненужные руки, сидели рядышком замужние бабы, отвыкшие за многие годы семейных забот от вольной речной воды, стыдясь при таком народе, при таком солнце оголиться, снять с себя одежду. Сидели, поглядывали с виноватыми улыбками на молодых беспечных девок, на Десну в слепящем блеске. Для них в кои-то разы посидеть вот так на бережку — и то радостно. Кто-нибудь из озорников подкрадывался по воде, выхватывал из-под берега и шмякал прямо в подол линючего, облезлого рака. Бабы взвизгивали, раскатывались по траве, подбирая ноги, начинали журить шалопута и вдруг, устыдясь своей праздности, вставали и шли к телегам искать какого-нибудь дела, без коего не могла баба чувствовать себя нормальным человеком ни в праздники, ни в похороны.
Под вечер, наполоскавшись в реке, тут же на берегу выкашивали поляну под бригадное становище, плели из лозняка низкие балаганы, каждый на свою семью, закидывали их тяжелой травой, оставляя узкий пчелиный лаз, поодаль врывали казан под общий кулеш, и так по всему берегу на много верст возникали временные сенные селища с теми же, по своим деревням, названиями: Меловое, Сухой Колодец, Полыновка…
Полужане, в отличие от суходольских, выезжали в луга налегке, без баранов и кулей муки — за всем этим ездили на колхозное подворье по ходу дела, однако, чтобы не тратить время, тоже жили балаганами, вкапывали артельные котлы, и у них становища назывались не так сурово: Лужки, Доброводье, Поречное или какие-нибудь Лебяжьи Капустичи.
Две недели кипела в лугах жаркая неуемная работа. Начиналась она с рассвета. Все вокруг еще в призрачной дреме. Диковинными башнями громоздились на той стороне неясные лозняки ветлы. Десна — под куревом тумана, только слышно, как хрустально вызванивали капли росы, роняемые с нависших кустов в чуткую воду, да на весь плес бормотали струи вокруг затонувшей коряги. Все мокро и серо от росы: мокры задранные оглобли телег, горбатые спины бочек с соляркой, мокры и седы балаганы, и на дне остывшего казана за ночь набежало чистое озерко росы над остатками пшенной каши.
Но вот зашебуршало в одном из шалашей, рука прокопала сенную затычку в лазе. Наружу, как большой неуклюжий жук, выползал дед Тимофей. Выпрямлялся, с кряхтеньем отрывая от земли оплетенные веревками жил руки, да так и не выпрямившись до конца, оставался стоять на полусогнутых ногах, и синяя выпущенная рубаха пусто балахонилась спереди и натянуто кургузилась сзади. Тимофей сипло откашливал вчерашнее курево, долго и зло скреб под рубахой за поясом: приходил в себя. И не ожив еще как следует, уже крутил утреннюю цигарку и приглядывался к косам, что свисали крючковатыми носами с ошкуренной слеги. И на каждом кончике косы — по росяной капле.
Тимофей осматривал косы, выбирал ту, что притупилась, присаживался с ней на козелки с наковаленкой и прицеливался перевернутым молотком.
«Ди-у, ди-у, ди-у»,— чисто, ясно, певуче разносилось над лугами, над сонным становищем. И тотчас на той стороне в лозняках отзывалось еще тоньше и певуче: «Ти-у, ти-у, ти-у»…
Шуршали сеном разбуженные балаганы, один за другим выползали багровые, заспанные, измятые будто в тяжком похмелье косари, вытряхали из рубах и всклокоченных волос сенную труху, крякали от сырой прохлады, разминали намаянные, не отдохнувшие за воробьиную ночь поясницы, бежали, пошатываясь, споласкиваться к реке. А Тимофей все тюкал по наковаленке, правил косы, и вот уже и ниже по течению, в суходольской бригаде, отозвались, затюкали по косе, и выше, в Меловом стане, и еще дальше… И так по всей реке, по всем ее извивам, близко и далеко, будто первые петухи, загомонили молотки и наковаленки — славили зарю.
Выбиралась из своего шалашика Анфиска, с хрустом потягивалась, заламывая за голову бронзовые руки с острыми локотками, и тоже сбегала босиком к Десне, на ходу расстегивая кофту и бросая ее на кусты. Забредала в реку и, зажав подол юбки между колен, шумно плескала дымящуюся парком воду на плечи в белых лямках ночной рубахи. Соломистая коса ее, свалившись со спины, писала концом по воде.
Косились мужики на Анфиску, цепляли озорными словами:
— Может, спину потереть?
Спугнутая Анфиска стыдливо опускала на воду юбку, выбиралась на сухое. Мужики провожали ее долгим прищуром, примечая в Анфискиной фигуре всякие соблазны, потом, и сами смущаясь, переглядывались, без слов понимая друг друга.
Росла Анфиска в Доброводье, никто как-то не примечал в ней ничего особенного: тощеногая, лупоглазая. Жила с матерью, ходила в плюшевом жакетике да парусиновых туфлишках. В ту пору саперная рота доставала со дна реки затопленные понтоны и всякий военный утиль. В Анфискиной избе остановился на постой саперный лейтенантик. Месяца через три рота снялась. Анфиска ходила как потерянная. А под Новый год у нее народился мальчонка. Бабы провожали ее долгим молчаливым взглядом, жалели промеж собой в разговоре.
— Еще найдет себе… Молодая.
— Не больно теперь найдешь.
— Ей теперь один выход: уезжать, вербоваться куда…
Но Анфиска не уезжала, не вербовалась, а вот уже пятый год ходила в колхоз.
— Кончай курить! — по-армейски командовал бригадир и колотил обгорелой палкой по пустому гулкому казану.
Всхрапывал запущенный трактор, громко стрелял синим дымом. Мужики запрягали в косилки лошадей, разбирали косы и уходили в луга по росе до завтрака. И уже при солнце шли ворошить сено бабы и девки. Над пестрыми косынками колыхались грабли, будто оленьи рога. Плелись неспешно, с ленцой. Но, придя на место и рассыпавшись каждая по своему валку, сноровисто и легко начинали подбивать и ворошить сено граблями. Дело вроде бы немудрящее, а поди ж ты: забивали здоровых девок пожилые бабы. Откуда что бралось: держались прямоспинно, с неуловимым достоинством, грабельки в руках невесомы, знай себе мелькали обшорканными до костяного блеска зубьями. Не гнула, не старила бабу работа, а, наоборот, молодила: не дело делает — играет, кружево вяжет.
На стыке двух соседних лугов иногда останавливались побалагурить.
— Эй, бабоньки! — кричали суходольские мужики.— Приходите вечерком под копенку, потолкуем…
— Гляди, беседчики отыскались! — хохотали полужские бабы.
Один из косарей передавал косу товарищу, обеими руками покрепче натискивал кепку и бежал к бабам, по-медвежьи раскорячась и расставив руки-лапищи. Бабы взвизгивали и ощетинивались граблями.
— Проваливай, проваливай, бобик непривязанный!
— А ну, девки, лови его, обормота. Ломай крапиву!
Бабы дружно кидались в контратаку. Косарь поворачивал и, перепрыгивая через два валка, улепетывал к своим.
Но все это так, между прочим. Сенокос же кипел своим чередом. День-деньской катал по лугу свои колеса-бублики белорус-тракторок, сновали, стрекоча, конные сенокосилки, полнились травой и взблескивали, освобождаясь, конные грабли, и лошади ошалело мотали мордами и секли оводов хвостами. А уж по всяким неровностям, по старым окопам, по кустам да бочажникам махали косами мужики. Выпростаны из штанов рубахи, чтоб обдувало, мокры и темны сатиновые и ситцевые спины, багровы лица под выгоревшими картузами и кепками, виски влажно лоснились, а косари все ступали и ступали рядами, нога в ногу, замах в замах: так спорей и легче, чем вразнобой. Ярко сверкнет сразу дюжина кос над травами, переступит сразу дюжина сапог, на одно мгновение задержатся, повиснут в воздухе косы и тотчас снова с шелестящим певучим звоном все разом нырнут b зеленую глубину. Будто узкие белые рыбы играют, выплескиваются над волнами. И ложатся травы в ровные валки, то с подкошенным ирисом, желтой дугой промелькнувшим на пятке косы, то с малиновой свечкой иван-чая. Свежие валки истекают соком, терпко млеют от зноя, и тянет по всему поречью сладким настоем увядания.
К полудню все живое собиралось к воде, поили и купали лошадей, пили и полоскались сами, смывая сенной зуд и соль. Потом, разлегшись вокруг артельных алюминиевых полумисков, хлебали огненный бараний кулеш. Ели по старинке, блюдя очередь по кругу от старшого, подпирая донышки резных ложек ломтями хлеба, с хрустом заедая горячее хлебово зеленым луком. А насытившись, расползались по балаганам, где под темными сводами еще хранилась ночная прохлада. Но и тут, завидев, между прочим, как Анфиска на четвереньках, белея заголившимися круглыми икрами, заползала в низкий лаз своего шалашика, кто-нибудь непременно шутил:
— Фис, пусти на полчасика…
— Срамоидолы! — корили бабы.— Мальчонку бы постеснялись. Мальчонка ведь при ней. А вы брешете языками.
За первой на деревне девкой так не следят, так не приглядываются, как за молодой вдовой бабой. Пройдет она обыкновенно, как все, а уже кажется, что не идет, а играет бедрами. Девки купаются — ничего, а войдет она в воду — и опять-таки вроде как с умыслом. Ни пойти ей, ни прилечь без хитрого прищура со стороны, тем более что дело-то необычное: сенокос! Кругом воля вольная, и в косарях бродила хмельная удаль, как ни при какой прочей работе. И хоть и в шутку задевали Анфиску, но и в пустых словах косарей — извечный тайный намек и мужицкая надежда на лотерейный греховный билетик…
Иногда в луга наведывался доброводенский председатель Павел Чепурин. Был он еще молодой, но уже успел навоеваться, схлопотать контузию и шрам от виска до подбородка, закончить политехнический институт, очутиться в деревне в числе тридцатитысячников, собранных по предприятиям, еще раз переучиться в Тимирязевке и, кроме боевых орденов, нахватать кучу выговоров за своенравность и искажение спущенных сверху циркуляров. Но, несмотря на свою горячность, мужик он был толковый, по-солдатски простой, и все оживлялись, когда он появлялся в лугах на мотоцикле.
— Ну, как хлопцы, дождя не будет? — кричал он еще издали, подъезжая.
Косари обступали его, чтобы поговорить или просто покурить председательских папиросок.
— Да вроде не должно…
Чепурин соскакивал с мотоцикла, нагнувшись и захватив пук подсохшего сена, нюхал, раздергивал на былки и сорил себе на пыльные сапоги.
— Барана съели? — неожиданно спрашивал он, скосившись.
— Еще вчерась,— сознавались косари.
— Даете…
— Дак сена какие… Невпроворот…
— Центнеров по двадцать возьмем?
— И по тридцать будет… Как ни в какой год. Чай — сена!
— Чай-то чай,— почесал под кепкой один из косарей.— А не худо бы и чаюхи. За такие сена магарыч полагается.
— Будет, будет! — пообещал Чепурин, белозубо захохотал, покраснев шрамом, и прошел к трактору, прихрамывая и шмурыгая сапогами по стерне.
— С хорошим сеном вас, бабоньки! — крикнул он весело, проходя мимо ворошенных валков.
— И вас так же…
— Носы! Носы берегите! А то облупятся. Потом не забелишь.
Бабы, будто того и ждали, чтоб их задели, дружно посыпали в ответ:
— Мы и не беленые сойдем!
— Все одно в печку глядецца, с горшками целовацца…
— Ты б свою-то на солнушко вытягнул. А то грабли по ней соскучились…
— Почеревок раструсила б… Небось ночью и не охватишь.
Бабы дружно расхохотались.
Чепурин и сам засмеялся и, смеясь, жмурился, крутил головой.
— Ну и язвы, ну и язвы,— бабы! Обхватывать-то некого,— сознался Чепурин.— Неделю как уехала.
— Опять небось по курортам?
— В Сочах, бабы, в Сочах…
Бабы зашикали, иные с издевкой, иные продолжая вышучивать:
— Прынцесса, скажи на милость!
— В стенгазету ее, толстомясую!
— Что ж так: нами — дак командуешь, а на свою узды нету?
— Нету, бабоньки милые, ох нету! — развел руками Чепурин.— Закатила мне домашнее бюро, села и уехала. Я, говорит, тебя все равно не вижу. Ты готов сам сесть в свинарник, в клетушку. От тебя, говорит, свинарником пахнет… Вот как!
— Знамо,— встряла в разговор Тимофеева бабка, высокая корявая старуха, говорившая басом.— Знамо: у кого грабли на плечах, а у кого задница в Сочах.
Бабы завизжали, схватились за животы. Иные, что посмирнее на язык, конфузливо ухмылялись: уж больно солоно сказанула бабка! Одними только глазами усмехнулась и Анфиска, застенчиво прикрыв рот уголком косынки.
Поймав на себе ее беглый смущенный взгляд, Чепурин и сам смутился и, переходя на дружески деловой тон, спросил:
— Ну, как, Анфиса Васильевна, работается?
— Да так…— Анфиска, почему-то густо покраснев, нагнула голову, затеребила граблями клочок сена, отпихивая и подгартывая его к себе.— Как всем…
Чепурин помолчал, уставившись на бегло перебирающие Анфискины грабельки с таким видом, будто наблюдал важную и неотложную работу. Молчал так, словно хотел еще что-то спросить у Анфиски. И она ждала, не поднимая головы. Но, так ничего и не спросив, Чепурин построжел лицом, сказал:
— Такие, значит, дела…
И, может быть, быстрее, чем хотел, заспешил к трактору.
Меж тем сено начали копнить, а на второй неделе сенокоса в каких-нибудь два-три дня все поречье на много десятков вверх и вниз по Десне дружно взбугрилось копнами, и не было такого места в лугах, куда бы можно было пройти напрямик, не натолкнувшись на копнушку. И, закругляя дело, стали сволакивать их на места повыше, посуше и там выкладывать округлые приземистые стога. Под конец, свезя к стогам сено с балаганов, поплескавшись в Десне на прощанье, выпив за ранним ужином сельповской перцовки, поплясав или так просто поговорив на вольном досуге, начали сниматься и сами бригады. И вот уже и вовсе опустели берега. Остались только притоптанные поляны покинутых становищ, черные закопченые ямы из-под котлов да плетеные скелеты раскрытых балаганов. И еще остались стога… Неспешно тянулись мимо них отъезжающие обозы, и люди провожали взглядом памятники отшумевшей страды. Молча хранили стога в себе и безмятежные радости ребятишек, и чьи-то первые и не первые сердечные тайны, и хозяйственные надежды на сытый год, с молоком и хлебом, и вообще удовлетворение завершенной работой. Глядели косари на стога, на долгие вечерние тени от них, часто перечеркнувшие дорогу, и сами удивлялись: сколько наворочали!
2
Разорив свои шалаши, доброводенские косари тем же вечером, пока еще не село солнце, переправились на другой берег Десны разбирать процентовые деляны.
Левая сторона реки густо кучерявилась ивняками. Тут и там над мелколесьем высоко и дремотно поднимались старые уремные ракиты с растресканной корой и темными округлыми кронами. Под ними все лето стояла сумеречная и влажная духота, гудело комарье и бушевал хмель. Местами лес разбегался, открывая большие и малые луговины. Эти-то опушковые покосы, разбросанные и затерянные в лозняковой чащобе и неудобные для бригадной уборки, Чепурин раздавал для подворной косьбы в счет заработанных сенных процентов. Луговины побольше закреплялись за двумя-тремя дворами, на малых косили в одиночку. Обычно из года в год каждый косил на своем постоянном месте. Анфиска тоже переправилась в попутной лодке, забитой бабами и мужиками.
— Косить али только поглядеть? — поинтересовался дед Тимофей, с кормы направляющий лодку.
— Что глядеть? Смахнет за одним разом, чтоб не бегаться,— ответила за Анфиску баба.
— И то дело,— кивнул Тимофей.— Мы дак тоже, не загад, покосимся.
— Самое в пору,— отозвалась другая баба.— Ночь будет светлая.
— Витюньку бы на деревню отправила,— посоветовал Тимофей, глядя, как Анфиска, подхватив сына одной рукой поперек живота, а другой опираясь на косу, ступила за борт в мелкую воду.
— Нехай бегает: лето,— сказала баба.
— Замаялся небось мальчонка.
— А он, может, при ней охрану несет.
— Какой он охранщик? — сказал Тимофей.— Комар носом проткнет.
— Какой-никакой, а все-таки живая душа при ней. От вашего брата шатуна… Который ему пошел-то?
— Пятый с зимы,— не оборачиваясь, досадуя на бабье сердоболье, ответила Анфиска и, осыпая комья глины, грузно выбралась с Витькой под мышкой на твердый травяной берег. Она поставила сына на ноги, вскинула на плечо косу, подхватила узелок с едой и шагнула в кусты на пробитую тропку.
— Лодка будет у поваленной ракиты! — крикнул с воды Тимофей.
— Найду!
— Стучи, стучи косой почаще, давай знать!..
— Ладно!
— Ежели раньше нас управишься — покричишь!
Анфиска прошла берегом вверх по реке и в полуверсте вышла на свою деляну, одним краем примыкавшую к Десне. Анфиска не была здесь с прошлого лета и едва узнала свой покос. Поверх нетронутых трав, пестревших багряными головками клевера, синими колокольцами, лупастыми звездами ромашек, часто пророс морковник. Он цвел крупными белыми зонтами, распустившимися на уровне Анфискиной груди, и ей казалось, будто поляна была занавешена сверху полупрозрачным тюлем.
— Вот мы и дома,— сказала Анфиска Витьке, устало и умиротворенно оглядывая покос, будто осматривала горницу, в которой так давно не была. Опушка и на самом деле походила на светлую и чисто прибранную комнату, окруженную стенами леса и с распахнутым окном на реку, в луговое раздолье. В окно это широко и спокойно лился свет низкого солнца, по-вечернему румянившего лес и поляну, тянуло теплой сыростью речных песков, запахом нагретых за день осок и свежесметанных стогов.
Витька тут же нырнул под зонты морковника и побежал под ними, раскинув руки и теребя ладонями дудки. И там, где он бежал, над его белесой, давно не стриженной головенкой вздрагивали и покачивались кружевные шапки соцветий.
— Мам, гляди какие! — кричал он.
Анфиска несколькими взмахами подкосила угол у самой реки, сгребла тяжелую, дурманно и знойно пахнущую траву, бросила поверх вороха телогрейку и позвала Витьку.
— Ну посиди тут.
— Не хочу сидеть. Побегу удочку срежу. Буду рыбу удить.
— Ну, поуди, поуди.
Она присела на краю обрыва, свесила ноги над водой, уперлась руками в траву, откинулась на них и замерла так в минутном отдыхе. Прямо против нее над высоким убережьем садилось багрово-дымное солнце. Матерый берег, до которого Десна доставала только в пору своего весеннего разгула, на самом верху, на увале, плоско и ослепительно желтел хлебами. Но скат его вместе с деревнями, садами и поперечными оврагами был уже окутан вечерней дымкой, казался пустынным, отвесным и неприступной синей стеной громоздился над плоской равниной лугов. Сами же луга еще купались в последних лучах солнца. Бесчисленные стога нежно розовели подсвеченными маковками и тянули навстречу Анфиске по багрово-зеленой отаве длинные синие тени. В лугах было безлюдно и по-вечернему настороженно и тихо. Только на самом увале высоко и густо вздымалась пыль над дорогой. Это суходольцы сразу несколькими обозами, поднявшись на урез, погнали лошадей рысью по ровному, спеша в дальние свои деревни, затерянные где-то за хлебами.
— Вот и покосы прошли,— вздохнула Анфиска, вглядываясь в клубы пыли над отъезжающими обозами. И ей стало почему-то грустно, что прошли покосы. Жаль было хорошей поры, которую она любила сызмальства. Чем больше взрослела, тем нетерпеливее бежала в луга, полнясь смутным и радостным ожиданием чего-то… Но все обернулось обычной вдовьей работой, липучим и грубым вниманием мужичья, замкнутым одиночеством, о котором она никому не смела и не могла сказать. Теперь она была даже рада, что поблизости нет никаких делян и что она наконец-то одна. И все-таки было жаль, что прошли покосы, прошло еще одно лето…
Вздохнув, она сняла платье, ночную рубаху, подстелила под себя белье и посидела так, остывая, неспешно, задумчиво оглядывая себя, смахивая с шеи и поперек перерезанных полоской загара грудей сенную труху. Мягкое тепло вечернего солнца тронуло и пригрело ее живот и колени. Из лозняка выпорхнула и закачалась перед Анфиской на торчавшей из воды камышинке желтая плиска. Перечеркивая собою красное солнце, она раскачивалась, вздрагивала узким хвостом и с птичьей откровенностью разглядывала раздетую Анфиску.
— Сарафан сняла? Сарафан сняла? — требовательно спрашивала она.
— Кыш! — махнула Анфиска и плотно сдвинула колени.
В кустах зашебуршал Витька, радостно окликнул:
— Мам, смотри, какая удочка.
— Ага… хорошая.
— Мам, а что это у тебя на руке синее?
Витька притронулся пальцем к Анфискиному предплечью.
Анфиска закрыла покосный балагурный синяк ладонью и небрежно сказала:
— Поди, Витя, побегай…
Витька сострадательно уставился на Анфискину ладонь, прикрывавшую синяк.
— Поуди, поуди, Витя… Вон какая хорошая удочка.
Витька повернулся и запрыгал по берегу, вспархивая выгорелыми волосенками при каждом поскоке.
Анфиска поглядела вслед сыну, глаза ее заплыли слезой:
— Глупый…
И, оттолкнувшись пятками о край обрыва, она сильным броском бухнулась в розовато-засмиревшую Десну.
Уже в сумерках запалили костерок, ели поджаренное на прутиках сало, крутые яйца, прикусывали перышками лука. За темными кустами долго и светло разгоралась луна. Они ели, тихо переговариваясь, слушая, как где-то в лесу, на других делянах гомонили бабы, звякали о косы оселки, а на той стороне в лугах все ржала и ржала беспокойно лошадь, глухо и тяжко стуча по земле копытами.
— Мам, чегой-то она?
— Так… спутанная.
Поиграв в засиневшем небе хворостинкой с угольком на конце, Витька угомонился, прилег на охапку травы. Анфиса прикрыла его телогрейкой.
— Спи, горюшко мое, спи, мужичок мой…
Витька пошевелился, сворачиваясь калачиком, угреваясь, и затих.
Анфиска взяла косу, подошла к краю поляны. Луна, наконец, выпуталась из зарослей — большая, чистая и ясная, кусты под ней заблестели влажными листьями. Деляна просияла, будто враз зажглись, засветились подвешенные над травами люстры морковника. На зонтах цветов тончайшим хрусталем заблестела роса. И сразу, как только взошла луна, где-то рядом отсырело заскрипел, забегал под серебристой и невесомой сеткой соцветий дергач, дружно брызнули окрестные кусты стрекучим гомоном камышевок.
— Светло-то как! — подивилась Анфиска.
Стоя на берегу, у края деляны, она завороженно глядела на медлительную, переспело истекающую медовым светом луну.
Потом, все еще прислушиваясь к ликующей ночи, к радостно-грустному чувству в самой себе, неслышно, как бы боясь что-то потревожить, провела косой по крайним травам деляны.
3
Скоро уже, подчиняясь затягивающему азарту работы, Анфиска косила широко и жадно. Лишь изредка она распрямлялась, смахивала со лба волосы и поглядывала на скошенные валки. Неспешная луна собиралась бродить в небе до самого рассвета, и Анфиска прикидывала, что к тому времени должна управиться. Иногда, давая себе минутный роздых, она брала оселок и несколькими ударами поправляла жало косы. И тотчас на ближней деляне, за темными шапками ракит подавала голос Тимофеева коса: мол, коси, коси, девка, мы тут тоже косим. За ней откликалась другая, третья, и начинало тонко, загадочно звенеть по всему ночному лесу: ко-сим, ко-сим.
И вот уже и жаль Анфиске, что она одна, а не на артельной деляне, где теперь потрескивает костер под старой ракитой, сложена в общую кучу разная еда, закипает черный покосный чайник, набитый смородиновым листом. И нет-нет да кто-нибудь, на время остановив косу, взболтнет что-то веселое… А есть, которые вдвоем, с мужем…
Анфиска пыталась представить, как косила бы она с мужем… Костер палить было бы некогда, да и балагурить незачем… Работали бы молча. А тоже хорошо…
Прислушиваясь к перезвону на ближних и дальних делянах, она уловила ворчливый гул мотоцикла на лесной дороге. Дорога эта, по которой свозили в деревню сено, петляла, восьмерила, давала ответвление по всей уреме и где-то недалеко обегала Анфискин покос. Свое сено она переправляла сразу на тот берег, так было удобней, и на ее маленькую деляну не было пробито проезда. Мотоцикл протарахтел мимо, потом внезапно заглох, долго молчал, снова застрекотал, теперь уже возвращаясь обратно. В кустах, против ее покоса пробился раздробленный листвой свет фары.
«Рыболовы, что ли,— подумала Анфиска.— Мало им места на Десне».
Хлестая ветками кустов, мотоцикл продрался, вынырнул на поляну, полоснул светом, но тут же умолк и погасил фару.
Анфиска опустила косу, выжидая.
Из тени кустов вышел рослый человек.
По белой фуражке она узнала Чепурина. Прямо по некошеному он подошел к ней.
Анфиска замерла.
— А я слышу: кто-то косой звякает. Дай, думаю, загляну,— сказал он.— Едва проехал…
Чепурин стоял против света, и она, мельком взглядывая, не могла разглядеть его лица, но по голосу улавливала какую-то странную растерянность и возбужденность. Видно, ему и самому было неловко оттого, что он оказался на этой деляне, неловко было и объяснять, зачем он здесь.
— Испугалась?
— Думала, рыболовы…— проговорила она.
— А я в районе был… Только что оттуда,— сказал Чепурин и зачем-то снял фуражку.— Заехал поглядеть, как народ полуношничает…
— Да вот косим…— сказала Анфиска. Растерянно перекрещенными на груди руками, оставшимися прижатыми так вместе с ручкой косы с самого момента появления Чепурина, она чувствовала, как часто колотилось ее сердце.
Чепурин обвел глазами деляну:
— Твой, значит, пай… Морковки много. Сорное сено будет…
— И на том спасибо,— выговорила Анфиска чужими, одеревеневшими губами.
Чепурин помолчал, повертел в руках фуражку.
— Помочь, что ли? — сказал он, помолчав.
— Я сама,— тихо воспротивилась Анфиска.
— Сама-то не успеешь.
Он взялся за ручку косы, легонько потянул к себе. Анфиска не отпустила.
— Спешить некуда,— сказала она.— Ночь еще впереди.
— Скоро темно станет.
— Луна только взошла. Вон какая!
— Погаснет луна-то твоя… Сегодня затмение будет…
— Не надо, Павел Семенович,— потупилась Анфиска.— Я сама управлюсь.
— Ну как знаешь.— Чепурин посмотрел на луну, на морковник.— Ты не подумай… Я ведь по-хорошему.
Он достал папироску, пыхнул спичкой. Анфиска стояла, выжидая. В ее как-то сразу поменьшавшей ростом фигуре было что-то неприкаянное и жалкое.
Долго и напряженно молчали. В мокрых кустах верещали камышевки. Вдруг Чепурин порывисто отбросил окурок и крупными шагами пошел в дальний угол деляны к мотоциклу. Но он не уехал, как подумала Анфиска, а, к ее удивлению, вытащил из коляски разобранную косу, сладил ее и молча принялся косить прямо от колес мотоцикла. Анфиска слышала, как заходила его коса с сердитым и протяжным шиканьем.
Анфиска растерялась. Первой ее мыслью было разбудить Витьку. Но Витька сладко посапывал, и она, поправив на нем одежку, отошла, остановилась у обрыва, смятенно уставившись на светлую гладь реки. Потом тихо, будто крадучись, прошла к незаконченному прокосу. Она начала косить, все время сбиваясь, путаясь в траве, мучительно и обостренно прислушиваясь к размашистому вжиканью в дальнем углу деляны.
Луна, уже высоко поднявшись над лесом, заметно поубавилась, уплотнилась, но все еще была диковинно велика. Анфиска косила против луны. Чепурин двигался от луны к ней навстречу. Работали молча, затаившись, как два сапера по обе стороны фронта, пробивающие проход в проволочном заграждении. Нетронутая стена трав, разделявшая их, уменьшалась и редела. Впереди, белея, покачивалась фуражка Чепурина, широко и порывисто поворачивались его плечи, и то и дело над дудником взмелькивала ручка его косы. Она видела, как, вздрогнув, широкими полукружьями рушились и исчезали перед ним хрустальные люстры морковника.
Когда между ними осталась тонкая, на два-три взмаха стенка из высоких, пронизанных светом стеблей, Анфиска остановилась. Остановился и он, шумно и прерывисто дыша.
Тяготясь этой неловкой паузой, страшась — не его, Чепурина, а самое себя, своего напряженного обессиливающего оцепенения, она, ни разу не взглянув на него, не поднимая головы, повернулась и пошла, почти побежала к берегу, к началу покоса.
— Анфис…— позвал он.
Она слышала, как он смахнул остатки травы, разделявшие их, и торопливо пошел следом.
— Что ж мы… так и будем разбегаться по углам? Глупо все как-то…
В голосе его звучала все та же неловкость и виноватость за то, что он здесь и вот так с нею…
Анфиска только еще больше нагнула голову, вышла к берегу и сразу начала новый прогон.
— Давай хоть косить рядом…— буркнул Чепурин.
Она успела уже отойти немного, когда Чепурин начал косить с левой стороны. Чувствуя за спиной мерные переступы его сапог, резкое свистящее позванивание, Анфиска, закусив губы, косила с оцепенелым упорством, как будто все дело было в том, чтобы не дать себя догнать. На каждые два его взмаха она отвечала тремя. Босые ноги горели от колючей стерни и спиртово-жгучей росы, но еще больше горело ее лицо.
«Что же это…» — спрашивала она самое себя.
Вспомнилось, как весной он подвозил ее со станции. Она тогда, перед половодьем, накупила много хлеба, несла тяжело в двух мешках, связанных вместе. Он нагнал ее на своем «газике», узнал, остановился, забрал мешки и посадил в машину. Дорога была разбитая, с жидкой снежной кашей в глубоких колеях, с частыми лывами по низинам, машину бросало, заваливало с боку на бок. Чепурин напряженно рулил и, может быть, потому лишь изредка с ней заговаривал, отрывисто спрашивая о самом обыденном: как живет, как мать, сынишка… В шоферское зеркальце она мельком видела его худое, обветренное лицо с багровым швом во всю плохо выбритую щеку, видела напряженно-сосредоточенные жидко-зеленые глаза и, стесняясь своих чувалов, набитых городскими буханками, грязных галош на валенках, настороженно цепенея от новых его вопросов, односложно отвечала: «Живу помаленьку», «Мать ничего», «Сын уже большой».
И когда потом приходилось встречаться с Чепуриным — на колхозном дворе, на улице,— все так же терялась перед ним, и особенно почему-то в тот раз, на покосе, когда он пытался заговорить с ней.
Ни разу не оглянувшись, она косила все с тем же упорством и уже не чувствовала рук, не ощущала в онемевших пальцах косья и только упрямо, через силу водила плечами. Белые шапки морковника, взблескивая оброненной росой, казалось, сами собой гасли перед нею, будто слабые огоньки от ветра.
На середине прогона она услыхала, как Чепурин остановился. Чуть обернувшись, она увидела, что он скинул пиджак, отшвырнул на стерню и, оставшись в одной белой рубашке, азартно поплевал на руки.
Но и у нее больше сил не оставалось.
«Сейчас упаду»,— задыхаясь и слепея от напряжения, думала Анфиска.
Она уже не слышала ни его, ни своей косы, не слышала цикадного стрекота камышевок, не замечала, как все бегал, все скрипел на остатке быстро таявшей луговины дергач — невольный судья этой борьбы двух людей на ночном покосе.
— Тьфу! Заморила! — сплюнул наконец Чепурин.— Анфис… Да погоди ж ты…
Он постоял, глядя вслед продолжавшей косить Анфиске, и вдруг, отбросив косу, в два прыжка нагнал, обнял, больно сдавив плечи, рывком повернул к себе и, сам задыхаясь, прижал к груди.
— Вот… Чтоб знала…
Потная, горячая, не видящая ничего, с гулким стуком в висках, она затихла в крепком захвате его рук, провалившись в какое-то обжигающее небытие.
— Не сердись только… не гони,— проговорил он.
Луна, поднявшись в свой зенит, накалилась до слепящей голубизны, небо вокруг раздвинулось, нежно просветлело и проливалось теперь на лес, на поляну, на белую кипень цветов трепетно-дымным голубым светопадом. Свет падал на Анфискино лицо, казавшееся бледным и осунувшимся. Под полузапахнутыми ресницами темно и влажно взблескивали глаза.
— Устала я,— не открывая век, прошептала Анфиска, почувствовав себя вдруг окончательно надломленной и обессиленной не только от напряженной косьбы, но и от всех этих трудных и горьких лет вдовьего одиночества.
Чепурин, должно быть, понял в ней это, бережно взял в ладони ее голову, притянул и крепко и долго поцеловал в сухие, безответные губы.
Анфиска затаенно молчала, приходя в себя, прислушиваясь к сильным толчкам его сердца под влажной от пота рубашкой.
— Запалила ты меня,— сказал Чепурин.
— Я сама чуть не упала.
— Зачем же так…
— Не знаю…
— Я ведь по-хорошему…
Анфиска не ответила.
Он слегка, будто стесняясь этого движения, одними только кончиками пальцев потрогал ее волосы.
— Давай докосим? — сказал Чепурин.
Постояв еще, помедлив, она наконец молча шевельнула плечами, прося ее освободить. Чепурин разжал руки, она устало нагнулась, подняла косу.
— Ты посиди… Не надо,— сказал Чепурин.
— Нет… Я тоже…
Остаток поляны они докашивали рядом.
Чепурин, без фуражки, с закатанными рукавами белой рубахи, косил размашисто, низко пускай косу, чуть пригибая колени. Встречный свет заливал его плечи, дымился в светлых спутанных волосах. Тяжелые стебли дудника, мельтеша белыми шапками, уносились в сторону и ложились рядом с Анфиской. Валок истекал сырым травяным запахом. Время от времени Чепурин приостанавливался и, шумно отдуваясь, улыбаясь запаленно открытым ртом, подбодрял:
— Идет дело?
Анфиска молча кивала.
— Ну давай… Осталось немножко.
За согласной работой как-то сама собой прошла Анфискина усталость, руки окрепли, и она, поглядывая на Чепурина, на его неторопливые расчетливые движения, чувствуя, что ему нравится косить, и сама начинала полниться тихой и умиротворенной радостью.
— У тебя есть оселок? — спросил он.
— Где-то на берегу.
— Надо поправить косы. Мы их совсем загнали об эту чертову морковку. Откуда ее столько наросло?
Чепурин говорил так, будто ничего между ними и не было, будто они еще с вечера пришли сюда, как другие, как все, затем только, чтобы запасти на зиму сена.
Он нашел на обрыве оселок и стал править косы — ее и свою. И сразу за лозняками тонко звякнуло ответно. И зазвенело, затюкало справа, слева, близко и далеко — по всему лунному лесу.
— Народу-то сколько! — удивился Чепурин.
Ликующе-голубой свет заливал поляну. Была видна каждая травинка, каждый листок, и все везде что-то сверкало и блестело. Светлая гладь реки за краем обрыва кольчужно серебрилась от кругов разыгравшейся рыбы. Бледно проступили песчаные косы на той стороне, и в песках блестели и переливались голубым огнем выброшенные створки ракушек. Серебрились обрызганные росой осоки под тем берегом, легким дымом серебрилась подстриженная отава, серебрилась шиферная крыша коровника на гребне далекого уреза и призрачными шатрами проступали бесчисленные стога в луговом заречье.
Простоволосо-растрепанный, в расстегнутой на груди рубахе, Чепурин стоял с косой и оселком в руке, чуть наклонив голову, и, полный мальчишеского внимания и интереса слушал, как перекликались косы на лесных делянах.
Еще вчера этот человек расчетливо считал свои часы и минуты, куда-то уезжал, приезжал, командовал и распоряжался, звонил по телефону каким-то далеким и высоким начальникам и сам был страшно далек от Анфиски своей исполненной какой-то значительности председательской беспокойной жизнью. Но теперь, видя его так близко, рядом с собой, за простой крестьянской работой, обыденной и понятной ей сызмальства, делавшей его тоже простым и понятным, Анфиска почувствовала себя так, будто знала его давно и работала рядом всю жизнь.
— Как названивают! — сказал он, радуясь.— Послушай только, что делается! По всей Десне.
Анфиска смотрела на Чепурина, слушала и ничего не слышала, кроме стука своего радостно-смятенного сердца.
4
Перемешанные с травой стебли морковника пружинисто топорщились, валки высоко бугрились, белели зонтиками, и вся поляна казалась прибойно-полосатой. Терпко, дурманно пахло каратиновым настоем, напитавшим росу и ночной воздух.
Они лежали на ворохе скошенной травы, влажной и теплой, нагретой их телами. Лежали на самом берегу, головой к реке, умиротворенные доверием друг к другу.
— Есть хочешь?
— Что-то не хочется.
— Я захватил с собой. В мотоцикле. Поешь.
— Не надо. Не вставай…
Чепурин лежал навзничь, подложив под голову правую руку, она пристроилась на его плече.
— Не хочется, чтоб ты уходил…— Анфиска задержала его руку на своем плече и сама подвинулась теснее.— Смотри, какая луна сегодня! Я даже чувствую ее сквозь веки. Закрой глаза… Ты правду говорил про затмение?
— По радио передавали.
— А я думала — нарочно…
Луна бесстрашно, светло и празднично шла навстречу неведомому, поджидавшему ее в какой-то точке кроткого ночного неба. Казалось, уже сам воздух начинал тихо и напряженно вызванивать от ее неистового сияния.
— Я хоть нагляжусь на нее сегодня… Не помню, когда и глядела так…
— Это верно,— кивнул Чепурин.— Головы поднять некогда.
Анфиска, задумавшись, долго вглядывалась в голубой диск.
— Какая она чистая… Как девушка. Я даже глаза различаю. Словно бы улыбается.
— Это горы.
— Нет, глаза.
— Кратеры всякие.
— Тебе — кратеры, а мне — глаза.
Чепурин усмехнулся Анфискиному шутливому упрямству.
— Вот песни по радио поют,— вздохнула Анфиска.— Про свиданье на луне. Глупости какие, господи! Земли, что ли, мало? Только любите по-хорошему.
Тяжелый рогатый жук низко пролетел над головами и плюхнулся в скошенную траву. Должно быть, летел из заречья. Жук завозился, рыкая крыльями в стеблях, будто запускал заглохший мотор. Наконец взлетел и, довольный, басовито загудел. На светлом небе были видны его черные вскинутые надкрылья. Анфиска проводила его взглядом, прислушалась.
— Разве есть где лучше? Птиц-то сколько! Каждый куст стрекочет.
— Да, ночь хороша! Теплынь. Самое лето.
— У нас по Десне их сверчками зовут.
— Какие они?
— Разве не видел? Серенькие с желтиной.
— Как-то не обратил внимания.
— Хвост округло подстрижен. У плиски хвост ровный, у зяблика, у чечевички — с выемкой. А у этих — будто лопаточка для мороженого. И голос: не поют, а сверчат. Потому и сверчки.
— Похоже… А вон то кто? Осторожно так…
— Не узнал? Соловей!
— Ну какой же соловей? Соловья-то я знаю.
— Соловей и есть.
— Коротко очень.
— Молоденький еще… Старые теперь уже не поют. Лето переломилось. А этот только пробует голос. Первая его песня. Будто в молодой орешек посвистывает… Слышишь? Щелкнет и сам себя слушает. Мол, ладно ли получилось? А потом надолго и замолчит: засовестится. Молоденький…
— Берендеевна! — усмехнулся Чепурин и ласково, уважительно взглянул на Анфиску.
— В детстве из лесов-лугов не вылазила. В деревне — куда еще побежишь? Вся тебе тут земля, весь мир. Каждое гнездо разглядим: и как сделано, и какие яички… С той поры всех птиц своих знаю… А вот то дергач… Послушай, как он…
— Этого скрипуна я давно приметил.
— Всю ночь так.
— Уж больно музыка у него некрасивая. Будто гребешком по сухой щепке.
— Это нам только. А ему все равно весело. Ночь-то какая! Диво! Все, как умеет, радуется… Я тоже, будь моя воля, птицею стала бы… Даже не задумалась — поменялась бы…
— Чудачка!
— Хорошо птицею. Лети куда хочешь. Воля!
— Куда же ты?
— Мало ли куда…
Раздумывая, куда бы она полетела, Анфиска вспомнила, как еще подростком несколько раз бегала на станцию. Мать завертывала в капустные листы обваренного куренка, клала на дно корзины десяток-другой яиц, свежих огурцов, и Анфиска, шлепая по прохладной утренней пыли, бежала средь хлебов к паровозным дымам на горизонте. Ничего не волновало ее так сладко и празднично, как добела накатанные рельсы и долгие, зовущие паровозные гудки.
Там, на станции, поставив у ног корзину где-нибудь возле газетного киоска, она подолгу заглядывалась на поезда: дивилась широким, в одно сплошное стекло, вагонным окнам, белым накрахмаленным занавескам, цветам в глиняных горшках на столиках и по всему этому силилась представить, как должно быть хорошо и необыкновенно ехать в таком вагоне. Вполуслух, разлипая губы, она читала надписи «Москва — Одесса», «Москва — София» и, прочитав, с ревнивой завистью следила за бойкими проводницами в синих беретах, которые, убрав подножки и став в вагонных дверях, вот так просто, с какой-то легкой беспечностью ехали в далекие неведомые города, равнодушно посматривая на все, что оставалось здесь, на перроне, на все эти киоски, багажные тележки, на нее, Анфиску, зазевавшуюся босоногую девчонку из безвестного им села.
Анфиска забывала про свою распродажу, пока какой-нибудь дотошный пассажир, заглянув в корзинку, не обнаруживал торчащие цыплячьи лапки. Набегали другие, копались в корзине, как в своей собственной, выгребали яйца, огурцы, совали деньги. Она машинально прятала их в карман, не сосчитывая, стесняясь своего нехитрого товара, и приходила в себя, лишь когда появлялся милиционер и сонно, разморенно говорил: «Давай, давай отсюда… Не положено».
— Посмотрела бы, куда наша Десна течет…— вслух сказала Анфиска.— До самого моря слетала бы… Живешь! Вот тебе изба, печь, грабли или тяпка… Зима — лето, зима — лето…
Анфиска робко улыбнулась, будто винясь за свое такое желание — полететь птицей.
— Правда, Паша… Бабе всегда только и солнышко отпущено, что в детстве. Девчонкой прыгаешь, ничего не знаешь, думаешь: как все. А вырастешь — нажалеешься, что баба… Конечно, не у каждой так.
И опять она вспомнила поезда. Почему-то в них всегда много красивых женщин. Некоторые уже пожилые, с сединой в висках, а все равно красивые. Не лицом даже, а чем-то таким, чего Анфиска никак не могла понять. Вольностью своей, что ли? Они красиво прогуливались вдоль вагонов, красиво ели мороженое, красиво смеялись и разговаривали с мужчинами, тоже красивыми, породистыми. Платформа была единственным местом, где Анфиска прикасалась к этому шумному веселому миру, существовавшему сам по себе в неведомом далеке от ее, Анфискиной, жизни.
— Есть — на всю жизнь бабы, а есть — женщины,— сказала Анфиска, прервав свои размышления,— Кому как выпадет.
— А ты тоже красивая,— Чепурин за плечо качнул Анфиску к себе.— Смотрел я, как сено ворошила: красавица!
— Какая, Паша, красота, если по три гектара свеклы на брата… Ногти позаломились…
Небо все расцветало, все голубело в том месте, где проходила высокая и ясная луна. Оставив ее сиять одну, звезды далеко вокруг отступили, истаяли и только понизу, над самыми деревьями, где было темнее, проглядывали редко и несмело, будто боялись помешать праздничному шествию луны. Может быть, она разгоралась бы и дальше, но как раз в это время что-то притронулось к ее левому боку, чуть надавило, оставив едва заметную вмятину.
— Смотри, Паша!
— Вижу.
Они притихли, вглядываясь.
Казалось, все оставалось прежним: и мерцающая бездонность неба, и сама луна светилась все с той же беспечной ясностью; но это безмолвное, вкрадчивое чье-то прикосновение к луне сразу же было замечено и лесом и лугами.
Коростель оборвал свой скрип и насторожился. Скрипнул еще раз неуверенно, затих и не подал больше голоса. Поредел и рассыпался хор камышевок.
Наступила тревожно настороженная тишина.
Стало слышно, как в тени обрыва, омывая камыши, дремавшие у берега взабродку, всплескивалась вода. Казалось, Десна бежала у самого изголовья, и, чтобы достать до реки, стоило только протянуть руку.
— Давай Витьку разбудим,— сказал Чепурин, невольно переходя на шепот.
— Зачем?
— Поглядит на затмение.
— Мал еще… Что он понимает?
Чепурин покосился на часы.
— Сколько? — спросила Анфиска.
— Четверть второго.
— Тихо как стало.
— Ага… Будто отрезало…
— Луна, как откусанное яблоко… Совсем закроет?
— Говорили — совсем…
— А мне почему-то жалко ее…
— Ну что ты…
— Правда. Даже как-то не по себе.
— Это всего только тень.
— Знаю, что тень. И в школе учила — тень. А тревожно. Тебе разве нет?
— Непривычно как-то.
— Вот и птицы затаились. Тоже понимают…
Подчиняясь нахлынувшей тишине, они и сами притихли и долго лежали молча, наблюдая затмение.
На реке стукнуло весло. Высокий бабий голос позвал:
— Анфи-са!
По лесу изломанно прокатилось «И-са, и-са», и, затихая, эхо потерялось в лугах, среди стогов.
— Тебя…
— Домой кличут. У них там лодка.
— А-у, Фиска-а! Поехали-и!
В ответ в лугах заливисто заржала лошадь.
— Затмение начало-ось! — кричали с берега бабы.— Где ты там?
Кто-то постучал в косу, потом еще покричали и стихли.
Было далеко слыхать, как время от времени переправлялись лодки: стучали о борта весла, позвякивали причальные цепи, перекликались бабы. И еще долго потом доносились с той стороны лугов постепенно затухающие голоса.
— Уехали,— сказал Чепурин.
— Пусть…— твердо проговорила Анфиска.
Из вороха травы, примятого посередине и закрывавшего краями лес, им было видно одно только небо и круг луны, на который слева все наползало и наползало что-то зловеще-неотвратимое, что принято просто называть тенью.
Чепурин и Анфиска вдруг почувствовали себя затерянными в обезлюдевшем, притихшем лесу.
— Глухо-то как…
— Боишься?
— Нет…— И, помолчав, добавила: — С тобой не страшно.
Они глядели на медленно угасающую луну, и Анфиска вспоминала, как все эти годы думала об этом человеке, в одиноких невысказанных мечтах примеряла его к своей жизни. Вспоминалось, как однажды увидела на дороге мотоцикл. Ехали незнакомые мужчина и женщина, усталые, в запыленных комбинезонах. Он — за рулем, а она — сзади: обхватила его за бока, прижалась щекой к спине — от ветра, и ехали. Долго она смотрела им вслед, пока не скрылись за горушкой, а сама все прикидывала, как бы она тоже вот так поехала… Хоть на край света… И чтоб тоже был ветер… А то раз привезли в сельпо пододеяльники. Хорошие такие, с русской мережкой по углам. Смотрела, как люди брали на приданое девкам-невестам, и завидовала… И опять прикидывала, как бы она застелила все новое… И хотя знала: ни к чему это, никогда тому не бывать, а все-таки приходили такие мысли, все примеряла его к себе… И сегодня тоже: косила, а его рядом с собой ставила… Только когда и вправду приехал — испугалась. Ждала, ждала этого часу, а самой жутко стало… И жутко и хмельно…
Вспоминая все это, украдкой разглядывая его лицо при лунном свете, Анфиска бережно провела пальцем по шраму на щеке Чепурина.
— Чем это тебя, Паша?
— Осколком.
— Будто ножом.
— Это меня напоследок в Берлине угостили гранатой с чердака.
От темного шрама, затянутого гладкой и бесчувственной кожей, Анфиска провела пальцем по светлой живой щетине на подбородке, попробовала расправить лучики морщин на виске. С тихой задумчивостью разглядывала она залитое лунным светом лицо Чепурина — суровое и грубое вблизи, с крупными сухими губами, с жесткими кустиками выгоревших бровей. Двигая кадыком, он заглатывал дым папиросы и неторопливо выпускал синий жгут, целясь им в комаров. Анфиска удивлялась, как много он набирал дыма, который долго еще потом, при каждом выдохе курился из ноздрей постепенно затухающими струйками. От лица Чепурина веяло спокойной надежностью, и, может быть, оттого оно казалось Анфиске даже красивым, а больше всего — понятным: в нем ничего не настораживало и не отпугивало.
— Смотрю я на тебя: вот и городской, а какой-то ты наш…— тихо проговорила Анфиска.— Будто в деревне вырос.
Он сузил глаза, жесткие кустики бровей обрывисто нависли над переносьем. Долго лежал так, сощурясь, остро вглядываясь в луну, а может быть, и во что-то свое, в самом себе.
— Вот вспоминаю свое мальчишество,— сказал он задумчиво.— Кажется, оно было страшно давно. Как до рождества Христова.
— А я будто вчера девчонкой бегала,— сказала Анфиска.— Даже платья какие носила, помню.
— Тебе повезло. Все-таки цельным куском живешь. А я другой раз силюсь представить что-нибудь из тех лет, закрою глаза и вижу совсем не то… Какие-то балки огненные рушатся… Люди бегут… Черные против огня… Бегут и падают…
Анфиска зябко поежилась.
— Насмотрелся ты за войну. Оттого и так…
— Может быть… Никак я не пробьюсь сквозь все это в те свои годы… Где-то они остались по другую сторону… Как за лесным пожаром. И не связываются с теперешними.
— Сколько тебе тогда было?
— Семнадцать.
— Молоденький совсем.
— Из девятого класса пошел. Перевязал веревочкой свои физики-химии, недоделанные планеры на чердаке спрятал и — потопал… Думал, приду — доделаю… Я даже девчатам писем не писал: не успел завести. Все планеры клеил.
Чепурин потянул из вороха травинку, пожевал, поиграл ею в губах, продолжая задумчиво и пристально вглядываться в ночное небо.
— И все это куда-то ушло… Самый лучший кусок жизни. Будто и не я тогда был на свете… Так вот и живу какой-то укороченный.
— Может, от ранения это?
— Может, и отшибло… Такое теперь ощущение, словно я впервые появился на свет не в родильном доме, как это положено, а в армейском госпитале. Вынырнул из хлороформа, будто из небытия, и, как младенец, смотрел на божий мир. Ко всему нужно было привыкать заново…
…Помню, первое, что я тогда увидел после операции,— были стенные часы. Я долго смотрел на маятник. А он не спеша так раскачивается. Как, бывало, дома… И тишина… Еще недавно все грохотало, а тут тихо… По этому маятнику и догадался, что живу…
— А еще помню, в палату вошла медсестра,— по губам Чепурина скользнула грустная улыбка.— Вот говорят: не бывает любви с первого взгляда… Она вошла такая белая, чистая. Я смотрел на нее, как на чудо… Подсела ко мне и говорит: «Ну вот, все в порядке. Теперь будете жить». А я даже не словам, а одному только голосу ее обрадовался.
— Это уже после Берлина?
— Берлин еще брали. На тумбочке вода в графине все время вздрагивала… Это было в Эбенсвальде, в полевом госпитале. Я лежал весь в бинтах, и голова и грудь, только ежик между бинтов торчал на макушке.
— Больно, наверное, было?
— Тогда еще нет… Она сунула мне градусник под шею. Сказала, чтобы прижал его подбородком. Я наклонил голову и увидел близко перед собой ее руку… Не знаю, что на меня тогда нашло. Я дотянулся до ее пальцев губами и поцеловал… Они были прохладные, чистые… И душистым мылом пахли… Она не отдернула руку, а только потрепала мой ежик. Я никогда не был такой счастливый, веришь?
— Понимаю, Паша,— кивнула Анфиска.
— Может быть, потому, что для меня уже кончилась война. А тут еще весна за окном: солнце, небо синее, деревья зазеленели… А может, и оттого, что из детства вынырнул прямо взрослым парнем. Минуя юность. Она была для меня каким-то открытием. Во мне впервые проснулось что-то радостное, благодарное к этой белой девушке.
— Жалко, что не я была это,— прошептала Анфиска.— Я так бы и сидела около тебя… Ты правда ее любил?
— В тот день она раза три ко мне подходила… А на другое утро меня эвакуировали.
— Так сразу? А она?
— А что она? Для нее я был просто раненый. Сотый или тысячный. Я даже имени ее не знал. Да это было и не важно. Я радовался одному тому, что она есть, кроме огня, трупов, вонючих портянок…
На поляну неслышно выметнулась летучая мышь, стремительно, изломанно заметалась над валками. Несколько раз она совсем бизко пронеслась над Чепуриным. Потом так же неслышно пропала — загадочное существо, своим появлением всегда странно и неприятно упрекающее человека в бренности его страстей. Анфиска поискала мышь в лунном небе, но не нашла и тихо спросила:
— А что потом было? Расскажи, Паша. Я ведь только и знаю про тебя, что ты наш председатель.
— Потом? — Чепурин потянулся к пачке «Беломора», лежавшей рядом с ним на траве, раскурил папиросу и выпустил дымный бублик, целясь им в луну.— Потом валялся в госпитале. В Рязани. Война давно кончилась. На дворе июль, отцвели госпитальные липы. Многие раненые разъезжались по домам. Долеживали самые бедолаги — обгорелые, ампутированные. В палатах пусто, нудно… Я тоже стал проситься на выписку. Правда, раны еще не затянулись, но меня не стали задерживать: госпиталь тоже спешил сворачиваться. Направили меня лечиться по месту жительства. Есть такой городишко Борисоглебск, может, слыхала?
— Нет…
— За Воронежем… Пришкондыбал домой. Костыли, рука на перевязи. Мать что-то стирала. Постарела, будто прошло десять лет. Кинулась ко мне красными распаренными руками. Обступили сестренки — друг друга не узнаем: вытянулись. Набежали родственники: одни бабы. То смеялись, то плакали, то опять смеялись… Знаешь, как это бывает, когда одни бабы. Все ведь остались вдовые.
— Знаю, родной…— вздохнула Анфиска.— Я тогда еще маленькой была, а помню: как почтарка пройдет — то в одном дворе плач, то в другом. Да и теперь еще ревут… Когда праздники…
— По всей России было так… Переполовиненные города и деревни. От отца тоже одна увеличенная карточка на стенке осталась… Из нашей семьи девятеро ушло. Сначала батя с дядьями. А следом и мы, пацаны. И все там… От самой Польши до Москвы могилы Чепуриных тянутся. А потом еще и в обратном порядке.
Чепурин несколькими затяжками жарко раскурил папиросу, морщась, заговорил пополам с дымом:
— В общем, вернулся я в свой Борисоглебск. Начислили мне сто восемьдесят три рубля пенсии. А стоптанные башмаки на барахолке тысячу рублей стоили. Пачка папирос — четвертная… Думал-думал, решил пойти в школу доучиваться. Поступил прямо в дневную. Все к лешему перезабыл, все эти синусы-косинусы. Ночами сидел догонял. Утром в школу иду — ветром шатало…
— Я бы так не смогла.
— Что было делать? Правда, в школе меня уважали. Бывало, иду по коридору, костыль скрипит, медали звякают, малышня жмется к стеночке и тихо так: «Здрасьте», «Здрасьте»… А директор говорил: «Если надо покурить, заходи в мой кабинет, вместе покурим. Только не при детях, пожалуйста»… В общем, всякое было…— Чепурин махнул рукой и замолчал.
— Говори, Паша,— попросила Анфиска.— Мне все интересно про тебя.
— Ну что еще рассказать? В тот год я все-таки десятилетку не закончил. Весной открылась рана на плече. Положили в госпиталь. Опять что-то резали. Сдал экзамены только на другую весну. Потом уехал в Харьков… Вон опять мышь появилась…— Чепурин кивнул подбородком.— Смотри! Совсем не боится. Даже ветер по лицу.
— Это она около твоей рубашки. Они белое любят… А в Харькове зачем, Паша?
— В Харькове? Надо было как-то выкарабкиваться… Поехал поступать в институт. С условием, что из дому не будут высылать ни копейки.— Чепурин рассмеялся.— Вот тоже была веселая жизнь. Бывало, разживемся гуашью и рисуем друг другу носки — прямо на голой ноге. Кому в клеточку, кому в полосочку. Красивые носки получались. Если краски покруче на казеине замешать — износу нет. От бани до бани… Вот так, Анфисушка, я стал инженером железнодорожного транспорта. Ну что еще? Направили меня в Смоленск. Года не поработал, как меня сюда, к вам, на укрепление эмтээс… На этом вся моя городская жизнь и закончилась. Успел только жениться, перед самым отъездом.
— У нас бы и женился,— робко усмехнулась Анфиска.
— А я откуда знал, что поеду? Знал бы — повременил. Тебя бы взял. Пошла бы?
— Пошла…
— Ты тогда еще в школу бегала.
— Четырнадцать было.
— Стручок зеленый.
— Все равно через три годочка выскочила.
— Да, как бежит время! — шумно выдохнул Чепурин.— Вот уже и двенадцать лет, как я здесь… Помню, прихожу из обкома домой, месяца три, как поженились. Так и так… Едем в деревню!.. В какую такую, говорит, деревню? Посылают как молодого специалиста. Какой, говорит, ты специалист? Там же трактора, а ты паровозник. Пойди и объясни им… А что им, говорю, объяснять? Они и сами знают, что паровозник. Так и знай, говорит, никуда я не поеду! Я замуж выходила не за твою МТС… В общем, собрал я чемоданчик и поехал.
— Без нее?
— Один… Я тогда уже коммунистом был. Не пойдешь же говорить: мол, жена не хочет… У всех жены не хотели… Тогда только в ваш район человек тринадцать послали. Были и добровольцы, но в основном рекруты. Помню, ходят кислые по обкому. Иные разными справками запасались. Так и хочется сказать: да не тяните вы их, все равно удерут… Так и не прижились они в деревне. Потихоньку разбежались. Кто сразу, кто еще года два-три проволынил.
Чепурин опять потянулся за папиросой.
— Ну, вот… Приехал я в МТС, только малость огляделся, меня через пару лет — в колхоз, в Погожее. Он тогда отделен от вас был. Снова на укрепление.
— Досталось тебе, Паша,— вздохнула Анфиска.
— А, да ладно… Ну их к ляду, все эти воспоминания,— засмеялся Чепурин.— Начали про луну, а съехали черт знает куда… Смотри, как уже накрыло, сердешную. А все равно светит, не сдается… Был я недавно в своем Борисоглебске… Поглядел… У нас тут лучше… Красота!
— Отвык, поди…
— Да и отвык… Что это вон там под кустом блестит?
— Где?
— Да вон… Смотри на ту ветку. Видишь? Ну и сразу под ней.
— Теперь вижу…— Анфиска присмотрелась.— Это паутина, Паша. Росой ее обдало, а паук ползает и раскачивает… Она и взблескивает.
— Все-то ты знаешь! — радостно удивился Чепурин. Он погладил ее волосы, и она, вся встрепенувшись от этой его ласки, поднялась на локте и, стараясь заглянуть ему в глаза, взволнованно спросила:
— Тебе хорошо со мной?
Чепурин кивнул.
— Правда? — с каким-то счастливым испугом переспросила Анфиска.
— Правда.
Она порывисто обняла Чепурина, припала щекой к его груди, жарко, обрадованно зашептала:
— Мне тоже… Мне так хорошо, что хочется пойти с тобой куда-нибудь… И сама не знаю куда…
— Сейчас в поле хорошо,— сказал Чепурин, перебирая пальцами Анфискину косу.— Хлеба подходят… Светлые стоят.
— И молодым зерном пахнут,— кивнула Анфиска.— В эту пору мы ребятишками всегда в поле бегали… Наберем снопиков, а потом на костре печем. Не пробовал?
— Нет.
— Зерно молоденькое, быстро печется. Как усики обгорят, так и готово.
— И как же потом?
— А очень просто. Нашелушим в ладошку и — в рот.
— Никогда не пробовал.
— Вкусно! Свежей булкой пахнет. Как только что из печки. Особенно, если посолить маленько… Я поле люблю… Всякое люблю… И когда снег только сойдет… Кругом еще сыро, а оно уже зеленое. Видно, как по нему ветер бежит… И облако пройдет — видно… А то когда еще дождь в мае…— задумчиво шептала Анфиска.— Теплый, с громом… Гром ворчит, как дедушка… И дождь тоже добрый, веселый… Земля так и поднимается под ним… И хлеба на глазах рослеют… Утром стояли чуть выше щиколотки, а к вечеру уже и до колен… А в лесу кукушка без устали… Дождь, а она будто и не замечает…
Обняв Чепурина, она говорила все это, закрыв глаза, счастливо хмелея от своих видений. И хотелось ей, чтобы не она одна это видела, а чтобы вместе… Так бы вот идти и идти вдвоем…
— А на заре летом,— продолжала шептать Анфиска,— когда идешь полем — тепло в хлебах. Лугом идешь — зябко, а свернешь в хлеба, сразу согреешься… Так теплом и повеет… Берегут теплоту от самого дня…
— Тебе б стихи писать.
— Не умею я стихов.
— А вот так, как говоришь.
— Что вижу, Паша, то и говорю.
— Хорошие у тебя глаза… Ворожея ты моя! Вот бы, правда, птицами нам с тобой заделаться?
— Перепелками…— подсказала Анфиска.
— Давай перепелками… Ты впереди, а я за тобой: «Дай догнать! Дай догнать!» Так они, кажется?
— И никуда б я от тебя не полетела! — тихо, радостно засмеялась Анфиска.
— Почему?
— До первой кочки только…
— Да почему до первой кочки-то? — не понял Чепурин.— Сама говорила — до моря.
— Это если б одна…
— А со мной — до кочки? Непонятно…
— Что ж тут понимать. Сразу бы яичко тебе снесла.
— А-а! — рассмеялся Чепурин.
— Соскучилась я без гнезда…
— Нет, сначала полетали бы,— сказал он, рассматривая, как путалась луна в легком подсвеченном дыме Анфискиных волос.— Хлеба посмотреть надо… Я хоть и перепелом летал бы, а все-таки душа у меня председательская… Косить, голубушка, скоро… На днях ездил во вторую бригаду. Ничего пшеничка…
— Хорошая?
— С хлебом нынче будем.
— Каждый год так говоришь.
— Теперь точно будем.
— Не сердись, Паша. Люди видят: стараешься ты…
— А я и не сержусь,— примирительно сказал Чепурин.
Он приподнял ее голову со своей груди и поцеловал.
— И не полетим мы с тобой никуда,— обнимая Чепурина, прошептала Анфиска.— Никакими перепелками. Нам и тут хорошо… Что нам еще нужно. Правда?
— Правда.
— Мой ты сейчас, и все… Пусть до света… Пусть одна трава только постелью… А все-таки не сон, а правда… Я только во сне вот так с тобой была… С того самого раза, как подвез ты меня на машине… Помнишь?
— Помню…
— И не сказал ты мне тогда ничего такого, а как-то запало… Заболела тобой душа…
— Потому и не сказал, что сам растерялся.
— А я после того случая даже встречаться с тобой боялась… Только на собрании на тебя и погляжу, когда в президиуме сидишь… Да так когда, украдкой… Думала, заметишь что во мне… Не хотела, чтоб ты знал…
— Что ж меня бояться?
— Думала, зачем тебе это… Работа у тебя такая, на виду у всех, а я тут со своим…
— Вот дуреха!
— Когда покосили, когда было все… думала: ни за что не признаюсь, что люблю… Было, ну и было… Считал бы, что тоже у нас с тобой, как у этой луны, затмение вышло…
— Ну зачем же ты на себя так…
— Не знаю… А теперь, будто век с тобой прожила… Вот ты говоришь — в поле бы сейчас… Я б с тобой хоть на край света… А только лучше бы по улице… Открыто… Чтоб народ был и чтоб все видели…
Анфискины глаза влажно заблестели.
— А плакать-то зачем?
— Это я от жадности… Первый раз со мною такое… Вот и замуж ходила, а такого не было, чтоб как пьяная… Я ведь молоденькая за него пошла. Покатал на лодке, духов в коробке подарил, никогда таких не видела… Ну, я и думала, что и есть любовь… Что я понимала? Мы ведь все дуры девки так выскакиваем.
Анфиска говорила порывисто — скажет и помолчит, будто теперь только начинала осмысливать прожитое.
— Он все говорил: я из тебя конфетку сделаю. Давай, говорит, шляпу купим. И косу, говорит, теперь не носят… Как-то поехал в город, смотрю, правда, привозит шляпу… А я никак не могла шляпу-то эту… Всю жизнь в платках… Другой раз думаю: уважить все-таки надо… Все уйдут из дому, а я — примерять перед зеркалом. Примеряю и в зеркало себя не вижу: так стыдно!.. Думаю, ладно, не сразу. Может, и к шляпкам привыкну… Жизнь еще вся впереди. Вот переедем с ним в город, там, может, надену… А на этом все и кончилось… Пожила три месяца, а потом часть ихняя снялась, и он уехал… Говорил, что, как приедет на место, вызовет телеграммою. И по сей день… Поплакала я, поплакала, да и ждать перестала. Маленький родился… Вот и вся моя любовь, Паша… Даже к замужеству не успела привыкнуть… Будто в тяжелой болезни побывала.
— Тебе холодно? — спросил Чепурин.— Ты вся дрожишь…
— Это я когда наговорюсь. Про свою жизнь. Меня и колотит… Смотри, как уже закрыло луну-то.
— Ага.
— И звезды высыпали.
— Это потому, что небо потемнело.
— Я когда маленькая была, думала: звезды — это просо рассыпано.
Чепурин усмехнулся.
— А месяц — петушок.
— Выдумщица!
— Правда… Мне тогда везде сказки чудились. Бывало, найду битое стеклышко, зеленое или красное, приложу к глазу, да так бы все и смотрела: сказка!
Анфиска задумчиво посмотрела на обломок луны.
— Давеча иду лугом: лошадь с жеребеночком. Сама спутанная по ногам, а над сбитой холкой мухи вертятся. А жеребенок знай себе вынашивается. Щипнет раз-другой травку и скачет — ног под собой не чует. Ему щипнуть не главное. А самое важное — вот так по траве розовыми копытцами помельтешить. И наверное, все ему сказкой кажется… А мать, гляжу, ест, ест эту самую траву, жадно так, словно бы работу выполняет: надо. А сама все глазом косит на жеребенка. Увидит, что далеко забежал, поднимет голову и тревожно так позовет… Поглядела я на них и по этому жеребенку да по лошади себя узнала: какая была и какая есть теперь… Я ведь в детстве как считала? Хлеб — это так, между прочим… Даже и голодно было, и то… Главное — в стеклышка поглядеть. А теперь все наоборот, как у той лошади…
— Сама ты стеклышко битое,— рассмеялся Чепурин и растроганно привлек к себе Анфиску.— Так бы и глядел через тебя!
— Что ты через меня увидишь?
— А вот вижу… Как-то чисто, хорошо… А насчет лошади — это ты на себя наговариваешь. Человеку никогда не перестанут чудиться сказки. На то он и человек. И у тебя она есть.
— Разве ты только,— вздохнула Анфиска.— Вот едешь мимо дома, а я так и подскочу к окошку. Будто магнитом притянет. Отодвину занавеску и высматриваю в дырочку. Как раньше в детстве через это самое битое стеклышко. И, кроме тебя, никого и не замечала. Гляжу, а у самой так и кольнет сердце: может, зайдешь в избу-то… Но так ни разу и не зашел… Не сказка, а горе ты мое… Видеть вижу, а не достану. Как тот мой золотой петушок в небе.
— А вот и достала…
— Минутное это все, Паша… До свету. А хочется, чтобы всегда было так…
5
Кто-то невидимый выел сочную мякоть луны, оставив от нее только тоненькую дынную корочку с правого края. В тусклом призрачном свете глухо темнел лес. Чуть приметно брезжили белые валки покоса. Было слышно, как с кустов падала роса. Отяжелевшие капли срывались и, падая, разбивались о встречные листья. Кусты неумолчно шуршали и перешептывались.
— Какую ночь мы себе выбрали,— затаенно прошептала Анфиска.
— Не будь затмения, я б и не решился приехать,— сказал Чепурин.
— Почему, Паша?
— Ну как это? Ни с того ни с сего… А то думаю: затмение, дай помогу. Вроде как причина. Наверно, сразу все и поняла?
— Я думала, ты выпивши.
— Да нет… Не было такого…
— Вижу, говоришь как-то не так… Думала, выпил.
— Это я от страху, должно быть,— засмеялся Чепурин.— Еще в дороге: стал у паромщика косу просить, а он посмотрел на меня хитрым бесом и говорит: «Покосись, покосись, председатель… Дело твое молодое… Только косу не утеряй… Завези утречком-то». А до того на станции: зашел в буфет купить кое-чего, а буфетчица с усмешкой: «Кара-Кумчиков» возьмите, пригодятся…» Вот язва! А ну их всех! Давай-ка мы лучше перекусим. С утра ничего не ел…
— Поешь, родной.
— И ты тоже… Я сейчас принесу.
Чепурин поднялся, пошел к мотоциклу.
Анфиске было жалко, что он ушел, и она протянула и положила руку на примятую рядом с нею траву, будто хотела укрыть и сберечь в траве оставшееся после Чепурина тепло. Дожидаясь, она прислушивалась, как он копался в мотоцикле, и ей было непонятно, как она все это время жила без него… И как будет жить завтра, когда из-за этого вот леса взойдет солнце и наступит день… И послезавтра… И страшась и не желая думать об этом, она нетерпеливо позвала:
— Паша!
— Иду! — откликнулся он издали, смутно белея рубашкой.
Возвратясь, он сел на краю, свесил ноги с обрыва, зашуршал бумагой, разворачивая сверток.
— Давай сюда, на бережок…— сказал он оживленно.— Черт, луна совсем спряталась… Костер, что ли, разложить?
— Не надо… Не возись…
— Ну фару давай засветим.
— Ну ее…
— Я тут бутылку прихватил,— смущенно сказал он.— Выпьешь маленько? А то прохладно все-таки… Озябла, поди?
— Глоточек выпью…
— Белая только.
— Ничего…
— Жалко, стаканчик не догадался захватить. У тебя нет?
— Кружка есть. В узелке возле Витюшки.
— Пойду возьму.
— Не ходи, Паша. Жалко ведь…
— Чего жалко?
— Минутки наши бегут… Дай, я так выпью.
Анфиска отпила один глоток, потом, расхрабрившись, глотнула еще и еще, но, почувствовав, как перехватило дыхание и навернулись слезы, отняла бутылку от губ, невидяще протянула ее в сторону Чепурина и шумно задышала в ладошку.
— С ума сошла, столько выпить! — ужаснулась она.— Пьяная буду. До стыда.
— Ничего,— подбодрил Чепурин.— Согреешься. Бери, поешь. Тут вот сыр… Пирожки какие-то… Колбаса… Сейчас порежу.— Чепурин щелкнул складником. Под ножом вкусно запахло чесноком.— Ешь давай. Еще вот яблоки моченые.
Анфиска жевала, поглядывала на реку. В темной воде светились редкие звезды. Река старалась унести их с собой, качала и дробила на невидимых струях, но звезды, будто позолоченные поплавки, снова возвращались на прежнее место. Заречного берега не было видно, но временами с той стороны легким дыханием ветерка доносило запах спелых стогов.
В деревнях на убережье перекликались ранние петухи.
— Сеном как пахнет! — глубоко вздохнула Анфиска, радуясь еде, выпитым глоткам водки, реке, запаху сена и всей этой вольнице.
— Ехал я сегодня лугами,— говорил Чепурин, шурша в темноте газетой.— От самого райцентра по всей пойме стога и стога. В глазах рябит. Тысячи!
— Ключевские тоже убрались?
— Все! До последней былки.
— А в Капустичах?
— Докашивают, копны свозят. Поглядел — народу в лугах! Ни в какие годы столько не было. Праздник!
— На хорошее — народ дружно.
— Подъехал я к одному дедку. Сухой, как стручок, штаны пустые, но косишкой рьяно так шмурыгает. Ну как, говорю, отец? Идут дела? Остановился, смеется красными деснами: что ж им не пойтить… Одна, говорит, осталася нам работка, где вот так-то всем миром: сенокос. Отстранили вы нас, стариков, от поля. Обезлюдела жатва, разве што со стороны поглядишь с дороги. А што справа от той дороги и што слева,— вроде как и не мое теперича… Ты, говорит, только не записывай… Это мы промеж собою, сынок. По душам… Хоть ты и не нашенский председатель, а соседский, однако тебе тоже сказать надо.— Смотрю, у дедка уж и руки трясутся. Крутит цигарку, а табак в разные стороны.— И еще скажу: с народом ладь, сынок. Не шушукайся от него по кабинетам.
Чепурин откинулся на спину, положил голову Анфиске на колени и лежал так недвижно, лицом к потухающей луне. Она истаивала безропотно, в настороженно больной тишине, объявшей землю и небо. Слабый свет узкого серпа терялся где-то в вышине, не достигая земли, и все здесь, внизу, было погружено в тревожное затаенное ожидание. Было только слышно, как бежала река да невидимые деревья и травы роняли невидимые капли росы.
— Надо пораньше в «Сельхозтехнику» смотаться. Кое-что к комбайнам выколотить… Хуже нет любить председателя!
— Да почему же, родной?
— Разговорами про гектары да центнеры замучает.
— Этим и живем, Паша…
— Да и поговорить не с кем… Так вот, чтобы начистоту. Все в себе носишь… Разве что жене сказал бы… Так ей наплевать на все это… Вот поехала загорать. А потом какие-то однопляжники письма шлют…— Чепурин вздохнул.— Один я, Анфиса…
— Верю, родной, верю…
— Последнее время уставать начал. Старею, что ли? Такое ощущение, будто с самого фронта не демобилизовывался. Кажется, что и сапоги те же… Где-то люди в театры по субботам ходят, в выходной с книжкой на диване валяются… Лет пять, как ни одной книжки не прочитал.
Тень земли скрыла последние остатки лунного диска.
Откуда-то набежавшие тучи, разрозненные и сонные, глухо серея, медленно подкрадывались к луне. В разводьях между ними синело небо, слабо подсвеченное звездами. И на этой синеве отчетливо вырисовывался черный круг, окантованный по краям блеклым отсветом. Казалось, в небе висела луна с мертвым, незрячим ликом. В темноте, перебирая его волосы, Анфиска чувствовала на коленях приятную тяжесть головы Чепурина, улавливала запах вина и папирос в его дыхании, и все это пробуждало в ней счастливое чувство близости и родства к Чепурину.
Чепурин поднял руку и в темноте ответно провел ладонью по ее щеке.
— У тебя хорошие руки, Паша.
— Чем они хорошие?
— Добрые… И травой пахнут… По рукам можно узнать, любит человек или не любит.
— Как это?
— Не знаю… Не могу тебе объяснить… Просто чувствую… Человек может сказать неправду, а руки — нет…
— Добрая ты душа, Анфиса. Вот живу я со своей… Приеду вечером домой, только и скажет: обед на плите. Или: сапоги оскреби… И весь разговор…
— Почему так, Паша?
— Теперь и не разобрать, кто виноват. Может, и сам… Завез в деревню, по полям мотаюсь. Ни выходного, ни отпуска. Все откладывал с отпуском. Да и когда было? Что ни год — то суматоха… Она ведь от меня уже уезжала. Два года не жили… Говорит, что у матери была, а там кто ее знает… В общем, застарелая болезнь у нас с нею… Никакому теперь уже лечению не поддается… Вот настояла сынишку отправить к бабке.
— К твоей матери?
— Ну, что ты! В Смоленск! У них там пианино и все такое… Мол, тебе один колхоз на уме, а мальчику расти надо… А я, правда, его и не вижу. Без меня вырос.
— Сколько ему?
— Да уже одиннадцатый… Теперь и вовсе пусто в избе без него… Вчера вечером заехал домой — никого! Даже ходики стоят, гирька до полу…
— Все я понимаю,— вздохнула Анфиска.— Не бесчувственная.
— Вот узнает начальство, что я тут с тобой на бережку… лунное затмение наблюдаю… Персональное дело заведут… На днях заехал я в райком, усадил меня первый в кресло, про колхоз стал расспрашивать. Раньше никогда не спрашивал, сам все знал. Потом и говорит: давай, Чепурин, пиши заявление, пересмотрим твои выговоры. Сколько их у тебя накопилось? Три, кажется? Полный кавалер!.. Смеется: ну ничего, снимем… Будем, Чепурин, дальше двигать историю. Смотри, какой нам простор теперь дали… А да леший с ними, с выговорами! — Чепурин приподнялся с Анфискиных колен.— Мне бы еще пяток лет поработать. Охота посмотреть, как оно пойдет.
— Ты еще молодой, Паша. Вон как мы давеча поляну-то уложили.
— Это я перед тобой только… Петухом… Вот раны начали донимать. На пятый десяток уже перевалило… По годам посчитать — много, а если разобраться, то по-человечески еще и не жил. Ни в городе, ни в деревне…
Невидимая и сильная река бежала где-то под ними, в темной глубине русла. Десна полнилась множеством то тихих, едва уловимых, то вдруг шумных напряженных выплесков и, как живая, дышала в своей неутомимой работе терпкой речной испариной. По этим всплескам угадывалась ночная жизнь реки, можно было представить, как у глинистых твердолобо-упорных мысов струи закручивались тугими пружинами, то устремляясь в глубину сосущими воронками, то выбрасываясь наверх донной, гневно кипящей водой. И как потом усталая река отдыхала на чистых пологих песках, сама становясь чистой и спокойной, и как мирно перешептывалась она с дремавшими камышами и осоками.
Сквозь речную сырость с другого берега от стогов прорывался слабый предутренний ветерок, и тогда дурманно и хмельно пахло переломившимся летом.
— А мне ты все равно молодой…— прошептала Анфиска.— Не смотри ты на эту луну… Ну ее!..
Она рывком обняла Чепурина и страстно, голодно стала целовать, закрыв его лицо рассыпавшимися волосами…
6
На востоке робко, бескровно посветлело.
Проступили обвисшие под тяжестью росы, похожие на косматых старух древние уремные ракиты. Наплывшие под утро мышино-серые тучи уплотнились, закрыли луну, так и не успевшую осветлиться, и все, что теперь с ней делалось, происходило в незримом таинстве. Все вокруг было наполнено сосредоточенным раздумьем, будто природа, только что пережившая таинственную операцию над луной, теперь притихшая, томимая неизвестностью, ждала окончательного исхода. Даже камышевки не решались поднимать обычный утренний гам и, сторожко перепархивая в кустах, односложно посвистывали вполголоса.
Деляна, еще вчера полнившаяся пестрой кипенью цветов, неузнаваемо опустела и попросторнела, будто комната, из которой за ночь вынесли все. Скошенные травы к утру обессилели, приникли к земле и теперь в сером полусвете утра однообразно маячили туманно-сизыми валами.
— Пора нам…— сказала Анфиска.
Чепурин кивнул, но продолжал лежать.
Анфиска приподнялась и, охватив колени и положив на них голову, уставилась на одинокую былку морковника, случайно уцелевшую на середине поляны. Потом стала переплетать растрепавшуюся косу.
— Да…— что-то подытожил Чепурин и рывком встал на ноги.
Он молча сгреб копнушку, раструсил ее между валками, разобрал косы и отнес их к мотоциклу.
— Бери Витюшку, поедем,— сказал он, развернув и вытолкнув из травы мотоцикл.
— Нет, Паша,— потупилась Анфиска.— Поезжай один.
— А ты как же?
— Я сама.
— Ну что ты! Все лодки на той стороне.
— Тебе на паром надо…
— Ерунда… Старик болтать не станет.
— Нет, нет… не проси.
— Ну как же… Были, были и — я в одну сторону, ты — в другую…
— Такая наша доля…
— Ну, не надо так…— нахмурился Чепурин.— Не могу я тебя бросить.
— Это, Паша, не бросанье… Вот, если разлюбишь…
Анфиска потянулась к нему руками, обняла, прижалась всем теплым устало-ласковым телом и, откинув голову, заглянула в его глаза — доверчиво и открыто…
— Поезжай…
— Не поеду я один.— Чепурин нагнулся, поддел под Анфискины колени, поднял ее на руках.
— Не надо, Паша,— попросила Анфиска.— Послушайся. Не надо, чтоб нас с тобой видели. Понимаешь?
Чепурин поставил Анфиску на землю.
— Давай хоть Витюшку отвезу. Намучился парнишка…
Витька спал на охапке травы. Под накинутой на него телогрейкой он казался незаметной кочкой. Из-под насыревшей полы торчала только босая, искусанная комарами ножонка, покрасневшая от крепкой утренней свежести.
Анфиска и Чепурин присели перед ним на корточках.
— Крепко спит, косарь! — потеплел лицом Чепурин.
— Витя, сынок…— Анфиска потормошила его, приподняла сонного.
Растрепанный, с отпечатавшимися травинками на заспанно-округлой щеке, Витька, не открывая глаз, подгибал ноги и расслабленно опять оседал на траву.
— Вить, домой поедем…
— Как разоспался парень!
— С дядей Пашей. Знаешь дядю Пашу? Наш председатель.
Витька потер кулаками глаза, расклеивая пухлые губы:
— Зна-а-аю…
— Ну вот,— обрадовалась Анфиска.— С дядей Пашей и поедешь. На мотоцикле.
— Ла-адно…
Чепурин надел на него свой пиджак, плотно обернул полами, подпоясал ремнем и отнес в коляску. Анфиска глядела на то, как Чепурин возился с Витькой, и у нее радостно и влажно блестели глаза.
— Мам, а ты? — забеспокоился Витька.
— Я тут останусь…
— Почему, мам? Садись! Еще есть место… Анфиска нагнулась, поцеловала Витьку в растрепанные вихры.
— Глупый ты мой… Скажи бабушке, я скоро…
Чепурин, медля, завел мотоцикл и уже за рулем, взглянув на Анфиску, поймал ее взгляд, закрыл глаза и посидел так, с закрытыми глазами. Потом крутнул ручку газа, машина дернулась, нырнула под мокрые лозняки.
Анфиска постояла, послушала, как хрустели под колесами ветки, потом повернулась и пошла к берегу, машинально обломив по пути одиноко торчавшую былку морковника.
Внизу рассветно и холодно клубилась туманом Десна.
Анфиска в какой-то бесчувственной отрешенности спустилась с обрыва, разделась, завязала в узелок белье и неслышно погрузилась в воду.
Она плыла на боку, толчками порозовевшего плеча рассекая и буруня сумеречную гладь реки. Коса, соскочившая с приколок, змеисто извивалась на воде. Туман стлался над самой Анфискиной головой, задевая поднятый в руке узелок с платьем, он был плотен и непроницаем, как низко нависший потолок. Десна под ним казалась бездонной и отливала тусклой зеленоватой чернью. Анфиска плыла под туманом, не видя берегов, по одному течению угадывая путь. Но реки она не боялась, не думала ни о ее ширине, ни о темных глубинах.
Она плыла, стараясь не плескаться, прислушиваясь. Под нависшим сводом туманного курева стояла глухая мертвая тишина. Было только слышно, как бежала мимо нее, чуть позванивая, сонная вода и как низко, с шелковым шорохом пролетала какая-то птица.
И вдруг где-то на середине туман розово вспыхнул, и светло и радостно просияла вода. Анфиска догадалась: взошло солнце. Она даже остановилась, перестала грести. Ее сносило вниз по течению, но она все ждала, настороженно вслушиваясь, стараясь за всплесками воды разобрать еще что-то такое, что ей так хотелось.
Сквозь оживший под солнцем туман, откуда-то из-за облачной дали, пробился едва уловимый гул мотоцикла.
Сердце ее толкнулось, забилось часто, настойчиво. И она поплыла, полнясь тихой нежностью и надеждой.
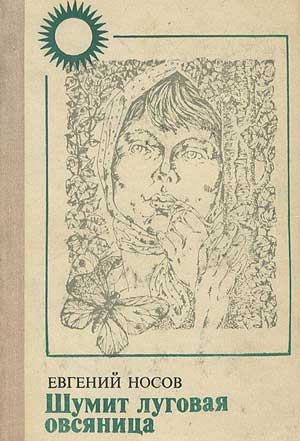
Комментировать