Богомольные выходы Византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя
Содержание
От редакции Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя Глава I. Средневековый Константинополь и Средняя улица в нем Глава II. Евдом Глава III. Выходы в храм Халкопратийский Глава IV. Богомольные выходы и выезды в храм св. Апостолов
От редакции
«Если бы после Д.Ф. Беляева остались только две книги его «Byzantina», то и этого наследия было бы с избытком достаточно для того, чтобы признать его заслуги для византиноведения незабвенными». Так писал я в некрологе покойного, помещенном в VIII т. «Византийского Временника», не зная в то время, что Д.Ф. Беляевым, еще до постигшей его тяжелой болезни, составлена была отчасти и III книга «Byzantina». Рукопись этой III книги доставлена была, после смерти Д.Ф. Беляева († 10 марта 1901 г.), в Императорское Русское Археологическое Общество Ю.А. Кулаковским с предложением напечатать его в «Записках» Общества. Редакция «Записок», в которых помещены были две первые книги «Byzantina» (Новая серия, тт. V и VI), разумеется, с большою благодарностью приняла предложение Ю.А. Кулаковского.
На обертке, в которой доставлена была рукопись III книги «Byzantina», Д.Ф. Беляевым помечено «Казань, 1892–»1 Ясно, покойный предполагал не ограничиться четырьмя теми главами, которые теперь напечатаны; это видно и из содержания особенно последних двух глав, где имеются указания на дальнейшие предположения автора, к сожалению, оставшиеся невыполненными. Ясно также и то, что четыре главы, входящие в состав III книги «Byzantina», не были окончательно проредактированы автором. На полях рукописи сохранились заметки Д.Ф. Беляева, сделанные карандашом, из которых следует, что в некоторых местах автор предполагал кое-что дополнить; а, быть может, кое-что и изменить. Все же и в том виде, в каком оставлены были Д.Ф. Беляевым эти четыре главы III книги «Byzantina», оказалось вполне возможным их напечатать и украсить, таким образом, этим наследием покойного члена Общества «Записки» последнего.
Те незначительные дополнения и изменения исключительно редакционного характера, которые пришлось сделать, отмечены [ ]. Во всем остальном рукопись печаталась без изменений, в том виде, в каком она сохранилась. На некоторые из рисунков, иллюстрирующих текст, имеются указания и в рукописи Д.Ф. Беляева; другие рисунки, равно как и план Константинополя Буондельмонте, воспроизведенный на табл. I и II по книге Mordtmann’a2, присоединены по указанию Я.И. Смирнова, щедро помогавшего мне при редакции и корректуре.
Приложенный портрет Д.Ф. Беляева исполнен по фотографическому снимку, любезно доставленному мне вдовою покойного 3.В. Беляевой.
Август 1906. С. Жебелев
Богомольные выходы византийских царей в городские и пригородные храмы Константинополя
Глава I. Средневековый Константинополь и Средняя улица в нем
История Константинополя начинается со времени основания мегарскими выходцами греческой колонии Византии (Βυζάντιον) в 658 году, названной так по имени ее мифического основателя Византа (Βύζας)3. Без всякого сомнения, туземные поселения были здесь гораздо раньше, так как трудно допустить, чтобы такое превосходное и удобное для поселения место так долго оставалось без всякого населения и нужно было специальное указание на его удобства Дельфийского оракула для того, чтобы привлечь туда первых поселенцев. Но история не знает этих древнейших обитателей Золотого Рога, которым, по всей вероятности, Византия обязана и своим названием, и мегарские колонисты являются, таким образом, первыми историческими обитателями и основателями города, которому суждено было превратиться со временем в столицу Римской империи и играть в истории выдающуюся, первенствующую роль.
Маленькая греческая колония, благодаря чрезвычайно выгодному торговому положению, плодородию окружающей страны и необыкновенному обилию рыбы в омывающих ее водах, быстро начала разрастаться, богатеть и увеличиваться новыми переселенцами, хотя и должна была долго вести упорную борьбу с окружающим туземным населением. Находясь на перепутье между Средиземным и Черным морями, между Европою и Азией, и занимая такой пункт, из которого всегда можно и удобно было отрезать путь идущим из Азии в Европу, из Черного моря в Средиземное, Византия, естественно, привлекала к себе внимание всех народов и государств, искавших преобладания и господства в восточной части Средиземного моря и в прилегавших к нему областях. Сильные государства, получавшие преобладания в этой области Средиземного моря, для укрепления своего могущества и для упрочения своего преобладания, всегда стремились иметь на своей стороне, а если оказывалось возможным, то и в своей власти, Византию, как ключ от коммерческих и военных путей. Потому, когда в Малой Азии и прилегающих к ней морях утвердили свое господство персы, Византия подпала под власть персов и принуждена была пустить в свои стены персидский гарнизон. После разбития персидского флота при Саламине, когда преобладание персидского государства в Средиземном море было сломлено, в Византии был собран победоносный греческий флот, и, с образованием морского союза ионийских городов, Византия сделалась членом этого союза и оставалась им до Пелопоннесской войны, во время которой Византия переходила во власть того, кто преобладал на море, и была сначала союзницею афинян, а потом спартанцев.
С восстановлением афинского могущества на море и образованием морского союза, Византия опять вошла в состав афинской симмахии (394) и оставалась ее членом до Союзнической войны, когда, благодаря раздорам с афинянами из-за провозной пошлины (διαγώγιον) с проходящих через Босфор товаров, Византия восстала против Афин в союзе с Родосом, Хиосом и Косом и, по мирному договору 355 г., добилась полной независимости, сделавшись самостоятельною второстепенною морскою силою, благодаря своему выгодному географическому положению и значительному флоту. С этого времени, все усиливаясь и возрастая, несмотря на временные неудачи и несчастия, Византия удачно лавировала между вновь возникавшими вокруг нее политическими силами и сохранила свою независимость во время македонского владычества до распространения римского владычества в восточной части Средиземного моря.
С появлением римлян на этой сцене, Византия очень удачно приняла сторону этой новой всепокоряющей силы и, благодаря своей прозорливости, оставаясь верной союзницей римлян, сумела сохранить свою автономию и во время римского владычества. В состав Римской империи Византия вошла в качестве civitas libera, наравне с другими самостоятельными городами; но и в этот период, когда возгорались междоусобные войны между несколькими претендентами на императорский престол, Византии приходилось лавировать между борющимися силами и при неудаче стороны, на которой была Византия, сильно страдать от победителя. В таком положении оказалась Византия при Септимии Севере. Приняв сторону его противника, Песценния Нигра, Византия была осаждена Септимием Севером и так упорно защищалась, при помощи своих крепких стен, что войска римского императора должны были целых три года держать в осаде этот крепкий и стойкий город, который вынужден был к сдаче не силою римского оружия, а голодом. За это упрямое сопротивление Византия была жестоко наказана раздраженным победителем: город был не только лишен своей относительной свободы и самостоятельности, но и почти весь разрушен и отдан со всеми своими владениями во власть Перинфа-Ираклии (теперь Эски-Эрегли). От этого страшного погрома Византия оправилась нескоро, хотя римский владыка, в гневе чуть не уничтоживший город, скоро сам понял, что Византия с своими крепкими стенами нужна была и для Римской империи, как оплот против азиатских и европейских варваров, и потому сам начал восстанавливать ее стены и общественные здания, в том числе ипподром, переименовав восстановленный город в Antonina Byzantiorum Augusta. При сыне Септимия Севера, Антонине Каракалле, Византии возвращены были политические права, хотя и не все, и восстановленный город опять начал возрастать и оправляться от погрома. Это было тем более кстати, что скоро начались частые нападения варваров на Византию и открылся длинный ряд попыток овладеть важным городом; попытки эти продолжались после превращения Византии в столицу Римской империи и окончились завоеванием города турками.
Превращению в столицу, как известно, предшествовала осада Византии Константином Великим, который, после победы при Адрианополе, осадил в Византии бежавшего и укрывшегося здесь своего последнего соперника Лициния. Происшедшее во время этой осады поражение войск Лициния войсками Константина при Хрисополе, на азиатском берегу Босфора, почти против Византии, положило конец осаде: как Халкидон, так и Византия открыли свои ворота Константину, а Лициний бежал в Никомидию, откуда через свою жену Констанцию, сестру Константина, просил о даровании ему жизни (сентябрь 324). Константин Великий, сделавшись после низвержения Лициния, единодержавным владыкою Римской империи, довольно долго оставался в Византии и отсюда наблюдал за ходом дел на Никейском соборе и, только после его закрытия, отправился в Рим для торжественного празднования двадцатилетия своего царствования (ѵiсеnnаliа). Это последнее пребывание в Риме победоносного императора продолжалось около трех месяцев, в течение которых Константин убедился, что старый Рим не может быть его резиденцией, что для новых порядков и нового строя жизни, которые замышлял Константин, нужна новая столица, новый Рим.
Как известно, свою молодость Константин, volens nolens, провел на востоке и хорошо изучил восточную половину империи. Хорошо знал он и восточных врагов империи, в войне с которыми он прошел строгую, но в высшей степени полезную для него военную практическую школу. Она выработала из него победоносного полководца и дальновидного политика, который лучше, нежели кто другой, мог оценить стратегическое и политическое положение известного пункта, известного города, и выбрать место для Нового Рима, долженствовавшего если не заменить, то соперничать со старым Римом, и в то же время быть оплотом восточной половины империи против азиатских и европейских варваров, напиравших на восточные окраины громадной империи с севера и юга. От зоркого ока дальновидного политика и полководца не могло ускользнуть несравненное превосходство местоположения Византии в военном, административном и коммерческом отношениях. Никакой другой пункт хорошо знакомого Константину римского востока не соединял так много удобств и выгод, как Византия, с преимуществами которой император близко познакомился во время осады этого города и после неё и которые во время долгого пребывания в Византии перед последней поездкой в Рим он имел время зрело обсудить и сравнить с удобствами и недостатками других пунктов и городов восточного побережья Средиземного моря, давно сделавшегося внутренним римским морем.
Весьма возможно, что Константин, желая проверить правильность своих соображений, сообщал свои мнения относительно других пунктов и городов своим ближайшим друзьям и советникам и вместе с ними обсуждал сравнительные удобства и выгоды разных городов, что и могло послужить основанием для позднее возникших сказаний о колебаниях Константина и божественном указании, решившем судьбу Византии. Подобные сказания существовали в древности относительно почти всех знаменитых городов, и такой славный в истории Европы и Азии город, как Византия-Константинополь, не мог не вызвать таких сказаний, тем более, что его славная судьба тесно связана с торжеством христианства и превращением языческой империи в христианскую. Новый Рим сделался столицею как бы новой, христианской, империи, а исторический факт такой громадной важности, естественно, совершился не без воли Божества новой религии.
Решившись превратить Византию в Новый Рим, Константин Великий навсегда расстался со старым Римом и, возвратившись в Византию, в 326 [или 328] г. приступил к перестройке сравнительно небольшого провинциального города в столицу всемирной империи, громадные ресурсы которой позволяли римскому владыке исполнить это колоссальное предприятие очень скоро. Через четыре [или два] года, 11-го мая 330 года, Константин уже мог совершить освящение (ἐγκαίνια) новой столицы, так что сам строитель еще мог несколько лет наслаждаться плодом рук своих и жить в новой столице, которая сначала называлась Nova Roma – Новым Римом, а потом, по имени основателя, стала называться Константинополем (Κωνσταντινούπολις, Constantinopolis). День рождения (γενέθλια) или освящения новой христианской столицы римской империи церковь внесла в число своих радостных праздников, и память этого важного исторического события ежегодно праздновалась торжественным крестным ходом из храма св. Софии на фор (forum) Константина.
В настоящее время, при огромной массе центральных управлений и учреждений в более или менее обширном и могущественном государстве, превращение провинциального города в столицу потребовало бы гораздо больше времени и денег, чем тогда, во времена Константина Великого, но и ему необходимо было сделать очень много, и, очевидно, только при его необыкновенной настойчивости и неограниченных средствах, которыми он располагал, возможно было такое быстрое превращение Византии в Новый Рим.
Прежде всего необходимо было расширить город, т.е. обнести его новыми, гораздо более обширными стенами, чтобы можно было в их пределах построить не только многочисленные общественные и правительственные здания и дворцы, но и дать достаточно места для частных построек ожидавшегося многочисленного населения чиновного, военного, промышленного и торгового.
Хотя Византия была сравнительно с провинциальными городами очень важным, значительным и большим городом, но для той великой роли, которая ей предназначалась, она была очень мала и впоследствии, когда Новый Рим достиг своего полного роста, старая Византия составляла сравнительно небольшую, хоть и важную часть Константинополя.
Принимая во внимание постоянные опасения колонистов и желание по возможности оградить и обеспечить себя от нападений с суши и с моря, можно думать, что греки заняли такой пункт, который, находясь у самого моря и хорошей гавани, в то же время представлял все удобства для укрепления с суши и ограждения от набегов и грабежей варварских соседей-туземцев. Такой пункт представлял собою мыс, выступающий в море при устье Золотого Рога и соответствующий более или менее I холму, на котором теперь находятся Старый Сарай (дворец) и св. София.
Теперь этот холм не представляет тех удобств, которые он имел прежде, для отделения и укрепления стеною от прилегающих к нему местностей; но и до сих пор еще сохранились следы того, что между I холмом и II проходила довольно глубокая долина, к которой I холм спускался гораздо круче, чем ко II, где был Forum Constantini. Крутой спуск в эту долину, доходившую до спуска к Мраморному морю, доставлял большие удобства для постройки на его гребне стен. Судя по очертанию местности в древнейшем ее виде, насколько можно восстановить его, можно думать, что древнейшие византийские стены с западной стороны проходили приблизительно там, где были потом стены Большого дворца, обращенные к Ипподрому, затем пересекали Большую улицу в ее начале, где был впоследствии Милий, т.е. первый милевой столб, и, пройдя по западной стороне двора (atrium) св. Софии, поворачивали направо, к Золотому Рогу, к которому они, вероятно, примыкали южнее теперешнего Галатского моста т.е., ближе к устью4. Хотя теперь, после бесчисленных построек и перестроек в окрестностях древних византийских стен, овраг, отделявший I холм от II, не только завален, но на юг от св. Софии совершенно сравнен, тем не менее и теперь еще можно наблюдать на запад от св. Софии, за полотном конножелезной дороги, для которой была срыта западная часть двора св. Софии, очень значительное углубление почвы, широкую яму, окруженную засыпанными развалинами. Это углубление, вероятно, шло через весь ипподром и кончалось в конце его глубоким выходом к низменному берегу моря, как видно из высокой массивной субструкции, на которой теперь стоит музей янычар, занимающий место прежнего полукружия ипподрома. Провести точную линию древнейших византийских стен, несмотря на указания некоторых поздних византийских писателей, [едва ли возможно]. Только раскопки, случайные или нарочитые, могут дать вполне точные и несомненные указания относительно линии древних, собственно византийских, стен, а пока приходится ограничиться тем общим положением, что стены древней, дохристианской, Византии обнимали только первый холм и ограждали его с суши и с моря, причем морские стены были ниже и слабее сухопутных, прочность и необыкновенная крепость которых вызывала удивление пытавшихся их разрушить: стойкость и храбрость обитателей заставляла иногда даже колоссальные силы Римской империи со всеми ее громадными средствами и военным искусством отчаиваться в возможности взять их силою и переходить к продолжительной и утомительной осаде, чтобы голодом принудить стойких защитников неприступных стен сдать их добровольно. Крепость стен и храбрость жителей испытал и сам Константин Великий.
Превращая этот маленький, хотя и крепкий, городок в столицу всемирной империи, Константин мог, конечно, предвидеть, что Новый Рим будет гораздо обширнее греческой Византии, и окружил новыми стенами такое пространство, которое, по его мнению, достаточно было для населения столицы: в несколько раз это пространство превосходило старый город и, как Старый Рим, заключало в себе 7 холмов. Точно определить границы константиновского Нового Рима мы так же не можем, как и древней Византии, так как современные историки не определяют точно линии стен Константина, и мы знаем о направлении их и точках соприкосновения с морем по известиям того же компилятора, который говорит о стенах древней Византии. По его сведениям, город Константина был хотя и значительно меньше позднейшего, тем не менее он был очень обширен, и позднейшим поколениям нужно было прибавить гораздо меньше, чем прибавил Константин к старой Византии. По свидетельству Анонима-Кодина, сухопутная стена, начинаясь на берегу Мраморного моря возле храма пресв. Богородицы Жезла, шла через Троадовский портик до Эксакиония и, пройдя около некоторых позднейших монастырей и квартал Вона на севере, поворачивала к Золотому Рогу, которого достигала около храма св. Антония и моста того же имени. По Мраморному морю и Золотому Рогу Константин продолжил византийские стены и довел их до новых сухопутных. Применительно к настоящей топографии Константинополя, стены на берегу Мраморного моря начинались там, где теперь квартал Эт-емез, и, направляясь отсюда к северу, достигали Большой улицы (Средней) в том пункте, где теперь Иса-капу и где были Золотые ворота Константиновских стен, которые отсюда шли мимо (на восток) Чукур-Бостапа (цистерна св. Мокия) в долину речки Лика; поворачивая к востоку от Лика, стены проходили несколько севернее мечети султана Мехмета, стоящей на месте храма св. Апостолов, и несколько южнее мечети султана Селима спускались к Золотому Рогу, к которому подходили и примыкали к морской стене около второго моста через Золотой Рог. Само собою разумеется, что линия стены зависела много от очертания местности и стратегических соображений строителя.
За стеною были расположены лагери и квартиры гарнизона, когорты которого дали цифровые названия позднейшим кварталам, образовавшимся за стенами Константинова города. Из этих названий очень часто упоминаются кварталы: Второй (Δεύτερον), Третий (Τρίτον), Пятый (Πέμπτον), напоминающие собою роты Измайловского полка, давшие имена соответствующим кварталам Петербурга.
Хотя Константину Великому впоследствии приписывали многие постройки, которые воздвигнуты были его преемниками, тем не менее несомненно, что Константин старался возможно роскошнее обстроить и украсить свою новую столицу и употребил для этого богатые средства и неограниченное могущество властителя всемирной империи. Благодаря власти и богатству, Константин мог не только построить множество замечательных общественных и частных зданий, но и украсить свой город, Новый Рим, многочисленными художественными произведениями, которыми изобиловал древний мир, и которые римский владыка мог брать беспрепятственно для украшения новой столицы. Масса чиновного и промышленного люда со всех концов обширной империи устремилась на зов императора в новую резиденцию, которая была разделена на регионы и получила организацию и управление, подобные существовавшим в древнем Риме. Во главе городского управления стояли, как и в старом Риме, свои praefecti urbi, в обязанности которых было не только смотреть за порядком, но и заботиться о благоустройстве Нового Рима и его безопасности от внешних врагов.
Несмотря на большое пространство, обнесенное стенами, город Константина скоро был заселен; даже за его стенами, в местах расположения гарнизонных когорт, образовались сплошные кварталы. Через сто лет слишком эти загородные поселения стали настолько важны и многочисленны, что при Феодосии II Младшем потребовались новые стены, которые и были воздвигнуты тогдашними префектами Анфемием и Киром-Константином. Дальше этих стен город не пошел и, за исключением северной, Влахернской, части, остался в тех пределах, которые получил при Феодосии II. Те стены, которые построены были вышеназванными префектами, с разными починками и поправками защищали город тысячу лет, и не мало врагов должны были обратиться вспять пред этою твердынею. Старых средневековых средств было недостаточно для взятия и форсирования этих крепких стен. Только новое орудие, порох и пушки, могли разбить эту твердыню и проложить путь в город. Но [и] при новом орудии потребны были целые полчища против небольшой горсти защитников, чтобы взять силою этот оплот восточно-римской империи, потерявшей все, кроме этого оплота. Простояв тысячу лет, до взятия Константинополя турками, Феодосиевы стены, редко поправляемые, но чаще разрушаемые, стоят и теперь, как неопровержимый и наглядный памятник былого величия, как историческое украшение многострадального города (рис. 1 и 2).
Сравнительно недавно местное ученое общество занялось изучением сухопутных стен и составило обстоятельную карту их с указанием тех названий, которые приурочиваются к разным частям этих стен. Еще раньше изучал эти стены во всех подробностях покойный Паспати, изложивший результаты своих исследований в особом труде, с которым русскую публику познакомил покойный Г.С. Дестунис5.
По этим исследованиям, основанным на детальном изучении сохранившихся стен и средневековых свидетельств о них, стены, построенные при Феодосии Младшем, простирались от Мраморного моря до Золотого Рога и соединялись с приморскою стеною по Золотому Рогу несколько южнее Влахернского квартала, который при Феодосии не был включен в пределы стен, а составлял загородный квартал и вошел в пределы города при императоре Ираклии. Чтобы огородить стеною этот квартал с знаменитым храмом в нем, Ираклий обвел его особою стеною, которая, по имени этого царя, называется Ираклиевою, в отличие от Феодосиевой.
Феодосиевская стена на всем своем протяжении, от Мраморного моря до Золотого Рога, имела в длину около 7 верст (6.806 метров), а после постройки Ираклиевой стены около 5 верст (4.950 метров). С позднейшими добавками и усовершенствованиями, как можно видеть до сих пор, Феодосиевские укрепления состояли из двойного ряда стен и рва: первая, внутренняя, стена гораздо выше второй, наружной, и отделяется от неё промежуточным пространством около 9 сажен шириною, которое значительно выше уровня земли за стеною внутри города и за малою стеною вне города. Это так называемый перивол (περίβολος). За этим периволом, параллельно внутренней стене, идет вторая, малая или внешняя, стена, отделенная от рва (τάφρος) пространством около 17 метров, которое значительно ниже перивола, но выше почвы за рвом. Ров, шириною около 10 сажен (19–21 метр), тянется параллельно стенам, от Мраморного моря до Ираклиевой стены, и разделен на несколько частей поперечными перегородками (διαταφρίσματα у Паспати, διαφράγματα на археологической карте), которые, начинаясь внизу рва довольно широким основанием, суживаются кверху настолько, что по ним можно пройти одному с трудом. Ров обложен как с внутренней, так и внешней стороны каменными стенками, которые с внешней стороны доходят до прилегающей к нему почвы, а с внутренней гораздо выше, как и прилегающая к ней почва, и снабжены были бойницами. Это – escarpe (τὸ ἔσω πτερόν) и contre-escarpe (τὸ ἔξω πτερόν). Какая была глубина рва, теперь не видно, потому что ров завален мусором и землею, так что местами, где имеется по близости вода для поливки, в нем разведены сады и огороды; но все-таки он везде ниже прилегающей к нему почвы.
Полагают, что перемычки во рве сделаны были для того, чтобы задерживать ими воду, которою наполнялся ров и которая без этих преград, благодаря разности уровня рва, стала бы стекать, так как долина, по которой идет ров, представляет значительные уклоны на протяжении степ. Всех преград или перемычек во рву теперь насчитывают до 18, а прежде, быть может, их было и больше. Кроме этой цели перемычки служили для водопроводов, и по трубам, проложенным в верхних частях перемычек, протекала в город вода из загородных источников, которая, в случае надобности, могла служить и для наполнения рвов. Таким образом Феодосиевские стены или укрепления представляли для неприятеля четыре преграды: большая стена, малая стена, эскарп и ров, с крутыми отвесными стенками.
Кроме тех препятствий для неприятеля, которые представляли стены и ров, большая и малая стена укреплены были многочисленными башнями, с которых можно было обстреливать междустенные и застенные пространства. Большая стена на расстоянии около 24 сажен снабжена башнями, которых было до 120, а малая имела около 70, которые приходились приблизительно в средине между башнями большой стены, так что пространство между башнями не превышало 12 сажен и, в случае надобности, могло быть в достаточной степени защищаемо и обстреливаемо с башен большой и малой стен. Но, находясь возле стен и примыкая к ним, башни, однако же, не составляли одной постройки со стенами, а представляли собой самостоятельные здания. Потому падение башен не влекло за собою разрушения стен и наоборот: обрушившаяся стена не влекла за собою падения башни, стоящей возле обвалившейся стены. Башни служили местом пребывания сторожевых постов и защитников стен во время осады, тем более, что вершины стен не представляли удобного места для стоянки воинов, особенно внутренняя, большая стена, которая вверху хотя и была толщиною в 2½ метра, но из них 1 метр занимали бойницы, так что для людей, стоявших за бойницами, на стене оставалось 1½ метра неогороженного со стороны города пространства, при высоте стен в 20–10 метров. Хотя в случае надобности можно было действовать и с этой площадки, но нахождение на ней и особенно передвижения сопряжены были с большой опасностью, так как с неё легко можно было упасть в город и разбиться до смерти. В этом отношении гораздо больше удобств для защитников стен представляла внешняя, малая стена, которая со стороны перивола, т.е. междустения, возвышалась только метра на 3 и снабжена была входными лестницами, между тем как на внутреннюю стену из города лестниц нет и на нее нужно было, по-видимому, входить через башни или по наружным приставным лестницам. Башни как внутренней, так и внешней стены имеют различную форму; одни из них круглые, другие четырёхугольные, а есть и восьмиугольные, как видно из прилагаемых рисунков. Паспати измерял их окружность и вместимость и полагал, что каждая башня большой стены при внутренней площади в 70 кв. метров могла вместить до 60 человек, между тем как несравненно меньшие башни внешней стены могли вмещать только 5–6 человек. Как те, так и другие башни снабжены были, как и стены, бойницами, из-за которых и стреляли стоявшие на башнях, покрытых вверху сводами, составлявшими пол башен. Толщина башенных стен была от 1/2 до 2 метров, а наружный фасад башен большой стены от 10 до 12 метров ширины; следовательно, башни представляют собою весьма прочные и устойчивые здания, способные противостоять не только неприятельским ударам, но и не особенно сильным землетрясениям, благодаря чему большая часть из них величаво высятся и до сих пор, хотя и покрыты растительностью.
После постройки стен при Феодосии II за их северным концом, упиравшимся в приморские стены Золотого Рога, в скором времени возник весьма важный городской квартал Влахерны (Βλαχέρναι), в котором уже при преемниках Феодосия II, Маркиане и Пульхерии, строится дворец и возникает знаменитый впоследствии храм Влахернской Богоматери, куда благочестивая царица помещает одну из самых драгоценных и высокочтимых святынь Цареграда – ризы Богоматери и где находился целебный и священный источник (ἁγίασμα). В следующие десятилетия квартал этот все разрастался и сделался одним из важнейших участков Константинополя, так что через 1½ столетия после постройки Феодосиевских стен император Ираклий счел нужным обнести его стеною и таким образом оградить этот драгоценный квартал от разграбления и опустошения варваров, грозивших и действительно подходивших к столице. Так возникла стоящая и до сих Ираклиева стена (τὸ Ἡράκλειον τεῖχος).
Направо от Адрианопольских ворот, если идти к ним из города, где стены Феодосия идут к востоку, стоят развалины загадочного дворца, так называемого Текфур Сарая, занимающего один из самых возвышенных пунктов Константинополя и упирающегося одним своим концом в малую стену Феодосия, так что второй этаж этого дворца высится над этою стеною и окна дворца открывают вид на поля, леса и долины за городом. Не доходя несколько шагов до этого дворца, большая стена вдруг прерывается и посредством поперечной стены соединяется с малою под прямым углом. Эта поперечная стена закрывает собою доступ из города в перивол и, наоборот, из перивола в город. За Текфур Сараем далее к Золотому Рогу прерывается вдруг и малая Феодосиева стена и под прямым углом к ней стоит гораздо более высокая и толстая (3,70 метр.) Ираклиева стена, которая сначала идет на север, а через несколько сажен поворачивает на восток к Золотому Рогу, обхватывая собою Влахернский квартал. Ираклиева стена, превосходя значительно Феодосиеву стену, даже большую или внутреннюю, своею высотою и толщиною, отличается тем, что пред нею нет ни другой стены, за исключением Львовой, ни рва, почему Ираклиева стена уже в средние века называлась μονότειχος, одностенок. Так как за стеною местность неровная и частью овражистая, то рва, быть может, и нельзя было провести; но зато стена, кроме своей высоты и толщины, охранялась огромными массивными башнями, которых насчитывается до 20 и которые и теперь стоят в своем грозном величии и поражают своею солидностью и прочностью, которой не могли преодолеть даже землетрясения, а враги даже и не пытались одолеть эту твердыню, охранявшую не только город, но и царский дворец с его сокровищами и святынями. Со стен и башен открывается великолепный вид на холмистую, поросшую лесом местность, окружающую конец Золотого Рога, около которого был и есть загородный квартал.
В первой четверти IX в. Лев Армянин, отец царя Феофила, перед частью Ираклиевой стены, в том ее конце, который подходит к Золотому Рогу, построил другую меньшую стену длиною около 50 сажень (100 метров). Эта стена, по имени строителя, называется Львовскою стеною (Λεόντιον τεῖχος).
Таким образом сухопутные укрепления Константинополя слагаются из Феодосиевых, Ираклиевой и Львовской стен. Морские стены, в свою очередь, по мере расширения города, удлинялись как по Мраморному морю, так и по Золотому Рогу, до соединения с новою городскою стеною, но они никогда не были двойными и такими крепкими, как сухопутные, потому что византийцы не столько боялись и подвергались нападениям с моря, сколько с суши. Второю морскою стеною им служил флот, долгое время не имевший соперников.
Как приморские, так и сухопутные стены от времени и землетрясений подверглись разрушению и требовали исправления. Как видно из надписей на каменных плитах, вделанных в стенах, их особенно много исправляли первый и последний цари-иконоборцы.
Как морские, так и сухопутные стены Константинополя, закрывавшие город со всех сторон, пробиты были воротами, через которые жители имели выход к морю и на долину, примыкавшую к северо-западным сухопутным стенам. Не считая нужным для наших целей заниматься воротами в морских стенах, мы остановим внимание читателей на некоторых, немногих, воротах сухопутных стен Феодосиевских, которые представляли собою главные выходы и, замыкая наиболее важные и многолюдные артерии города, вели к главным загородным дорогам, тем более, что с этими воротами и ведущими к ним центральными улицами нам придется встретиться при изложении тех церковных церемоний, которые составляют предмет настоящей книги. К тому же и сведения наши относительно улиц средневекового Цареграда очень и очень ограниченны, так что Морд- манн в своем последнем плане счел возможным обозначить только две улицы: так называемую Среднюю или Большую улицу и Адрианопольскую, т.е. ту, которая вела к Золотым воротам, и ту, которая вела к теперешним Адрианопольским, составляющим и теперь предмет спора относительно средневекового названия своего. Но и относительно Золотых ворот, столь прославленных в средние века, не все обстоит благополучно: и относительно их имеются некоторые сомнения и разногласия, которые затронуты покойным Г.С. Дестунисом, но не разрешены окончательно, а частью даже увеличены. Кроме тех отступлений и противоречий, которые высказаны были относительно Золотых ворот Скарлатом Византием и Детьером и которые опровергает Г.С. Дестунис, покойный наш византолог допускает существование Золотых ворот на самом берегу моря, у пристани, называемой теперь Ташискелеси, кроме общеизвестных Золотых ворот в Феодосиевой стене.
Поводом к появлению этих новых Золотых ворот послужило, сообщение о въезде в столицу Никифора Фоки, находящееся в Придворном уставе Константина Багрянородного (I, 90). Провозглашенный царем во время похода, Никифор Фока 16 августа 963 года делал триумфальный въезд в Цареград для коронования и освящения своего узурпаторства и для этого переехал из загородного дворца Иерии (Ἰέρεια), лежавшего против Константинополя на азиатском берегу, ранним утром в царской лодке (дромоне), переехал на европейский берег и высадился у Золотых ворот (προσέβαλεν ἐν τῇ χρυσῇ πόρτῃ I, р. 438 Bonn.). Встреченный здесь всем городом со свечами и фимиамом, Никифор вышел из лодки и верхом на коне поехал пред стеною (διὰ τοῦ ἔξω παρατειχίου) и, доехав до мощеной дороги, повернул (διὰ τῆς πλακωτῆς στραφείς) по ней в монастырь Богородицы Абрамитов. Помолившись здесь и облачившись в касторовый скарамангий, Никифор снова сел верхом на коня и въехал в большие Золотые ворота (ἦλθεν εἰς τὴν μεγάλην χρυσῆν πόρταν), где, остановившись на лошади верхом, слушал приветствия и славословия димов Ипподрома.
Едва ли можно сомневаться, что в этом случае покойный византолог наш ошибался, предположив существование каких-то Золотых ворот у самой пристани. Упоминание Золотых ворот при обозначении пристани, в которой Никифор Фока пристал к европейскому берегу, нужно было для отличия этой пристани от других пристаней как в городе, так и вне его, по европейскому берегу Мраморного моря, так как цари, переезжавшие из Иерии на европейский берег, далеко не всегда причаливали у пристани, находившейся за стеною близ Золотых ворот. Так, напр., Василий Македонянин в таком же случае переехал прямо в Евдом, следовательно, гораздо западнее Константинополя и его Золотых ворот, а Феофил, напротив, пристал к европейскому берегу у св. Маманта, а оттуда переехал Золотой рог около Влахерн и затем за стеною верхом проехал к Золотым воротам6.
Та пристань, которая в обряде въезда Никифора Фоки обозначается Золотыми воротами, в другом обряде, в котором описывается выезд царя в Вознесение в храм Богородицы Источника из Большого дворца, обозначается врахиолием Золотых ворот7. Как здесь упоминание Золотых ворот не значит, что на пристани стояли Золотые ворота, так и в обряде въезда Никифора, на основании упоминания Золотых ворот, нельзя заключать о существования их у самой пристани. Упоминание далее опять больших Золотых ворот (μεγάλη Χρυσῆ πόρτα) указывает не на другие какие-нибудь ворота, отличные от первых, а показывает только, что царь въезжал в большое среднее отверстие, а не в меньшее боковое. Это отмечается и в других вышеприведенных обрядах, а в одном отмечено, что большие ворота были открыты для въезда царя, между тем в обыкновенное время они были закрыты, и простые смертные ходили и ездили через боковые малые ворота8.
Так как недалеко от Золотых ворот находились ворота и дорога, ведшие из города к храму Богородицы Источника (τῶν Πηγῶν), и ехавшие к этому храму по морю высаживались в пристани у Золотых ворот, то пристань эта называется иногда пристанью источников (ἀποβάθρα τῶν Πηγῶν) и под этим названием значится на карте археологического общества, причем о Золотых воротах у самой пристани нет и не могло быть речи, потому что Золотые ворота были одни, несмотря на убеждение покойного Г.С. Дестуниса, что «существовали в Константинополе двоякие Золотые ворота»9.
Прежде покойного нашего византолога предполагал в Константинополе двое Золотых ворот Детье, который почему-то настоящие и до сих пор существующие Золотые ворота считает малыми, а истинными Золотыми воротами те, которые стояли вблизи Сулу-монастыря10. Хотя это категорическое, но ничем не подкрепленное заявление Детье покойный Г.С. Дестунис считал совершенно неосновательным, тем не менее в новейшем труде по топографии Константинополя, принадлежащем первостепенному знатоку Константинополя, д-ру Мордтманну, эта мысль с видоизменением является снова и, как у Детье, воспроизводится на плане, приложенном к очерку Константинополя11. К счастью, д-р Мордтманн приводит и основания, которые заставили его последовать мнению Детье. По словам почтенного исследователя Константинополя, в известной Noticia Золотые ворота не совпадают с Золотыми воротами Феодосиевых стен, но с воротами, обозначенными на плане Буондельмонте под именем Porta antiquissima Pulchra. Но, на мой взгляд, Noticia, которая упоминает только Porta aurea в 12 регионе, не давая ни малейшего указания на место нахождения, не дает никаких оснований допускать существование других Золотых ворот, кроме существующих со времен Феодосия Великого, а малые Золотые ворота явились у Детье, очевидно, по той причине, что у византийских писателей, когда говорится о триумфальном въезде царя, отмечается, что он въехал в большие Золотые ворота, а не в малые; но это вовсе не значит, что эти малые ворота стояли в другом месте, а значит только, что цари при торжественных въездах ехали через большие ворота, средние, а не боковые, малые, которые обыкновенно были открыты для всех смертных. Д-р Мордтманн и его предшественник Детье упустили из виду, что царь и в церковь входил в средние, большие (μεγάλη), двери, а не в боковые, меньшие, предназначенные для публики и всегда открытые. Это обозначается и в обрядах церковных выходов, но из этого однако же никто не станет заключать, что малые двери находятся в каком-нибудь другом месте, а не рядом с большими, средними или красными (ὡραῖα πύλη).
Упуская из внимания это совместное нахождение больших и малых Золотых ворот, Детье и Мордтманн стали искать их в других местах и нашли на плане позднейшего путешественника какие-то «весьма древние красивые ворота», но почему эти красивые ворота нужно считать большими, а не всем известные Феодосиевские, этого они не объясняют и едва ли могут объяснить, так как «древнейших ворот» этих никто не описал, а, следовательно, никто и не знает, больше ли они Феодосиевских или меньше, как никто не знает, что это были за ворота, составляли они действительно метопон Константиновой городской стены или были аркой, замыкавшей какой-нибудь базар или площадь, в роде тех арок, которыми замыкался фор Константина, как мы увидим ниже. Такая арка должна была быть красивою, но красота не давала права называть эти ворота Золотыми ни Буондельмонте, который не называет их так, ни новейшим ученым, которые собственное недоразумение стараются прикрыть ссылками на Буондельмонте и, не разрешая своих выдуманных затруднений, делают совершенно ненужные ложные догадки; не разрешая вопроса, они еще более запутывают его, вместо того, чтобы посмотреть хорошенько на существующие Золотые ворота и убедиться, что других никогда не было и нигде в Константинополе нет.
Эту задачу взял на себя Стржиговский и пришел к столь же важным, сколько несомненным результатам, которые исключают всякие поиски и предположения относительно других Золотых ворот в Константинополе12. Дело в том, что Золотые ворота, как видно из сохранившейся частью до сих пор надписи, построены были гораздо раньше Феодосиевских стен, в которых они стоят теперь. Между тем как стены были построены при Феодосии II, Золотые ворота существовали уже при его великом деде и возведены были в честь его, для его триумфального въезда в качестве триумфальной арки после 388 г. Подобно арке Константина в Риме, арка в честь Феодосия, поставленная пред стенами, представляла собою три дверных отверстия и состояла из трех арок, причем средняя была гораздо больше, чем боковые, как это видно и до сих пор, несмотря на все превратности судьбы, испытанные аркой Феодосия в Константинополе (рис. 3).
На камнях, из которых сложена средняя арка, была металлическая надпись, буквы которой прикреплены были выходившими из них гвоздями. Хотя буквы теперь исчезли, но следы букв остались на камнях в виде дырочек для гвоздей букв и показывают, что надпись, изданная еще в XVII в., была сделана на той и другой стороне арки, т. е. на западной и восточной, другими словами, на стороне, обращенной к полю, и на стороне, обращенной к городу. Этою надписью с несомненностью констатируется как время первой постройки Золотых ворот, так и объясняется причина названия их (рис. 4).
Наес loca Theodosius decorat post fata tyranni,
Aurea saecla gerit qui portam construit auro,
гласила надпись, показывающая, по мнению ученых, что арка построена после победы над Максимом и низвержения его в 388 году пред въездом в Константинополь в 391 году.
Из этих стихов, говорит Дюканж, видно, почему ворота назывались Золотыми: очевидно, потому, что ворота эти были украшены золочеными орнаментами.
Вследствие этого последующие императоры, когда хотели делать торжественный въезд в столицу, шли через эти ворота по так называемой Средней улице ко двору.
Так как арка Феодосия, назначенная для его триумфального въезда, была обращена фасадом к западу, т.е. на ту сторону, откуда царь и процессия должны следовать, то западная сторона была отделана гораздо роскошнее и богаче задней, обращенной к городу, и до сих пор еще видно, что арки Золотых ворот опирались на изящные мраморные колонны с коринфскими капителями, хотя они теперь частью исчезли, а частью замурованы в стены вследствие разных переделок и сокращений, которым подвергалась эта столь же знаменитая, сколько и несчастная арка, теперь совсем замурованная, кроме небольшой дверки, оставленной для прохода в пространство между первою и второю стеною (рис. 5).
Когда при Феодосии II, после страшного землетрясения, разрушившего Константиновские стены, стали строить новые на новом месте, чтобы захватить в стены и прикрыть выросшие за стенами кварталы, арка Феодосия I была исходным пунктом для постройки новых стен: строители западнее этой арки не считали нужным отодвигать новую стену. Быть может, она и выстроена была в начале фактического города, на краю городских, застенных построек, которые, вероятно, двигались прежде всего по берегу Мраморного моря и Золотому рогу. Как бы то ни было, но это обстоятельство подтверждает свидетельство надписи и доказывает существование арки Феодосия, а, следовательно, и Золотых ворот, ранее стен Феодосия, благодаря которым арка превратилась в ворота.
Получив другое значение и назначение, арка Феодосия получила разные пристройки и прибавки, которые превратили ее в крепкие и недоступные ворота, а затем и в несокрушимую крепость (рис. 6).
Прежде всего из мраморных, плотно и крепко прилаженных четырёхугольных плит по бокам ворот поставлены были огромные четырёхугольные башни, которые и до сих пор поражают своею массивностью и прочностью. Вверху они украшены красивым, хотя и простым карнизом, с орлами по углам. Башни прилегают плотно, к стенам и, по словам царя Иоанна Кантакузина, представляют совершенно недоступную и при тогдашних средствах разрушения несокрушимую твердыню; плиты огромного размера были так прилажены одна к другой и так прочно скреплены железными скобами, что, казалось, сделаны были из одного цельного камня (αὐτόλιθος). Время, однако же, значительно их испортило, и Кантакузин, с восторгом говоривший об их прочности и испытавший их несокрушимость, должен был, когда сделался царем, покрасить их и реставрировать, чтобы потом обратить их в крепость и недоступную твердыню столицы (ἀκρόπολις).
Так как Золотые ворота укреплены двумя башнями, совершенно согласно общему плану укрепления ворот, то нужно думать, что они были построены в одно время со стенами. В пользу этого мнения говорят и разные другие соображения, между прочим, и характер постройки и орнамента, который соответствует времени Феодосия Младшего и который приводит Стржиговского к убеждению в том, что башни, которые он называет пилонами, современны стенам (стр. 7 и 8).
Такого же мнения и по тем же соображениям Стржиговский держится и относительно ворот в малой стене, соответствующих Золотым воротам. Так как ворота малой стены укреплялись везде двумя башнями, то и пред Золотыми воротами ворота в малой стене укреплены ими, причем они поставлены так, что закрывают Золотые ворота и могут быть вдвинуты в пространство между башнями Золотых ворот большой, внутренней, стены.
Такая постройка башен в левой стене указывает на преднамеренность архитектора, строившего Золотые ворота во всей их совокупности, т.е. превращавшего арку в крепостные и вместе с тем триумфальные ворота.
В отличие от Золотых ворот собственно, ворота в малой стене имеют не три дверных отверстия, а только одно, соответствующее большому, среднему, отверстию Золотых ворот, между тем, как против малых отверстий стоят башни малой стены. Отверстие это сделано, по обыкновению, в виде арки, опирающейся на две кориноские колонны из разноцветного мрамора, значительно пострадавшие от времени.
По бокам арки, вместо боковых дверей или арок, были сделаны, по всей вероятности, с самого начала, интересные и оригинальные украшения: направо и налево от арки были разнообразные барельефы, разделенные круглыми и четырёхугольными колонками (рис. 9–14).
Всех рельефов, по-видимому, было 12, по 6 на каждой стороне, и, судя по упоминаниям путешественников, видевших еще рельефы, все они были мифологического, языческого содержания: здесь фигурировали Иракл, Промифей, Эндимион с Селиной, Пигас с нимфами и другие тому подобные мифические личности и картины. В самом верху в полукругах под самыми арками, по крайней мере, в некоторых рамах были летящие амуры, так как сюжеты некоторых картин были не только языческого, но и эротического характера. Хотя история искусства в греко-римском мире позволяет относить содержание рельефов к эпохе постройки Золотых ворот, тем не менее вернее, кажется, будет то мнение, по которому эти рельефы, столь разнообразного и столь мало подходящего содержания, привезены из разных мест и сняты с разных зданий греческих городов, чтобы украсить собою ворота Нового Рима. Если бы эти рельефы сделаны были специально для украшения Золотых ворот Константинополя при благочестивом Феодосии II и еще более благочестивой Пульхерии, то сюжет рельефов был бы наверно другой, более подходящий и ко времени, и к месту. В пользу обычного в то время похищения предметов искусств для украшения столицы говорит и удивление путешественников красоте рельефов, тонкости и необыкновенному изяществу некоторых фигур, – качества, приводившие некоторых англичан до попыток вынуть их и стащить в Англию. В числе лиц, принимавших участие в этих попытках, был и знаменитый похититель парфенонских мраморов, лорд Арундель. Как ни прискорбны такие эгоистические попытки и привычки англичан, но приходится пожалеть, что их попытки относительно константинопольских мраморов-рельефов не удались. Тогда, без сомнения, любители античного искусства могли бы изучать и наслаждаться константинопольскими мраморами, как теперь наслаждаются изучением афинских. К сожалению, покупка не состоялась, мраморные рельефы остались и мало-помалу были уничтожены ненавистниками всякого искусства, особенно пластики и живописи, грубыми и невежественными турками. Чем позднее известие, тем меньше оказывается рельефов, и теперь остались только следы тех рамок из мраморных колонн, которые позволили Стржиговскому составить и восстановить схему расположения рельефов. Следы этих колонн и рамок так мало заметны, что огромное большинство туристов проходит мимо этих ворот, не замечая следов древних украшений и не подозревая, что когда-то здесь были памятники высокой художественности, услаждавшие взоры всех тех, которые входили в Золотые ворота или проходили мимо них с внешней стороны стены.
Несмотря на все превратности судьбы, несмотря на все осады, выдержанные константинопольскими стенами, эти рельефы оставались в сравнительной целости до падения Константинополя и исчезают мало- помалу при господстве турок, истреблявших всякие изображения и продолжающих уничтожать памятники искусства, несмотря на все свои музеи и картинные галереи, которые они теперь заводят.
Кроме этих рельефов, украшавших ворота в малой стене, самые Золотые ворота украшены были несколькими статуями, в числе которых первое место занимали изображения обоих Феодосиев; из них о статуе Феодосия Великого мы знаем из известия о падении ее во время страшного землетрясения в 740 году, а о статуе Феодосия Младшего сообщает аноним в древностях Константинополя и прибавляет при этом интересные сообщения: 1) что статуя Феодосия Младшего поставлена была позади слонов, взятых из храма Арея в Аои-пах; 2) что, кроме этих статуй, стояли еще другие, поставленные протоасикритом Виталием, который, кроме своей статуи, водрузил и портрет своей жены. Кроме всего этого, были, вероятно, и другие изображения, меньшого размера, стоявшие на выступах или в нишах, как в виде отдельных статуй, так и в виде рельефов, которыми обыкновенно изобилуют как арки триумфальные, так и колонны в честь царей. Словом, Золотые ворота были построены с подобающею римлянам времен Феодосия роскошью и великолепием и потому долго служили для парадных, торжественных въездов. Теперь эти ворота давным-давно замурованы и входят в состав знаменитой турецкой крепости Еди-Куле, т.е. Семибашенного замка, где сидели и гибли не только турецкие паши, по и европейские сановники, а в том числе и наши посланники. Башни налево от входа испещрены надписями на разных европейских языках, сделанные заключенными там узниками за вины свои и своих государств или правительств. Калитка или небольшая дверь в Золотых воротах приводит на двор Семибашенного замка, довольно обширный и просторный, с развалившеюся маленькою мечетью посредине. На противоположной Золотым воротам стене имеются ворота, через которые теперь входят из города, с прилегающей площади, в страшный некогда Семибашенный замок. Выйдя из этих ворот и повернув налево к городской стене, приходишь к так называемым Еди-Куле-Капу, т.е. воротам Семибашенного замка, открытым и заменяющим давно закрытые и заложенные Золотые ворота. К воротам Семибашенного замка, стоящим рядом с Золотыми, приводит и конная железная дорога.
В средние века на месте теперешней площади Семибашенного замка была довольно большая площадь, на которой собирались официальные лица и простые обыватели для встречи въезжающего царя, и партии ипподрома приветствовали здесь триумфатора своими Славословиями, после которых процессия двигалась далее для выслушивания новых приветствий, поздравлений и прославлений, происходивших на всем протяжении длинной и роскошной, так называемой Средней или Большой улицы. Указание на место этих славословий, которые до Большого Дворца и св. Софии повторялись более 10 раз, может служить для определения направления этой улицы. Такие указания дает, как известно, сборник церемониалов, составленный по инициативе Константина Багрянородного. Эти церемониалы тем более ценны, что они составлялись современными церемониймейстерами, знавшими город и особенно Среднюю улицу, как свои пять пальцев, а не писавшие по слухам или по книжкам, без хорошего знакомства с городом и его памятниками, как это случается иногда у византийских хронистов мало или почти вовсе не знавших города. Указаниями церемониалов и мы воспользуемся для определения Средней улицы и остановимся на тех ее памятниках, которые будут встречаться в нижеизложенных церемониалах и обрядах, тем более, что в последнее время, явилось мнение, что Средняя улица была не одна, а, по крайней мере, две, из которых одна шла к Золотым воротам, а другая к Адрианопольским.
Поводом к возникновению такого мнения о наличности двух средних улиц явилось то обстоятельство, что название Средней улицы ἡ Μέση (ὁδός) означает не только Среднюю улицу, но и средину улицы, площади, дома, храма и т. п., и употребляется в обоих этих смыслах в Обрядах Константина Багрянородного. Даже и в тех случаях, когда речь идет, несомненно, о Большой или Средней улице, не всегда можно и нужно понимать ἡ Μέση в смысле названия улицы, а следует разуметь средину этой улицы, в отличие от стороны ее, тротуара или, точнее, быть может, портика, окаймлявшего улицу. Дело в том, что в Константинополе было много портиков по бокам улиц и они по некоторым улицам тянулись на значительном их протяжении, по некоторым, быть может, беспрерывно от начала до конца13.
Мы не можем себе представить такой улицы, потому что в наших городах, сколько мне известно, таких улиц не бывает14 и, по условиям нашего климата, в них нет надобности. В странах южных, где солнце летом немилосердно жжет, такие улицы составляют не редкость, а в Болонье, напр., много таких улиц, так что можно исходить город в разных направлениях, не подвергаясь действию лучей солнца или каплям дождя.
Подобные улицы были и в Константинополе, и такою была в значительной части, если не вся, так называемая Средняя или Большая улица15. Во всяком случае, в своем конце от фора Константина до Милия эта улица шла между двумя портиками и цари, когда им приходилось шествовать из св. Софии к фору Константина в дурную погоду, могли проходить это пространство и проходили не по средине улицы, а по портикам, между тем, как в другое время они шествовали по средине улицы. В виду такой возможности шествовать не по средине, в церемониалах обозначается, что царь идет там или здесь по средине улицы или площади, а не по краю или под портиком. Такой смысл иногда имеет термин ἡ μέση как в церемониалах торжественных шествий по Средней или Большой улице, ведшей от Золотых ворот к св. Софии и Большому Дворцу, так и в других церемониалах. Один раз этот термин встречается и в церемониале шествия в храм св. Апостолов, для обозначения той части пути, которая простиралась от храма св. Полиевкта до храма св. Апостолов. Сколько мне известно, это место и было причиною появления второй Средней улицы, ведущей к храму св. Апостолов и далее к Адрианопольским воротам (Эдирнекапу). Но предполагать, что перед храмом св. Апостолов вдруг появлялась опять Средняя улица, с которой царь уже свернул вправо как замечено в церемониале, нет никакого разумного основания, между тем, как замечание относительно шествия царя по средине улицы или площади здесь вполне уместно и понятно.
Устранив таким образом вопрос о двух средних улицах, как совершенно праздный и явившийся вследствие недоразумения, мы займемся определением направления Средней или Большой улицы применительно к современному Константинополю. Твердым основанием для определения направления могут и должны служить памятники, упоминаемые в церемониалах и существующие или в целости, или в виде остатков развалин на своих исконных местах до настоящего времени. Исходные точки или начало и конец улицы этой, к счастью, сохранились: это – св. София и Золотые ворота.
К сожалению, направление улицы можно указать далеко не на всем протяжении ее, потому что из упоминаемых в церемониалах памятников сохранились, хотя бы в развалинах и незначительных остатках, сравнительно очень немногие. Так, упоминаемая после Золотых ворот непосредственно какая-то Сигма теперь представляет загадку, какую Сигму здесь нужно разуметь. Сигмою в Константинополе назывался портик, имевший форму полукруга, тогдашней уставной сигмы (Ϲ); портиков такой формы было довольно много в разных частях города, так как эта форма портика принадлежала к числу любимых тогда архитектурных форм.
При обозрении частей Большого Дворца мы видели, что такой портик был в той части дворца, которая была построена Феофилом и с которой цари принимали и приветствовали собравшихся в фиале Триконха димотов, т.е. представителей партий Ипподрома16. Как здания дворца и множество других общественных зданий, интересующий пас портик Сигма исчез, и теперь нет не только следов его, но даже неизвестно и его место. Можно сказать только, что он находился недалеко от Золотых ворот и был после них первым пунктом, где, быть может, цари останавливались для выслушивания славословий и откуда цари поворачивали влево, т. е. на северо-восток, к Ексакионию.
Но, к сожалению, это имя говорит нам не более того, что мы знаем о Сигме, т.е. относительно Ексакиония, или Нехаkiоniоn, ничего достоверного мы сказать не можем. Правда, относительно этого топографического термина имеется несколько позднейших известий, которые как будто что-то объясняют, но они так сбивчивы, так неопределенны и отчасти носят такие явные следы позднейших комбинаций и выдумок, что вывести из них ничего определенного и положительного нельзя, а повторять их вслед за Дюканжем и его новейшими последователями едва ли нужно.
Достаточно сказать, что мы не узнаем из этих известий, что называлось Ексакионием: какая-нибудь местность, т.е. квартал, часть города, или какая-нибудь постройка и ближайшая к ней площадь. Потому мы не знаем даже и того, как нужно писать и произносить название этой местности: ἐξωκιόνιον или ἑξακιόνιον. При таком положении вопроса и характере известий каждый мог думать по-своему и помещать этот топографический термин там, где казалось удобнее и согласнее с теми известиями, которые казались наиболее вероятными и заслуживающими доверия.
Не придавая потому особенно важного значения этим комбинациям, я считаю нужным указать, что Ексакионий упоминается в церемониалах и приходится в процессиях на пути к св. Мокию и к Золотым воротам, хотя эти топографические пункты отстояли довольно далеко один от другого, и Средняя улица, продолженная в прямом направлении до стены, прошла бы между ними. Шедшему по Средней улице от св. Софии, с востока на запад, приходилось сворачивать к св. Мокию направо, к Золотым воротам налево. Однако же и в том и другом случае, т.е. шел ли кто-нибудь к св. Мокию или к Золотым воротам, он проходил через Ексакионий; из чего я позволяю себе заключить, что Ексакионий находился на прямом продолжении Средней улицы и был недалеко от Ксиролофа и колонны Аркадия, представляя собою промежуточный пункт между Золотыми воротами и колонною Аркадия (теперь Аврет-базар), такой пункт, от которого уже шла более или менее прямая улица к колонне Аркадия. Во всяком случае относить Ексакионий западнее св. Мокия, к самой стене, как делает д-р Мордтманн совершенно не позволяют указания церемониалов Придворного устава, который, к тому же называет обыкновенно этот топографический пункт не ἐξωκιόνιον, а ἑξακιόνιον, а это название (шестистолбие), образованное подобно другим словам, сложным с ἕξ–шесть, указывает на присутствие в этом пункте шести колонн, или стоявших отдельно, или входивших в состав какого-нибудь здания или портика. Некоторые известия об Ексакионии позволяют, по-видимому, склоняться в пользу того, что «шестистолбием» площадь и, быть может, окружающая местность стала называться от шести колонн со статуями на них, украшавших небольшую площадь17.
На твердую почву и на не подлежащий никакому сомнению топографический пункт мы попадаем, когда доходим до Ксиролофа, упоминаемого обыкновенно при перечислении пройденных в торжественной процессии пунктов после Ексакиония. Ксиролофом (ξηρόλοφος) назывался в средние века тот холм, который в виде довольно большого треугольника составляет юго-западную оконечность города. Ручей или речка Лик (Λύκος) ограничивает его с севера, как бы отрезывая его от остального города, протекая между Ксиролофом и городом от сухопутной стены до Мраморного моря, так что все вышеназванные топографические пункты, составляющие разные части Средней улицы, начиная от Золотых ворот, расположены на Ксиролофе (Сухом холме), находившемся, очевидно, до постройки Феодосиевских стен большею частью вне городских Константиновских стен. Только острый угол этого холма, обращенный на восток, к городу, был, по-видимому, захвачен стеною Константина. Недалеко от этой стены Аркадий устроил forum своего имени с колонною в свою честь по образцу колонны в честь его отца, Феодосия I, стоявшей на площади Тавра или Феодосия (Forum Theodosianum). Сын Аркадия, Феодосий II, поставил на колонну статую Аркадия, так что forum Arcadianum, устроенный Аркадием, некоторое время называли также forum Theodosianum. С течением времени оба эти имени были забыты и заменены названием того холма, на котором был построен forum, так что у составителей обрядов Придворного устава и других писателей того времени Ксиролоф означает и forum Arcadianum и его колонну. Колонну и forum Аркадий устроил в 403 г., а статую его Феодосий поставил в 421 г., но в 542 г. статуя уже потеряла правую руку, а в 740 г. и совсем свалилась от землетрясений. Пострадала от времени и непогоды и самая колонна, но стояла до 1719 г., когда от землетрясения она свалилась и была разобрана и свезена. Устоял и остался на месте только постамент до начала самой колонны. Вот этот-то постамент, который стоит и до сих пор на своем месте, и служит ясным и несомненным указателем того места, где была Средняя улица на Ксиролофе и какая из теперешних улиц с большею вероятностью может быть принята за Триумфальную.
Дело в том, что в том направлении, в котором шла Средняя улица, идет теперь несколько улиц, а две идут параллельно почти на всем расстоянии от долины Лика до Западных (сухопутных) стен. Конно-железная дорога, идущая от Галатского моста мимо св. Софии через forum Constantini, вероятно, по прежней Средней улице, пред подъёмом на Ксиролофе к Аврет-Базару и Аврет-Таши (forum и columna Arcadii) разветвляется: одна ветвь идет, немного подаваясь вправо к северу, к Пушечным воротам, а другая, круто поворачивая налево, к берегу Пропонтиды, идет близко к берегу моря и, проходя, между прочим, мимо Студийского монастыря, приходит к Семибашенному замку и открытым с северной его стороны воротам (Еди-куле-капу). В пункте разветвления конно-железной дороги начинается третья улица, которая, в виде довольно прямой и широкой улицы, доходит до площади, средину которой занимает мечеть Коджа-Мустафа, бывшая греческая церковь.
Отсюда эта улица разветвляется на несколько кривых улиц и переулков, из которых некоторые ведут более или менее прямо к Золотым воротам, влево от прямой до сих пор улицы, а некоторые переулки приводят к улице, ведущей к Силиври-капу и почти все время идущей почти параллельно с той, которая начинается у разветвления конно-железных дорог.
Когда из долины Лика вы подниметесь по этой улице, идя от св. Софии к Золотым воротам, или, доехав до разветвления по конно- железной дороге, пойдете по той улице, по которой конно-железная дорога не идет, то, перейдя по этой улице долину Лика и поднявшись к Аврет-Базару, вы напрасно будете искать глазами колонну Аркадия, остатки которой здесь находятся: их с улицы не видно; вам представляются с одной стороны дома, а с другой – ряд деревянных лавок или деревянный длинный сарай, разделенный на несколько отделений. В этих лавках или на их месте производилась еще не так давно торговля женским живым товаром, привозимым из разных стран и в том числе из России. Здесь богатые турки покупали себе и служанок, и красивых жен, которые тут держались под надлежащим присмотром и осматривались покупателями, как осматривается скот. Теперь открыто такой позорной торговли не производится, и она принуждена прятаться по темным углам в частных домах, где и до сих пор, говорят, можно найти не мало разнообразного живого женского товара. От прежнего центра этой торговли осталось только название: Аврет-Базар – женский рынок, от которого и украшавшая его колонна Аркадия стала называться Аврет-Таш.
Мы должны были завернуть направо в переулок, чтобы увидеть этот Аврет-Таш. Жалкие остатки колоссальной колонны едва видны были из турецких лачуг, которыми постамент колонны был облеплен (рис. 14).
Справа на углу Большой улицы стоит какой-то невзрачный домишко, отделяющий колонну от улицы и скрывающий ее от идущих по улице. Он закрывает колонну с запада, но не примыкает к колонне плотно: между ним и колонной оставался проход, через который и проник Стржиговский для осмотра колонны с тех сторон, которые были доступны обозрению.
С запада постамент был во время обозрения ее Стржиговским открыт на переулок, и колонна была видна хоть с одной стороны. С тех пор хоть и немного прошло годов до нашего визита колонне, но любовь турок к искусству с тех пор сделала большие успехи: постамент колонны огорожен и с западной стороны. Какой-то, очевидно, просвещенный и прогрессивный турок между угловым домом, стоящим с южной стороны колонны, на углу улицы и переулка, и следующим по переулку домом, примыкающим к колонне с северной стороны, под одну линию с внешними стенами домов провел забор, покрыл его кое-как, а снаружи сделал маленькую дверь. Подрывши немного под колонной с этой же стороны, с которой проходил забор, мудрый турок устроил тут (что вы думаете?)... склад для угля. Бесполезно стоявшая много веков колонна приютила, наконец, полезное учреждение: турецкую лавчонку с углем. Жалкий обломок старины седой и величавой от этого соседства, понятно, не сделался сохраннее, а стал грязнее и жальче. Как же, однако, осмотреть остатки униженного и оскорбленного до последней степени величия?
Колонна и доступ к ней загорожены со всех сторон; а наш проводник, молодой грек, обучавшийся в русском университете, не знал, к кому и как обратиться, чтобы проникнуть к колонне. Постояли мы постояли и, в отчаянии, опять пошли на большую улицу, чтобы возвратиться сюда в другой раз. Но в это время вдруг явился благодетельный гений в виде молодого человека, в форме воспитанника военной школы, и предложил нам пройти во двор дома с северной стороны от колонны и не только осмотреть ее снаружи, но и в средине. Понятно, мы изъявили желание, выразили нашему неожиданному гению благодарность и обещали на чай хозяину дома, на дворе которого находится колонна. Благодетель наш немедленно устроил для нас проход через турецкий дом, т.е. испросил надлежащее разрешение на удаление жителей и жительниц из комнат, так как нам приходилось проходить через жилые комнаты довольно бедного турецкого дома, но довольно чистого и приличного, устланного старинными коврами и потертыми низкими диванами. Пройдя домик, мы вышли на маленький дворик, на который обращена была северная сторона колонны с дверью из неё. Дверь вела в колонну на винтовую лестницу, устроенную в колонне.
Войдя в дверь, посетитель оказывается в небольшой и невысокой комнатке, служащей как бы передней для лестницы, которая скоро начинается и сохранилась довольно исправно. Потолок передней комнаты украшен барельефным орнаментом с монограммою Христа по средине с буквами Λ и W и двумя звездочками (рис. 15).
Обогнувши постамент колонны по внутренней витой лестнице, высеченной в тех же мраморных массивных плитах, которые составляют стены и стержень стиловата колонны, посетитель выходит наверх постамента к обломку первого слоя самой колонны. На этом обломке еще ясны остатки изображения какой-то процессии, в которой участвуют конные, пешие и стоящие на колесницах, везомых 4-мя лошадьми. К сожалению, остатки изображений слишком ничтожны для того, чтобы составить себе какое-нибудь определенное понятие о процессии, и предположение Стржиговского о том, что здесь изображено перевезение каких-то царских инсигний, ни на чем не основано и мне кажется мало вероятным.
В дальнейших спиральных оборотах колонны, которые шли слева направо, изображены были подвиги и победы императора Аркадия, почему Жиль называет колонну pugnis variis scalptus, что напоминает название Никифора патриарха, который в своей хронике называет колонну κίων γλύφαιος. Эти изображения сделаны были с таким расчётом, чтобы снизу казаться одинаковой величины, для чего каменные полосы спирали увеличивались по мере их высоты. Чем выше стояла полоса, тем она была шире, а скульптурные изображения выше. Вся колонна, вместе с стиловатом достигала огромной высоты в 47 метров, между тем как сохранившиеся римские колонны –Марка Аврелия достигает только 41,15 метров, а Траянова не доходит до 39. Жиль насчитал внутри колонны 233 ступени и 56 окон. Лестница имела в ширину 0,85 метра, причем толщина стен равнялась 0,61 метра, а толщина внутреннего компактного столба, вокруг которого шла лестница, была в 1,05 метра, так что толщина всей колонны у основания ее составляла почти 4 метра (3,97).
Прочность и солидность постройки этой колоссальной колонны доказаны временем: несмотря на частые землетрясения и другие (климатические) разрушительные влияния колонна простояла, хотя и значительно поврежденная, до 1719 г. Более 1 000 лет она украшала собою площадь Аркадия и составляла одно из чудес Константинополя. Турки, попирающие и разрушающие все изящное и великое, не только застроили площадь своими лачугами, но и более или менее изменили улицу, давши ей несколько боковое направление: вместо того, чтобы приводить прямо к колонне, улица ведет мимо нее, а колонна оказывается на дворе 2-го от угла домика. Почти то же случилось и с Константиновою колонною, занимавшею средину площади Константина. Теперь улица от бывшего Августеона до колонны Константина также идет на несколько шагов мимо колонны, которая остается вправо от прямого продолжения улицы. Колонна Константина стоит, правда, еще на площади, но, благодаря тому, что она примыкает к ограде мечети, а не к частным домам. Прилегай она к частным постройкам, быть может, ее постигла бы такая жe судьба, как колонну Аркадия или Маркиана, оказавшуюся на заднем дворе какой-то турецкой бани, по крыше которой мы пробирались к колонне, стоящей на заднем мусорном дворе. Дикая орда, поселившаяся в Царьграде, бережет только собак, которые, вероятно, исчезнут из Константинополя только вместе с турками. По этим образцам можно судить, как турки обращались с площадями и стоявшими на них памятниками. Так же бесцеремонно поступали турки и с улицами, но улицы представляли, благодаря домам и владельцам их, более сопротивления произволу обладателей города и в общем и главном сохранили, по крайней мере многие, свое прежнее направление. Позволительно думать, что к ним принадлежит и та артерия, которая вела и ведет от св. Софии к Золотым воротам и особенно тот ее участок, который начинается с Аврет-Базара и доходит до колонны Константина, т.е. на большей доле всего пути. Быть может, улица была прямее и шире, но, во всяком случае, шла приблизительно в том же направлении.
Громадная разница теперешней грязной и жалкой улицы состояла в том, что средневековая Большая улица Константинополя украшена была не только роскошными площадями, портиками и колоссальными колоннами, но и массою скульптурных произведений искусства из лучших эпох. Но средневековые суеверные люди мало понимали эти произведения, особенно исторического характера, и видели не историю прошедшего, а предсказания будущего в тех сценах и памятниках, которые достались им от прежних, отдаленных и забытых, эпох. Точно также и на скульптуры колонны Аркадия они смотрели, как на предсказания будущей судьбы Константинополя и всего царства и таинственный смысл этих произведений старались втолковать еще более суеверным нашим посетителям Константинополя. Много таких толкований слышал и передает Антоний Новгородский, а еще больше наши позднейшие паломники, когда судьба царствующего града и царства стала действительно вопросом времени и занимала умы всех, видящих унижение и уменьшение силы и значение самого царства.
Ближайшим к площади Аркадия замечательным пунктом, у которого цари обыкновенно останавливались для выслушивания славословий партий Ипподрома, была площадь быка (βοός), которая чаще всего называется просто быком (βοῦς), от стоявшего там большого бронзового быка, который служил печью для сожжения преступников. Предание гласит, что этот бык привезен был из Пергама. Такое употребление печки-быка, вероятно, явилось случайно, и едва ли можно верить тому, что этот бык был специально привезен и поставлен для сожжения в нем преступников, потому что, сколько мне известно, ни у римлян, ни у греков, взявших римские законы, казни сожжения не существовало, а если она и применялась в Византии и Константинополе, то, по всей вероятности, только в незначительных случаях, в роде указанных византийскими писателями.
Площадь быка (forum bovis, βοὸς ἀγορά) находилась в XI регионе, как свидетельствует древняя опись Константинополя, по приблизительному определению новейших ученых в долине Лика, около того места, где одна улица разделяется на три, в местности, известной теперь под именем Аксерая.
За площадью быка местом, где происходила смена партий Ипподрома, был квартал или площадь Амастрийская (τὰ Ἀμαστριανά). Название этой площади по городу Амастриде, лежавшему на северном берегу Черного моря, приблизительно против Одессы, подало повод к разным измышлениям, которые основаны на дурной славе пафлагонцев; но эти выдумки до того нелепы, что их и повторять не стоит. Почему площадь не могла быть названа по весьма близкому к Константинополю торговому и не раз прославленному городу, я не совсем понимаю. В этой местности по каким-нибудь обстоятельствам могли преимущественно останавливаться амастридцы, могли торговать на этой площади и т. п. Такие случаи бывают и теперь, а еще чаще были тогда, когда земляки охотно селились и торговали в городе в каком-нибудь определенном, излюбленном почему-либо, квартале.
Относительно положения этой площади мы знаем только то, что она находилась между «Быком» и Капитолием или Филадельфием, о которых речь будет ниже; но поднимать эту площадь на север из, теперешней прямой улицы и от этой площади вести улицу опять вниз, как делает Мордтманн, я совершенно не вижу оснований и полагаю, что Амастрийская площадь была на той же прямой улице, которая теперь ведет от Фора Константина до вышеуказанного разветвления на три улицы, как это и показано на плане Stolpe. Такое отступление от прямого пути мало понятно и трудно допустить, что оно действительно было.
Не более, к сожалению, известно и о положении такого громкого по названию топографического пункта, как Капитолий. Из древнего описания города (Descriptio [=Unger, Quellen d. byz. Kunstgesch. 101–103]) видно только, что он находился в ѴШ регионе; а из обряда въезда Василия видно, что Капитолий был между Амастрийскою площадью и Филадельфием. Древнее описание въезда Юстиниана показывает, что Капитолий находился на Средней улице и представлял собою, по-видимому, последний пункт по Адрианопольской улице по направлению к Средней: доехав до Капитолия от храма св. Апостолов, который стоял на дороге от Средней улицы к Адрианопольским воротам, Юстиниан был уже на Средней. Но что называлось Капитолием, доподлинно неизвестно: предположение Дюканжа, которому следует Бапдури, что Капитолий тожествен с Василикою, едва ли вероятно и ни на чем не основано. Едва ли Капитолием называлось здание, а скорее местность или площадь, чем-либо напоминавшая римский Капитолий. Во всяком случае, то положение, которое отводит Капитолию Мордтманн на своем плане, едва ли может быть признано правильным, так как оно противоречит показаниям как Descriptio, так и Обрядника, а это такие свидетели, которыми пренебрегать нельзя.
К сожалению, Капитолий упоминается в обрядах довольно редко, а большею частью пропускается, и после Амастрийской площади следует прямо Филадельфий, как пункт, до которого та или другая партия Ипподрома провожала славословиями царя или от которого она начинала их, чтобы дойти до другого пункта. Филадельфием, по словам средневековых томографов, называлось место или площадь, на которой была статуя обнимающихся братьев, изображавших, будто бы, Константа и Констанция, в память их встречи после смерти Константина Великого. Другие прибавляют, что здесь именно произошла встреча двух братьев, прибывших один с запада, другой с востока.
За Филадельфием следует один из самых важнейших пунктов Константинополя, расположенных на Средней улице, так называемый forum Theodosii или площадь Тавра, в центре которой находилась знаменитая колонна Феодосия Великого, поставленная им самим в память своих побед над готами и скифами.
Колонна Феодосия была сделана наподобие сохранившихся доселе римских и послужила прототипом для колонны Аркадия, вкратце выше описанной, т.е. она состояла из барельефов, поднимавшихся спиралью, и внутри имела лестницу. Поставленная в 386 г., через 8 лет (394) колонна была украшена статуей императора и, несмотря на разные невзгоды, стояла более 1000 лет, пока один из султанов не снес ее для постройки бань и мечети в 1500 г. Благодаря такому продолжительному существованию, колонна Феодосия была осмотрена и срисована некоторыми путешественниками, посетившими Константинополь до 1500 г. и оставившими нам ее изображение.
По древнему описанию Константинополя по регионам forum Theodosii, который уже при Феодосии II назывался и площадью Тавра, находился частью в VII, частью в VIII регионе, что соответствует южной части, обращенной к улице с конно-железной дорогой, теперешней площади сераскирата.
Местоположение площади, а, следовательно, и колонны не подлежит сомнению и, в свою очередь, указывает на прохождение здесь средневековой Большой улицы, на протяжении которой forum Theodosii отделялся от forum Constantini лишь хлебным базаром, Артополиями, и соединялся с последним портиками. Так как название площади Феодосия именем Тавра встречается уже в древнем описании, то едва ли можно искать объяснение названия в том обстоятельстве, что Константин Копроним обратил площадь Феодосия в рынок для крупного скота. Достовернее, кажется, объяснение Дюканжа, который производит это название от сановников Тавров, из которых один жил и был префектом претории при Константине Великом (другой при Феодосии II), и владел, вероятно, местом и домом в том квартале, который потом занят был площадью Феодосия I.
В виду того, что, несмотря на постройку здесь foruma с колонною в память побед такого знаменитого императора, как Феодосий I, местность и площадь с колонною назывались как впоследствии, так и при Феодосии II (в Descriptio), по имени Тавра, а не Феодосия, позволительно думать, что за этою местностью еще до постройки forum’a Феодосием I уже утвердилось название по имени Тавра до такой степени, что даже изменение роли квартала не изменило его названия; как масса других кварталов, так и этот продолжали называться по имени сановника Тавром, подобно тому, как площадь Аркадия с колонною же продолжала называться по имени холма, на котором forum был построен. Имя Феодосия едва ли было бы вытеснено, если бы оно было господствующим раньше, чем поселился здесь Тавр времен Феодосия II.
Гораздо важнее недоумение относительно содержания барельефов, украшавших колонну Феодосия. Изданные Menestrierʼoм, и переизданные у Бандури в качестве рельефов колонны Феодосия они в настоящее время вызывают сомнения и колебания: одни принимают эти интересные рисунки за копии с барельефов колонны Тавра, другие склонны скорее видеть в них рисунки барельефов колонны Аркадия или Ксиролофа. Судя по рисунку всей колонны, данной Дюканжем, действительно можно сомневаться в принадлежности этих таблиц к снимкам с колонны Феодосия I, хотя таблицы, несомненно, принадлежат тому времени и представляют для пас огромный интерес, так как на них, кроме разных сцен из жизни покоренного племени, изображается триумфальный въезд в Константинополь римского императора начала Византийской истории и города Константинополя, как столицы Римской империи.
За forumʼом Theodosii или так называемым Тавром на восток, по направлению к св. Софии и Дворцам Большим, следовал Хлебный базар или рынок (Артополий, Ἀρτοπώλιον). Хотя в таком большом городе, как Константинополь, было, конечно, несколько хлебных базаров в разных частях, но так называемый Артополий пользовался, очевидно, особенною известностью, и его нарицательное имя сделалось собственным: без других прибавлений и обозначений он называется обыкновенно одним нарицательным. Говорят, что на этом рынке Константин Великий водрузил на мраморной колонне один из трех крестов, которые он приказал сделать наподобие виденного им на небе креста. В числе прочих архитектурных особенностей и украшений на Артополии была арка или апсида, у которой обыкновенно сменялись партии Ипподрома, провожавшие и прославлявшие царя во время торжественных процессий. Та партия, которая начинала славословия здесь, провожала царя до следующей станции, до forum Сonstantini, – одной из самых важных и знаменитых площадей Константинополя. Римские императоры в разных городах империи имели прекрасный обычай строить в свою честь и память базары с площадями, так называемые fora. Константин Великий, построив такой forum в Новом Риме, своей новой столице, украсил его со всевозможным великолепием и роскошью, а в средине его водрузил знаменитую порфировую колонну, которая стоит на своем месте и до сих пор и представляет собою один из несомненных памятников времен самого Константина. Таким образом, своим присутствием на своем прежнем месте знаменитая колонна точно и ясно указывает и место не менее знаменитой некогда площади и многих окружавших ее замечательных зданий и сооружений.
По единогласному преданию, forum Константина, называвшийся у византийцев обыкновенно просто фором (φόρος), был круглый и построен был таким будто бы в подражание и на месте палатки, в которой Константин жил во время осады. Но так как те же предания прибавляют, что фор Константина находился у самых ворот древней Византии, то является сомнительным, чтобы эта палатка была у самых ворот неприятельских. Палатка императора (cohors praetoria) не могла быть на краю военного лагеря, стоявшего пред Византиею, а имела свое определенное место в римском военном лагере, и не было никаких оснований отступать от этого твердо установившегося обычая, созданного военною римскою практикою. Допустить, что фор был построен на месте военной палатки Константина можно только в таком случае, если стены Византии были довольно далеко от фора, примерно около того оврага или долины, которая проходила мимо св. Софии и около которой, по нашему мнению, проходила стена древней Византии. Как бы то ни было, фор Константина был круглый и состоял из двух половин, полукругов, разделенных двумя огромными арками, стоявшими одна против другой и ведшими одна на Артополий, а другая – к св. Софии и старому, доконстантиновскому, городу. Полукруги, ограничивавшие фор, состояли из великолепных мраморных двухэтажных портиков, в изобилии снабженных и украшенных массою скульптурных произведений лучших древних мастеров. Арки, открывавшие выходы на улицу, были также украшены статуями, и в том числе статуями самого Константина и Елены, державшими кресты. Так была украшена арка, выходившая с фора на восток к св. Софии и Большому Дворцу. Очень может быть, что статуи Константина и Елены с крестом поставлены были после Константина, но наши известия знают восточную арку фора уже с этими статуями.
Средину круга, ограниченного двухэтажными портиками, занимала вышеупомянутая знаменитая порфировая колонна, стоящая и теперь на своем месте, хотя и в обезображенном, искалеченном виде. Многое могла бы рассказать эта колонна, видевшая всю историю христианского Константинополя. Многое испытала она сама и отразила на себе историю города, так же обезображенного, искалеченного, как и «обожженная» Константинова колонна. Теперь она стоит прямым укором христианскому миру, своим видом калеки напоминая ему, до какого унижения дошел этот христианский мир, допускающий поругание памятника, столь будто бы дорогого для христиан и цивилизаций. А было время, когда этот колосс был действительно дорог для жителей христианской столицы и много надежд и ожиданий соединялось с ним в сердцах жителей православной столицы: они издавна привыкли видеть в колонне Константина охрану, палладиум столицы.
Говорят, что уже сам Константин желал сделать из своей колонны такой предмет, который служил бы охраною, обладал бы талисманом города. Для этого он взял палладиум Рима (по одним известиям в Риме, по другим даже в Трое) и те корзины, в которых раздавались чудесные хлебы, послужившие для насыщения целых тысяч слушателей Спасителя мира, и положил их под основание своей колонны. Самую колонну он привез из Фригии и составил ее из отдельных кусков, связавши и вместе прикрывши их соединение бронзовыми венками. Все это было увенчано надлежащею капителью и затем украшено статуей Аполлона, увенчанного лучезарным венцом.
Впоследствии, когда Константин сделался первым христианским императором и пред самою смертью крестился, всему, связанному с именем Константина, был придан христианский характер и христианское религиозное толкование и значение. Так как Константин Великий с течением времени все более и более получал значение и почитание, как первый христианский царь, как основатель христианской столицы и покровитель христианства, как государственной религии, то его фор и его колонна получили не только государственно-историческое, но и большое религиозное значение. Занимая такое место в городе, откуда можно по более или менее прямым и широким улицам идти в разные стороны и кварталы города, фор Константина был весьма и весьма часто местом, где проходили и останавливались для совершения молебствий религиозные и политические процессии. Не говоря уже о таких процессиях, которые шли по Большой улице от Золотых ворот или соседних кварталов к св. Софии и обратно, через площадь Константина проходило каждый год много крестных ходов в боковые кварталы, так что в недавно открытых церковных уставах мы постоянно встречаемся с литиями, идущими через фор Константина. Так как св. София, откуда или куда направлялись обыкновенно крестные ходы (литии), стоит почти на краю одного из углов треугольника, составляющего собственно Константинополь, то почти весь город приходится на запад от св. Софии и почти во все пункты города нужно было идти от св. Софии через фор Константина. Поэтому крестные ходы через него и молебны на нем в церковных уставах считаются десятками. Если память святого, освящение храма или какой-нибудь праздник сопровождался крестным ходом из св. Софии к месту празднования, то почти всегда упоминается фор Константина и на нем непременно совершается молебствие (δοξάζουσιν ἐκεῖ). Такое значение фора Константина, быть может, привело к тому, что к стиловату колонны Константина была пристроена маленькая часовня или молельня (εὐκτήριον)18, в котором такие молебствия на форе Константина и совершались, если не всегда, то, по крайней мере, часто, как показывают придворные уставы, в которых, как мы увидим, описывалось несколько таких молебствий, совершавшихся в часовне в честь св. Константина около колонны Константина на форе его имени. По церковным уставам, такие молебствия можно считать десятками, с участием патриарха и без него. Колонна Константина получила таким образом большое церковное значение, а сделавшись священным предметом, она мало-помалу получила церковную окраску и в своей истории: ей стали приписывать христианский, церковный характер в самом основании и старались связать с разными христианскими святынями, о которых не было помину при основании колонны. Аполлон или Илий (Ἥλιος), которого изображала статуя, превратился или в основателя христианства или, по крайней мере, в самого Константина, а лучезарное сияние в гвозди, которыми пригвождено было тело распятого Богочеловека. Скоро явилась и соответствующая надпись, которая, несомненно, была и о которой имеются неопровержимые свидетельства.
Когда и кем сделана была надпись на капители колонны, надпись, в которой Христу, Царю и Владыке мира, посвящается не только город, но и вся римская держава с молитвою о сохранении ее и спасении, неизвестно, по крайней мере мне; но мне кажется несомненным, что такая надпись могла быть сделана только после Константина, при его детях или следующих преемниках, когда принадлежность императорской фамилии к христианству не была официальным секретом, а признавалась открыто и официально. Подобная судьба постигла и храм св. Апостолов, который из императорского мавзолея при детях Константина превратился в христианский храм св. Апостолов. Можно с большею или меньшею уверенностью утверждать, что храмы Божественной Премудрости (ἁγίας Σοφίας) и Силы (Δύναμις) христианское значение храмов получили также после Константина, хотя построены были в виде храмов Премудрости и Силы Божественной вообще, а не Второго лица Пресвятой Троицы.
Составленная из немногих цельных порфировых круглых плит в 10 футов толщины, плотно пригнанных и связанных металлическими скрепами, порфировая колонна Константина и украшавшая ее статуя благополучно стояли до Алексея Комнина, когда необыкновенно сильная буря сбросила и разбила статую, повредив и колонну с капителью. Царь Алексей Комнин поправил, по возможности, поврежденную колонну, но не возобновил статуи, а, вместо статуи, поставил туда большой крест, приписывавшийся Константину и стоявший во дворце. При этом Алексей Комнин приказал на капители увековечить свою починку надписью, которая уцелела и до сих пор читается на капители «Обожженной колонны», стиловат которой ободран и, лишенный всяких украшений, обитый и обезображенный, в миниатюре представляет олицетворение разоренного, обезображенного, униженного и загаженного города Константина. От бывшего некогда здесь великолепного фора нет и следа, хотя площадь тут есть, но не на средине ее стоит колонна, а в углу, в стороне, прилегая к какой-то ограде. Улица, приводившая от св. Софии к средине фора, к самой колонне, очевидно, значительно подалась, по крайней мере, одною стороною к другой стороне, так что колонна оказалась не против средины улицы, а против левой ее стороны, если смотреть от колонны к св. Софии. Прежняя старинная улица, быть может, начиналась в том месте, где начинается какое-то громадное старинное здание, теперь переделанное в склады и торговые помещения. Очень может быть, ближайшее исследование этого здания привело бы к каким-нибудь интересным результатам относительно фора Константина и прилегавших к нему зданий, в роде сената на форе, который особо описывается в поэме, недавно обнародованной, Константина Родия, описывающего сенат в числе семи чудес Константинополя. С церемониальной точки зрения здание сената на форе, которое этою прибавкой отличается от сената на Августеоне, возле св. Софии, замечательно тем, что в дурную погоду царь с своею свитою в некоторые праздники приходил в сенат слушать молебен, вместо молельни св. Константина. Сюда же, в здание сената, приходил патриарх с духовенством служить литию, после которой сначала царь, а потом патриарх уходили туда, куда им нужно было по уставу для торжественной службы празднику.
С художественной точки зрения сенат на форе замечателен был многими произведениями скульптуры, взятыми из античного, языческого, мира, а между прочим и рельефными литыми дверьми, принадлежавшими некогда храму Дианы в Ефесе и замечательными по художественному содержанию своему, которое вкратце передается Константином Родием.
В церемониальном отношении важна также церковь во имя Богоматери, построенная на форе Василием Македонянином для массы народа, имевшего дела на форе, но не имевшего там до Василия I храма, в котором бы народ мог помолиться. Этот храм Богоматери на форе, со времени Василия, служил местом переоблачения царей, когда, при триумфальном въезде, от фора Константина шли до св. Софии пешком в полном царском облачении, между тем как до фора они ехали на лошадях в военном парадном облачении. Для переоблачения, доехав до фора, цари сходили с лошадей, входили в храм Богородицы на форе и там в мутатории переоблачались, после чего в полном облачении шли уже пешком совершенно таким же порядком и с теми церемониями, которые соблюдались при выходах царей из Хрисотриклина Большого Дворца в св. Софию в Большие Господние праздники, как это описано в I кн. моих Byzantina.
С фора Константина через восточную его арку и антифор, точное описание которого мне неизвестно, входили на Большую улицу или Среднюю, окаймлявшуюся с обеих сторон портиками до Милия и следующей большой и важной площади, разделявшей Большой дворец от св. Софии, до Августеона. Большая улица на этом небольшом пространстве, по-видимому, была самою красивою и бойкою частью города. Кроме богато устроенных и роскошно убранных портиков, быть может, одною стороною примыкавших к южной стороне св. Софии, а другою к северной стороне Большого дворца, конец улицы, примыкавший к Большому дворцу, отличался важными и великолепными зданиями, общественными и частными. Здесь, между прочим, часто упоминаются в Придворном уставе здания: дворец Лавза, библиотека, преторий на левой стороне, если идти с фора к св. Софии, бани Зевксиппа, северные постройки Ипподрома и некоторые другие постройки, делавшие из этой части Большой улицы один из лучших кварталов города. И теперь на месте этой улицы идет сравнительно довольно широкая и порядочная улица, опять-таки сравнительно; но она гораздо уже прежней улицы, а о портиках и роскошных зданиях тут нет и помину: время и дикая орда, поселившаяся в Константинополе, все снесли и уничтожили, ничего не восстановивши и ничего не возобновивши. Улица все-таки, вероятно, осталась в силу исторических обстоятельств, которые обыкновенно заставляют последующие поколения держаться прежнего направления улиц в старом городе: старая улица только значительно сузилась; домишки вылезли на пустое пространство улицы, которая вместе с этим могла изменить несколько и свое направление; особенно это могло случиться в конце, примыкающем к площади Ипподрома и св. Софии, где вообще очень многое изменилось и срыто до основания.
Первенствующее значение Средней или Большой улицы с самого начала, со времени перестройки Византии в Константинополь, видно из того, что на этой именно улице, по примеру основателя города, строили свои площади (fora) и ставили свои колонны следующие за Константином императоры, всячески украшая эту излюбленную улицу. Почему именно она стала центральною и самою бойкою и сделалась вместе с тем триумфальною? На этот вопрос отвечает, мне кажется, лучше всего топография Константинополя собственно и особенно Большой улицы. Проходя по хребтам холмов, прилегающих к Мраморному морю, и проходя от старой Византии и дворца к самой большой дороге, расположенной по берегу Мраморного моря, Средняя или Большая улица, хотя и не была среднею улицею в собственном смысле, проходила через большую часть и лучшие кварталы города, непрерывно продолжаясь на всем почти протяжении города с запада на восток. Хотя от Золотых ворот путь несколько варьировался, и на Большую улицу собственно от Золотых ворот вели разные пути, тем не менее предпочитались, без сомнения, те улицы, которые были просторнее и прямее и скорее выводили на прямую большую улицу. К сожалению, этой улицы мы не знаем, а из описания въездов царей можно заключить, что в начале пути цари ехали разно, как установлено церемониалом, составленным церемониймейстером, под руководством препозита, и утвержденным царем. Само собою разумеется, что те религиозные выходы и крестные ходы, которые направлялись в храмы, лежавшие в стороне от Золотых ворот, не проходили участка, ближайшего к Золотым воротам, а в конце Большой улицы сворачивали к этому пункту, к которому шли. Потому не нужно удивляться и смущаться тем, что крестный ход, идущий по Большой улице, мимо тех самых пунктов, которые упоминаются при триумфальных въездах, не проходил через Золотые ворота и ближайшие к ним топографические пункты: как показывает план, процессии поворачивали раньше, нежели достигали Золотых ворот и прилегающих к ним улиц. Так, когда шли к храму пресв. Богородицы Источника или от него, то шли не через Золотые ворота, а через ворота Источника, которые и до сих пор сохранили свое имя, и потому с Большой улицы не поворачивали на юг, к Мраморному морю, а шли прямо. Когда шли к св. Мокию, то крестный ход должен был, значительно не доходя до стены, повернуть направо, так как храм св. Мокия находился направо от Большой улицы, на север от неё, следовательно, в стороне, противоположной Золотым воротам и значительно ближе их для идущих от св. Софии.
Несравненно раньше сворачивали с Большой улицы, когда шли в какой-нибудь храм, лежавший ближе к св. Софии, или в стороне от Большой улицы. Так ходившие в храм св. Апостолов должны были по Большой улице идти только до Капитолия, а от него продолжать путь, по улице, ведшей к храму св. Апостолов и дальше к Адрианопольским воротам. Точно также крестные ходы во Влахернский храм и другие, находившиеся в той же части (северо-восточной) Константинополя, сворачивали с Большой улицы в начале ее (считая от св. Софии), смотря по тому, какие улицы были ближе и удобнее для достижения того храма, в который крестный ход шел. В церковных уставах IX и X в., недавно открытых, таких случаев можно найти очень много, так как из многочисленных крестных ходов, совершавшихся в течение года, большая часть исходила из св. Софии и шла сначала по Большой или Средней улице, по крайней мере, до forum Constantini.
Не считая возможным и нужным входить здесь в изложение всех выходов и процессий, которые совершались по Средней или Большой улице, я считаю достаточным указать на те триумфальные и религиозные процессии, которые отмечены и записаны в Придворном уставе и которые могут дать понятие и об остальных, тем более, что мы имеем в виду, главным образом, не церковные процессии и крестные ходы, которые мы предоставляем нашим литургистам, а преимущественно светские и те церковные, в которых принимали участие цари. Так как церковные процессии совершались, очевидно, по подобию светских процессий, то естественнее начать с первых.
В Константинополе светские торжественные процессии, двигавшиеся по Средней улице, были двоякого рода: одни триумфальные, которые делали цари-победители, подобно тому, как древние римские консулы-триумфаторы совершали свои триумфальные въезды, после того, как сенат признавал их достойными триумфа. В императорский период, особенно позднейший, византийский, императору не было надобности одерживать какие-нибудь блестящие победы и совершать геркулесовские подвиги для совершения триумфального въезда. Все зависело от воли самого царя и от его охоты играть роль триумфатора: если он считал триумфальный въезд нужным и приятным для своего тщеславия делом, то достаточно было номинального участия в каком-нибудь военном деле или походе, кончившемся не совсем плачевно, чтобы совершить в качестве победителя торжественный и великолепный въезд, который был тем богаче и роскошнее обставлен, чем больше этого желал действительный или мнимый царь-победитель: в охотниках угодить царю-триумфатору недостатка никогда не было.
Так как присуждение триумфа тому или другому полководцу соединялось иногда с присуждением ему короны, победного венца или венка, с коронацией, то впоследствии, в императорский период, коронация, хотя бы ей и не предшествовал никакой поход и вообще какое-нибудь участие в войне, сопровождалась большею частью триумфальным въездом или, по крайней мере, шествием, если коронация совершалась в городе. Императорская корона составляла один из отличительных знаков царского достоинства, и триумфальный въезд в короне в первый раз был в то же время торжественным въездом нового императора. В первые века византийской империи такие въезды вновь коронованных императоров совершались довольно часто, когда коронация или, по крайней мере, выборы и провозглашения императоров совершались не в Константинополе, а за его стенами, в его окрестностях или в провинции.
Это – второй род триумфальных въездов, совершавшихся по Большой улице. Наши коронационные въезды, явившиеся благодаря перенесению резиденции в Петербург, можно причислить или уподобить этим триумфальным въездам, хотя у нас царь не только въезжает без короны, но даже и в день въезда не коронуется в столице, а возлагает на себя корону через несколько дней, после говения, подобного великопостному, так как коронация с течением времени получала все более и более значения и блеска, а в церковном отношении все более осложнялась и развилась в целый, довольно длинный обряд, соединенный с миропомазанием и причащением и тесно переплетенный с литургией. В то старое время, когда вновь коронованные византийские цари въезжали с триумфом в столицу, церковный элемент коронации только зарождался и состоял из краткой молитвы, читавшейся константинопольским епископом над короною, и благословением ее пред надеванием на голову царю.
Кроме царских триумфальных въездов после более или менее удачных экспедиций, бывали иногда, хотя и редко, въезды полководцев, одержавших какую-нибудь блестящую победу и не возбуждавших в царе подозрений, так как в византийское время на триумфальный въезд давал разрешение единственно царь, который, понятно, соглашался на такое отличие только для тех, на верность которых он мог рассчитывать и которым триумф, по мнению царей, не вскружит головы. Эти въезды совершались также по Большой улице.
Подобно царским триумфальным въездам, по Большой улице совершались по несколько раз в году церковные процессии или крестные ходы от св. Софии в какой-нибудь из храмов, лежавших за городом или в городе в конце Большой улицы или около неё. В некоторых из этих крестных ходов принимал участие царь, который на возвратном пути обыкновенно ехал верхом почти в таком же костюме, как и во время триумфальных въездов. Встречи и приемы димов ипподрома производились так же, как и во время триумфальных въездов, только песнопения, конечно, были другие.
Но сходство этих церковных ходов и въездов с триумфальными, само собою разумеется, не говорит еще в пользу происхождения религиозных процессий из триумфальных въездов. Участие царей в церковных выходах, будучи аналогично участию императоров в некоторых языческих процессиях и церемониях, в то же время нельзя считать продолжением языческих обычаев, а скорее – желанием царей свидетельствовать о своем благочестии и правоверии, своей приверженности и преданности церкви и ее православным обрядам. Царь был не только первый и верный сын православия, но и покровитель, защитник и охранитель православной церкви и, как такой, должен был принимать участие в ее главнейших обрядах и церемониях, крестных ходах и религиозных процессиях.
Предполагая в последующих главах дать образцы церковных процессий, совершавшихся с участием царя, и представить изложение одного триумфального въезда, как излагает их устав Константина Багрянородного, я считаю достаточным в настоящее время ограничиться указанием тех обрядов, которые имеют своим предметом изложение въездов и выездов, происходивших в Константинополе ежегодно и совершавшихся на Большой улице. Эти обряды важны не потому только, что они воспроизводят действия царя и чинов во время таких выходов, но и потому, что они являются одним из самых надежных топографических источников, документально и официально свидетельствующих о положении того или другого памятника или места: нигде нет так много данных, собранных в одном памятнике о Средней улице, как в обрядах Константина Багрянородного, и они могут служить лучшим критерием для оценки мнений Дюканжа и других ученых по топографическим вопросам.
Между тем как у других писателей памятники, стоявшие на Большой улице, или упоминаются и даже описываются отдельно или хотя и в порядке, но не все и не до конца улицы, как, напр., у Кедрина и Константина Родия, в Придворном уставе памятники, стоявшие на Средней улице, упоминаются сподряд и в нескольких обрядах несколько раз и притом иногда сначала в одном порядке, а потом в обратном, так что в одном и том же обряде иногда находится критерий для проверки перечней и названий. Трудно желать что-нибудь более точное и систематическое, тем более, что эти перечни исходят из официального источника и писаны современниками, проделывавшими все эти обряды.
Из обрядов, в которых излагаются триумфальные въезды собственно, в Придворном уставе дошли до нас только три, да и те из сравнительно позднего времени, но они сохранили довольно много черт более древних времен. Первый по времени описывает въезд царя Феофила, последнего иконоборца, устроенный им после не совсем удачного похода в Киликию [Cerim. I, р. 503 sq.].
Как мы увидим ниже, Феофил подъехал к городу по Золотому рогу, к Ираклиевой стене, объехал вне стены всю сухопутную границу города до самых Золотых ворот и, въехав через них, доехал до св. Софии, в которую и вошел через св. Кладезь, т.е. через южную боковую дверь, сойдя с лошади пред этою дверью. Феофил совершал свой въезд с цезарем Вардою, братом царицы Феодоры. Процессия была устроена и участники ее расставлены в таком порядке, который, очевидно, практиковался тогда в подобных случаях. Mutatis mutandis, порядок этот напоминал ту триумфальную процессию, которая изображена была на Феодосиевой или Аркадиевой колонне: сначала везли военную добычу и вели пленных, а потом уже шли победители.
Но с подробностями этих въездов мы познакомимся в следующей главе, где будет дано обстоятельное описание одного византийского триумфального въезда, а теперь считаю достаточным обратить внимание читателя только на топографические особенности въезда Феофила, особенно на начальную стадию его в самом городе: Феофил ехал от Золотых ворот, через которые он, по обыкновению, въехал в город, через Сигму, а потом по дороге, ведущей к св. Мокию до Милия (διὰ τῆς πρὸς τὸν ἁγ. Μώκιον μέχρι τοῦ Μιλίου). Дорога Феофила указана таким образом в самых общих чертах. Не видно даже, разумеет ли автор под ἡ πρὸς τὸν ἁγ. Μώκιον дорогу от Золотых ворот до Мокия или дальнейший путь по Средней улице, так как Средняя улица вела от св. Софии к св. Мокию и по ней ходил, как, мы скоро увидим, крестный ход из св. Софии к св. Мокию и обратно.
Гораздо подробнее указан путь при описании въезда Василия Македонянина, но мы пока оставим его, так как думаем обстоятельно познакомить с ним читателя в следующей главе, а теперь перейдем ко второму роду въездов, так называемым коронационным.
Такие въезды в начале Византийской империи делались, по-видимому, довольно часто, так как в древнее время провозглашения часто происходили в Евдоме, после чего совершался торжественный въезд через Золотые ворота, лежавшие на прямом пути от Евдома к св. Софии и Большому дворцу, куда обыкновенно ехал вновь коронованный император.
Из таких въездов описан в Придворном уставе один в числе так называемых провозглашений, как образец «провозглашения», совершившегося за городом, в «Евдоме», где такие провозглашения совершались довольно часто и представляли явление более или менее обычное [Cerim. I, р. 410 sq.].
По смерти императора Маркиана, синклит, т.е. все высшие чины империи избрали преемником Маркиана Льва. Министром двора (magister officiorum) был тогда Мартиал, а Константинопольским архиепископом Анатолий. Для провозглашения нового императора все чины (οἱ ἄρχοντες), гвардия (αἱ σχολαί) и войско (оἱ στρατιῶται) собрались в Трибунал в Евдоме. Лавары и другие знамена и значки положены были на землю и все собравшиеся, с архиепископом и магистром во главе, начали восклицать: «Услыши Боже, Тебя призываем. Услыши, Боже! Льву жизнь, услыши, Боже! Лев будет царствовать. Боже человеколюбивый, государство (τὸ πρᾶγμα δημόσιον res publica) просит в цари Льва. Льва в цари просит и войско. Льва принимают законы. Льва принимает дворец. Таковы мольбы Двора; таковы решения войска; таковы желания синклита; таковы мольбы народа. Льва ожидает мир; Льва принимает войско. Общественная краса, Лев, пусть выйдет. Общественное благо, Лев, будет царствовать. Услыши, Боже, Тебя призываем!»
После этих возгласов Лев, бывший тогда комитом (comes conte) и трибуном Маттиариев, был приведен в Трибунал и, как только он явился в Трибунале, кампидуктор Вусам надел ему на голову маниакий, а другой кампидуктор, Олимпий, дал ему такой же маниакий в правую руку. Как только собравшиеся увидали Льва в таком украшении, т.е. с маниакием, заменявшем собою венец, диадиму, на голове, знамена и значки, лежавшие до сих пор на земле, были подняты и все собравшиеся закричали: «Августейший Лев, ты побеждаешь, ты благочестивый, ты священный. Бог нам тебя даровал; Бог будет хранить тебя. Почитая Христа, всегда побеждаешь. Многие лета Лев будешь царствовать. Христианское царство Бог да хранит».
Сейчас же вслед за этим кандидаты окружили царя в самом Трибунале и царь, облачившись в царскую одежду, надел диадиму и в таком облачении показался народу, взяв щит и копье. Все чины от высших до низших в известном нисходящем порядке приносили поздравления и поклонялись новому царю, а народ и войска славословили царя в таких выражениях: «и могучий, и победоносный, и священный. Счастливо, счастливо, счастливо. Многие лета. Августейший Лев, царствуй! Это царство Бог да сохранит! Христианское царство Бог да сохранит!» и т. п. В ответ на это, царь через ливеллария обратился к народу и воинам с такою речью: «Самодержец Лев победоносный и священный. Бог всемогущий и ваше решение, могучие воины, на счастье выбрали меня самодержцем Римского государства».
Все закричали: «Августейший Лев, ты победишь. Избравший тебя да сохранит тебя! Свое избрание Бог да сохранит. Благочестивое царство Бог да охранит. И благочестив, и могуч». В ответ на это, от имени царя было сказано: будете иметь во мне такого полновластного начальника, который будет сотоварищем вашим в трудах. Я научился их переносить еще в то время, когда вместе с вами нес военную службу. Все закричали: «Счастливо. Войско тебя царем, победитель. Войско тебя царем, счастливым. Все мы тебя желаем». Августейший отвечал: я решил, какие дома я обязан доставить своим силам (войскам). Все закричали: «и благочестив и могуч, и умен». Августейший приказал объявить: «за ваше решение и за мое счастливое царство дам вам по 5 золотых и фунту серебра на человека». Это заявление встречено было общим криком солдат: и благочестив, и щедр. От тебя почести, от тебя богатства. Да будет царство твое для нас счастливым золотым веком! На прощание самодержец кесарь августейший приказал сказать: «Бог с вами!» и ушел, сопровождаемый высшими сановниками империи в мутаторий, куда собрались и представители (по три от каждого гвардейского отряда) гвардейских отрядов. Царь дает этим последним специальные поручения относительно денег, делается расчёт и выдаются деньги. Из мутатория царь пешком отправляется в военную походную церковь, сделанную в палатке и потому называемую бабочкою.
В мутаторий, т.е. особом небольшом отделении этой церкви, царь снял венец, вошел в церковь, помолился и, выйдя из церкви, снова надел венец, а потом сел верхом на белого коня и дозволил сесть на коней и сановникам, которые на конях сопровождали царя до храма св. Иоанна Крестителя, где в мутаторий царь снимает опять венец и отдает препозиту. Препозит несет венец за царем в алтарь, где царь берет его у препозита и кладет на св. престол. Взявши венец с престола, царь отдал опять препозиту и кладет на престол приношение, доставленное управляющим частных царских имуществ. Войдя на возвратном пути в мутаторий, царь надевает венец и едет опять на белом коне к Золотым воротам и через них по Большой улице до дворца Елены, где царь сходил с лошади и входил во дворец. Заведующий этим дворцом встречал его и покланялся ему до земли, если это было не в воскресный день. Если заведующий дворцом Елены был чиновник, то царь отвечал ему поцелуем.

Рис. 3. Золотые ворота в Константинополе


Рис. 4. Золотые ворота в Константинополе. Центральная арка

Рис. 5. Золотые ворота в Константинополе. Западный фасад (реставрация)

Рис. 6. Золотые ворота в Константинополе. План по Adolphe Burdet

Рис. 7. Золотые ворота в Константинополе. Часть северной башни

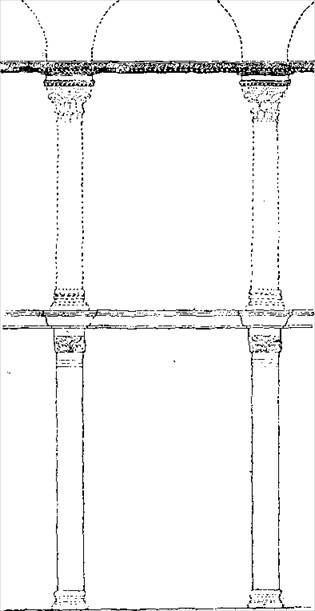

Рис. 11. Золотые ворота в Константинополе. Часть пропилеи

Рис. 12. Золотые ворота в Константинополе. Часть пропилей

Рис. 13. Золотые ворота в Константинополе. Капитель у новых ворот в пропилеях


Глава II. Евдом
В исторической и частной жизни обитателей Константинополя играл очень видную роль так называемый Евдом, одно из предместий столицы Восточно-Римской империи. Здесь нередко была главная квартира неприятелей, осаждавших Константинополь; здесь принимались владетельные или вообще знатные гости царей пред въездом в самую столицу; здесь в старину провозглашались и выбирались вновь избранные цари и оттуда совершали торжественные въезды в город для коронации в св. Софии и вступления в Большой дворец; отсюда же иногда делали цари-победители свои триумфальные въезды, возвратившись из победоносного похода. В Евдом из города, от св. Софии или Большого дворца, ежегодно несколько раз совершались торжественные религиозные процессии, крестные ходы с царем и патриархом во главе в воспоминание каких-нибудь горестных или радостных событий, которые, по воззрениям современников, служили проявлением гнева и милосердия Божия и память о которых современники желали сохранить в последующих поколениях. К такого рода событиям принадлежат грозные осады неприятеля, землетрясения и т. п. беды, имевшие какую-нибудь связь с Евдомом.
Во всех означенных въездах и процессиях принимали участие не только официальный чиновный мир, но и простые обыватели, любившие наслаждаться этими зрелищами и, по возможности, участвовать в подобных процессиях. В виду такого значения Евдома, естественно он часто упоминается у византийских историков и вообще писателей, так что для понимания многих и важных мест в их трудах необходимо знать, где находился Евдом, и отвести ему какое-нибудь точное и определенное место, которое бы объясняло известия и сообщения византийских писателей. К сожалению, сами они не дают точных топографических данных о хорошо им известном и не требующем никаких пояснений и описаний столичном предместье, в котором каждый из современников много раз бывал и о котором еще чаще слыхал.
В виду такого значения Евдома, с одной стороны, и молчания писателей о его топографии, с другой, возникли между новыми и новейшими исследователями топографии Константинополя разногласия относительно местоположении Евдома, которых нельзя считать исчезнувшими и до настоящего времени. Так как мне приходилось раньше и придется говорить в этой книге о церемониях, начинавшихся или оканчивавшихся в Евдоме, то считаю себя обязанным сказать несколько слов по этому вопросу, в надежде, по возможности, содействовать усвоению правильного решения вопроса. По моему убеждению, он уже решен правильно, но это решение недостаточно подробно обосновано и потому, быть может, кажется недостаточно убедительным, тем более, что против такого решения, которое я считаю, вместе с другими новейшими учеными, правильным и единственно возможным, уже давно решительно высказался знаменитый Дюканж, который посвятил этому вопросу даже особое исследование, написанное со свойственною одному Дюканжу эрудицией.
Основатель константинопольской топографии, как особой научной дисциплины, Петр Жилль, в своей Topographia Constantinopoleos, в особой главе (lib. IV, cap. IV), посвященной Евдому, говорит, что Евдом, предместье или пригород Константинополя (προάστειον, suburbium), находился внутри стен на 6-м холме в 14-м регионе, около цистерны Бона, и заключал в себе дворец, теперь известный под именем дворца Константина, и храм Иоанна Предтечи (Продрома), который был построен Феодосием Великим, перенесшим в этот храм главу Иоанна Предтечи. К этому Евдому Жилль относит все те многочисленные свидетельства и упоминания об Евдоме, которые находятся у византийских писателей. Так как в этих известиях упоминается и порт, то Жилль находит порт Евдома у Охотничьих ворот в Золотом роге. Название Евдом (Septimum) Жилль объясняет тем, что им обозначалось число или номер, под которым известно было это предместье (Седьмое). К сожалению, никаких доказательств в пользу своих положений Жилль не приводит, и вся эта глава, очевидно, основана на догадках самого Жилля, а не на свидетельствах средневековых писателей.
Мнение Жилля относительно местоположения Евдома оспаривал Адриан Валезий [Hadrianus Valesius, Disput. de Basilicis, quas primi Francorum reges condiderunt, Paris. 1658–1660, сар. VIII], брат известного издателя греческих церковных историков Генриха Валезия (Valois), и доказывал, что Евдом, как показывает самое название в полной форме: Septimum milliarium (Ἕβδομον μίλιον), находился около милевого столба по дороге, которая около Константинополя шла по берегу Мраморного моря и вела во Фракию и далее в другие провинции Восточно-Римской империи. В пользу своего мнения Адр. Валезий ссылался на тексты и древние свидетельства, объясняя их в том смысле, который ему казался несомненно верным и не опровержимым, и по которому все древние свидетельства говорят против Жилля и за него, Валезия.
Так как Дюканж усвоил мнение Жилля и проводил его в своих трактатах об Евдоме и принадлежащих к нему зданиях и пунктах, то, естественно, возражение Валезия не могло быть оставлено без внимания, и Дюканж, кроме статей в разных частях Constantinopolis Christiana, посвятил вопросу о местонахождении Евдома особый полемический трактат, который перепечатывался потом несколько раз в приложении к его Constantinopolis Christiana. В этом трактате знаменитый византолог со всею ученостью, ему только свойственною, благодаря его феноменальной начитанности в источниках, старается опровергнуть доводы противника и доказать, что Евдом находился именно там, где помещал его Жилль, и на Мраморном море быть не мог. Трактат этот имел огромное значение, и выводы Дюканжа усвоялись, повторялись и теперь повторяются византологами, даже специально занимавшимися топографией Константинополя, в том числе местными константинопольскими учеными, которые могли все, сказанное Дюканжем о местоположении Поля, проверить на месте и увидать собственными глазами ошибки Дюканжа, не видавшего Константинополя. В виду такого значения экскурса Дюканжа, я считаю необходимым подробнее остановиться на доказательствах Дюканжа, обстоятельнее познакомить читателей с его содержанием.

Прежде всего Дюканж считает нужным заявить, что Евдом называется так от седьмого милевого столба, у которого он находился на Золотом роге19. Здесь же было, а не на Мраморном море, Марсово поле (Campus, Κάμπος), Трибунал, царский дворец, храм Иоанна Крестителя (Продрома) и другие здания, находившиеся в Евдоме и упоминаемые у византийских писателей. Нельзя, однако же, думать, что все эти здания были именно у седьмого милевого столба; напротив, здесь не было ни одного, а все они были на Поле, которое тянулось от седьмого столба до города, потому что Евдомом назывался не один только столб, но и все Поле, которое распростиралось между седьмым столбом и городом Константинополем20), и которое потому само называется Евдомом или Полем Евдома, как это видно из приводимых мест из средневековых писателей. Эти места доказывают в то же время, что Поле было близь Константинополя и даже прилегало к нему, лежало пред его воротами и было в виду его (πρὸ τῆς πόλεως), чего нельзя было бы сказать, если бы это поле было у седьмого столба от города; да и жители во время землетрясений не побежали бы к седьмому столбу, а остановилось бы и раскинули бы свои палатки раньше.
Не только Марсово Поле, но и Трибунал с дворцом отожествляются с Евдомом и называются его именем, а о них говорится, что они находились не только на Марсовом поле, но и в самом городе: относительно нескольких императоров сказано, что они провозглашены были в Константинополе в Трибунале или в Евдоме, из чего видно, что эти пункты находились не только близь города, по и в самом городе, как и дворец Константина или Юстиниана, часто упоминаемый вместе с Полем и Трибуналом.
Весьма убедительным доказательством этого служит известие Феофана об осаде саракинами Константинополя с моря, от западной возвышенности или Магнавра Евдома до Кикловия.
Дюканж думает, что это известие можно понимать только в том смысле, что саракины добрались до Евдома через Золотой рог и держали в осаде Константинополь от крайних пунктов Золотого рога до Семибашенного замка, т. е. стояли под морскими стенами города на всем их протяжении. Понимать известие Феофана иначе, полагать, что саракины осадили город от седьмого милевого столба по берегу Мраморного моря до Семибашенного замка, по мнению Дюканжа, так же нелепо, как говорить, что враги окружили Париж от Версаля до Лувра.
Потому и под портом Евдома, который в известии упоминается, нужно разуметь не иной какой-нибудь, а Влахернский залив, и под приморскими берегами Евдома нужно разуметь берега Золотого рога, а не Мраморного моря21). Точно также и дворец Евдома был около Влахерн и Золотого рога и построен был Константином Великим, имя которого он удерживает до сих пор, сначала за городом, а потом вошел в его состав и стоит у самых стен (Текфур-Сарай). Здесь был консисторий Грациана и Юстиниана, который иногда называется novum Consistorium Justiniani и помещается in Septimo milliario ab urbe. Но это не значит, что дворец был за семь миль от города; он был у самого города или в городе, а это только locutionis forma. Потому и у писателей часто вместо названия дворца употребляется слово Евдом, напр., когда говорят, что царь или царица отправились в Евдом, то это значит отправились во дворец Евдома. Возле дворца находился Трибунал, который был построен на открытом воздухе и назывался то Трибуналом Евдома, то Трибуналом дворца, то просто Евдомом, как и дворец22.
Если говорится, что Евдом был пригород, предместье Константинополя и находился пред городом (προάστειον, πρὸ τῆς πόλεως), то это не значит, что он был далеко. Напротив, этим словом обозначают местности очень близкие к городу, как Сики (Sycae, Σύκαι, Галата), которые отделяются только Золотым рогом от города, как дворец источника, который находится у Золотых ворот и смежен с ними. Мало того, предместьями часто называются отдаленные части города, где важные особы часто имеют сады и виноградники, которые они называют предместьями. Да и в законе сказано, что suburbanum ab urbanis non loco, sed qualitate discernitur23.
Так как Евдом или поле Евдома (Campus) простирался до седьмого милевого столба, то на этом пространстве находилось немало зданий и церквей, из которых упоминаются храмы св. Феодотии, Иоанна Крестителя, Мины и Минея и Иоанна Богослова. К сожалению, византийские писатели не говорят, ближе ли они были к милевому столбу или к городу. Относительно церкви св. Иоанна Предтечи хотя и сказано, что она стояла от города на седьмом милевом столбе, но этим обозначается только пространство Евдома, а сама церковь находилась недалеко от дворца и, вероятно, в самом городе, хотя относительно ее, в виду свидетельства Константина Багрянородного, и возникает некоторое сомнение, которое Дюканж старается успокоить тем, что предполагает существование другого храма. Во всяком случае не подлежит никакому сомнению, что слово Евдом различно употреблялось византийскими писателями: 1) для обозначения места, на котором стоял седьмой столб, где никаких зданий, упоминаемых у писателей, не было; 2) для обозначения промежуточного пространства между седьмым камнем и Константинополем, пространства, на котором стояли все эти здания, как дворец, Трибунал, находившиеся в стенах города, затем храмы св. Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова, каковые здания у писателей обыкновенно и обозначаются именем Евдома.
Рассуждение Дюканжа имело огромное значение для решения вопроса, и никто не счел возможным выступить против такого высокого авторитета, каким был Дюканж. Вопрос считался решенным окончательно и так обстоятельно и основательно, что, по словам знатока топографии Константинополя, Бандури, говорить об Евдоме можно было только так, как говорил Дюканж. Потому Бандури ничего и не говорит об Евдоме и находящихся там топографических пунктах, а желающих узнать о них что-нибудь пообстоятельнее и доказательнее, отсылает к изложенному выше рассуждению Дюканжа и соответствующим трактатам в Constantinopolis Christiana. Как в самом деле мог ошибаться по вопросу об Евдоме такой знаток константинопольских древностей, знаток глубочайший и всесторонний, какого еще не было, да, быть может, и не будет? Трудно не преклоняться пред таким подавляющим авторитетом. Авторитет Дюканжа в этом вопросе признавался не подлежащим сомнению и после Бандури. Византологи XIX столетия также большею частью держались, а многие и теперь крепко держатся мнений и выводов Дюканжа, и трудно убедить их в противном.
Сами греки, живущие в Константинополе, и те усвоили взгляд Дюканжа и потому в их сочинениях, в их планах и картах средневекового Константинополя Евдом стоит около Влахернского квартала и стоящие теперь известные под именем дворца Константина или Текфур-Сарая развалины, ничтоже сумняся, обозначаются именем Евдома. Даже Мордтманн в своем плане средневекового Константинополя следовал этой традиции, хотя в Очерке средневекового Константинополя высказывает мнение противоположное и считает более вероятным мнение противников Дюканжа, как об этом мною замечено в разборе работы Мордтманна, помещенном в Византийском Временнике за 1894 год [стр. 389–402].
В ряду этих безусловных последователей Дюканжа мы встретим почти все имена новейших византологов, занимавшихся топографией Константинополя: патриарх Константий, барон Гаммер, Паспати, археологи Константинопольского Силлога, Детье24 и другие археологи повторяют мнение Дюканжа, не подвергая его ни малейшему сомнению. Один только Унгер осмелился не только не признать решение и выводы знаменитого византолога, но и высказать свое мнение или, лучше сказать, защищать мнение Адр. Валезия, о том, что Евдом следует искать на Мраморном море, без указания, впрочем, места Евдома и без ссылки на Адр. Валезия25. Ему следует проф. Н.П. Кондаков, который подкрепил свое мнение разбором главнейших доводов Дюканжа и опровержением их26. Писавший в одно время с Η.II. Кондаковым по тому же вопросу покойный Г.С. Деступис, хотя и следовал мнению Дюканжа и новейших греческих археологов, но высказал уже несколько сомнений в непреложности этого решения27.
Решительно высказался против общепринятого мнения проф. van Millingen, который в особой статье, напечатанной в трудах Константинопольского Силлога, старается доказать справедливость мнения Адр. Валезия и ошибочность мнения Жилля-Дюканжа указанием на ясные и несомненные свидетельства, приводимые Валезием, хорошо известные Дюканжу, но превратно им перетолкованные28. В дополнение к сказанному уже раньше Унгером и Η.П. Кондаковым, проф. van Millingen высказал мнение, что Евдом был около теперешнего города Макри-кёй, лежащего на Мраморном море, между Константинополем и Сан-Стефано, причем за порт Евдома van Millingen принимал небольшую излучину в берегу, находящуюся между Макри-кёй и пороховым казенным заводом. Сколько мне известию, после van Millingen’a никто больше не интересовался вопросом об Евдоме, кроме Мордтманна, который в Очерке следовал Millingen’y, а в плане Дюканжу и его последователям, как сказано выше.
Кроме исследователей вопроса топографии, некоторые византологи, занимавшиеся другими вопросами, но имевшие возможность и надобность попутно высказаться о положении Евдома, в последнее время также присоединились к мнению Адр. Валезия и Унгера, как, напр., Шлумбергер в своем Никифоре Фоке29 и Стржиговский в своей прекрасной статье о Золотых воротах, с которой мы познакомили читателей выше. Быть может, и некоторые другие ученые, как современные нам, так и жившие до нас, высказывались в смысле Адр. Валезия, а не Дюканжа, но мне, к сожалению, они остались неизвестны, да и не особенно важны случайно высказанные мнения не специалистов по вопросам топографии в виду решительного суждения и обстоятельного исследования такого авторитетного специалиста, как Дюканж, и ряда специалистов-археологов, не только занимавшихся топографией Нового Рима издалека, но изучивших ее на месте и имевших возможность представлять себе рассматриваемые пункты.
Подобно и Стржиговскому, и Шлумбергеру, мне также приходилось высказываться относительно местоположения Евдома, и я нимало не затруднился определить его место на Мраморном море, а не у Влахерн. В рецензии на труд Мордтманна30 я выразил то же мнение и развил его несколько подробнее, но не говорил об основаниях, которые побудили меня не следовать такому вескому авторитету, как знаменитый Дюканж, отложив это до более удобного случая, т.е. до возможности посвятить этому вопросу особый трактат, который в настоящее время и представляется.
Начну с того, что побудило меня вступить в число противников Дюканжа в этом вопросе, когда я еще не только не видал Константинополя и окрестностей, но недостаточно познакомился и с вопросом. Занимаясь чтением Придворного Устава, который Дюканжу не был известен, я несколько раз встречался с вопросом об Евдоме и ни разу не видел необходимости искать его в другом месте, т.е. не на Мраморном море. Мало того, нередко я поставлен был бы в большое затруднение, если бы вместе с Дюканжем предполагал, что Евдом находится возле Влахернского квартала и ехать к Евдому по морю нужно через Золотой рог к Влахернскому порту. Дело в том, что в числе обрядов имеется в Придворном уставе несколько записей о торжественных въездах царей из Евдома в Константинополь через Золотые ворота для коронации в храме св. Софии, а затем для занятия Большого дворца, стоявшего на юге от св. Софии.
Не менее, если не более, важен для нас один триумфальный въезд, начинавшийся не из Евдома, а прямо от Золотых ворот, к которым царь доехал по предстепью, т.е. за стеною города от Влахернского квартала. Этот въезд, сделанный Феофилом, важен именно, как противоположность тем въездам, которые делались из Евдома. Разница в описании въезда показывает, какие пункты должны мы встретить в описании въездов из Евдома, если бы он был около Влахерн, а не на Мраморном море.
Известно, что римские императоры провозглашались обыкновенно войсками в лагере не только в военное время, но и в мирное; в Константинополе, в Новом Риме, подобно Старому, было также возле города место для собрания войск, упражнений их и парадов, называвшееся так же, как и в Риме, Campus, Κάμπος. Здесь в древнее время и происходили выборы императоров войсками, когда в этом была надобность и не оказывалось прямого наследника.
Вместо Марсова поля (Campus) выборы происходили иногда и в Константинополе, и в Ипподроме, находившемся возле Большого дворца и представлявшем большие удобства для собрания массы народа. Наконец, в случае болезни императора, желавшего провозгласить нового императора соправителем, провозглашение делалось в одной из зал Большого дворца. Образцы всех этих провозглашений и записаны были в своё время церемониальных дел чиновниками, а потом вошли в сборник Константина Багрянородного31.
Один из обрядов старинного сборника представляет собою запись о провозглашении Льва I (457 г.) на Марсовом поле (ἐν τῷ ϰάμπῷ)32. После провозглашения, Льва ввели на трибунал и надели на голову золотую цепь или гривну, а другую дали в правую руку. Знамена, лежавшие доселе на земле, поднялись, и Льва облачили в царские одежды тут же, на трибунале, и надели диадему, т.е. настоящий царский венец. После обычных приветствий со стороны народа и войска, и объявления милостей и подарков со стороны нового императора, Лев пошел пешком в походную церковь – палатку, где, снявши предварительно венец, Лев помолился, а потом, выйдя из церкви и надев венец, Лев сел на белого коня и доехав на нем до храма Иоанна Крестителя, где также молился у св. престола, на который он клал царский венец. Положивши на св. престол свое приношение, Лев вышел из храма и, надев венец, поехал в город, сначала верхом, а от дворца Елены, где он облачился в еще более драгоценные царские одежды, Лев едет в колеснице до св. Софии, где корона также кладется на св. престол, а потом при выходе надевается епископом.
В другом обряде въезда из Евдома мы имеем описание триумфального вступления в столицу царя Василия I Македонянина с сыном Константином по возвращении из победоносного похода [Cerim. I, р. 498].
Василий с сыном и свитою, возвратившись из похода, остановились сначала по обыкновению в загородном дворце, на азиатском берегу, в Иерии (теперешний Кади-кёй против самого Стамбула), а оттуда переехали в Евдом, где встречены были народом и синклитом, бывшим в то время в Константинополе. Прибывшие цари отправились прежде всего в храм Иоанна Предтечи, что в Евдоме (ἐν τῷ τοῦ Προδρόμου ναῷ τῷ ἐν τῷ Ἑβδόμῳ). Помолившись здесь и потом переодевшись, Василий с Константином сели на коней и предшествуемые и сопровождаемые синклитом и народом поехали к Золотым воротам. Доехав до монастыря Аврамитов, находившегося пред Золотыми воротами, цари сошли с лошадей для того, чтобы войти в храм Богородицы Аврамитов (так называемой Нерукотворной, Ἀχειροποιήτου); помолившись и переодевшись, цари сели на белых коней и после приема и славословий партий ипподрома, поехали к Золотым воротам, перед которыми были встречены епархом города, после чего въехали в средние большие двери Золотых ворот и проследовали к св. Софии по Средней или Большой улице, вслед за процессией пленных и предметов военной добычи, которые, предварительно собранные и расставленные на лугу (ἐν τῷ λιβαδίῳ) пред Золотыми воротами, пропущены были через Золотые ворота, пока царь был в храме Богородицы Аврамитов.
В обоих обрядах указаны немногие пункты в таком порядке, что сначала мы встречаем трибунал в Поле, потом храм Иоанна Предтечи, затем монастырь Аврамитов пред Золотыми воротами и луг пред ними же и, наконец, Золотые ворота, ведущие через Среднюю или Большую улицу к св. Софии и дворцу. Никаких других известных нам и даже неизвестных топографических пунктов на пути не упоминается.
Имея это в виду и принимая во внимание, что, по приведенным самим же Дюканжем свидетельствам, Евдом, представляя собою приморский пункт (παραθαλάσσιος τόπος), получил свое название от того, что он отстоит от города на семь милевых столбов (ἀπέχει δὲ τοῦτο ἑπτὰ σημείοις τῆς πόλεως) или точнее стоит у седьмого милевого столба (Septimo milliario), мы поищем Евдом, согласно с мнением Адр. Валезия и новейших его последователей, на берегу Мраморного моря, тем более, что тут шла от Золотых ворот знаменитая Via Egnatia, на которой, как и на других больших римских дорогах, были поставлены милевые столбы. Эти столбы считались не от города в тесном смысле, а от первого милевого столба в Константинополе, т.е. от так называемого Милия, который, как мы видели, стоял у юго-западного угла двора св. Софии и от которого начиналась Средняя или Большая улица, ведшая к Золотым воротам и далее переходившая в Via Egnatia.
Так как римская миля равна около 12/5 версты или километра, то 7 миль составляет около 10 верст или километров. Берем циркуль и прикидываем на плане окрестностей Константинополя, изд. Штольпе (Stolpe), от св. Софии по берегу Мраморного моря. Выходит, что седьмой милевой столб, или Евдом, находился там, где теперь стоит городок Макри-кёй, как предполагал фан-Миллинген, который нашел и порт Евдома в маленьком заливе, находящемся между Макри-кёем и Золотыми воротами. От города в строгом смысле, т. е. от городских стен или Золотых ворот Макри-кёй отстоит на 5 верст или километров, т.е. на 31/3 римских мили, а это очень важно в виду того, что Дюканж придает большое значение удалению Евдома от города на 7 миль и между прочим видит в этом расстоянии значительные препятствия для признания мнения Адр. Валезия более или менее вероятным, если не справедливым.
В источниках он находит, что Поле и весь Евдом были в виду города, следовательно, были весьма близки к нему. Евдом вполне удовлетворяет этому условию: из него виден Константинополь, так же как из Константинополя виден Макри-кёй, тем более что берег Мраморного моря от Константинополя до Макри-кёя и даже до Сан-Стефано представляет плоскую равнину, не пересеченную более или менее значительными горами и оврагами, которые бы мешали видеть на значительное расстояние. И это опять-таки очень важное обстоятельство, так как для Марсова поля, требовавшего довольно значительного ровного пространства, удобного не только для маршировки и маневрирования пехоты, но и для упражнений и езды кавалерии трудно было выбрать место более удобное, чем берег Мраморного моря, между тем, как чем больше мы будем удаляться от берега Мраморного моря и приближаться к Золотому рогу, тем местность становится более неровною, овражистою и лесистою, а за Адрианопольскими воротами и дорогою к Западу, против стен Ираклия, словом там, где предполагается Евдом, окрестности Константинополя до такой степени покрыты невысокими лесистыми горками и оврагами, что там даже некоторым последователям Дюканжа казалось неудобным устроить Марсово поле. Эта местность скорее удобна была и есть для прогулок и охоты, для чего она и служила действительно в средние века. Да и большой дороги тут не было и нет, а, следовательно, и милевых столбов не было надобности выставлять в этом направлении, а не было столбов – не могло быть и местности, названной по милевому столбу. Тем более не могло быть здесь поля, видного из города на семь миль, – десять верст.
Хотя со стены, к которой примыкает Текфур-Сарай, пожалованный в звание Евдома и Влахернского дворца, вид был очень красив и разнообразен, но именно потому, что с этой стороны нет более или менее обширной равнины, которая могла бы служить Марсовым полем для средневековых войск.
Но забудем все это и представим, что Евдом с простирающимся пред ним на 10 верст полем находился действительно там, где его и предполагали Жилль, Дюканж и их последователи. Льву I и всем царям, ехавшим из Евдома через Золотые ворота в город, приходилось бы сначала проезжать мимо почти всей сухопутной стены со всеми воротами и дорогами. Ничего подобного на пути их, однако же, не упоминается и никогда об этой дороге за стенами или внутри стен к Золотым воротам из Евдома не говорится. Василий Македонянин, переехавший в Евдом с азиатского берега, мог доехать до Евдома или мимо Золотых ворот и всей стены Феодосия II, или через Золотой рог и Влахернский квартал, или около него за стеной, а потом из Евдома ехать мимо стены к Золотым воротам. Ничего подобного в обряде, однако же, нет, а говорится, что Василий прямо переехал в Евдом (διεπέρασεν) по морю и вошел в храм Иоанна Предтечи, который стоял где-нибудь близко от пристани, а между тем, по Жиллю и Дюканжу, он был в городе, и шествие от него к храму Богородицы Аврамитов было по городу или из города за городские стены и мимо их к Золотым воротам. Как же о всем этом ничего не сказано в обряде, который именно и должен отметить, где и как шел царь: топографическая точность составляет задачу и отличительную черту современного событию составителя описания въезда, а между тем он ничего не говорит о каких-нибудь посредствующих топографических пунктах. Но относительно Василия Македонянина могло быть сомнение: как он доехал до Евдома, через Золотой рог или через пристань у Золотых ворот и мимо всей стены Феодосиевской до Ираклиевой? Да и зачем ему нужно было ехать в Евдом, когда он из него сейчас должен был опять ехать к Золотым воротам, если он высадился у них? Такие и тому подобные вопросы возникают сами собою, если мы предположим, что Евдом действительно находился между Адрианопольскими воротами и Влахернским дворцом. Но все такие вопросы разрешаются просто и даже вовсе не возникают, если мы предположим, что Евдом находился, где теперь лежит Макри-кёй. Мало того. Эти соображения находят полное подтверждение в обрядах, в которых описывается въезд не через Евдом. Сюда принадлежит прежде всего вышеназванный обряд, в котором описывается въезд царя Феофила [Cerim. I, р. 503 sq.], который до Золотых ворот ехал так, что должен был ехать через Жилль-Дюканжевский Евдом, а между тем он в обряде вовсе не упоминается, тогда как другие топографические пункты, которые действительно лежали на пути Феофила, упоминаются. Кроме въезда Феофила сюда можно отнести и въезд Юстиниана [Cerim. I, р. 497], который въезжал через Адрианопольские ворота, был, так сказать, совсем возле Жилль-Дюканжевского Евдома, но в него не заехал.
Царь Феофил, последний иконоборец (829–842), возвратившись из похода, остановился на азиатском берегу, как и Василий. Но синклит и народ встречал его не на европейском берегу, в Евдоме, как потом Василия, или у Золотых ворот, как встречал еще значительно после Никифора Фоку, а в Иерии, куда явилась и царица Феодора приветствовать мужа. Пробыв здесь 7 дней в ожидании прихода пленных и добычи, которые должны были принять участие во везде в город, Феофил переправился в монастырь св. Маманта, где пробыл 3 дня вместе с синклитом. Отсюда он переплыл во Влахерны и, выйдя из лодки (дромона), сел верхом на коня, но поехал не по Влахернскому кварталу внутри городских стен, а вне стены, и этим путем доехал до луга, где была приготовлена для пего палатка пред Золотыми воротами. К этому времени на лодках перевезены были сюда же добыча и пленные (βαλόντες αὐτοὺς εἰς πλοῖα διεπέρασαν) и начался торжественный въезд. Феофил с кесарем Вардою, выйдя из палатки, сели на коней и въехали в Золотые ворота. Ни в монастырь Аврамитов, ни в храм св. Иоанна Предтечи Феофил не заходил и не заезжал; о них обряд не говорит ни слова, как не говорит и об Евдоме, а между тем, если бы Евдом был там, где предполагают его Жилль-Дюканж, то проехать через Евдом, по крайней мере через поле Евдома, мимо самого дворца и трибунала, Феофилу, было необходимо, а вместе с тем он непременно был бы упомянут в обряде. Ведь пристань Евдома, по словам Дюканжа, и есть собственно Влахернская пристань, к которой нужно было ехать по Золотому рогу. Путь Феофила к Золотым воротам через Золотой рог и есть собственно тот путь, которым нужно было ехать к Жилль-Дюканжевскому Евдому, а между тем, ни Евдом, ни церковь Иоанна Предтечи, ни походная церковь-палатка, которые упоминаются в Евдоме, на этом пути не встречаются и не упоминаются. А они пропущены в обряде быть не могли, если бы эти топографические пункты действительно были на пути Феофила. Ясно, что их тут не было, и Феофил не заходил в названные храмы, потому что они находятся в Евдоме, а Евдома тут не было.
Точно также Юстиниан Великий, совершая въезд через ворота Харисия, которые теперь называются Адрианопольскими, проезжал очень близко от Евдома и Поля, но ни в Евдоме, ни в тех храмах, которые упоминаются обыкновенно в подобных случаях, не был. Если бы Евдом был действительно там, где его предполагает Дюканж, то Юстиниан, наверно, ехал через него или, по крайней мере, заехал в него. Ничего подобного, однако же, не было: Юстиниан проехал из ворот Харисия прямо в храм Апостолов для поклонения праху царицы Феодоры, а оттуда проехал в Большой дворец. Об Евдоме во всем церемониале въезда Юстиниана ни слова.
Напротив, в общем обряде въездов царей в Константинополь с разных сторон, когда речь идет о въезде из городов, лежавших на Мраморном море, в числе таких городов нередко упоминается Евдом, между тем как на других путях об Евдоме речи нет, по той простой причине, что Евдом приходилось проходить только на пути в столицу с юго-запада или запада по via Egnatia, начинавшейся у Золотых ворот, если царь, подобно Василию Македонянину, не желал начать въезда из Евдома, даже возвращаясь из Азии.
Но общему обряду въездов царя, когда он возвращается с запада, известные чины обязаны встречать его в Ригии, а если желают, даже и в Ираклии, но синклитики встречают царя в Евдоме и, если царь подъезжает сюда сухим путем, а не по морю, встречают царя перед храмом отроков (τῶν Νηπίων), причем царь сходит с лошади и, поцеловавшись с чиновниками, входит в храм и молится. Царь после этого въезжает в Евдом, а синклитики уходят, куда кому угодно. Если же царь прибывает в Евдом по морю на лодке (дромоне), то синклитики встречают его на берегу и, по выходе царя из дромона, целуются с ним, а потом провожают его до ворот Золотых, а не ворот Трибунала, придуманных переводчиком, применяясь к мнению Жилля и Дюканжа относительно Евдома, хотя в тексте греческом никакого трибунала тут не упоминается.
Как видит читатель, в обряде въезда царя с запада через Евдом сухим путем или морем ни одного намека нет на какие-нибудь топографические пункты, лежащие в области так называемого Текфур-Сарая ни на суше, ни на море, как это было в обряде въезда Феофила, который проехал именно через те места, где нужно было ехать в мнимый Евдом, и через него, как видно из названных топографических пунктов. Потому и нельзя видеть никаких оснований в обряде в пользу теории Дюканжа: он, напротив, говорит, в пользу теории Адр. Валезия, в пользу того, что Евдом находился на Мраморном море, так как до него можно из западных городов доехать и сухим путем и по морю, не проходя и не проезжая при этом какие-нибудь общественные и важные пункты, которые, наверно, были бы названы, если бы проходили через них или мимо их. Из приведенного почти целиком обряда можно только вывести, что на западном краю пригорода Евдома стоял храм в честь Отроков, у которого царя встречали синклитики и из которого царь уезжал в Евдом.
Если данные Придворного устава не только противоречат помещению Евдома на Мраморном море, но скорее подтверждает это, то Церковный устав в древнейших редакциях еще яснее говорит в пользу мнения Адриана Валезия. Дело в том, что в церковных уставах, имеющих в виду собственно Константинополь, указывалось не только имя святого на известный день, но часто и храмы, где праздновалась память, и способ, каким отличалось празднование памяти святого или какого-нибудь замечательного события. Наши византологи, Η.Ф. Красносельцев и А.А. Дмитриевский, как известно, познакомили ученый мир в древнейшим таким уставом, принадлежащим IX веку33, а в скором времени будут изданы извлечения из Церковного устава, составленного в X в. по инициативе Константина Багрянородного, того самого, по почину которого составлен и увидел свет Придворный устав.
В обоих уставах, особенно во втором, много и часто говорится о крестных ходах, совершавшихся в Константинополе по разным случаям, между прочим в воспоминание событий и бедствий, постигших город. В числе таких событий видное место занимают довольно нередкие в Константинополе землетрясения, если они сопровождались какими-нибудь сильными, потрясающими и поразившими современников бедствиями и разрушениями зданий, стен, храмов, памятников и т. п.
В память таких, землетрясений, как и других бедствий, вроде нашествия неприятелей, установлены были крестные ходы в те именно места, где это бедствие было особенно заметно и ощутительно и куда крестные ходы совершались иногда во время землетрясений, продолжавшихся иногда по нескольку дней, недель и даже месяцев, так что установленный на последующие времена крестный ход бывал иногда только ежегодным воспоминанием тех молитвословий и крестных ходов, которые совершались во время самого бедствия для умилостивления Бога, наказавшего жителей столицы за какие-нибудь преступления.
Из многих «трусов», постигших Константинополь, самый сильный и продолжительный трус был, по-видимому, в царствование Феодосия II Младшего, когда страшное землетрясение продолжалось несколько месяцев и когда совершались всевозможные молебствия и крестные ходы для смягчения праведного гнева Божия и когда было услышано младенцем Трисвятое (τρισάγιον) во время одного крестного хода за город, в котором участвовал сам царь в траурной одежде с босыми ногами. Не говоря уже о массе зданий, разрушенных землетрясением, самые стены городские пали и открыли Новый Рим врагам, если бы таковые явились. В воспоминание этого ужасного землетрясения установлен был крестный ход в Евдом из св. Софии, который настолько подробно описан в одном из древнейших Церковных уставов, что позволяет судить о направлении крестного хода не только до стен города, но и за ними, и свидетельствует о том, что было за стенами в направлении крестного хода.
Я разумею Иерусалимский список устава Великой Церкви, где под 25 сентября, когда началось землетрясение, окончившееся в конце января, указан крестный ход из Великой Церкви в Трибунал Евдома34. Лития, по обыкновению, начинается в св. Софии и совершается так же, как и другие торжественные литии. Во главе крестного хода шествует сам патриарх через фор Константина и далее по Средней или Большой улице до Золотых ворот, причем в главнейших пунктах, как фор Константина, Золотые ворота, совершаются молебствия (δοξάζουσι). От Золотых ворот крестный ход с пением Трисвятого двигается к Марсову полю и Трибуналу, где совершалось последнее молебствие и читается евангелие с апостолом. Евангелие читает патриарх, диакон за патриархом громким голосом повторяет его, чтобы слышали все присутствующие. После евангелия диакон возглашал во всеуслышание, что литургия, по принятому обычаю, будет совершаться в храме св. Иоанна Богослова близь Евдома, куда патриарх тотчас же и уходит с клиром.
Существенными, важными для нас, чертами в этом описании являются те важные указания, которые свидетельствуют о направлении крестного хода и последовательности топографических пунктов, здесь названных. Крестный ход идет по Средней улице к Золотым воротам, а от них к Полю и Трибуналу. Это как нельзя более согласно с тем положением Евдома, который предполагал Адр. Валезий и его сторонники, но совершенно и безусловно противоречит предположению Дюканжа. Если Евдом на северной стороне, около Влахернского квартала, то зачем лития идет через Золотые ворота на юг, вместо того, чтобы идти на север, зачем в этом случае крестный ход удаляется от Евдома вместо того чтобы прямо с фора Константина идти к северу, как бывает обыкновенно в других литиях, имевших своею целью какой-нибудь северный храм? Если 25 сентября крестный ход из Золотых ворот направлялся к Дюканжевскому Евдому у Влахернского квартала и к Полю у Золотого рога, то ему приходилось идти вдоль всей сухопутной стены и пройти много ворот и интересных пунктов, которые, наверно, были бы названы, если бы действительно лития шла мимо их. На пути следования, по миновании всех главных ворот, было бы не Поле, которое простиралось на семь миль от города, а Трибунал или дворец, а между тем сначала является Поле, потом Трибунал. Да и патриарху, о котором так много беспокоится Дюканж, опасаясь за его силы, пришлось бы идти гораздо больше, нежели ему в действительности приходилось идти по берегу Мраморного моря от Золотых ворот до Евдома, тем более что местность тут ровная и гладкая, между тем как к Дюканжевскому Евдому от Золотых ворот нужно идти по дороге неровной, со спусками и подъёмами, хотя и довольно отлогими.
Таким образом, как Придворный, так и Церковный уставы своими указаниями дают полные основания искать Евдома на Мраморном море, а не у Влахернского квартала. Все указания Придворного и Церковного уставов совершенно понятны и легко объяснимы только в этом смысле; напротив, они представляют большие затруднения и нужно делать большие натяжки для объяснения разных мест у средневековых писателей, если мы будем следовать Жиллю-Дюканжу, который принужден был для поддержания раз принятой им неверной точки зрения Жилля, делать такие объяснения и комбинации, которые он не допустил бы никогда без предвзятой мысли.
Оставив без защиты совершенно невозможное мнение Жилля о том, что Евдом был седьмым кварталом в Константинополе, Дюканж принужден прибегнуть для объяснения названия также к невероятной догадке, что Поле (Κάμπος, Campus), Трибунал и дворец (Магнавра) назывались Евдомом по той причине, что это поле простиралось на семь миль. т. е. на десять верст, хотя упомянутые постройки, как и храмы, находились в городе, внутри стен. Кому придет в голову называть седьмым т. е. столбом то, что только простиралась до него, или оканчивалось у него, между тем как главная часть Поля и его здания находились в городе? Кто скажет и мог говорить, что храм Иоанна Предтечи находится у седьмого столба, если бы он был за 7 столбов от него, в городе Константинополе? А между тем указания средневековых писателей на то, что Поле, Трибунал и дворец находились у седьмого столба, так точны что не оставляют никакого сомнения, и нужны большие усилия и самые смелые предположения, чтобы перетолковать их. Все эти усилия даже такого авторитета, как знаменитый Дюканж, разбиваются однако же совершенно теми двумя обстоятельствами, неопровержимыми и неоспоримыми, что в том месте, где Жилль-Дюканж помещают свой Евдом никакого Поля на десять верст быть не могло, потому что пред Текфур-Сараем, на восток от Адрианопольских ворот до Золотого рога, нет и не было места для Марсова поля. Как уже было замечено, местность на север от Текфур-Сарая настолько изрыта лесистыми горами и оврагами, что никому не могло прийти в голову делать здесь Марсово поле, которое, кроме того, не было бы видно из города, если бы оно тут было, а было бы почти на всем протяжении скрыто за возвышенностями. А между тем Дюканж часто говорит о том, что Κάμπος было видно из города, было в виду города, но при этом, к сожалению, не указывает, по какой дороге лежало это Поле, на какой дороге был этот милевой столб, по которому названо Поле и все примыкающие к нему постройки. Тут, на запад от Адрианопольских ворот, никакой большой дороги не было и быть не могло, потому что в ближайшей к Золотому рогу области западнее Адрианополя никаких больших городов и важных областей, нуждавшихся в прямом сообщении, не было, как нет и теперь. Всем этим условиям вполне соответствует теперешний Макри-кёй: он лежит в ровной, прилегающей к морю местности, находящейся в виду Константинополя, при большой дороге, ведшей на запад в главные европейские города и области Восточно-Римской империи, около 7-го милевого столба. В нем находился дворец с большою тронною залою (консисторий) и Трибунал, выходивший на Марсово поле, которое тянулось отсюда, по крайней мере могло тянуться, до самого Константинополя или до прилегавших к нему с юго-западной стороны монастырей. Исходным пунктом или центром этого поля служили не здания, находившиеся в Константинополе, а стоявшие у седьмого милевого столба, потому и называются они находящимися в Евдоме, у седьмого миллиария и т. п. К этому месту можно прибыть из Азии и Европы по морю, а из Европы и сухим путем, как сказано в обряде, не проходя никаких важных пунктов, в роде Золотого рога и Влахернского квартала.
Опасения Дюканжа, что жители во время землетрясения не побежали бы так далеко, к 7-му милевому столбу, а раскинули бы свои палатки раньше, являются совершенно излишними, так как Евдом был у седьмого милевого столба, считая не от городской Феодосиевской стены, а от Милия, да кроме того Поле (Campus), на которое жители спасались, лежало между Евдомом и городом, следовательно, еще ближе от города, чем Евдом.
Принимая во внимание то обстоятельство, что на половину, т. е. на 3½ мили тянулся город от начального милевого столба, так называемого Милия, легко убедиться, что Марсово поле, как мы заметили, могло подходить очень близко к городу, почти доходить до него, а, следовательно, и жителям не было надобности далеко бежать, а стоило только выбраться из городских стен и соседних с ними монастырей, чтобы очутиться на открытом ровном поле, на Марсовом поле Нового Рима, которое тянулось далее до Евдома.
Потому нет ничего особенно трудного и невозможного в том, что во время землетрясений и других бедствий устанавливались частые крестные ходы на Марсово поле, и сравнение Евдома с Версалем, которое часто делает в своей статье Дюканж, не может иметь места. Версаль отстоит от Парижа несравненно дальше, чем Евдом от Константинополя. В этом случае больше, чем когда-нибудь, соmраraison n’est pas raison. Потому нет ничего невероятного и в том, что на Поле ходили не только пешком, но и босиком (ἀνυπόδετοι) сами императоры и шли с патриархами, как представлено в Минологии Василия под 26 января (рис. см. ниже) и как пишут византийские хронисты.
Но из этой близости Поля к городу, которую желает доказать Дюканж, не следует однако же, что дворец, Трибунал и церкви Поля были в городе Константинополе, как доказывает Дюканж на основании таких указаний и свидетельств, которые вовсе не дают для этого хоть каких-нибудь оснований.
Что Трибунал, дворец Евдома и самый Евдом находился в самом городе Константинополе, Дюканж заключает из таких выражений, в которых авторы, желая дать читателям понятие о том, где находится Евдом и здания, в нем находящиеся: в Риме, Милане, Константинополе или другом каком-либо большом городе, – называют Константинополь, как мы теперь говорим, что наш посол живет в Константинополе, зимой в Пере, а летом в Буюк-дере, хотя ни та, ни другая местность не находятся собственно в Константинополе, а близь него, так как собственно Константинополем, по-турецки Стамбулом, называлась и называется та часть Константинополя в широком смысле, которая огорожена стенами и представляет собою древнюю Византию, в несколько раз увеличенную Константином Великим и значительно распространенную еще Феодосием II Младшим. У современных нам и прежних писателей мы часто можем встретить выражения: в Сокольниках в Москве, на Озерках или в Лесном Институте в Петербурге, в Сен-Клу в Париже и т. п., когда пригородная местность не составляет самостоятельной единицы и может подать повод к сомнению или неясности, тем более, что собственно Евдом означал седьмой столб и часто назывался полным именем: τὸ Ἕβδομον σημεῖον, Septimum milliarium, а следовательно мог быть и в другом месте, особенно около Рима, в котором также был центральный милевой столб, исходная точка для счета милей и милевых столбов по главным дорогам, шедшим из Рима. Потому из выражений историков, приведенных Дюканжем, в роде таких, как: Валент провозглашается императором ἐν τῷ Ἑβδόμῳ εἰς Κωνσταντινούπολιν или Constantinopoli in Milliario VII in Tribunali никак нельзя заключать, что Евдом с Трибуналом находились в самом Константинополе, т. е. внутри его стен. Но высокопочтенный Дюканж, увлекшись мыслью опровергнуть Валезия, дошел до того, что защищает мысль Жилля даже вопреки ясным свидетельствам источников35. Так об Аркадии говорится, что он был провозглашен императором ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τῷ Τριβουναλίῳ τοῦ Ἑβδόμου (Chron. Alex.), in Milliario Septimo Constantinopoli (Marcell.), но в известии о Гонории объяснено подробнее: Ноnоrium pater suus Theodosius in eodem loco, quo fratrem eius Arcadium, Caesarem fecit, id est fоras septimo ab urbe milliario. Ясно и точно обозначено место Евдома: за городом, вне города, у седьмого столба.
Трудно, кажется, понять это место в смысле доказательства, что Евдом находился внутри стен Константинополя и, однако же, это место приводилось в доказательство того, что Евдом и вышеназванные здания находились in ipsa urbe. Трудно даже верить такому толкованию, не прочитавши собственными глазами в статье Дюканжа. В таком же роде приводятся и другие доказательства: Феодосий Младший был провозглашен также ἐν Κωνσταντινουπόλει εἰς τὸ Ἕβδομον ἐν τῷ Τριβουναλίῳ, Василиск ἐν Κάμπῳ, Фока в храме св. Иоанна Предтечи в Евдоме, Константин Копроним ἐν τῷ Τριβουναλίῳ, Лев Армянин ἐν τῷ πρὸ τῆς πόλεως Τριβουναλίῳ и т. д.
Всякий беспристрастный читатель в этих известиях усмотрит только, что, с перенесением резиденции императорской в Константинополь, императоры весьма часто, особенно в древнейшие времена, когда еще живы были римские традиции, провозглашались и представлялись народу и войску с Трибунала на Марсовом поле, точно так же, как это делалось в Риме. Сам Дюканж приводит немало таких известий, где говорится о провозглашениях в Риме на Марсовом поле или в Трибунале, хотя Марсово поле в Риме было также не в городе, а близь него, и провозглашенные в Трибунале Марсова поля императоры торжественно въезжали в город и занимали Palatium, как впоследствии происходило в Константинополе.
Таким образом известия о провозглашении императоров нимало не говорят в пользу того, что Евдом, дворец и Трибунал находились в самом Константинополе. Посмотрим теперь другие известия, главные доказательства Дюканжа, которые он сам признает наиболее вескими и неопровержимыми.
Такими доказательствами в пользу своего мнения Дюканж считает известия об осаде Константинополя саракинами при царях Ираклиевом сыне Константине Погонате и первом иконоборце Льве Исавре. В обоих случаях саракины прибыли к Константинополю на кораблях и потому должны были пристать к какому-нибудь приморскому пункту. В обоих случаях, по свидетельству Феофана [I, р. 353 de Boor] и других хронистов, они пристали к берегу и растянулись от (крайнего западного пункта) Евдома до (крайнего восточного пункта) Кикловия. От врахиалия у Золотых ворот до Кикловия происходили с утра до вечера столкновения и битвы.
Из этих ясных и простых слов Дюканж делает совершенно превратные заключения и притом с такою уверенностью, которая не допускает никаких возражений; возможности предполагать, что саракины пристали к берегу и осаждали Константинополь от Евдома на Мраморном море до Кикловия там же около Золотых ворот, Дюканж совершенно не допускает; признать это возможным значило бы, по мнению Дюканжа, допустить, что можно осадить Париж, занявши линию от Версаля до Луврского дворца. Признавши таким образом мысль Адр. Валезия нелепостью, Дюканж видит в известии, что саракинский флот занимал пространство от западной возвышенности (promontorium, ἀϰρότης) Евдома или Магнавры до Кикловия, полное и неопровержимое подтверждение своего мнения: как возвышенность Евдома может находиться у 7-го столба, когда сказано, что тут находился дворец Магнавры, который находился в городе (Текфур-Сарай)?
Как Кикловий находился у сухопутных стен к востоку у Мраморного моря, так Магнавра находилась у тех же стен, даже в самом городе, к западу у возвышенности Евдома. Только самый упрямый (регviсаx) человек может отрицать эти истины, к которым далее Дюканж присоединяет и то, что саракины подошли к Евдому, т. е. к Полю, по Золотому рогу и таким образом осаждали город на всем протяжении приморских стен от крайнего пункта Золотого рога до конца стены по Мраморному морю, как мы уже сказали выше.
Но, принадлежа к упрямым отрицателям совершенно неверного взгляда Дюканжа на Евдом, мы должны прежде всего сказать, что тожество Текфур-Сарая и Магнавры Евдома принадлежит к выдумкам Жилля и потому не может быть исходным пунктом какого-нибудь доказательства, серьезного и основанного на источниках. Неосновательность этой выдумки видна уже из того, что Дюканж, приняв ее, впадает в явное противоречие, туманность и допускает крайние натяжки; согласно с известием Феофана, Дюканж вынужден говорить, что его Магнавра Евдома (Текфур-Сарай) находится на Западе, а Кикловий на востоке, тогда как на самом деле Текфур-Сарай гораздо восточнее Кикловия. С какой точки зрения мы ни будем смотреть на эти пункты, о них нельзя так выразиться, как выражается (Феофан и) Дюканж, принужденный держаться Феофана. Если смотреть от Золотого рога, то Текфур-Сарай окажется действительно к западу, но Кикловий будет еще западнее, а не будет лежать на востоке, как сказано у Феофана. Если мы будем смотреть с западной стороны Константинополя, то оба пункта: Текфур-Сарай и Кикловий будут лежать на восток и притом Текфур-Сарай гораздо восточнее, чем Кикловий.
Значит ни в том, ни в другом случае, при отожествлении Магнавры с Текфур-Сараем, понять выражения Феофана и представить себе его ориентировку нельзя.
В этом легко убедиться, взявши самый простой план Константинополя и его окрестностей. В этом случае, как и в некоторых других, знаменитый Дюканж как бы намеренно не желает понять простого смысла текста Феофана и дает ему превратное толкование, тем более что указанные Феофаном обстоятельства второй осады, бывшей при Льве Исавре, не оставляют никакого сомнения в том, что саракины пристали к северному берегу Пропонтиды, а не в Золотом роге, а в Золотой рог, напр., вовсе не попали, да и попасть им было нельзя, потому что, как хорошо известно Дюканжу, вход в Золотой рог крепко запирался и оберегался знаменитою в истории города цепью и флотом, который, при всей своем слабости для борьбы в открытом море мог с успехом отразить всякие попытки прорваться в Золотой рог. Да и возможно ли предположить, что Феофан и другие хронисты умолчали о прорыве неприятельского флота в Золотой рог и об осаде Константинополя по всей линии морских стен, линии, которая при всех осадах оставалась свободною и давала возможность внешних сношений? Дюканж и его последователи забыли, что саракины, высадив десант и отрезав защитникам Константинополя путь на запад, могли бы легко принудить город к сдаче, если бы они действительно могли окружить город своим флотом и осадить его по всей морской линии стен по Пропонтиде и Золотому рогу.
Константинополь был взят силою два раза и в обоих случаях неприятельский флот был в Золотом роге, а во всех других довольно частых и многочисленных случаях осад этого не было и не могло быть, благодаря трудности прорваться неприятельскому флоту в Золотой рог. Стоит только вспомнить взятие Константинополя латинянами, чтобы убедиться в важности этого обстоятельства и значения Золотого рога и запиравшей его цепи.
Можно ли после всего этого думать, что вторжение неприятельского флота в Золотой рог и полная осада Константинополя, которая составляла небывало редкое явление, не было замечено и отмечено летописцем?
Полагаю, что допустить этого нельзя в виду того, что отмечаются гораздо менее важные подробности и местности. Как въезд Феофила сравнительно с въездом Василия Македонянина, изложенный выше, свидетельствует, что Феофил через Евдом не ехал, хотя и должен был ехать, и что Евдома на пути Феофила не было, так и молчание о входе неприятельского флота в Золотой рог через цепь и о высадке у Влахерн ясно говорят, что этих весьма важных обстоятельств вовсе не было, как предполагает Дюканж, а если не было, то и Евдома тут не было, а его нужно искать в другом месте, положение которого позволяет объяснить известия Феофана, не прибегая к таким предположениям, которые не только не оправдываются, но даже противоречат источникам.
В самом деле, стоит только прочитать все известие Феофана [I, р. 395 sq. de Boor.] о втором из приведенных Дюканжем случаев осады Константинополя арабами, имевшем место при Льве Исавре, чтобы убедиться в том, что саракины и не думали проникать в Золотой рог и осаждать Константинополь от Влахернского квартала до Кикловия по линии морских стен. Феофан рассказывает, что Сулейман пристал сначала от Магнавры до Кикловия с своим огромным флотом; пробыв здесь два дня, когда подул южный ветер (νῶτος), Сулейман с своим флотом поплыл мимо города (παρέπλευσαν τὴν πόλιν), и часть его войска и флота приплыла к азиатскому берегу против Галаты, а часть пристала к европейскому берегу от Галаты до Клидийского монастыря. Тяжёлые корабли, с прекращением южного ветра, находясь на течении из Босфора, были снесены и сделались жертвою греческого огня, пущенного на них огненосными кораблями, вышедшими от берегов Акрополя, и частью унесены были еще дальше до островов Острого и Широкого, частью разбились о берега, частью потонули. В эту же ночь царь тайно собрал цепь, запиравшую порт у Галаты. Но неприятели, думая, что царь хочет их заманить, снявши цепь, не вошли в порт и не пристали к Галате, а поплыли в залив Сосфения и там укрыли свой флот.
Из этого описания действий и гибели саракинского флота видно, что саракинский флот не только не осаждал Константинополя вдоль всех морских стен, до самой вершины Золотого Рога, но даже не посмел войти в пристань у Галаты, в самом начале Золотого Рога; сначала он не мог войти, потому что мешала цепь, а потом, когда у Галаты цепь была убрана, не осмелился, опасаясь ловушки со стороны греков. Стало быть, в Золотом Роге саракинский флот не только не остановился, но и не посмел войти даже в его устье. А между тем, по Дюканжу, он не только должен был войти в Золотой Рог, но и достигнуть его вершины, лежавшей за пределами города, чтобы пристать к мнимому Полю Евдома, будто бы прилегавшему здесь к Золотому Рогу. Интересно знать, куда бы находившиеся здесь корабли саракинские поплыли при южном ветре, о котором говорит Феофан? Очевидно, всего этого не было и не могло быть, а было то, что Дюканж считает нелепостью, т.е., что саракинский флот в обоих случаях пристал к берегу Мраморного моря от Евдома до Кикловия и во втором случае проделал то, что сообщает Феофан и что в главных чертах сообщено выше. Плыть при южном или юго-западном ветре от Евдома к городу можно только в том случае, если находишься в Мраморном море, а если бы флот находился в Золотом Роге – у воображаемого Жилль-Дюканжевского Евдома, то ему пришлось бы выехать на берег Галаты и Перы и еще выше последней на северный берег Золотого Рога, а никак не попасть в Босфор.
Но если Евдом, у которого пристал саракинский флот и Василий Македонянин, находился действительно на берегу Мраморного моря у седьмого милевого столба, а не пред Текфур-Сараем, не у Золотого Рога, как думал Жилль-Дюканж, то как же нам быть с осадой, которую Дюканж, знаменитый Дюканж, столь всеми византологами уважаемый и почитаемый автор Constantinopolis Christiana, признает большою нелепостью и сравнивает с осадою Парижа посредством занятия линии от Версаля до Луврского дворца? Как глупо и нелепо думать, что таким занятием можно осадить Париж, так нелепо думать, что, заняв линию по берегу Мраморного моря от Евдома до Кикловия, т. е. до начала приморских стен, саракины осаждали, могли держать в осаде Константинополь. В самом деле ведь очень незначительная, ничтожная часть приморских стен от Золотых ворот до Кикловия осаждалась саракинским флотом, а остальные стены как морские, так и сухопутные были свободны. Разве это можно назвать осадой?
Если бы дело упрямых противников Дюканжа было так плохо и они ничего не могли сказать против его возражений и обвинений, то и тогда не было бы достаточного основания переносить Евдом туда, где он быть не мог. Но наше дело не так плохо и безнадежно: за нас говорит вся история осад Константинополя до самой последней, турецкой, включительно.
Константинополь осаждался много раз и чужими и своими, и за исключением двух осад, кончившихся взятием Константинополя, осаждался с суши, а не с моря. Море, благодаря греческому огню и флоту, оставалось свободным; по крайней мере Золотой Рог, запертый цепью и защищаемый даже очень слабым флотом, оставался всегда в руках защитников Константинополя, и неприятельский флот, за исключением латинского (1204 г.) и турецкого (1453 г.), в Золотой Рог не проникал: их удерживала знаменитая цепь, протянутая от Акрополя, т. е. от угла, образуемого Мраморным морем и устьем Золотого Рога, к Галатской башне. Потому благочестивые крестоносцы, чтобы осадить Константинополь с моря и в Золотом Роге, должны были сперва взять Галатскую башню, в которой укреплялся конец этой цепи, а затем уже, отрезавши конец цепи, войти в Золотой Рог. Турки, благодаря этой цепи и защищавшему Золотой Рог флоту, и вовсе не могли пробраться в Золотой Рог с кораблями, а принуждены были перетаскивать корабли из Босфора в Золотой Рог через Перу. Если даже турки, благодаря цепи, не могли прорваться, то во времена большого процветания Восточно-Римской империи прорваться туда через цепь и вовсе было трудно. Саракины при Льве Исавре пытались было прорваться, но неудачно, как мы видели, а когда Лев спустил цепь и, по-видимому, открыл порт, саракины сами не пошли, как было уже сказано.
Если таким образом осадить Константинополь со всех сторон было нельзя, то приходилось брать т. е. постараться взять его с суши. Так делали саракины: они приставали к берегу Мраморного моря не для того только, чтобы осаждать берег и часть стены, у которой происходили постоянные стычки, по и для того, чтобы высадить десант, который мог вести правильную осаду и занимать долины и холмы в окрестностях Константинополя от Золотых ворот до Золотого Рога и впадающих в него речек.
По словам Феофана [I, р. 395 sq. de Boor], Масалмá, перезимовавши в Азии, пристал к Авиду (Ἄβυδоς) и переправил достаточное количество войска во Фракию и двинулся против столицы, грабя и разоряя Фракию. Подойдя к стенам города, саракины вырыли вокруг стены (сухопутной) большой ров, а над ним возвели стену высотой до груди.
Ясно, что саракины осаждали не только берега Пропонтиды, но все сухопутные стены и притом не только грабили окрестности, но вели правильную осаду города с суши, как делали большей частью неприятели, пытавшиеся взять город. Подобным образом, вероятно, осаждали саракины и при Константине Погонате, а не ограничивались стычками около Кикловия и стоянием у берегов Пропонтиды.
Подобным образом осаждали Константинополь и болгары под предводительством Симеона, который занимал и опустошал окрестности Константинополя, а в конце концов, после неудачных попыток взять город, удалился в Евдом, где, вероятно, была главная квартира, и вел переговоры о мире. Примеров таких и подобных осад можно было бы привести много, если бы была в этом надобность и, если бы эти случаи не были известны каждому, более или менее знакомому с византийскою историей. Дюканжу, конечно, все это было известно, но он, как бы нарочно, закрывал глаза на противоречащие его мнению факты или перетолковывал их по-своему. Он сам приводит в XIII гл. своей статьи этот факт и говорит, что Симеон вырыв ров от Влахерн до Золотых ворот. При этом, конечно, Симеон должен был проводить ров и через Евдом, если бы он находился у Влахерн, но об Евдоме ни слова во время осады: о нем говорится только тогда, когда Симеон отчаивается взять Константинополь. Да и как Симеон мог с своим штатом поместиться в Евдоме, т. е. в его дворце и прилегающих к нему зданиях, если этот дворец (Текфур-Сарай) в городе, за его стенами. Но Дюканж все эти обстоятельства благоразумно замалчивает, как противоречащие его теории, а таких обстоятельств во время набегов Симеона на Константинополь было очень много, и это упрямые противники Дюканжа не могут опустить без внимания.
Во всяком случае, как мы видели, в осаде саракинами Константинополя, приставшими к берегу Мраморного моря от Евдома до Кикловия, ничего нелепого нет, а напротив, большая нелепость допускать, что они заняли Золотой Рог до самого его начала, когда они боялись войти даже в его устье, как об этом точно и ясно сообщается в хронографии у Феофана и у других хронистов.
Если главное возражение Дюканжа, его главные доводы в пользу помещения Евдома у Влахернского квартала оказываются в сущности недоразумением, совершенно неожиданным и мало вероятным со стороны такого авторитета, как автор Constantinopolis Christiana, – то остальные его толкования и доказательства имеют еще менее значения, так как отличаются еще большими натяжками. Прямое свидетельство источников, что дворец Евдома, консисторий Грациана или Юстиниана находится in Septimo ab urbe milliario, Дюканж считает за простую locutionis forma и утверждает, что дворец этот находился даже не за городом, а в самом городе. Объявив таким образом несогласные с его мнением свидетельства средневековых писателей только за locutionis formae, Дюканж объявляет, что, хотя Евдом и называется προάστειον, хотя и говорится в источниках, что он находился πρὸ τῆς πόλεως, но это не значит, что Евдом действительно был на некотором расстоянии от города, он мог быть и в самом городе, так как προάστεια назывались не только ближайшие к городу поселения, но части города, лежащие на окраинах. После этого все можно утверждать и не стесняться никакими свидетельствами источников, как бы ясны и точны они ни были. И действительно знаменитый византолог оказался вынужденным дойти до того, что стал совершенно превратно толковать показания источников, которые в других вопросах Дюканж не заподозривает в такой превратности и неточности, как будто они не умели выразиться более точно. Церковный историк Сократ сообщает [Hist. eccles. VI, 6], что храм Иоанна Предтечи в Евдоме отстоит от города на 7 миль (это замечание Сократа повторяется у него два раза [ср. VI, 1l]), а Дюканж говорит, что на семь миль тянулось Поле, а храм Иоанна Крестителя нисколько не отстоял от города, а был внутри самого города, недалеко от дворца (Магнавры), который также находится в городе, в стенах его, хотя и был в Евдоме. По толкованию Дюканжа, действительность оказывается, как раз противоположною тому, что говорится в источниках. В заключение своего рассуждения Дюканж делает выводы прямо противоположные тому, что нужно ожидать на основании источников: все те здания и топографические пункты, которые в источниках называются стоящими в Евдоме или у седьмого милевого столба, вовсе там не находились. Там, напротив, ничего не было, а все, что было в Евдоме по словам историков и других писателей, было не в Евдоме, а частью на пространстве от этого Евдома до города, а большею частью самые важные здания – в самом городе, т.е. на семь миль от Евдома.
Если бы подобные, явно противоречащие источникам соображения стал доказывать кто-нибудь другой, а не Дюканж, то на подобные словоизвержения никто бы не обратил внимания: до такой степени они невероятны и явно ложны. Нужно допустить, что все средневековые писатели сговорились морочить читателей и намеренно вводить их в заблуждение: не говорить того и так, что и как было, а говорить то, чего не было и быть не могло.
Ради чего же Дюканж приписывает писателям такие злые намерения? Единственно для того, чтобы доказать, что Евдом был там, где его не было и быть не могло, и не был на том месте, где он действительно был. Для чего ему нужно было это, для чего ему нужно было опровергать справедливое мнение Адр. Валезия, я не понимаю. Неужели для того, чтобы доказать, что он, Дюканж, ошибаться в вопросах топографии Константинополя не может, и Адр. Валезий напрасно суется с своими поправками? Этому не хочется верить!
Как бы то ни было, но для меня совершенно ясны и несомненны ошибки и ложные толкования Дюканжа. Думаю, что они будут еще яснее, если мы выясним себе положительную сторону вопроса и постараемся определить, что такое был Евдом и что в нем было, при этом строго держась источников.
Евдомом, как уже было много раз сказано, называлось предместие Константинополя (προάστειον, suburbanum), лежавшее на берегу Мраморного моря по дороге (via Egnatia), шедшей от Золотых ворот у седьмого милевого столба (ἐπὶ τῷ Ἑβδόμῳ !μιλίῳ, in septimo milliario), считая от начального милевого столба, так называемого Милия, находившегося у юго-восточного угла двора (atrium) св. Софии и служившего исходным пунктом для всех дорог, шедших от Константинополя. По милевому столбу, у которого оно стояло, предместье и называлось Седьмым столбом или просто Седьмым (Ἕβδομον, Septimum). Далее у 12-го столба по той же дороге был городок Ригий, еще дальше Силимврия, Ираклия и т. д.
Было ли в том месте, где стоял Евдом какое-нибудь поселение до обращения Византии в Константинополь, неизвестно, но Константин Великий, превративши Византию в Новый Рим, должен был позаботиться о приискании удобного места для Марсова поля, необходимой принадлежности каждого большого города, а тем более столицы, где стояло всегда много войска, охранявшего новую столицу и императора. Самым удобным и подходящим местом для такого поля был отлогий и ровный берег Мраморного моря близь Константинополя, и Константин Великий естественно выбрал его, так как дальше от берега местность делалась волнистою и еще дальше на северо-восток, около Золотого Рога, она становится овражистою, гористою и лесистою. Такая местность очень красива и удобна для охоты, а не для Марсова поля. И теперь еще окрестности Константинополя у Золотого Рога, на север от бывшего Влахернского квартала, невольно приковывают внимание своим разнообразием, долинами, небольшими оврагами, холмами и лесистыми горками, которые и в средние века привлекали внимание царей, строивших там дворцы с видом на эту красивую и веселую местность.
Совсем другим характером отличается однообразный берег Мраморного моря, благодаря чему, как теперь, так и в средние века он был очень мало заселен, между тем как восточное продолжение Константинополя, берег Босфора и в средние века, и теперь были очень густо заселены, благодаря красивому разнообразию гористых берегов извилистого Босфора. Но именно благодаря ровности и плоскости берегов Мраморного моря с европейской, северной, стороны, особенно у теперешнего Макри-кёя, где этот характер места, эта плоскость далеко уходит и по берегу, и в глубь материка, берега эти более всего годились для военных упражнений, смотров, маневров и других больших военных действий и летних стоянок в лагерях. Близость ее к берегу и возможность морского подвоза провианта, военных припасов и предметов вооружения, как и самых войск, еще более увеличивала удобства этой местности для Марсова поля из всех окрестностей Нового Рима. Van Millingen, указавший на Макри-кёй, как на место прежнего Евдома, говорит, что портом Евдома, который упоминается у писателей и который подвергался исправлению между прочим при Юстиниане, служил или мог служить залив Зейтан-бурну, находящийся между Макри-кёем и Константинополем.
Сделав нарочно поездку для осмотра Макри-кёя, я пришел к тому заключению, что не этот заливчик был портом, так как это собственно не залив, а просто излучина берега с очень незначительным уклоном от прямой линии, который не мог укрывать ни от ветра, ни от волнения. А Евдом действительно был порт, следы которого сохраняются и до сих пор. Дело в том, что, приехав в Макри-кёй и сойдя с поезда, мои спутники и я пошли по улицам Макри-кёя к морю и везде, на улицах и площадях, видели остатки и обломки мраморных колонн, капителей, разбиваемых на куски, очевидно, на известь, устои мраморной цистерны с надписью, которую трудно было разобрать. Такое обилие архитектурных остатков больших и дорогих построек подтверждало и укрепляло предположение, что Макри-кёй был некогда местом, изобиловавшим дорогими и великолепными зданиями, украшенными мраморными колоннами и орнаментами. Выйдя на площадку к морю, я поражен был тем, что одна часть ее была усыпана мелким мусором и от другой отделялась фундаментом какой-то стены, шедшей от городка прямо к морю, вдоль нашего пути, налево от нас. За этим фундаментом какой-то стены была также площадь несколько пониже и на довольно большое пространство она занята была садом (ближе к городу) и огородом, шедшим до самого моря и все понижавшимся к нему. Я обратил на это внимание своих спутников, и мы, идя вдоль этой стены, дошли до берега, очертания которого и развалины построек на нем еще более убедили нас, что сад и огород за фундаментом занимают и заполняют какое-то большое углубление в почве, оканчивающееся каменною стеною у самого моря, которая, однако же, построена недавно и доходит только до половины огорода, замыкая его и не позволяя насыпной почве осыпаться, между тем как другая половина углубления, занятого огородами, оканчивается насыпью, почти омываемою в нижней части волнами моря.
По дощечкам и камням можно пройти за стеною и у подошвы насыпи с одного берега долинки до другого и дойти до каменного помоста, омываемого волнами моря и переходящего в каменную лестницу, сложенную из крупных каменных плит, хорошо обтесанных и прилаженных, но теперь значительно поврежденных временем и волнами. Эта лестница выводит 10–15 ступенями на другой берег углубления, довольно заметно и значительно выступающий в море сравнительно с вышеназванным углублением. Этому возвышенному берегу левой стороны углубления, если смотреть к морю, соответствует такой же берег на правой стороне, который также острым углом выступает в море.
На этом углу теперь устроена простая деревянная беседка для желающих полюбоваться морем. С этой беседки, прямо под нею, на самом краю внизу лежат развалины какой-то византийской башни, размываемые теперь морскими волнами. Один из моих спутников, Г.II. Беглери, спустился к этим развалинам и достал один камень с греческими буквами, указывающими на греческое происхождение башни. Весьма вероятно, что это – остатки одной из башен, фланкировавших и защищавших небольшой порт Евдома, который занимал всю эту, занятую теперь турецким садом и огородом, долину. Вход в него, вероятно, был у выступающих углов, прежде увенчанных башнями, а конец, т. е. противоположная входу сторона, у конца сада, около цистерны, находящейся в саду. Сколько мне помнится, судя по теперешнему углублению, более или менее ясно обозначающемуся среди окружающей местности, древний порт был довольно поместителен и был, по крайней мере, вдвое длиннее стороны, обращенной к морю, между двумя башнями.
Обойдя таким образом все ясно засыпанное углубление, мы пришли к тому заключению, что по своему объёму оно вполне достаточно для небольшого порта и не представляет собою небывалого примера засыпанного порта. Таких примеров не мало по соседству, в Константинополе, где имеются налицо и видны остатки нескольких маленьких портов и пристаней на Мраморном море, теперь разрушенных, засыпанных и заваленных песком и мусором до такой степени, что они превратились в низменности, весьма удобные для садов и огородов, которые и не замедлили явиться на месте старинных портов. Там, где стояли более или менее значительные лодки и корабли, теперь стоят роскошно растущие в насыпной почве деревья, большею частью плодовые, разведены прекрасные огороды, хорошо поливаемые из соседних цистерн, которых немалое количество греки оставили туркам в наследство и которые открываются и до сих пор.
Кроме порта, в Евдоме был дворец для остановок царя и для пребывания среди войск, как строятся дворцы в современных летних лагерях, находящихся возле столиц. Как теперь главы государств нередко живут по целым месяцам в лагерях, особенно гвардейских, так и в Константинополе цари проводили иногда довольно долгое время во дворце Евдома, тем более, что он находился на берегу моря и был одним из пригородных дворцов. Юстиниан I, по-видимому, особенно любил Евдом и подолгу жил там, так что там ему докладывались и подносились для подписи некоторые законодательные акты. Там же происходили иногда заседания советников Юстиниана, т. е. высших и приближенных сановников, составлявших «консисторию», в особой зале, для этих заседаний выстроенной и по имени строителя называвшейся consistorium novum Justiniani.
Дальнейших сведений ни об этой консистории, ни о дворце, как нужно думать и как уверяют писатели, построенном Константином Великим в одно время с преобразованием Византии в Константинополь, когда было выбрано место для Марсова поля, нет. Но так как Макри-кёй еще совершенно не исследован, то нет никаких оснований отчаиваться в том, что найдены будут остатки, а, быть может, и фундаменты дворца в Евдоме; эти остатки, однако же, будут, по всей вероятности, носить не тот характер, которым отвечает дворец, признанный Дюканжем за Евдом (Текфур-Сарай). Довольно значительные остатки этого дворца показывают, что постройка эта не принадлежит времени Константина Великого, а гораздо позднейшей эпохе, когда стены Ираклии уже были и принимались в расчет при постройке. Как длина, так и высота Текфур-Сарая приспособлена к стенам Ираклии. Потому, хотя дворец этот и называется дворцом Константина, но под этим Константином нельзя разуметь Великого.
Гораздо чаше, чем дворец Евдома в известиях средневековых писателей фигурирует Трибунал Евдома, на котором провозглашались новые императоры. Трибуналы составляли почти необходимую принадлежность римских и византийских дворцов и служили для выходов царей в многолюдные собрания чинов, войска и народа.
В виду обширного места, занимаемого трибуналами, особенно тою частью его, которая назначалась для войска и народа, они были обыкновенно открытые и в простейшем виде состояли из ровной обширной площадки с эстрадою или возвышением для представителей власти и высших сановников, которые показывались на этой эстраде собранию и говорили к собравшимся речь непосредственно или через какого-нибудь чиновника, как бывало обыкновенно. Эстрада эта соответствовала конхам с возвышенным полом в тронных приемных залах и базиликах, с которыми мы имели уже случай познакомиться при описании частей Большого Дворца (ср. рис. 17 и 18).
В цирке Константинопольском площадку заменяли места для сиденья и беганья лошадей, а трибунал заменяла так называвшаяся кафизма, т. е. здание с троном для царя и местами для чинов и свиты, которые частью помещались рядом с царем, частью ниже его на уступах и террасах эстрады. На Марсовом поле Трибунал мог состоять из каменной эстрады, выходившей на более или менее значительную площадь, на которой собирались войска и куда мог сходиться и народ, публика, между тем как чиновники и сановники размещались обыкновенно на эстраде, когда император или полководец выходил на эстраду для обращения к народу. Такой Трибунал был, очевидно, и в Евдоме и на нем, как было приведено выше, по исконному римскому обычаю, войскам предъявлялся и ими утверждался, так сказать, новый император, что потом иногда делалось в Ипподроме или каком-нибудь дворцовом трибунале или в обширной зале.
Кроме этих зданий, в Евдоме было несколько церквей, частью построенных императорами и снабжённых замечательными и весьма чтимыми реликвиями. Особенно видное значение имела церковь во имя Иоанна Предтечи, которую Феодосий Великий положением в ней главы Иоанна Предтечи поднял на степень весьма важной христианской святыни, тем более, что первоначально в ней совершалось, по-видимому, благословение патриархом или епископом Константинопольским царских регалий, т. е. совершался древнейший и простейший обряд коронации, который впоследствии с гораздо большею помпою и церемониями совершался в св. Софии. Храм этот был возобновлен Юстинианом, который и для Евдома является таким же видным строителем, как для многих других мест империи: по его имени называлась зала во дворце, устроенная для деловых приемов и совещаний, он очистил засорившийся порт Евдома и вообще, очевидно, заботился о благоустройстве этого предместья столицы36.
После храма в честь Иоанна Предтечи самою важною церковью Евдома считался храм Иоанна Богослова, в котором служилась литургия в день крестного хода в память знаменитых землетрясений, бывших при Феодосии II. Почему именно в этом храме совершалась литургия в этот день, сказать довольно трудно. Быть может, этот храм или сам сильно пострадал от землетрясения, или ближайшая к нему местность подверглась наибольшему разрушению37.
Кроме этих двух храмов в Евдоме было несколько других церквей, не евктириев только, но приходских, показывающих, что Евдом был довольно большое и населенное предместье, состоящее из нескольких слобод или кварталов, к числу которых без сомнения принадлежат и Алусии, где стоял храм.

Рис. 17. Скульптурные украшения базы колонны Феодосия Великого (вост., сторона)

Рис. 18. Скульптурные украшения базы колонны Феодосия Великого (сев. сторона)
Глава III. Выходы в храм Халкопратийский
Халкопратийский храм во имя пресв. Богородицы, как и Влахернский, принадлежал к числу важнейших и наиболее чтимых храмов христианского Константинополя. После храмов св. Софии и св. Апостолов, Халкопратийский и Влахернский храмы, посвященные покровительнице и защитнице Константинополя, его «взбранной воеводе», служат чаще других такими религиозными пунктами, куда и откуда совершаются торжественные крестные ходы патриарха с духовенством и народом и царя с синклитом38. Как в важнейшие Господние праздники царь совершал богомольные выходы в храм Премудрости Божией, так в важнейшие Богородичные он совершал крестные ходы и богомольные выезды в Халкопратийский и Влахернский храмы. Такое выдающееся значение этих храмов в значительной степени объясняется тем, что в особых приделах при этих храмах хранились драгоценные для христиан святыни, связанные с жизнью Богоматери: во Влахернском храме одежда или покров пресв. Богородицы, а в Халкопратийском ее одежда и пояс.
Несмотря, однако же, на первенствующее значение Халкопратийского храма среди других храмов, посвященных Богоматери, мы имеем очень скудные и противоречивые известия относительно его истории и очень неопределенные сведения о его местоположении39.
Халкопратийский храм пресв. Богородицы назывался так от того, что построен был на месте еврейской синагоги, находившейся среди «Медных Рядов» (τὰ Χαλκοπρατεῖα), в которых евреи торговали своими изделиями из меди40. Евреи поселились и торговали в этих рядах со времен Константина Великого, а при Феодосии Великом, когда он был на западе, подкупив ипарха Гонората, по религии язычника, добыли у него позволение построить синагогу среди «Медных Рядов», которую и построили с большою роскошью и великолепием. Но народ византийский, исповедовавший уже в огромном большинстве христианскую веру и ненавидевший евреев, возмущен был этой антихристианской постройкой и открыто порицал ипарха, который, однако же, мало обращал внимания на эти порицания и продолжал покровительствовать евреям. Тогда народ ночью поджег синагогу и сжег ее. Ипарх донес об этом царю Феодосию, а Феодосий предписал, разыскавши виновных, взыскать с них причиненные евреям убытки и заставить их восстановить сожженную синагогу. Об этом событии и распоряжении царя между тем узнал св. Амвросий Медиоланский и, когда Феодосий в один из Господних праздников, по обыкновению, делал богомольный выход и вошел в кафедральный храм, Амвросий обратился к нему с речью, в которой упрекал царя за то, что он насильно заставляет христиан строить евреям синагогу среди христианского города и, предпочитая врагов Христа верующим в Него, оскорбляет Того, который венчал его царскою короною и вручил его заботам Свое стадо, искупленное страданиями и кровию. На эти резкие упреки Феодосий сначала возразил: а разве можно позволить народу бесчинствовать и производить беспорядки в благоустроенных городах? Но когда Амвросий ответил на это царю, что не следует и евреям позволять иметь синагогу в центре благочестивого города, Феодосий смягчился и, убедившись в справедливости слов Амвросия, простил византийцам их преступление и запретил евреям иметь синагогу внутри города41. Если это запрещение распространялось и на выстроенную уже синагогу среди «Медных Рядов», то самое здание синагоги и «Медные Ряды» с торговцами евреями продолжали стоять до внуков Феодосия Великого42. Только в царствование Феодосия II, им самим или сестрою его Пульхерией на месте еврейской синагоги и «Медных Рядов» был построен храм во имя пресв. Богородицы, причем синагога и «Медные Ряды» были снесены, место расчищено и на нем возведен храм во имя пресв. Богородицы. Но место это продолжало носить свое прежнее название; потому и вновь построенный христианский храм в отличие от других храмов во имя пресв. Богородицы назывался Халкопратийским или в Халкопратиях.
В Хронографии Феофана мы имеем два противоречивых известия относительно времени постройки и строителей Халкопратийского храма. Под 5942 г. от сотворения мира = 450 от Ρ. X., после известия о возвращении из ссылки Пульхерии, сказано, что она тотчас же перенесла из Ефеса мощи св. Флавиана, положила их в храме св. Апостолов, а потом прибавлено: τότε τὴν τῶν Χαλϰοπρατείων ἐϰϰλησίαν τῇ ἁγίᾳ Θεοτόϰῳ ἀνήγειρε συναγωγὴν Ἰουδαίων πρότερον οὖσαν43, т.е. «тогда воздвиг (или воздвигла) Халкопратийский храм св. Богоматери, бывший прежде иудейскою синагогою», смотря потому, к кому мы будем относить ἀνήγειρε, к Феодосию II или сестре его Пульхерии. Дюканж относил ἀνήγειρε к Феодосию и потому видел в этой заметке известие о постройке Халкопратийского храма Феодосием Младшим. Но Рейске не без основания заметил44, что известие о постройке Халкопратийского храма следует относить не к Феодосию, а к Пульхерии, о которой идет речь в предыдущем периоде, заключающем в себе известие о перенесении мощей св. Флавиана. Хотя у позднейших писателей, как Георгий Монах (р. 498 ed. Muralt) и Аноним-Кодин, основание Халкопратийского храма приписывается Феодосию II, но церковные историки: Феодор Чтец и Никифор Каллист относят первую постройку этого храма ко времени царствования Маркиана и Пульхерии (цитаты приведены у Дюканжа 1. с.), так что вышеприведенное известие Феофановой Хронографии можно вместе с Рейске относить и к Пульхерии (Comment, ad Cerim. р. 135 Bonn.), тем более что, по конструкции, оно может быть отнесено к тому и другому, т.е. к Феодосию и Пульхерии. К кому бы, впрочем, мы ни относили эту заметку, во всяком случае в первоначальной редакции Хронографии ее не было. Она, очевидно, вставлена после, быть может, на основании известий вышеназванных церковных историков. Это видно, как из характера этой заметки, так и из того, что в Хронографии Феофана имеется другое известие, по которому первым строителем Халкопратийского храма был Юстин II. Под 6069 г. – 577 от Р. X. в Хронографии Феофана сказано, «в этом году царь Юстин, разрушивши еврейскую синагогу в Халкопратиях, построил храм Владычицы нашей св. Богородицы, находящийся близь Великой Церкви» (πλησιάζουσαν τῇ Μεγάλῃ Ἐϰϰλησίᾳ). Первое известие, как внесенное в Хронографию впоследствии, не вошло в латинский перевод Хронографии, сделанный библиотекарем Анастасием, между тем как второе находится у него в буквальном переводе45.
Но если, признавая известие о постройке Халкопратийского храма Пульхерией или Феодосием за позднейшую вставку, мы устраним таким образом противоречие в самой Хронографии Феофана, то противоречие между показаниями церковных историков, приписывающих постройку этого храма Пульхерии, и вторым известием Хронографии, относящим эту постройку по времени Юстина II, все-таки останется. За неимением оснований для отрицания того или другого из этих известий, можно допустить, вместе с Дюканжем, что в том и другом известии мы имеем дело с действительными фактами, но не одинакового характера. Основание для такого примирительного понимания противоречивых известий дается у Анонима-Кодина.
По словам Анонима-Кодина, в Халкопратиях со времен Константина Великого жили иудеи и продавали изделия из меди. Феодосий Малый выгнал их отсюда, очистил место и воздвиг храм Богоматери. Когда же храм этот от землетрясений развалился, Юстин-Куропалата снова его выстроил и пожертвовал храму недвижимые имущества. Если это известие не комбинация Анонима, то, значить, известие Хронографии Феофана относительно Юстина нужно понимать в смысле восстановления им прежнего, построенного Феодосием или Пульхерией, храма, но разрушенного землетрясением, поэтому Юстин II может в свою очередь действительно быть назван строителем Халкопратийского храма, тем с большим правом, что он же, по словам Анонима-Кодина, построил или пристроил примыкавшие к Халкопратийскому храму с левой или северной стороны-придельные храмы св. Раки (τῆς ἁγίας Σοροῦ) и св. апостола Иакова, брата Господня. Халкопратийский храм в том виде, в котором он был известен в следующие века, с своими приделами, таким образом вполне может быть назван постройкой Юстина II. Только изгнание евреев и разрушение синагоги в первоначальном известии Хронографии неправильно приписано ему.
Кроме одежды и пояса Богоматери в храме св. Раки на левой стороне хранились в особых гробницах мощи жен мироносиц, а на правой стороне волосы Иоанна Предтечи46. Придел св. Раки примыкал к Халкопратийскому храму с левой, северной, стороны, назначенной для женского пола, как это видно из того, что царь, при богомольных выходах в Халкопратийский храм возложивши апокомвий на престол Халкопратийского храма, идет в св. Раку через левую сторону алтаря и храма47. Здесь в женском нарфике находилось крыльцо (ἡ τροπιϰή), из которого был вход в южную часть храма св. Раки. Так как это крыльцо или портик служит не только входом из главного храма в придельный, но и местом стояния царя и переоблачения, то необходимо признать, что значительная часть этого портика представляла собою закрытое помещение, в данном случае заменявшее собою мутатории и параклитики, в которых обыкновенно царь стоял во время литургии и переоблачался. А принимая во внимание, что в этом помещении царь стоял с чинами кувуклия и своей военной свитой, можно думать, что это помещение (тропика) было довольно обширно и разделялось, хотя бы завесою, на два отделения по крайней мере, в одном из которых царь мог бы в присутствии только ближайших чинов кувуклия переоблачаться. К сожалению, об устройстве самого храма св. Раки мы ничего не знаем, но несомненно, что он составлял только придел, тесно сливавшийся с главным храмом Халкопратийской Богоматери, который, благодаря этой тесной связи с св. Ракою и важному религиозному значению хранившихся в св. Раке святынь, называется иногда храмом пресв. Богородицы Агиосоритиссы (Ἁγιοσορίτισσα), т. е. Святорачицы.
Благодаря этим святыням, храм был в таком почете, что важнейшие византийские сановники не только посещали часто этот храм, но и считали благочестивым делом принимать участие в совершавшихся там всенощных бдениях и других службах и выступали в качестве чтецов. В числе таких чтецов были между прочим куропалата Михаил Рангави до своего воцарения и не менее известный кесарь Варда, дядя Михаила III48.
Кроме св. Раки, царь с патриархом ходил в Благовещение и Рождество Богородицы в «левый евктирий», входил там в алтарь и на св. престол клал апокомвий49. Из обрядов Придворного устава видно, что этот евктирий или маленький придельный храм примыкал слева к храму св. Раки и входил в состав здания Халкопратийского храма вместе с св. Ракою; но кому посвящен был этот евктирий, т.е. в честь кого назывался, в обрядах не сказано. Но можно, однако же, догадываться, не рискуя сделать ошибки, что этот евктирий, примыкавший с левой стороны к храму св. Раки, носил имя св. Иакова брата Господня, так как из других источников нам известно, что к Халкопратийскому храму примыкал или в нем находился храм св. Иакова, построенный тем же самым Юстином II, который восстановил Халкопратийский храм и построил храм св. Раки. Так как храм св. Иакова представлял собою небольшой придел св. Раки, то, очевидно, он был построен в одно время с храмом св. Раки и возобновлением Халкопратийского храма, в общий комплекс которого входили оба эти придела.
Кроме мощей св. апостола Иакова, в честь которого построен был этот придел, называвшийся потому το ἀποστολεῖον, в нем покоились в особых раках мощи св. отроков, Симеона Богоприимца и пророка Захарии50.
Возобновленный Юстином II Халкопратийский храм имел форму базилики и был плохо освещен, быть может, потому, что храм не освещался сверху, а только с боков. В течение трех последующих веков храм опять значительно пострадал от времени и обстоятельств, так что Василий I Македонянин, поправивший и восстановивший многие храмы, пришедшие в ветхость при его предшественниках, поправил и Халкопратийский храм, причем увеличил его высоту и дал ему лучшее освещение51.
18-го декабря, в воспоминание освящения Халкопратийского храма (τὰ ἐγϰαίνια), совершался крестный ход из храма св. Софии в Халкопратийский. К сожалению, ни в минеях, ни в уставе Великой церкви не сказано, какое освящение праздновалось 18-го декабря, первоначальное или второе, бывшее после возобновления храма Юстином II52.
Если уже в истории Халкопратийского храма есть несколько сомнительных пунктов, которые можно решать только предположительно, то в определении местоположения этого знаменитого в свое время храма все основано на гаданиях и предположениях, так как прямых и ясных известий и указаний на местоположение Халкопратий и Халкопратийского храма, давно исчезнувшего, мы не имеем. На основании некоторых из вышеприведенных свидетельств можно сказать только, что Халкопратийский храм находился «близь» св. Софии, но на сколько близко и с какой стороны, наши данные не говорят. Затруднение еще увеличивается тем, что «близь» (πλησίον) св. Софии упоминаются еще два храма во имя Богоматери: один, построенный царицею Вериною (Verina, Οὐερίνα, по позднейшему написанию Βερίνα), супругою Льва I, а другой так называемый «в небесах» (ἐν τοῖς οὐρανοῖς)53. В каком отношении находятся эти храмы к Халкопратийскому, наверно неизвестно.
Дюканж считает возможным признавать храм, построенный Вериною в смежности или соседстве с св. Софиею, за тожественный с Халкопратийским54. Проф. Η.Ф. Красносельцев считает это тожество не подлежащим сомнению и даже храм св. Иакова со всеми находившимися там мощами относит к этому храму Верины вопреки ясному свидетельству Анонима-Кодина, по которому, как мы видели, храм св. Иакова находился близь Халкопратийского храма, и показаниям древнейшего устава Великой церкви, по которым храм св. Иакова находился «внутри Халкопратийского храма».
Мне, напротив, кажется, что не Халкопратийский храм следует считать тожественным с храмом Верины, а храм Богородицы ἐν τοῖς οὐρανοῖς: другими словами, в названии этого последнего храма мы имеем только неправильное чтение или написание названия того же храма Верины55. Принимая во внимание рукописные разночтения в названии храма ἐν τοῖς οὐρανοῖς, можно думать, что вместо ἐν τοῖς οὐρανοῖς следует читать ἐν τοῖς Βερίνης, – νοις или ἐν τοῖς Οὐερίνοις, – ης, тем более, что положение обоих этих храмов относительно храма св. Софии одинаково, насколько можно судить по скудным и неясным указаниям. В пользу этого мнения говорят, мне кажется, как легкость искажения непонятного для переписчиков: ἐν τοῖς Οὐερίνοις в более понятное: ἐν τοῖς οὐρανοῖς, так и то обстоятельство, что храмы в Константинополе довольно часто обозначались подобным образом, по именам своих строителей или владельцев тех мест, на которых они были построены.
Признавая таким образом храм, построенный Вериною, за тожественный с храмом пресв. Богородицы ἐν τοῖς οὐρανοῖς, а не с Халкопратийским, мы тем самым исключаем из подлежащих нашему рассмотрению известий о месте Халкопратийского храма все те, которые относятся к храму Верины или храму в небесах и будем принимать во внимание только те, которые относятся собственно к Халкопратийскому храму.
К сожалению, эти известия так скудны и неопределенны, что на основании их трудно указать с желательною точностью место знаменитого некогда Халкопратийского храма. Наиболее надежным источником как по качеству, так и по количеству данных о местоположении Халкопратийского храма является Придворный устав Константина Багрянородного; но эти данные одним исследователям не были известны (Дюканж), а другими, позднейшими (Лабарт и Паспати), были поняты неверно и перетолкованы, вследствие чего Халкопратийский храм помещают совсем не там, где следует искать его следов и остатков, если таковые имеются.
Принимая во внимание, что Халкопратии и Халкопратийский храм находились недалеко от Базилики и принимая эту Базилику за здание сената, построенное Константином на Августеоне, на юге от св. Софии, Дюканж полагал, что Халкопратии находились близь св. Софии около этой Базилики, не определяя, однако же, положения Халкопратийского храма относительно св. Софии более точным образом и не указывая ему определенного места среди зданий, окружавших св. Софию.
Гораздо дальше Дюканжа в этом ложном направлении пошли Лабарт и Паспати, которые, приняв положение Дюканжа, что Базилика есть сенат на Августеоне, стараются, на основании обрядов Константина Багрянородного, указать точно и определенно положение Халкопратийского храма относительно св. Софии.
Лабарт в своей книге об Императорском дворце в Константинополе с обычною уверенностью в несомненности своих мнений и доказательств относительно Халкопратийского храма говорит56: «Эта капелла находилась между сенатом и св. Софиею, как показывает Дюканж ссылкой на Феофана. Этот факт подтверждается книгою Церемоний (т.е. Придворным уставом Константина Багрянородного), из которой видно, что император, после молитвы в этой капелле, поднимался по деревянной лестнице в катихумении св. Софии. В другом случае, после молитвы в храме св. Марии (т.е. в том же Халкопратийском храме), он спускался по деревянной лестнице и садился на лошадь в портике Forum’a, чтобы возвратиться во дворец. Эта деревянная лестница должна быть вне храма, на одной из сторон капеллы св. Марии Халкопратийской. Мы уже говорили о деревянной лестнице, по которой император из своего дворца проходил в катихумении Великой церкви. Деревянная лестница, упомянутая в обоих этих случаях, должна быть одна и та же, а отсюда видно, что храм св. Марии Халкопратийской примыкал и к храму св. Софии и к стенам дворца».
Паспати, принимая и повторяя эти аргументы Лабарта, находит доказательство близости Халкопратийского храма к св. Софии в том, что Халкопратийский храм служил основанием для упомянутой у Лабарта деревянной лестницы, соединявшей дворцовые здания с катихумениями св. Софии, так что без Халкопратийского храма между дворцовыми зданиями и св. Софиею трудно представить себе лестницу в 33 метра, которые, по придуманному самим Паспати плану дворцовых зданий, отделяли от них храм св. Софии57
Всматриваясь в аргументы Лабарта, не допускающие, по-видимому, никаких возражений и сомнений, мы, при ближайшем изучении их, найдем очень слабые пункты. Прежде всего Лабарт совершенно неправильно подкрепляет свое мнение о положении Халкопратийского храма у юго-восточного угла св. Софии ссылкой на авторитет Дюканжа. Хотя знаменитый автор «Христианского Константинополя» и неправильно принимал Базилику за сенат, лежавший на юг от св. Софии, тем не менее он не помещал Халкопратийского храма между сенатом и св. Софиею и вообще не указывал для этого храма определенного места, а говорил только, что он находился близь храма св. Софии, основываясь на словах Хронографии Феофана, приведенных нами выше и не дающих основания для помещения Халкопратийского храма в каком-либо точно определенном месте.
Эту ложную ссылку Лабарт старается подкрепить указаниями Придворного устава и приводит несколько «случаев», будто бы доказывающих ложное мнение, что Халкопратийский храм не только примыкал к храму св. Софии, но и соединялся с ним деревянною лестницею. К сожалению, эти «случаи» представляют результат чистого недоразумения и, говоря откровенно, непонимания тех обрядов, из которых берутся случаи. Не поняв обрядов, Лабарт, ничтоже сумняся, делает от себя небольшие, но очень важные добавления к цитируемым текстам, совершенно незаметные для незнакомых с Придворным уставом, но существенно изменяющие смысл слов текста.
Приведенные Лабартом «случаи» взяты из обрядов богомольных выходов в Благовещение в Халкопратийский храм и не только не доказывают мнения Лабарта и Паспати о положении Халкопратийского храма, а, напротив, ясно говорят, что Халкопратийский храм находился совсем в другом месте, на запад от св. Софии, хотя и близко от неё.
Как читатель увидит ниже из подробного изложения и описания выходов в Благовещение и Рождество Богородицы, в эти праздники цари делали выход в храм св. Софии по типу средних выходов58, и из св. Софии шли с своим синклитом через западные врата и двор св. Софии к Милию, находившемуся около юго-западного угла двора (atrium, λουτήρ) св. Софии59, а от Милия по Средней или Большой улице к фору (Forum, ὁ φορός) св. Константина, на западе от св. Софии. Войдя на площадку храма св. Константина у его колонны, царь дожидался прибытия патриарха с духовенством и крестным ходом. По совершении краткого молебствия в храме св. Константина прибывшим патриархом, царь с своим синклитом шел опять раньше патриарха через антифор в портик близь дома Лавза, а оттуда уходил в храм Халкопратийской Богоматери (Cerim. I, 30, 165).
Если в Благовещение бывала дурная погода, т.е. шел дождь, то царь и синклит от Милия шли не по средине Большой улицы, ведшей от площади Августеона к фору Константина, а по портику, т.е. под его кровлею, и, дойдя до фора Константина, шли не к порфировой колонне Константина и его храму, а к зданию сената, находившемуся на северной стороне фора; с прибытием патриарха здесь, в здании сената, он служил краткое молебствие, после которого царь с своим синклитом опять спускался (ϰατέρχεται) по тому же портику из дома Лавза, и здесь повернув налево, уходил в Халкопратийский храм (Cerim. I, 30, 169).
Дойдя до Халкопратийского храма, царь дожидался опять патриарха в парфике, затем встречал прибывшего с крестным ходом патриарха и вместе с ним совершал вход в Халкопратийский храм обычным порядком. После возложения апокомвия на св. престоле этого храма, царь с патриархом через левую сторону его входил в предельные храмы св. Раки и св. апостола Иакова, где также возлагал апокомвий на св. престолах, после чего в более древнее время царь, возвратившись с патриархом в Халкопратийский храм, или, точнее, в его гинэконит, прощался здесь с патриархом, и поднимался по деревянной лестнице из женской или северной части храма в катихумении, где слушал литургию, приобщался св. тайн, а по окончании литургии, «спускался или сходил по той же деревянной лестнице гинэконита левой стороны и, сойдя по ступеням конхи в дидаскалии, выходил к двери, ведущей к портику, садился здесь на лошадь» и ехал верхом до Милия, где происходила первая встреча Венетов60. От Милия царь ехал во дворец через Халку, причем поворачивал направо, немного не доезжая до двора храма св. Софии. Таким порядком совершался выход в Халкопратийский храм, вероятно, до Льва VI, при котором пребывание царя в храме сокращено: царь оставался в храме только до ектении, следующей за евангелием и после ектении проходил через женскую, т.е. северную половину храма к выходу, ведшему к портику, где и садился на лошадь.
В виду того, что, по новому порядку, царь всей литургии не слушал и св. тайн не приобщался в Халкопратийском храме, он в катихумении не поднимался, а слушал евангелие и ектению, стоя в тропике, т.е. преддверии или паперти храма св. Раки, который этою тропикою соединялся и примыкал к северной стороне Халкопратийского храма61). В остальном обряд совершался так же, как и прежде.
Из этого краткого очерка выходов в Благовещение и Рождество Богородицы каждый непредубежденный читатель заключит, что царь и патриарх шли от св. Софии на запад к фору Константина, а оттуда возвращались опять назад, чтобы достигнуть Халкопратийского храма, по той же улице, а в дурную погоду по тому же портику, по которому шли раньше, причем, дойдя до дома Лавза, поворачивали налево, чтобы войти в Халкопратийский храм. Ясно, значит, что Халкопратийский храм находился между св. Софиею и фором Константина, налево от Большой или Средней улицы, если идти с фора Константина к св. Софии, площади Августеона и Большому дворцу, и направо, если идти от этих пунктов к фору Константина. Так как царь поворачивал налево для входа в храм у дома Лавза, а по выходе из храма, сев на лошадь в портике, очень скоро подъезжал к Милию, то, при более точном определении места Халкопратийского храма, мы можем сказать, что он находился между Лавзом и Милием и почти примыкал к портику, окаймлявшему Большую улицу с северной стороны, тому самому, по которому царь шел в дурную погоду от св. Софии на фор Константина и по которому он с фора опять спускался к Халкопратийскому храму, а по выходе оттуда ехал до Милия на пути во дворец62. Судя по тому, что царь и патриарх от Милия к фору поднимается (ἀνέρχεται), а на возвратном пути от фора Константина к Халкопратийскому храму опять спускается (ϰατέρχεται), можно думать, что Халкопратийский храм находился или в долине63, отделявшей два холма, из которых на одном стояла св. София с площадью Августеоном и дворцом, а на другом фор Константина, или в начале подъёма из этой долины к фору.
Во всяком случае Халкопратийский храм стоял действительно близко к храму св. Софии, как гласит хроника Феофана, и в него можно было попасть из св. Софии, а равно и из дворца и, наоборот, не заходя на фор Константина, как возвращался царь из Халкопратийского храма прямо во дворец и как ходил иногда патриарх прямо из св. Софии в Халкопратийский храм64.
Таким образом, по топографическим данным Придворного устава Константина Багрянородного, Халкопратийский храм находился не на юго-восточном углу св. Софии, а, наоборот, был на запад от неё и ее двора (atrium), около юго-западного угла которого, по всей вероятности, стоял Милий, – ближайший пункт на пути царя из Халкопратийского храма во дворец. Так как о месте Милия (τὸ Μίλιον, Milliare), представлявшем собою пункт, от которого, подобно римскому milliare, считались мили по всем дорогам, шедшим из Нового Рима в разные области империи, я уже имел случай говорить довольно подробно при изложении шествия царя из Большого дворца в св. Софию во время больших праздничных выходов, то говорить здесь еще раз об этом топографическом пункте было бы излишне65.
Что касается до дома Лавза, у которого царь сворачивал налево, идя с фора Константина назад по портику, чтобы войти в Халкопратийский храм, то место его довольно ясно определяется шествием царя. Дом Лавза, находился, очевидно, между фором Константина и площадью Августеоном и примыкал к северному портику (Средней или Большой улицы66). На смежность его с портиком указывают известия о бывших в Константинополе в разное время пожарах. Так, во время пожара в царствование Фоки, сгорела Средняя улица от Лавза и Претория до арки, стоявшей против фора Константина. При Василиске, в 476 г., пожар, начавшийся в Халкопратиях, опустошил всю окрестность, в том числе оба портика и Лавз, и дошел до фора Константина. В числе сгоревших здесь зданий была и Базилика с 120,000 книг67.
Из этого последнего известия видно, что и Базилика, которую Дюканж считал возможным принимать за одно здание с сенатом, стоявшем на площади Августеоне и которая действительно была близка к Халкопратийскому храму, находилась не на юг от св. Софии, а на запад около Милия, или, по выражению Кодина, сзади Милия. Таким образом, и местоположение Базилики и ее соседство с Халкопратийским храмом не только не говорит в пользу помещения Халкопратийского храма у юго-восточного угла св. Софии, а, напротив, заставляет помещать его на запад от этого храма, тем более, что с сенатом, лежавшим на юг от св. Софии, Базилика ничего общего не имеет и едва ли не с самого начала служила для помещения огромной библиотеки и высшей риторической и философской школы, в которой подвизались знаменитые риторы.
Если, таким образом, ни обряды Придворного устава, ни другие известия и данные относительно места Халкопратийского храма не говорят в пользу помещения его у юго-восточного угла св. Софии, то на каком же основании Лабарт и Поспати помещали здесь этот храм? Они говорят с такою уверенностью в справедливости своих соображений, что без разбора их оснований вышеизложенные доказательства того, что Халкопратийский храм находился на запад, а не на восток от св. Софии, будут не полны, и у читателя может остаться сомнение относительно несостоятельности доводов названных ученых, тем более, что оба они пользуются заслуженною известности, а Поспати посвятил топографии и археологии средневекового Константинополя несколько исследований и считается одним из лучших знатоков этого отдела византийской археологии.
В этом случае мы имеем дело с теми свойствами этих ученых, на которые я указывал во введении к I кн. Byzantina и которые доказал многими примерами при изложении топографии Большого дворца. Я разумею самоуверенное и бесцеремонное обращение с источниками Лабарта и некритичность Поспати. Благодаря этим свойствам, сомнительное предположение Дюканжа о тожестве Базилики с сенатом превратилось в несомненную истину и к ней приспособлены показания Придворного устава.
Дело в том, что в Придворном уставе два раза упоминается деревянная лестница, по которой царь, идя в храм св. Софии крытыми дворцовыми переходами, из этих переходов прямо поднимается в катихумении св. Софии68. В Благовещенском обряде выходов в Халкопратийский храм также упоминается деревянная лестница, по которой царь, как мы видели, из северной женской части храма поднимается в катихумении. Лабарт, а за ним Поспати, заключают: 1) что деревянная лестница, ведшая из переходов дворца, и деревянная лестница Халкопратийского храма одна и та же; 2) что царь из Халкопратийского храма уходил по деревянной лестнице в катихумении не Халкопратийского храма, а св. Софии; потому Лабарт без всякой оговорки и прибавил в цитате из Благовещенского обряда к слову «катихумении» слова «св. Софии», совершенно извращая, таким образом, смысл обряда, а Поспати, не сомневающийся в том, что царь уходил в катихумении св. Софии, видит подтверждение этого в том, что царь стоял там «во время совершения литургии», как будто царь не мог стоять во время литургии ни в каком другом храме, кроме св. Софии, и как будто в Халкопратийском храме нельзя было совершать литургию. Для того, чтобы показать тожество деревянной лестницы, ведшей из диаватика или переходов дворца в катихумении св. Софии, с деревянною лестницею Халкопратийского храма, Поспати приводит цитаты из Благовещенского обряда, в которых говорится о катихумениях Халкопратийского храма, рядом с цитатами из Крестовоздвиженского обряда и Недели Православия, в которых говорится действительно о деревянной лестнице, ведшей из дворцовых переходов в катихумении св. Софии. Поспати, таким, образом, подтасовкой цитат достигает того, чего Лабарт достиг прибавкой нескольких слов. Для знакомого с цитуемыми обрядами и манерою Поспати валить в одну кучу такой материал, который на самом деле ничего не имеет между собою общего, такая подтасовка сразу очевидна и только убеждает еще лишний раз, что Поспати частенько выписывал цитаты, не понимая тех обрядов, из которых он их брал. Но для мало знакомых с обрядами и склонных верить цитатам, которые все приведены под видом выписок из Благовещенского обряда, эти выписки могут показаться убедительными, как и самоуверенные прибавки Лабарта, тем более, что эта подтасовка и прибавки делаются без всяких оговорок и пояснений. В виду этого считаю долгом сделать несколько замечаний.
1) Нет никаких резонных оснований считать деревянную лестницу Халкопратийского храма за тожественную с таковою же лестницею из переходов дворца в катихумении св. Софии. Если была деревянная лестница из дворцовых переходов в катихумении св. Софии, то могла быть таковая же и в других общественных и частных зданиях, и было бы нелепо думать, что во всех общественных зданиях средневекового Константинополя деревянная лестница была только одна, из переходов дворца в катихумении св. Софии. Если в обрядах Константина Багрянородного упоминаются только две деревянные лестницы, то это совершенно случайно и происходит от того, что только эти две деревянные лестницы играли роль в дошедших до нас обрядах, как такие части зданий, по которым проходил царь. Если мы на основании материала или способа постройки лестниц будем все одинаковые лестницы относить к одному зданию, хотя бы они упоминались в других, то мы дойдем до совершенно невероятных абсурдов.
2) Еще менее оснований думать, что царь, возложивши апокомвий в Халкопратийском храме и его приделах, уходил для слушания литургии в катихумении св. Софии, как хотят убедить нас Лабарт и Поспати. С таким же точно правом и относительно других многих храмов, городских и пригородных, в которые царь делал богомольные выходы и выезды, можно утверждать, что, по возложении на престол апокомвия, он уходил из них в катихумении св. Софии, так как царь обыкновенно уходил для слушания литургии в других храмах, кроме св. Софии, в катихумении того храма, в котором он находился. Но так как для всякого, не лишенного смысла и не одержимого предвзятыми мнениями, и без специальных указаний ясно, что царь, возложивши апокомвий на престол того или другого храма, уходил в катихумении именно этого храма, если это был храм, а не евктирий, то в обрядах обыкновенно просто говорится, что царь уходил в катихумении, без обозначения или повторения названия храма. Точно также сказано в обряде Благовещенского выхода и относительно катихумений Халкопратийского храма без повторения названия храма.
3) Лабарт и Поспати смешивают, как было уже сказано, фор Константина с площадью Августеоном и помещают колонну Константина на Августеоне, так что и самое шествие царя и патриарха из св. Софии в Халкопратийский храм представляют себе в совершенно превратном виде.
4) Вся эта путаница произошла, очевидно, от того, что оба ученые брали свои цитаты без ясного понимания тех обрядов, к которым эти цитаты относятся, вследствие чего для них явилась возможным сопоставлять такие места, которые между собою не имеют ничего общего, кроме деревянной лестницы. Ложные и совершенно превратные выводы обоих ученых относительно места Халкопратийского храма, как и фора Константина, еще один раз показали, как опасно из обрядов Придворного устава брать отдельные места, без предварительного изучения и сопоставления однородных обрядов. Как у Лабарта, так и у Поспати, особенно у последнего, такие выписки из непонятых обрядов были причиною множества явных и нелепых ошибок. На первый взгляд такие крупные и очевидные ошибки в книге археолога, специально занимавшегося и писавшего по топографии Константинополя, кажутся даже невероятными, и только частое повторение их убеждает в необходимости признать их и в то же время заставляет, вопреки желанию, произносить строгий приговор и говорить о непонимании тех мест, на которые авторы ссылаются, как на несомненные доказательства своих положений. Позволяю себе надеяться, что и читатель, познакомившись с нижеизложенными обрядами выходов в Благовещение и Рождество Богородицы, придет к такому же заключению и извинит длинные рассуждения о таких предметах, которые были бы сами по себе ясны, если бы их не затемнили неправильные толкования вышеназванных ученых.
Крестный ход, совершавшийся в Рождество Богородицы и Благовещение из св. Софии в храм пресв. Богородицы Халкопратийской через фор Константина, начинался выходом царя с синклитом в св. Софию. Выход этот совершался до Халки тем же путем, как в большие Господние праздники, но от Халки царь шел не через большие ворота Халки, а через малые железные ворота и Хит Халки, приводивший прямо к св. Кладезю и южным вратам храма св. Софии. Путь в св. Софию, таким образом, несколько сокращался. Сокращалось сравнительно с выходами в большие Господние праздники и число встреч или приемов (αἱ δοχαί) как со стороны чипов синклита (не было отдельного ввода высших чинов в Золотую Руку), так и со стороны димов Ипподрома69. Приемы димов, кроме того, ограничивались чтением ямбов и не сопровождались песнопениями и славословиями в обычных местах на пути шествия царя в св. Софию. Царь, облачившись в Октогоне в хламиду, не надевал здесь короны (στέμμα), а шел до храма св. Софии в том головном уборе, в котором выходил из Хрисотриклина, т.е. в шапке. По всем этим признакам и отличительным чертам выходов в храм св. Софии в Рождество Богородицы и Благовещение мы отнесли их к средним выходам и рассматривали, наряду с подобными выходами в другие некоторые праздники, как особый тип царских богомольных выходов в храм св. Софии, причем были указаны и отмечены все, известные нам, отступления и сокращения сравнительно с большими выходами70.
Так как, за исключением этих сокращений и особенностей, средние выходы до Халки совершались так же, как и большие, подробно описанные во 2 и 3 гл. II кн. Byzantina, то я считаю излишним излагать здесь выход царя с синклитом в св. Софию, чтобы не повторять сказанного в указанных главах II кн. Мы можем прямо начать с того момента, когда кончается выход в св. Софию и начинается крестный ход из храма св. Софии в храм Халкопратийский, т.е. с выхода царя и патриарха из алтаря на солею, чтобы начать отсюда крестный ход.
Но прежде, нежели мы приступим к изложению обряда, необходимо заметить, что как царь, так и чины совершали выход в св. Софию, а отсюда в Халкопратийский храм, в парадных облачениях, хотя и не самых великолепных. Судя по перечню парадных выходных облачений в гл. 37, I кн. Придворного устава, царь в оба эти праздника облачался в красные дивитисии и соответствующие им хламиды (διβητήσια πορφυρᾶ ϰαὶ τὰς τούτων χλαμύδας). В виду такого облачения царя можно было бы ожидать, что и чины в оба праздника облачались в одежды такого же цвета71, но в Благовещенском обряде (I, 30, 162) мы, напротив, находим замечание, что в этот праздник, патрикии облачаются в белые хламиды с ярко-пурпурными нашивками (в этот праздник хламид с златоткаными нашивками не носят)72. Точно также и весь синклит облачается в белые хламиды, а препозиты с чинами кувуклия облачаются так, как «установлено для них». Весьма возможно, что эта разница в цвете облачения царя и чинов в один и тот же праздник только кажущаяся и должна быть объясняема тем, что показания вышеуказанных мест Придворного устава относятся к разным эпохам. Так как специальный Благовещенский обряд, как мы увидим, принадлежит к более древним обрядам, чем обряд Рождества Богородицы (I, 1, 26–33) и перечень облачений (I,37, 187 и след.), то, быть может, разницу в показаниях обрядов относительно цвета облачений царя и чинов синклита следует объяснять разностью во времени и полагать, что во время составления Благовещенского обряда все облачались в белые одежды, а потом стали облачаться в красные. Этот последний обычай и отмечен в перечне облачений при обряде Рождества Богородицы, вошедшем в состав общего обряда, т.е. 1 гл. I кн., при редакции Придворного устава. В пользу такого именно толкования указанной разности говорит и то обстоятельство, что в конце обряда Крестопоклонного воскресенья (I, 29, 161), предшествующего Благовещенскому обряду, замечено, что «в древние времена в праздник Благовещения сановники облачались в консистории в белые хламиды». Ясно, что во время написания этой заметки чины облачались не в белые облачения, а в красные (πορφυρᾶ), как видно из цвета царского облачения73.
Переходя затем к описанию крестного хода из св. Софии в Халкопратийский храм, совершавшегося в Благовещение и Рождество Богородицы, считаю необходимым заметить, что как выходы в эти праздники из Дворца, точнее из Хрисотриклина в св. Софию, так и шествие из этого храма до храма св. Константина у колонны этого царя на форе, носившем его же имя, совершались совершенно так же, как выходы и крестные ходы в храм св. Апостолов в понедельник Пасхальной недели и другие праздники, в которые византийские цари делали выходы в храм св. Апостолов, пока эти выходы не заменены были выездами. Потому обряд понедельника Пасхальной недели (I, 10, 71 и след.) до молебствия в храме св. Константина включительно может и должен приниматься во внимание при описании выхода в Благовещение и Рождество Богородицы, как совершенно параллельный с обрядами этих Богородичных праздников.
Такой же параллельный обряд мы имеем в II, 19, 607 и след., где, описав триумф царя над побежденными врагами, совершавшийся на форе Константина, для чего сначала делался выход в храм св. Софии по типу средних выходов, а из св. Софии крестный ход на фор Константина, совершенно такой же, как в Благовещение, Рождество Богородицы и понедельник Пасхальной недели, с тою только разницею, что крестный ход доходил только до колонны Константина.
По всем этим четырем обрядам, цари с синклитом, совершив выход в св. Софию по типу средних выходов, после каждения вокруг св. престола, уходили не в мутаторий, как в большие Господни праздники, а становились с патриархом опять пред св. престолом со стороны средних св. врат алтарной преграды, и архидиакон возгласом начинал литию или молебствие крестного хода, т.е. возглашал: «Благослови, владыко!» Патриарх, после обычного: «Благословен Бог наш», читал молитву. По окончании краткого молебствия, царь с патриархом выходили на солею, причем впереди их несли крест и евангелие74. При выходе на солею, царь брал у препозита молебственную свечу (ϰηρίον λιτανίϰιον), т.е. свечу, приспособленную для крестных ходов (λιτή)75. Подобные же свечи брали и возжигали участвовавшие в крестном ходе чины царского синклита и, при пении тропаря празднику певчими, стоявшими на амвоне76, направлялись впереди царя, в иерархическом порядке, к выходу, т.е. к западным вратам. За ними следовали царь с патриархом, предшествуемые крестом и евангелием, из которых первый несом был особым крестоносцем (σταυροφόρος), а второе архидиаконом.
Пройдя по средине храма за амвон, царь и патриарх останавливались между амвоном и западными вратами, оборачивались к алтарю, патриарх читал еще молитву и совершалось опять краткое молебствие, причем крест и евангелие ставились пред царем и патриархом77.
После этого царь и патриарх шли к западным средним или царским дверям и через них выходили в нарфик св. Софии. Здесь царь кланялся патриарху, целовался с ним и уходил в мутаторий у красных врат (ἡ ὡραία πύλη), т.е. в нишу с завесою для надевания головного убора, царской шапки или короны78.
Патриарх, однако же, не уходил, а дожидался выхода царя из мутатория, потому что, по выходе из-за завесы, царь снова прощался и целовался с патриархом и, откланявшись ему, уходил вперед с своим синклитом, совершая крестный ход отдельно (μετὰ τῆς οἰϰείας λιτῆς I, 1, 28). Царь выходил из св. Софии, по обыкновению, через красные врата, проходил через двор св. Софии (διὰ τοῦ λουτῆρος I, 10, 74; I, 30, 164), и, выйдя из него через большие ворота в Афир, по ступеням Афира спускался к Милию. Пройдя через него, царь выходил на Большую или Среднюю улицу, ведшую от площади Августеона к фору Константина между двумя портиками79, и шел по средине ее с своим синклитом к колонне св. Константина, причем царский синклит пел тропари и другие священные песни; запевалой среди чинов синклита был церемониарий (ὁ τῆς καταστάσεως)80.
Дойдя до порфировой колонны св. Константина, при которой был устроен маленький храм в честь этого равноапостольного царя, основателя христианского царства с христианскою столицею, царь подходил к храму и, отдавши препозиту свечу, с которой он шел от св. Софии, поднимался по ступеням лестницы, ведшей к входным дверям храма, и, войдя на верхнюю площадку пред храмом, становился направо от лестницы, где и дожидался патриарха с духовенством и народом, опираясь на решетку или балюстраду, ограждавшую площадку, на которой он стоял.
На ступенях площадки этой, ниже царя, на правой же стороне от лестницы, ведшей на площадку, становились чины кувуклия, а внизу, но внутри колоннады, окружавшей пьедестал колонны Константина, опять-таки направо от лестницы, следовательно, против царя, становились чины синклита: магистры, анфипаты, патрикии и прочие. За колоннами, на маленьких ступенях, но с той же стороны, т.е. против царя, становились с своими певчими чины числа, царские гребцы и димы партий Ипподрома, так что вся правая сторона пред площадкой храма св. Константина занималась царскою свитою. Далее за ними средину площади занимала царская военная свита: протоспафарии, спафарии и другие, так называемые царские, и, наконец, чины гвардейских отрядов. Как «царские», так и гвардейцы стояли не только с правой стороны толпы, но и с левой81, окружая и замыкая от напора зрителей, участвующих в процессии чинов царского синклита и димотов, стоявших с правой стороны, а в то же время охраняя место пред площадкой с левой стороны, где должны стать чины патриаршего клира и представители города, имеющие прибыть с патриархом.
После того, как чины царской свиты и синклита заняли свои места около колонны св. Константина, подходил патриарх с своим крестным ходом, т.е. с духовенством и народом. Во главе процессии шли «екдики» с своими жезлами и первые входили в ограду колонны (ϰιονοστασία) и, дойдя до первой ступени той лестницы, наверху которой направо стоял царь, опираясь на решетку, останавливались.
Затем входили митрополиты, архиепископы и епископы, участвовавшие в крестном ходе, и, дойдя по лестнице до площадки, на которой стоял царь, совершали поклонение царю установленным порядком, подводимые царским церемониарием и патриаршим референдарием, подобно тому, как это делалось пред целованием любви в храме св. Софии82.
После поклонения царю, высшие духовные сановники становились на ступенях базы колонны налево от лестницы, направо от которой соответствующие места заняты были высшими чинами царского кувуклия.
Затем подходили участвовавшие в ходе чины клира и певчие и наконец, шествовал патриарх с евангелием, предшествуемый крестоносцем и поддерживаемый первыми и ближайшими чинами своего клира.
Когда патриарх подходил к той лестнице, на верхней площадке которой стоял царь, препозит подавал царю зажженную восковую свечу; царь, по обыкновению, молился со свечою в левой руке кресту, который держал крестоносец – иподиакон, прикладывался к нему, потом прикладывался к евангелию и, раскланявшись с патриархом, целовался с ним, а свечу отдавал препозиту, который передавал ее церемониарию, а тот ставил ее на один из ручных подсвечников, носимых во время крестного хода (ἐν τοῖς τῆς λιτῆς μανουαλίοις). Крест между тем ставили на мраморную подставку, которая стояла наверху лестницы, на площадке, пред дверьми храма св. Константина. Царь возвращался на свое прежнее место, а патриарх с некоторыми священно- и церковнослужителями и певчими поднимался по лестнице и входил в храм, между тем как остальной клир патриарха оставался внизу налево от лестницы, а певчие-сироты (ὄρφανα) становились около членов синклита. Тут же стоял и народ, т.е. городские жители, участвовавшие в крестном ходе, занимая ту сторону площади, которая прилегала к зданию сената, находившемуся на форе Константина.
Когда патриарх входил в храм св. Константина, димы Ипподрома, по знаку препозита, пели трижды катавасию праздника. После этого в храме св. Константина патриарх совершал краткое молебствие, причем диакон, читавший ектению, читал ее, стоя у окон левой стороны храма св. Константина и смотрел в окно, чтобы публика, стоявшая пред храмом, могла ее слушать, так как храм этот (εὐϰτήριον) был так мал, что в нем мог поместиться только патриарх с незначительною и необходимою частью своего клира и певчих, участвовавших в совершении молебствия. Не говоря уже о публике, даже царь с своею ближайшею свитою и высшее духовенство стоял вне этого маленького храма или молельни. Пред началом этого молебствия царю подавалась препозитом зажженная восковая свеча, с которою он и стоял во время молебствия; по окончании молебствия препозит брал у царя свечу и отдавал ее церемониарию, который ставил ее на ручной подсвечник.
После этого церемониарий расстанавливал чинов синклита и царской свиты в том порядке, в котором они должны совершать дальнейшее шествие, а царь прощался с патриархом, который, вероятно, выходил из храма на площадку. Прощание состояло, по обыкновению, во взаимных поклонах и целовании83.
Простившись с патриархом, царь сходил с площадки и при спуске брал у препозита молебственную свечу, с которою он и шел, окруженный кувуклием и военною свитою и предшествуемый чинами синклита и димами Ипподрома.
Во главе процессии становился церемониарий, который начинал петь тропарь праздника. Вся эта процессия со свечами в руках и пением священных гимнов от колонны св. Константина шла назад, спускаясь по той же Средней улице, по которой она поднялась от Милия к фору Константина.
Пройдя Антифор и некоторую часть Средней улицы, около дома Лавза, процессия вступала в портик, шедший от Милия к фору Константина, и, поворотив налево, приближалась к цели крестного хода, храму пресв. Богородицы Халкопратийской. Царь через красные врата входил в нарфик, садился здесь и, окруженный ближайшими сановниками, высшими чинами кувуклия, хрисотриклинитами и «царскими», дожидался прибытия патриарха с своим крестным ходом84.
Когда тем же путем к Халкопратийскому храму приближался патриарх с своим крестным ходом, то прежде патриарха в нарфик входили екдики, митрополиты, архиепископы и епископы и, проходя мимо царя через нарфик, кланялись ему установленным порядком, подводимые референдарием и церемониарием, а затем входили в самый храм через средние или царские врата, ведущие из нарфика в храм. За ними через царские же врата входили певчие (τὰ ὄρφανα), а остальной клир и миряне проходили в храм правыми боковыми дверями. Наконец, шел патриарх, предшествуемый крестом и окруженный главными диаконами и другими чинами клира св. Софии.
С приближением патриарха, царь вставал, выходил навстречу патриарху с зажженною свечою в руке, прикладывался после троекратного поклона к кресту и евангелию, раскланивался и целовался с патриархом, после чего оба они направлялись к царским вратам для совершения «малого входа».
Малый вход (ἡ εἴσοδος μιϰρά) царем и патриархом совершался совершенно так же, как и в храм св. Софии, во время больших выходов, когда царь приходил в храм к малому выходу. Царь и патриарх шли через нарфик к царским вратам, останавливались здесь; царю препозит подавал зажженную восковую свечу; патриарх (после возгласа архидиакона) читал входную молитву, во время которой царь молился, затем отдавал свечу препозиту, а тот церемониарию. Царь еще раз прикладывался к кресту и евангелию, брал патриарха за руку и шел рядом с ним (царь справа, патриарх слева) через храм на солею к средним св. вратам алтарной преграды. Помолившись пред св. вратами со свечою в руке, царь входил в алтарь, причем патриарх или вошедшие туда раньше митрополиты пододвигали царю одну из дверей для прикладывания к утвержденному на ней кресту85.
Войдя в алтарь Халкопратийского храма, царь, по обыкновению, прикладывался к покрову св. престола, брал у препозита предназначенный для этого храма апокомвий, возлагал его на св. престол и кадил вокруг св. престола со всех сторон.
После этого царь с патриархом и немногими ближайшими чинами кувуклия шел через левую сторону алтаря и храма в смежный с Халкопратийским храмом храм св. Раки (τῆς ἁγίας Σοροῦ).
Так как этот последний храм примыкал к Халкопратийскому с северной стороны и вход в него был из северного или женского корабля Халкопратийского храма, то царь с патриархом проходили на пути к храму св. Раки через гинэконит Халкопратийского храма, и здесь его приветствовали обычным многолетием собравшиеся тут и расставленные в должном порядке чины царского синклита обычным многолетием.
Войдя в храм св. Раки, царь с патриархом шел, как и в Халкопратийском храме, на солею и останавливался для молитвы пред св. вратами. Затем царь и патриарх входили в алтарь, царь брал у препозита апокомвий и возлагал на св. престол, который потом кадил со всех сторон.
Отсюда царь и патриарх шли в придельный храм св. Иакова, и царь точно также входил в алтарь и возлагал апокомвий.
После этого царь с патриархом и ближними чинами кувуклия возвращался опять в Халкопратийский храм, точнее в левый корабль его или гинэконит и по деревянной лестнице, ведшей отсюда в катихумении, поднимался наверх, распростившись и поцеловавшись с патриархом86.
В катихумениях царь уходил в особое закрытое помещение, мутаторий, и там слушал литургию, а чины царского синклита и свиты стояли в катихумениях.
Когда, по ходу службы, приближалось время приобщения св. тайн, церемониарий докладывал препозиту, а тот царю о том, что пора посылать за патриархом. Царь делал распоряжение о приглашении патриарха с св. дарами, препозит передавал приказание царя церемониарию, а тот посылал за патриархом двух силенциариев, которые и отправлялись в алтарь пригласить патриарха для причащения царя и чинов в катихумениях. Патриарх, после причащения высших духовных сановников и священнослужителей, участвовавших в совершении литургии, брал чашу с св. дарами и, в сопровождении силенциариев и нескольких диаконов, отправлялся в катихумении, причем силенциарии поддерживали его под руки.
Наверху лестницы патриарха встречали высшие чины царского кувуклия и, заменивши силенциариев, вели его под руки в катихумении, где на особом антиминсе ставились св. дары, а патриарх стоял в ожидании выхода царя из того помещения, в котором он слушал литургию. Царю докладывал препозит с высшими чинами кувуклия о прибытии патриарха с св. дарами; царь, слушавший литургию без хламиды, облачался в хламиду и выходил к патриарху, раскланивался с ним, целовался и затем приобщался св. тайн, т.е. тела и крови Христовой под обоими видами отдельно.
После приобщения св. тайн, царь, раскланявшись с патриархом, уходил в свой мутаторий и сидел там, пока патриарх из собственных рук приобщал высших чинов синклита: патрикиев, стратигов, доместиков и вообще сановников, занимавших высшие должности. После приобщения царя, по приказанию препозита, они приглашались для этого в должном иерархическом порядке церемониарием. Когда все чины приобщились, царь, извещенный препозитом, выходил из своего мутатория и прощался с патриархом, который уходил, из катихумении доканчивать литургию сопровождаемый и поддерживаемый сначала высшими чинами кувуклия, а потом силенциариями87.
Пока патриарх доканчивал литургию, царь с чинами переоблачался в катихумениях для парадного отъезда в Большой дворец. Так как им предстояло теперь ехать верхом, то чины синклита, совершавшие крестный ход в тяжелых хламидах, надевали более легкие и удобные для верховой езды пурпурные плащи, а царь, кроме того, вместо дивитисия или далматики, надевал под плащ, обшитый золотою каймою скарамангий и опоясывал украшенный жемчугом и драгоценными камнями меч88.
Патриарх между тем кончал литургию и снова поднимался в катихумении, чтобы проводить царя до выхода из Халкопратийского храма и возложить на него при выходе корону. Поздоровавшись с царем, патриарх давал ему просфору, а царь давал патриарху апокомвий и получал сосуд с благовонным св. маслом (ἀλεπτά).
Затем пред спуском из катихумений [патриарх] возлагал на царя подаваемую препозитом корону в особом закрытом помещении и прощался с царем89, который спускался по деревянной лестнице, по которой он поднялся в начале литургии, но, не дойдя до ее конца, поворачивал в дидаскалий и, спустившись по лестнице в дидаскалий, выходил к двери храма, ведшей к портику, шедшему от Милия к Лавзу и далее к фору Константина.
Здесь, в портике, царь садился на лошадь верхом, то же делали чины синклита и кувуклия и ехали к Милию, причем церемониарий, предшествуемый четырьмя остиариями, державшими в руках золотые, украшенные драгоценными камнями, жезлы, шел пешком впереди, одетый, как и остиарии, в красный плащ. Когда царь и вся его свита тихо подъезжала к Милию, их встречал песнопениями и славословиями белый дим, стоявший под аркой Милия с димархом венетов во главе. Певчие или запевалы дима пели соответствующие празднику песнопения, славословия и многолетия, а димарх, подводимый церемониарием, подходил к царю, целовал его в ногу и подавал ему ливелларий, который царь брал и передавал шедшему возле него начальнику конюшенного ведомства (τῷ ϰόμητι τοῦ στάβλου). Димарх отходил назад и, став на свое обычное место впереди дима, осенял царя крестным знаменем, пока, димоты пели песнопения и многолетия, а органы играли соответствующие празднику пьесы.
Когда царь проезжал через Милий, его встречал и приветствовал красный дим с димархом прасинов во главе, который также подносил ливелларий и крестил царя во время песнопений и славословий димотов.
Третий прием происходил на площади Августеоне пред большими воротами Халки. Принимал и славословил царя загородный дим с димократом прасинов, т.е. начальников, экскувиторов или экскувитом во главе, который делал то же самое, что и димархи в двух первых приемах90.
Четвертый и последний прием совершали уже по въезде царя во двор Халки; у решетки, ведшей к большим бронзовым воротам Халки, стоял загородный дим венетов с димократом венетов, и начальником (доместиком) гвардейских школ во главе. Прием совершался совершенно таким же порядком, как и три предыдущие, причем димократ венетов, после подачи ливеллария, крестил царя, а органы димов играли соответствующие пьесы.
Когда царь подъезжал к решетке Халки и дим начинал свои славословия, все сопровождавшие царя верхом чиновники синклита и кувуклия сходили с лошадей и после славословия по передним частям дворца шли уже пешком. На лошади оставался только один царь, который ехал верхом через Халку, палату школ и помещения для отдельных школ, причем проезжал через куртипы и доезжал до лестницы или крыльца с лестницею, ведшею в палату экскувитов и кандидатов.
Так как по лестнице верхом нельзя ехать, то царь здесь сходил с лошади и через палаты экскувитов и кандидатов шел пешком до храма Господа мимо Консистории91.
Средние и низшие чины синклита, синклитики собственно, во время больших выходов в храм св. Софии, встречавшие царя и приветствовавшие в Консистории, становились, при возвращении царя через храм Господа, а не через Консисторию, у дверей Консистории, выходивших в палату кандидатов, и приветствовали царя, когда он проходил по палате кандидатов мимо их к западным дверям храма Господа, где становились шедшие впереди царя высшие чины синклита: магистры, анфипаты, патрикии и стратиги, чтобы откланяться царю и приветствовать его обычным многолетием: «на многие и добрые годы да продлит Бог царство твое»92.
Когда царь с чинами кувуклия входил через среднюю бронзовую дверь в нарфик храма Господа, двери, эти немедленно запирались чинами кувуклия, которые, в свою очередь, приветствовали здесь царя обычным многолетием. К царю подходил препозит, снимал с него корону, и царь входил в храм и становился пред св. вратами, где, взявши у препозита зажженную свечу, молился и после молитвы возвращал препозиту свечу. Из храма Господа царь шел по переходам (диаватикам), ведшим от этого храма ко дворцу собственно, в полукруг Триконха, а из него по переходам 40 мучеников входил, в сопровождении чинов кувуклия, в Хрисотриклин, где чины кувуклия в последний раз приветствовали его многолетием93.
Царь, помолившись иконе Спасителя, находившейся в тронной конхе Хрисотриклина, уходил в свой покой, откуда снова выходил к парадному обеду, который в этот день совершался в Юстиниановой палате94.
Чины синклита, откланявшись царю, проходили, вероятно, чрез Консисторию в Апсиду, а оттуда через переходы Триконха и однополотенную дверь Идика в Лавзиак, палату, находившуюся между Хрисотриклином и Юстиниановой палатой.
В Лавзиаке, вероятно, совершалось приглашение чинов синклита к царскому столу порядком, подобным тому, который практиковался в воскресные дни и который описан мною в 1 гл. II кн. Byzantina. Приглашенные чины оставались в ожидании обеда, а прочие расходились по домам. Пред обедом царь, как и чины, облачались в скарамангии, а чины кувуклия в пурпурных плащах стояли во время обеда в два ряда.
Вышеизложенным порядком выходы в Халкопратийский храм совершались в IX в. и начале X, но потом, до составления Придворного устава из отдельных обрядов и небольших сборников, порядок выходов этих был видоизменен и упрощен или сокращен. Старый порядок изложен в Благовещенском обряде, а новый в обряде Рождества Богородицы, вошедшем в состав 1 гл. I кн., в которой изложены типические обряды разных выходов95). Так как выход в Рождество Богородицы совершался совершенно таким же порядком, как и в Благовещение, как об этом прямо замечено в конце обряда Рождества Богородицы (I, 1, 33), то, очевидно, и этот последний обряд был в своем первоначальном виде сходен вполне с Благовещенским и видоизменен, согласно с новыми порядками, при редакции 1 гл. I кн. и составлении Придворного устава, а Благовещенский обряд внесен в Придворный устав в прежнем, неизмененном виде. Чтобы объяснить разногласие между старым Благовещенским обрядом и новым обрядом Рождества Богородицы, которые, по замечанию составителя устава, должны совершаться совершенно одинаково, в конце Благовещенского обряда составитель сделал замечание (I, 30, 169–170), что и теперь все совершается согласно с этим обрядом, за исключением того, что «ныне царь не поднимается в катихумении, но, стоя на паперти св. Раки, тут слушает литургию, а, возвратившись во дворец, садится за стол не в парадном облачении, но в иматии, да и кувуклий не стоит во время обеда».
Обращаясь к видоизмененному, согласно с новыми порядками, обряду Рождества Богородицы, мы действительно находим отмеченную составителем разницу относительно действий царя в Халкопратийском храме (I, 1, 31). После возложения апокомвия в левом приделе св. Раки, т. е. в храме св. Иакова, по обряду Рождества Богородицы, царь не идет через гинэконит по деревянной лестнице в катихумении, а, дойдя до паперти храма св. Раки, через которую он входил с патриархом в этот храм, царь здесь прощается с патриархом. Патриарх уходит в алтарь Халкопратийского храма для продолжения литургии, совершение которой, во время хождения патриарха с царем, приостанавливалось, а царь переоблачался: вместо хламиды и дивитисия, царь облачался в скарамангий в виду предстоящей ему езды верхом и затем слушал евангелие и следующую за тем ектению96. По окончании ее, патриарх выходил из алтаря и приходил к царю для прощания с ним, которое, по обыкновению, состояло в том, что патриарх надевал на царя корону, давал ему просфоры и освященное масло, а от него получал апокомвий и уходил доканчивать литургию. Царь с чинами кувуклия выходил в притвор женской или северной стороны храма, где его приветствовали чины синклита обычным многолетием; после возгласа препозита: «повелите!» чины синклита выходили в портик, где царь и чины, как и прежде, садились на лошадей и ехали во дворец, как было уже описано.
Когда же произошла эта перемена или сокращение выхода?
К сожалению, прямо и положительно ответить на этот вопрос, за неимением точных указаний, довольно трудно, но можно предполагать, что эта перемена произошла, как и многие другие, при Льве VI. Дело в том, что в гл. 37, т.е. в перечне парадных облачений во время богомольных выходов, говорится, что в Рождество Богородицы и Благовещение царь уходил из Халкопратийского храма после евангелия (ἀπὸ τοῦ εὐαγγελίου ὑποστρέφουσι ἔφιπποι οἱ δεσπόται, I, 37, 190 и 191). Глава эта написана после изменений в обрядах выходов в понедельник Пасхальной недели и Антипасху, сделанных, как мы видели уже, несомненно, Львом VI97, но еще до отмены выхода или, точнее, выезда в храм св. Мокия, который был отменен в 902 году, но который упоминается еще в перечне облачений. Эти обстоятельства позволяют заключать, что и перемены в обрядах богомольных выходов в занимающие нас Богородичные праздники произошли при Льве VI и притом до 902 г. А так как нововведения Льва VI относительно Пасхального понедельника и Антипасхи приняты уже во внимание и занесены в клиторологий Филофея, составленный в 900 году, то можно думать, что изменения в обрядах как этих, так и выходов в Халкопратийский храм, произошли еще раньше, уже до 900 года, т.е. в первую половину царствования Льва, быть может, в самом начале, вскоре по смерти Василия I Македонянина98.
Кроме этих видоизменений, произведенных Львом Мудрым, Благовещенский обряд несколько видоизменялся, смотря по тому, в какой день приходилось Благовещение. Если Благовещение приходилось в какой-нибудь праздник, в который и без того совершался выход, то или совершались один за другим два обряда, если это было возможно, в последовательном порядке, или один совершался вполне, а другой только отчасти, причем преобладание было, понятно, на стороне того праздника, который считался важнее. В Придворном уставе указано несколько таких случаев совпадения Благовещения с другими праздниками.
1. Если Благовещение случалось в Крестопоклонное воскресение, то сначала происходило поклонение св. кресту, а потом уже совершался выход Благовещенский99. Для поклонения «честному и животворящему древу св. креста», которое совершалось в храме пресв. Богородицы Фара, возле Хрисотриклина, чины синклита собирались ночью (ἐννύχιοι) в скарамангиях, а высшие чины, кроме того, в плащах во дворец и, пройдя через Юстинианов триклин, Лавзиак и Золотую палату, входили в храм Фара и поклонялись там, вероятно, во время утрени, животворящему древу100, выходили из храма и, если царю угодно было делать по случаю Благовещения выход, получали приказание перейти в те помещения дворца (δέδοται μεταστάσιμον), в которых они должны были приветствовать царя во время шествия в храм св. Софии и присоединиться к свите царя. Так как для Благовещенского выхода, если он не был заранее объявлен и если чины не приходили в Благовещенском облачении, нужно было переменить облачение, то чины синклита отправлялись сначала в Консисторию и там переоблачались (I, 29, 161).
С наступлением времени для выхода во втором часу дня (8-й утра), царь выходил из своего покоя в Хрисотриклин и продолжал шествие в храм св. Софии, а затем на фор Константина в Халкопратийский храм обычным порядком выходов в Благовещение и Рождество Богородицы.
2. Если Благовещение случалось в Великую субботу, когда царь ходил в храм св. Софии для участия в перемене покровов св. престола, то царь совершал выход в св. Софию и производил все те действия, которые полагались по обряду Великой субботы, т. е. принимал участие в перемене покровов, выходил в Сосудохранильницу, для каждения хранящихся там сосудов и святынь, выходил через диаватики св. Николая к св. Кладезю101, но из него не выходил на площадь и не шел во дворец, а через ту дверь, которая вела из св. Кладезя в триклин царского мутатория, и, стоя в которой царь раздавал апокомвий священно- и церковно-служителям пред выходом из храма св. Софии в большие Господние праздники102, царь входил в триклин мутатория, а из триклина в мутаторий собственно, т. е. в ту комнату, которая назначалась для переоблачения, снимал здесь при помощи состоящих при облачении чинов облачение Великой субботы и надевал облачение Благовещения. Переоблачившись таким образом для Благовещенского выхода, царь опять входил в храм, доходил до св. врат алтаря, молился и входил в алтарь, снова поклонялся св. престолу, кадил его вокруг и, когда выходил из алтаря на солею, брал у препозита молебственную свечу, а певчие начинали петь тропарь Благовещения. Словом, обряд Благовещенского выхода совершался весь вышеописанным новым порядком, без всяких отличий и отступлений, т.е. царь шел сначала на фор Константина, потом возвращался к Халкопратийскому храму, где, после возложения апокомвиев, слушал, стоя на паперти храма св. Раки, евангелие и ектению, а потом возвращался верхом во дворец.
Но в более древнее время, когда цари обыкновенно в Благовещение слушали литургию и стояли в катихумениях, выход в Благовещение, если оно случалось в Великую субботу, отличался тем, что царь, хотя и поднимался в катихумении Халкопратийского храма, но стоял там не всю литургию, а слушал только евангелие и ектению (I, 35, 187), после которых спускался по деревянной лестнице, выходил в портик и садился на лошадь103.
Хотя в этой заметке ничего не сказано об участии в крестном ходе вместе с царем патриарха, но, принимая во внимание, с одной стороны, краткость подобных заметок, а с другой стороны, то обстоятельство, что в конце заметки сказано, что обряд Благовещенского выхода в Великую субботу совершается так, «как мы изложили выше обстоятельно в общем выходе Благовещения» (I, 35, 186)104, можно и было бы должно думать, что патриарх, проводив царя до выхода из храма св. Софии, шел . вслед за ним с духовенством через фор Константина, как описано выше, если бы в открытом недавно уставе Великой церкви IX в. не было прямого замечания, что, если Благовещение случится в Великую субботу, то крестный ход идет в Халкопратийский храм не через фор Константина, а прямо поднимается в Халкопратии (ἐξερχομένης τῆς λιτῆς ἐϰ τῆς Μεγάλης Ἐϰϰλησίας εὐϑὺς ἀνέρχεται εἰς τὰ Χαλϰοπρατεῖα)105. Здесь разумеется, конечно, церковный крестный ход с патриархом и духовенством. О царе не упоминается, и принимал ли он участие в этом ходе, неизвестно. Но в новооткрытом древнейшем уставе Великой церкви об участии царя в церковных праздниках вообще не упоминается, за исключением переоблачения покрова св. престола в Великую субботу, потому и заключать из умолчания о царе, что царь не участвовал, еще нельзя, тем более, что участие царя в крестном ходе в Благовещение, как и в другие праздники, далеко не было так обязательно и постоянно, как участие патриарха. От воли царя зависело принять или не принять участие в том или другом церковном торжестве106. Потому, быть может, о царе в церковном уставе и не упоминается, хотя он и участвовал обыкновенно во многих церковных празднествах, т. е. делал парадные выходы и совершал крестные ходы. Как бы, однако же, ни было, все-таки между Придворным и Церковным уставом относительно крестного хода в Благовещение, случившееся в Великую субботу, является разногласие, которое примирить можно только предположительно. Возможны, мне кажется, два предположения; или царь с своим синклитом совершал крестный ход через фор Константина, а патриарх с духовенством шел прямо в Халкопратийский храм, или во время написания Церковного устава и царь, и патриарх ходили прямо в Халкопратийский храм, если Благовещение приходилось в субботу на страстной неделе.
Кроме Великой субботы в извлечениях из типика Великой церкви IX в., сделанных проф. Η.Ф. Красносельцевым, указан порядок службы и крестного хода, если Благовещение случится в Великий четверг. В этом случае «после окончания часов (в Великой церкви, т. е. св. Софии) и омовения св. престола, выходит крестный ход и поднимается на фор (Константина), а оттуда возвращается в Халкопратии»107.
Хотя об участии царя в этом крестном ходе ничего не говорит ни Церковный устав, ни обряд Великого четверга, который находится в Придворном уставе и который будет изложен ниже, тем не менее можно думать, что царь точно так же, как и в другие дни, принимал участие в крестном ходе в Халкопратийский храм по Благовещенскому обряду, если Благовещение приходилось в Великий четверг, совершая по возможности и то, что полагалось делать в этот четверг, независимо от Благовещения.
3. Если Благовещение случалось в Вербное воскресение, когда совершался крестный ход по дворцовым храмам, из храма пресв. Богородицы Фара в храм св. Стефана в Дафне и обратно, то царь, совершив крестный ход в храм св. Стефана, не шел назад вслед за духовенством, а входил в смежный с храмом св. Стефана китон (покой) Дафны, снявши в Октагоне хламиду, и в одном дивитисии дожидался в китоне известия от патриарха. Чины синклита между тем шли в разные части дворца и становились в тех палатах и помещениях, в которых они должны были, по Благовещенскому обряду, приветствовать царя во время шествия в храм св. Софии. С получением известия от патриарха о том, что пора начинать выход, царь выходил в Октагон, облачался при помощи веститоров в хламиду и совершал выход в св. Софию по Благовещенскому обряду, т. е. по типу средних выходов в храм св. Софии, а затем совершал крестный ход в Халкопратийский храм через фор Константина108.
4. Если Благовещение случалось в понедельник Пасхальной недели, когда совершался торжественный крестный ход (впоследствии выезд) в храм св. Апостолов, то царь, совершивши в Благовещенском облачении выход в храм св. Софии по типу средних выходов, одинаковому как для Благовещения, так и для понедельника Пасхальной недели, шел оттуда с своим крестным ходом на фор Константина, слушал там краткое молебствие и затем при пении Благовещенского тропаря: «Днесь спасения нашего главизна», который, по обыкновению, запевал церемониарий, шел с своим крестным ходом не назад к Халкопратийскому храму, а далее на запад, по Средней улице, до храма пресв. Богородицы Диакониссы, входил в храм и слушал здесь прокимен, апостол, евангелие и ектению; после ектении царь переоблачался и вместо Благовещенского облачения надевал облачение понедельника Пасхальной недели. Переоблачившись таким образом, царь с синклитом, также переоблачившимся по пасхальному, при пении певчими на амвоне пасхального тропаря: «Христос воскресе», выходил из храма Богородицы Диакониссы и шел далее по той же Средней улице до поворота к храму св. Апостолов, а потом, повернув направо, направлялся с своим крестным ходом к храму св. Апостолов. Во время шествия от храма Диакониссы чины царской свиты пели уже не Благовещенский, а Пасхальный тропарь, который, по выходе из храма Диакониссы, начинал церемониарий. Другими словами, в храме Диакониссы кончался Благовещенский выход и начинался выход Пасхального понедельника109.
Принимался ли во внимание праздник Благовещения на возвратном пути, т. е. пелись ли песнопения Благовещения димами наряду с песнопениями Пасхального понедельника, неизвестно. Можно только поэтому предполагать, что пелись, по крайней мере, отчасти, так как для этого требовалось только больше времени. Других каких-либо препятствий, по-видимому, не было.
5. По аналогии с вышеприведенными случаями совпадения Благовещения с другими церковными празднествами можно судить о совершении Благовещенского выхода и в другие дни, т. е. можно думать, что по возможности совершалось все, что время позволяло исполнить. Но специальных указаний относительно других дней в Придворном уставе не дано. Замечено только, что на возвратном пути актологии совершаются только в том случае, если Благовещение придется в субботу или в воскресение. Если же Благовещение случится в другой день, то, хотя партии или димы Ипподрома и стоят на своих местах в вышеописанном порядке и последовательности, но актологий не поют, а только приветствуют царя многолетиями, когда он подходил к месту встречи, и осеняют его крестным знаменем, когда он проехал110.
Отсутствие славословий и песнопений при встречах, кроме субботы и воскресения, следует, по всей вероятности, объяснять тем, что в прочие дни Великого поста, а тем более страстной недели, праздничные песнопения, соединенные с прославлением царей, считались не соответствующими тому покаянному и благоговейному настроению, в котором христианин должен проводить Великий пост, особенно страстную неделю.
6. Так как 25-го марта не только у нас, но и на юге Европы бывают нередко дожди и сильные, холодные ветры и совершать в такую погоду крестный ход по улице, совершать молебствие на площади Константина на открытом воздухе было неудобно, то в таком случае крестный ход как царя с его синклитом, так и патриарха с духовенством, от Милия шел не по средине улицы, а по портику, шедшему от Милия к фору Константина и окаймлявшему Среднюю улицу с северной стороны, т. е. с правой, если идти от св. Софии и Милия к фору Константина. Шествуя под кровлею портика, участники крестного хода доходили до самого фора Константина, не подвергаясь действию дождя, но, дойдя до фора, шли не к колонне Константина, к которой примыкал маленький храм св. Константина, а, не выходя из-под кровли портика, достигали здания сената, стоявшего на форе Константина. Здесь в сенате фора ставился антиминс, т. е. переносный церковный столик111, который в данном случае заменял престол храма св. Константина. Около этого антиминса становился царь с своею ближайшею свитою, а сзади чины синклита в порядке, подобном тому, в котором они располагались пред колонною Константина. Сюда же приходил вслед за царем и патриарх с духовенством и народом и совершал здесь краткое молебствие, которое во время хорошей погоды совершалось в храме св. Константина. После этого молебствия, как царь с своим синклитом, так и вслед за царем патриарх с духовенством шли назад по тому же портику, по которому пришли в сенат фора, до дома Лавза и, пройдя через него, повертывали налево в Халкопратийский храм112, все время или почти все время шествуя под кровлею портика и колонн тех зданий, которые примыкали к портику и возле которых приходилось идти царю и патриарху с их спутниками.
По выходе из Халкопратийского храма, царь также мог ехать назад под кровлею того же портика и таким образом доехать почти до самой Халки, не подвергаясь действию дождя.

Рис. 19. Миниатюра Ватиканского минология (26 окт.)

Рис. 20. Миниатюра Ватиканского минология (26 янв.)
Глава IV. Богомольные выходы и выезды в храм св. Апостолов
Храм св. Апостолов [τῶν ἁγίων Ἀποστόλων] построен был Константином Великим и назначался для погребения его самого и его наследников, христианских императоров, их жен и детей113. В него перенесены были мощи св. Апостолов: Андрея, Тимофея и Луки при сыне и наследнике Константина, Констанции, при котором храм и освящен во имя св. Апостолов, без всякого сомнения, согласно с намерением и волею самого Константина114. Историк и панегирист св. Константина прямо говорит, что этот первый христианский император предугадывал ту честь, которая ему будет оказана церковью, т.е. предвидя, что он, за свои великие услуги, будет признан равноапостольным (ἰσαπόστολος), приказал порфировую гробницу, предназначавшуюся для его собственного праха, поставить так, чтобы она стояла посреди двух рядов гробниц с именами 12 Апостолов115. Хотя в этих гробницах мощей св. Апостолов не было, но уже самое положение среди них Константина должно было указывать на великое значение первого христианского императора для Христовой церкви. Как христианин, Константин Великий не мог быть причислен, подобно своим предшественникам, к богам, но зато он поставлен и приравнен был к таким святым христианской церкви, которые наиболее близки были к Богочеловеку и, по близости к Божеству, занимают первое место, после Богоматери.
В какой части храма поставлена была гробница св. Константина, мы не можем сказать. Известно только, что она стояла не в самом храме, а в пристройке к нему (ἐν τοῖς προϑύροις)116. Относительно устройства первоначального храма св. Апостолов мы знаем сравнительно очень немного. Известно, между прочим, что он по своему плану представлял форму креста и отделан был с роскошью и великолепием, достойными строителя и соответствующими назначению храма быть усыпальницею для императорских фамилий117.
Храм стоял среди обширного двора, окруженного великолепными портиками со всех сторон. Близь него был устроен дворец с царскими покоями, бани, места для отдохновения и помещения для стражи, которая должна была постоянно жить здесь и охранять место вечного упокоения римских самодержцев от покушений святотатствен- ной руки118.
Устроенный таким образом храм со всеми окружающими его постройками существовал около двух веков, принимая в свои недра бренные остатки сменивших за это время римских владык, их супруг и ближайших родственников. Несмотря на заботливость, с которою большинство императоров относились к месту погребения своих предшественников и родственников, храм св. Апостолов ко времени царствования Юстиниана, как и большинство других построек Константина, пришел в ветхость и требовал коренной переделки.
Великий царь-строитель, переделавший значительную часть римских построек Константина на византийский лад, создавший вместо более или менее скромной базилики в честь Премудрости Божией, один из величайших храмов, и на месте Константиновского храма св. Апостолов построил совершенно новый храм, имевший, подобно св. Софии, огромное значение в истории архитектуры христианских церквей. Великий Юстиниан, затмивший Константина Великого богатством и роскошью своих построек, новизной и оригинальностью стиля, и храму св. Апостолов дал совершенно новый вид и создал образец, который воспроизводился и воспроизводится бесчисленное множество раз с разным успехом.
Храм Константина Юстиниан приказал срыть до основания и построил храм по новому плану и в другом масштабе, но удержал в новом плане крестообразную форму прежнего храма119. Как было уже замечено, мы не имеем подробных сведений о плане Константиновского храма и не знаем, какими линиями и какой крест изображал план этого здания. К счастью, относительно храма св. Апостолов, построенного Юстинианом, мы имеем более подробные сведения. Кроме довольно обстоятельного описания Прокопия, до нас дошло несколько, хотя очень несовершенных, изображений этого знаменитого храма в Минологии Василия Болгаробойцы.
По словам Прокопия, храм св. Апостолов, построенный Юстинианом, состоял из двух ограниченных внешними стенами перекрещивающихся параллелограммов, из которых один распростирался с запада на восток, а другой с юга на север. Первый параллелограмм был длиннее второго, который пересекал первый не в средине его, а ближе к восточному концу, так что план храма представлял собою форму креста не равноконечного (греческого), а с длинным западным концом (латинский крест). Внутри концы имели по два ряда колонн в два этажа и представляли род базилик в три корабля, из которых каждая вела к центру здания, т.е. к перекрестью параллелограммов, в котором была устроена на возвышенном полу солея алтаря. Над алтарем, покрывая перекрестье, как на воздухе, висел полусферический купол, устроенный, по словам Прокопия, совершенно так же, как в св. Софии, только в меньших размерах, т.е. купол посредством барабана, прорезанного окнами, опиравшийся на четыре арки и столько же столбов. Такие же купола были поставлены над каждым из четырех концов креста. По словам историка, по величине эти боковые купола были равны центральному и отличались от этого последнего только тем, что нижняя часть купола не была прорезана окнами.
Обращаясь к изображениям храма св. Апостолов в Минологии Василия120, мы, действительно, видим (рис. 21) пятикупольную церковь, в которой центральный купол значительно выше остальных, хотя по величине своего диаметра, по-видимому, равен им. Высокий барабан центрального купола прорезан частыми окнами, между тем сравнительно низкие барабаны других куполов вместо окон имеют только узкие продольные отверстия, за исключением одного правого купола, в котором, кроме таких отверстий, имеется широкое окно.
Рисунки Минология, таким образом, подтверждают и дополняют сведения, сообщенные Прокопием, в том отношении, что представляют купола не равной высоты, как и следовало ожидать с архитектурной точки зрения. Но едва ли не еще важнее то обстоятельство, что, судя по рисункам Минология, купола храма св. Апостолов поставлены, на высоких барабанах (τὸ ϰυϰλοτερές Прокопия), особенно центральный, между тем как купол св. Софии барабана почти не имеет, а представляет собою полусферу, положенную почти прямо на арках, с окнами в этой полусфере. Таким образом, если рисунки Минология точны, в храме св. Апостолов, построенном при Юстиниане, мы имеем образец: 1) куполов на высоких барабанах, 2) соединения в одном храме 5 куполов, т.е. пятикупольной церкви. И то, и другое, как известно, сделалось до того распространенным, что стало типичным отличием больших соборных храмов, построенных в византийском стиле, как на западе, так и на востоке, особенно у нас.
Наиболее известным образцом пятикупольного храма на западе является собор св. Марка в Венеции, а у нас таких церквей с давних времен было великое множество, и до того [тип этот] считается излюбленным, что за невозможностью устроить пять куполов, их заменяют, по крайней мере, пятью главами, поставленными на столбиках, заменяющих барабаны, как главы заменяют купол121. В виду этого храм св. Апостолов является одним из самых важных и замечательных храмов Константинополя не только по своему религиозному значению, по которому он занимал первое место после св. Софии, но и по своему громадному влиянию на архитектуру храмов, которое продолжается и до сих пор, несмотря на то, что этот прототип пятикупольных и пятиглавых церквей и соборов давно исчез и заменен построенною на его месте мечетью.
Как в храме, построенном Константином для погребения царей и. цариц, гробницы их, не исключая и самого равноапостольного строителя, не стояли [в самом храме], а помещались в пристройках, так и в храме, воздвигнутом Юстинианом, гробниц с телами усопших царей и членов их семейств не помещали. Для этой цели были при самой постройке сделаны особые помещения, портики и маленькие храмы, примыкавшие к большому храму и составлявшие с ним одно целое. Так, по крайней мере, нужно заключать как из обрядов Придворного устава, так и из перечня похороненных при храме св. Апостолов царей и цариц с их ближайшими родственниками и родственницами.
Дело в том, что в этих списках гробницы царей и цариц распределяются на четыре отдельных помещения: два ἡρῷα и два портика (στοαί), северный и южный. Но при этом, к сожалению, не указывается, где собственно эти помещения находились и в каком отношении они находились к храму св. Апостолов, т.е. находились ли они вне или внутри его, так что вопрос этот приходится решать на основании других данных и косвенных указаний, которых также очень мало, да и те не настолько ясны, чтобы дать точный и обстоятельный ответ122.
В названных перечнях один ἡρῷον называется Константиновым, а другой –Юстиниановым, потому что в первом из них во главе погребенных там находится Константин и Елена, а в другом – Юстиниан Великий, строитель нового храма св. Апостолов, существовавшего до взятия Константинополя турками.
В языческом мире τὰ ἡρῷα назывались храмы и капеллы в честь героев, где совершался культ их. В христианском мире, сколько мне известно, храмы и капеллы (εὐϰτήρια) в честь святых не назывались ἡρῷα и в Gl. Gr. Дюканжа s. ѵ. τὸ ἡρῷον указывается только на вышеназванные ἡρῷα Константина и Юстиниана, которые Дюканж почему-то называет портиками123. Если Дюканж в этом случае руководствовался тем обстоятельством, что два других помещения для погребения царей называются в перечнях портиками (στοαί), то в этом случае с Дюканжем едва ли можно согласиться.
Как видно из нижеизложенных обрядов богомольных выходов в храм св. Апостолов, в ἡρῷονʼе Константина был алтарь (τὸ βῆμα) и притом в честь св. Константина, так как этот ἡρῷον называется иногда просто «св. Константином», т.е. храмом св. Константина, как обыкновенно храмы в честь святых называются именами этих святых без прибавления слова «храм»124. А если ἡρῷον Константина был храм или, точнее, евктирий, то его едва ли можно назвать портиком, как делает Дюканж, который не мог иметь в виду указаний Придворного устава. Подобным же евктирием был, по всей вероятности, и ἡρῷον Юстиниана, но был ли там алтарь в честь Юстиниана или какого другого святого, неизвестно, по крайней мере, мне. Оба эти ἡρῷα построены, по всей вероятности, Юстинианом при постройке храма св. Апостолов, и Юстиниан, поставивши в одном во главе гробниц гробницу свв. Константина и Елены, другой такой же построил для себя и своих наследников и завещал на первом месте положить свой прах, почему этот ἡρῷον и назван его именем125.
Если эти два ἡρῷα были таким образом евктириями или небольшими храмами, вроде Равеннского евктирия, в котором погребена Галла Плакидия с семьей, то уже из этого можно заключать, что ἡρῷα св. Константина и Юстиниана находились не в самом храме, а были отдельными помещениями, придельными храмами, находившимися не в пределах храма св. Апостолов в строгом смысле, а вне его. В пользу этого говорят и некоторые места нижеизложенных обрядов.
Так в обряде празднования памяти св. Константина сказано, что цари, помолившись в алтаре храма св. Апостолов, «поворачивают налево к востоку этого алтаря и уходят к гробницам, т.е. в храм св. Константина, а там в ведущей туда двери встречает их патриарх». Из этого места видно, что храм св. Константина или ἡρῷον его отделялся от алтаря, к северо-восточной стороне которого он примыкал, стеною и дверью. Но из этого места еще нельзя заключать, что храм св. Константина составлял отдельную пристройку, а не входил в состав храма, т.е. не находился в его стенах. Обряд выхода в неделю всех Святых позволяет, кажется, сделать и это заключение. В конце его сказано, что «царь, выслушав евангелие, уходит из евктирия св. Феофании и проходит через дверь и деревянную лестницу, которая, выводя наружу из храма св. Константина, ведет в то же время в катихумении св. Апостолов». Такую лестницу можно представлять себе разно. Во всяком случае, она в нижней своей части выводила на двор (ἐξάερον) из храма св. Константина, а продолжение ее вверх, примыкавшее к стене этого храма, вело в катихумении св. Апостолов, т.е. во второй этаж этого храма. Если бы храм св. Константина был в стенах храма св. Апостолов, а не составлял отдельной пристройки, то едва ли было бы сказано, что лестница вела из храма св. Константина, скорее можно было бы ожидать название простой деревянной лестницы, ведущей в катихумении св. Апостолов без упоминания храма св. Константина, если бы он не составлял отдельной пристройки, быть может, подобной той, которая изображена в Минологии Василия (ed. Albaini, II, ρ. 182, рис. 22) возле храма св. Апостолов, если только здесь мы имеем изображение этого именно храма, как полагает проф. Е.Е. Голубинский. Подобную же пристройку, но с другой стороны представлял собою, вероятно, ἡρῷον Юстиниана.
В храме св. Константина из древних царей, кроме самого Константина, который покоился в порфировом саркофаге вместе с матерью своею св. Еленою в восточной стороне, покоились тела сына его Констанция, Феодосия Великого, его дочь Пульхерия с мужем Маркианом, Лев Великий, Зинон и Анастасий Дикор с Ариадною. Кроме этих древних царей, здесь покоились цари Македонской династии Василий, Лев VI, Константин VII и Василий II, их жены и отчасти дети, вероятно, по распоряжению Василия, который сделал в храме св. Апостолов и пристройках к нему значительные поправки. Последним из погребенных здесь царей значится Василий II Болгаробойца. Цари-узурпаторы, возлагавшие на себя, царскую корону во время малолетства Константина Багрянородного и его внуков в списке не значатся и, кроме Никифора Фоки, похоронены здесь не были. Зато сюда был поставлен во главе Македонской династии Михаил III, по распоряжению Льва Мудрого, который считал себя, по-видимому, сыном Михаила, а не Василия Македонянина.
В виду того, что позднейшие обряды богомольных выходов в храм св. Апостолов составлялись и редактировались при царях Македонской династии, в них упоминаются гробницы Василия Македонянина и Льва Мудрого и его первой жены св. Феофанὸ наряду с гробницею св. Константина, потому что цари (по всей вероятности, Константин Багрянородный и Роман II) им покланялись и кадили.
Как при храме, построенном Константином Великим, были разные здания и небольшой дворец, так и при храме, вновь выстроенном Юстинианом, был дворец, который непосредственно при мыкал к храму и в который можно было пройти посредством внутренних переходов из катихумении западной стороны. Об устройстве и величине этого дворца мы ничего не знаем. Из обрядов Константина Багрянородного видно только, что во дворце была «большая палата» для парадных царских обедов во дни выходов в храм св. Апостолов и Всех Святых. К этой большой палате, вмещавшей в себе большое количество столов для духовных и светских чинов, примыкал китон или покой для отдохновения, переоблачения и пребывания царя в ожидании патриарха126.
Кроме этого дворца, к храму св. Апостолов если не прилегал, то стоял очень близко храм Всех Святых с своими придельными храмами или евктириями. По единогласному свидетельству византийских, хотя и сравнительно позднейших писателей, храм этот был построен Львом VI Мудрым, который для его постройки воспользовался материалом от старой развалившейся церкви св. Стефана. Храм этот существовал сравнительно недолго и, разрушенный временем и землетрясениями, в свою очередь, послужил материалом для укрепления Кикловия и Золотых ворот при Иоанне Палеологе127.
С какой стороны храма св. Апостолов был расположен храм Всех Святых, в точности неизвестно. Об этом можно только догадываться почти исключительно на основании обрядов Придворного устава. Мордтманн в своем новом «Очерке средневекового Константинополя» высказывает предположение, что храм Всех Святых примыкал к храму св. Апостолов с северной стороны, но, к сожалению, не указывает оснований своего предположения. Мне также кажется, что храм Всех Святых был с северной стороны. Основанием для этого предположения служит то обстоятельство, что царь, по выходе из нарфика придельного храма св. Ипатия, который примыкал к алтарю храма Всех Святых, поднимается в катихумении св. Апостолов по деревянной лестнице, прилегавшей к ἡρῷον св. Константина, который примыкал к храму св. Апостолов с левой (северной) стороны, причем царь проходил через дворик (ἐξάερον), лежавший между восточными концами двух храмов128. Царь таким образом шел от правой (южной) стороны храма Всех Святых к левой (северной) стороне храма св. Апостолов, без сомнения, ближайшим и прямейшим путем, не огибая одного из этих храмов. А если так, то, значит, правая сторона храма Всех Святых была обращена к левой храма св. Апостолов.
Как к храму св. Апостолов примыкали помещения для погребения царей, так к храму Всех Святых прилегали евктирии в память разных святых. К алтарной конхе его, между прочим, принимал евктирий в честь св. Феофанὸ или Феофании, первой супруги Льва VI, которая за свои христианские добродетели вскоре после смерти была причислена к лику святых. В память ее Лев и построил евктирий. быть может, в одно время с храмом Всех Святых129.
Некоторые византийские хронисты говорят, а за ними повторяют и некоторые новейшие ученые, что Лев VI Мудрый построил этот евктирий для погребения в нем своей супруги Феофанὸ, которая и была, по их словам, там погребена. Между тем, как мы увидим из нижеизложенных обрядов, св. Феофанὸ была погребена в евктирии св. Константина и там цари поклоняются ее гробу после Льва VI, который, очевидно, был погребен рядом с нею. По перенесении царских гробниц Феофанὸ была погребена в евктирии св. Константина даже не одна, а с своею дочерью Евдокиею. Отсутствие мощей св. Феофании в евктирии ее имени подтверждается и тем обстоятельством, что цари во время выходов в храм Всех Святых входят в этот евктирий через синтрон евктирия св. Льва (διὰ τοῦ ἔνδον τοῦ βήματος κυκλίου) не для поклонения мощам св. царицы, а для того, чтобы там переоблачиться и сидеть в ожидании чтения евангелия, которое потом цари слушали, стоя у закрытой завесою двери, ведшей из алтаря Всех Святых в евктирий130.
Кроме евктирия св. Феофании к алтарю храма Всех Святых примыкал такой же евктирий в честь мученика Льва, из алтаря которого (точнее, из синтрона) был ход в евктирий св. Феофании. В него царь входит после поклонения св. престолу в храме Всех Святых, поклоняется в этом евктирии св. престолу и, простившись с патриархом, уходит через синтрон в евктирий св. Феофании. Положение его относительно храма Всех Святых определяется тем, что цари входят в него через восточную сторону алтаря Всех Святых, из чего можно заключать, что он, как и евктирий Феофании, примыкал к алтарю с восточной стороны131.
В тесной связи с этими двумя евктириями, построенными Львом, находился третий в честь св. Ипатия, через нарфик которого цари проходили на пути из евктирия св. Феофании в храм св. Апостолов132.
В ἡρῷονʼе Юстиниана на первом месте, к востоку, у самой алтарной конхи, стояла гробница с прахом Юстиниана, затем следовали гробницы Феодоры и ближайших наследников Юстиниана. Кроме семейства Юстиниана в его ἡρῷονʼе покоились Ираклиды, начиная с самого Ираклия, и цари-иконоборцы, начиная со Льва Исавра и кончая последним иконоборцем Феофилом. Здесь же погребено было тело самого упорного и резкого иконоборца Константина Каваллина или Копронима. Михаил III счел нужным не только лишить Константина Каваллина чести быть погребенным вместе с другими царями, по и сжег его «несчастное тело», а гробницу его приказал разбить и употребить на поделки при перестройке Фара133.
В портиках, из которых один был на северной, другой – на южной стороне храма, помещались гробницы немногих царей: в южном находились гробницы Аркадия, его жены Евдокии и сына их Феодосия Младшего, а в северном – «несчастное и препоганое (παμμίαρον) тело отступника Юлиана» и царствовавшего непосредственно после него очень короткое время Иовиана.
В рукописи Кодина относительно южного портика замечено, что он развалился и стоит без крыши (ϰατελύϑη ϰαί ἐστιν ἀσϰεπής). Из этого замечания, относящегося ко времени написания перечней, можно заключить, что портики эти находились не в храме, а вне его, и составляли более или менее самостоятельные постройки или пристройки. Кроме того, «несчастное тело» Юлиана едва ли долго оставалось в храме, если бы и было когда-нибудь положено. Все это, вместе взятое, ясно говорит в пользу того, что цари и царицы погребались не в храме собственно, а вне его, в прилегающих к нему пристройках.
Хотя, по свидетельству Евсевия, храм св. Апостолов назначался для погребения при нем царей и цариц, однако же с давних времен там же погребались и Константинопольские епископы-патриархи, так что уже в 360 году храм св. Апостолов называется обычным местом погребения их. К сожалению, о том, где именно погребались епископы, мы можем, сколько мне известно, сказать еще менее, нежели относительно царей. Возможно, что некоторые из патриархов, признанные святыми, погребались в самом храме, а мощи Иоанна Златоуста и Григория Богослова были, несомненно, положены даже в алтаре храма св. Апостолов, и цари, когда входили в этот алтарь для поклонения св. престолу, покланялись в то же время и мощам этих великих святителей и учителей церкви.
Другие два святителя, патриархи Никифор и Мефодий, чтимые церковью за борьбу против иконокластов, погребены были в каком-то помещении возле храма св. Константина, по-видимому, также в отдельном помещении, а не в самом храме, во всяком случае, не в алтаре. Судя по тому, что царь в место погребения последних патриархов проходит через храм св. Константина и через него же возвращается назад в храм, можно думать, что относительно храма место погребения патриархов (oἱ τάφοι τῶν πατριαρχῶν) находилось дальше храма св. Константина (I, 10, 77).
Обычай хоронить патриархов и царей возле храма св. Апостолов не исключал, конечно, возможности погребения и тех и других в иных храмах и монастырях, но это не мешало быть храму св. Апостолов обычною и постоянною усыпальницею царей и патриархов.
Из всего вышеизложенного относительно храма св. Апостолов и примыкающих к нему построек видно, что храм этот окружен был множеством больших и малых зданий и представлял собою, под одним названием, целый комплекс больших и малых храмов и дворцовых построек. Не менее ясно также, что в постройках и храмах, известных под общим именем храма св. Апостолов, хранилось множество драгоценных реликвий, религиозных и политических. Кроме мощей св. Апостолов, св. царей, цариц и патриархов, в гробницах царей, вместе с их земными останками, находились огромные богатства земные в виде царских облачений, венцов, золотых украшений, драгоценных камней, жемчуга и т. п.
Эти богатства и сокровища привлекали внимание разных лиц от самых низких слоев населения до императоров: первые видели в этих сокровищах очень выгодный предмет добычи, а вторые в крайних случаях, когда не было никаких других средств для удовлетворения существенных и неотложных нужд государства, позволяли себе пользоваться этими сокровищами для государственных целей, как пользовались иногда церковными сокровищами и богатствами.
Но более всего, по-видимому, пострадали религиозные сокровища храма св. Апостолов и земные богатства его во время латинского плена, когда производилось систематическое и продолжительное ограбление храма св. Апостолов, как и других храмов и дворцов, независимо и после единовременного и сплошного разграбления Константинополя, последовавшего непосредственно за взятием второго Рима благочестивыми крестоносцами в 1204 г.
После латинского плена Михаил Палеолог, много заботившийся о восстановлении разграбленного и опустевшего царствующего града, обратил свое внимание и на храм св. Апостолов, который, как усыпальница царей, сохранял свое прежнее значение в ряду константинопольских храмов. Для поддержания в нем постоянного служения, Михаил установил штат священно- и церковнослужителей, а возле него поставил колонну со статуей своего патрона архангела Михаила и коленопреклоненною пред архангелом своею собственною статуей, которая и обозначается на дошедших до нас позднейших планах Константинополя.
Все возрастающая бедность и расстройство византийского царства не позволяли, однако же, царям поддерживать все многочисленные храмы и монастыри, приходившие в ветхость. Мы видели, что и храм Всех Святых, прилегавший к храму св. Апостолов, не избежал участи многих других храмов и дворцов и, как развалившийся, был употреблен на постройку укреплений около Золотых ворот.
Весьма вероятно, что такой же участи подверглись и евктирии, примыкавшие к храму св. Апостолов, и некоторые другие пристройки, окружавшие храм св. Апостолов.
Тем не менее до самого взятия Константинополя турками, храм св. Апостолов сохранил свое значение первой после св. Софии церкви Константинополя, а около него сохранилось еще довольно много построек и пристроек, вследствие чего, с обращением св. Софии в мечеть, патриарх с своим клиром и синклитом, как известно, переселился в храм св. Апостолов, который стал, таким образом, резиденцией патриарха, самым важным, первенствующим собором христианского Константинополя.
Но недолго был храм св. Апостолов резиденцией патриарха. Убийство какого-то турка в ограде храма было причиною того, что тогдашний патриарх, переселившийся в храм св. Апостолов с позволения грозного завоевателя Константинополя, сам нашел за лучшее оставить храм св. Апостолов и со всем своим управлением переселился в монастырь Всеблаженного (Παμμαϰαρίστου), в Фанаре, где и до сих пор находится резиденция патриарха вселенского.
Так как переселение патриарха было добровольное, и, по всей вероятности, не спешное, то можно предположить, что патриарх вывез из храма св. Апостолов не мало святынь и мощей, уцелевших от латинского разграбления. К сожалению, об этих святынях мы знаем очень мало, как и о других драгоценностях и святынях, которые греки успели спасти от грабежа, последовавшего за взятием Константинополя турками. Трудно допустить, чтобы греки не позаботились о спасении того, что можно еще было спасти и, сложа руки, ожидали взятия и разграбления города, которое с каждым днем, к концу осады, становилось все более и более вероятным и неизбежным.
Покинутый патриархом, храм св. Апостолов несколько лет стоял заброшенным и пустым, пока Могомет II не приказал его совсем разрушить и на его месте, из материала этого храма и других запустевших и необращенных в мечети храмов, построить мечеть, которая должна была принять и хранить прах завоевателя византийской столицы, превратившего ее из христианской в мусульманскую. На месте упокоения первого христианского римского императора, преобразовавшего небольшой греческий городок в столицу христианской империи, водворен был, таким образом, прах завоевателя этой столицы, более 1 000 лет бывшей хранительницею языческих сокровищ и христианских святынь и павшей окончательно, при громе пушек, на заре новой истории.
Недалеко от храма св. Апостолов и окружавших его построек находился царский дворец Вона (τοῦ Βόνου, palatium Boni), называвшийся так по имени очень важного сановника Вона (Bonus), жившего при Ираклии и в том квартале, в котором потом построен был дворец, имевшего свой дом. Так как этот Вон или Бон был одним из самых видных чинов византийского царства, был даже наместником или регентом империи во время походов Ираклия, то неудивительно, что квартал, в котором такой замечательный сановник жил, стал называться его именем, тем более, что этот Бон построил большую и роскошную цистерну, которая также называлась его именем134.
К сожалению, место как дворца Вона, так и его цистерны определить трудно с желательною точностью и определенностью. Из обрядов Константинова Придворного устава видно только, что путь к дворцу Вона от храма св. Апостолов шел через Ксиропипий, но и место Ксиропипия неизвестно.
Постройку дворца Вона приписывают разным царям: Роману I Лакапину, Константину Багрянородному и Роману II. Обряд Придворного устава, который заставляет нас говорить об этом дворце и который изложен ниже, позволяет предполагать, что дворец Вона построен Константином. Этот царь установил и выход или крестный ход из храма св. Апостолов во дворец Вона 21 мая, т.е. в день памяти своего патрона Константина Великого и матери его св. Елены, в честь которых во дворце Вона были построены евктирии и водружены были большие и великолепные кресты. К сожалению, никаких подробностей об устройстве этого дворца и месте евктириев во дворце мы не знаем. Известно только из обряда 21 мая, что в евктирии св. Константина был серебряный киворий над алтарем, что в храмы свв. Константина и Елены вход был со двора дворца и что евктирий св. Константина примыкал к каким-то ступеням, на которых водружены были кресты.
Что обряд крестного хода в день освящения евктириев и, быть может, дворца 21 мая был установлен Константином Багрянородным, можно заключать из того обстоятельства, что в этот день царь приезжал в храм св. Апостолов для поклонения мощам св. Константина и вместе с тем поклонялся праху своих ближайших предков Льва VI и Василия Македонянина. Без всякого сомнения, если бы храмы были построены и обряд крестного хода в память освящения их (ἐγϰαίνια) был установлен Романом II, сыном Константина, то царь совершал бы поклонение и праху своего отца, т.е. Константина Багрянородного. Приписывать установление обряда с поклонением первых царей Македонской династии Роману Лакапину также едва ли возможно, так как царь этот, желавший, очевидно, на место Македонской поставить свою собственную династию, едва ли стал бы устанавливать обряд, в котором первые цари Македонской династии воспоминаются наравне с св. Константином.
Выходы в храм св. Апостолов, до замены их при Льве VI Мудром выездами, начинались совершенно так же, как и выходы в Халкопратийский храм, т.е. цари шли сначала по типу средних выходов в храм св. Софии, откуда, после поклонения св. престолу в алтаре, выходили через царские двери и красные врата и совершали крестный ход с чинами своего синклита через Милий по Средней или Большой улице до колонны и храма св. Константина на его форе. С прибытием патриарха здесь совершалось краткое молебствие, как и в Богородичные праздники. Разница состояла только в том, что тропари пелись другие, соответствующие празднику, в который совершался выход. Так, в понедельник Пасхальной недели, при выходе царя из алтаря храма св. Софии и далее во время шествия его по улицам и площадям пелся тропарь: «Христос воскресе» и пр. (I, 10, 74).
Точно также и в другие праздники, понятно, во время крестного хода чинами царского синклита и певчими патриарха пелся тропарь, а равно и другие песнопения, соответствующие празднику.
Кроме того, выходы в храм св. Апостолов уже в первой своей стадии отличались от выходов в вышеописанные Богородичные праздники цветом облачений царя и чинов, а равно и духовенства. Между тем как в Богородичные праздники царь облачался в пурпурный дивитисий и такую же хламиду, в понедельник Пасхальной недели для выхода в храм св. Апостолов он облачался в белые златотканые дивитисий и хламиду, соответствующие светлому празднику135.
Подобно царю и чины синклита собирались для выхода в понедельник Пасхальной недели в белых облачениях, причем высшие чины как синклита, так и кувуклия облачались в хламиды с златоткаными нашивками (χλανίδια χρυσόταβλα I, 10, 71).
В неделю Всех Святых, а равно и в праздник св. Апостолов царь ездил в храм св. Апостолов в золотистом скарамангии, когда выходы были уже заменены выездами, но какого цвета были дивитисий и хламида, в которые он облачался в храме, об этом в обрядах не сказано. Можно думать только, что эти одежды были не белого цвета, как в некоторые большие Господние праздники, а какого-нибудь оттенка пурпурного, как в другие второстепенные праздники (I, 37, 189).
В пурпурных же дивитисиях и хламидах цари, по всей вероятности, совершали и крестные ходы через св. Софию и площадь св. Константина до замены выходов выездами. При этом необходимо иметь в виду, что цвет или оттенок пурпура дивитисия и хламиды были более или менее различны, так что они ясно отличаются друг от друга, как можно судить по цветным изображениям царских одежд на миниатюрах и иконах.
Не отличаясь, таким образом, от выходов в Халкопратийский храм ничем, кроме песнопений и цвета облачений, до колонны и храма св. Константина, крестный ход от колонны и фора Константина получал совершенно другое направление. Между тем как в Благовещение и Рождество Богородицы, царь с своим синклитом, а затем и патриарх шли назад до дворца Лавза, во время выходов в храм св. Апостолов они шли от фора Константина далее по Средней или Большой улице, т.е. продолжали идти на запад по направлению к Золотым воротам, но далеко не доходили до них, так как на полпути поворачивали вправо, направляясь к храму св. Апостолов, лежавшему вправо от Большой улицы, если идти по ней с востока на запад, от храма св. Софии к Золотым воротам.
Расставивши чинов синклита на форе Константина в том порядке, в каком они должны были идти, церемониарий с зажженною свечою в руке, как и все чины синклита, становился впереди и запевал тропарь праздника, который затем подхватывал и пел весь синклит. Царь, окруженный чинами кувуклия и своей военной свиты, шел с молебственною свечою (τὸ λιτανίϰιον) в руке за синклитом. Вся эта масса чинов, военных и гражданских, в своих парадных облачениях, медленно двигалась по Большой улице, устланной благовонною зеленью и цветами, мимо зданий, украшенных дорогими материями и коврами, проходила через Хлебный рынок и площадь Тавра и достигала без остановки до храма пресв. Богородицы Диакониссы, находившегося, как мы видели, между площадью Тавра и Филадельфием.
Дойдя до этого храма, царь отдавал свою процессиональную свечу препозиту, брал у него, вероятно, малотаенную свечу и, быть может, помолившись пред храмом, брал опять процессиональную свечу136, и вся процессия двигалась дальше до Филадельфия, откуда она сворачивала направо и мимо Оливрия и Константиниан доходила до храма св. Полиевкта. Помолившись здесь и переменивши опять свечу, царь шествовал по средине улицы до храма св. Апостолов, входил через лутир в нарфик и садился там на принесенное сюда царское кресло, дожидаясь прибытия патриарха с духовенством и народом, участвовавшим в крестном ходе с патриархом, который шел тем же, очевидно, путем, немного спустя после царя и его синклита, как и в других подобных случаях.
Чрез несколько времени подходил к храму св. Апостолов и патриарх с крестным ходом. Впереди патриарха шли певчие, низший клир, горожане, участвовавшие в крестном ходе, затем высшие духовные сановники и, наконец, сам патриарх с ближайшими к нему чинами клира. Публика и низший клир проходили дверьми боковыми, направо от средних, больших или царских, в храм, а певчие и высшие духовные сановники: митрополиты, архиепископы и епископы входили в храм средними или царскими дверьми. Проходя мимо царя, высшие духовные сановники кланялись царю в Пасхальную неделю и в воскресные дни до колен, не падая ниц, а в другие дни кланялись в землю, причем царь сидел в своем кресле и не вставал до приближения самого патриарха с евангелием и несомым пред ним крестом.
С приближением патриарха царь вставал, здоровался с ним и, после обычного целования, шел с правой стороны к царским дверям и затем совершался обычным порядком малый вход, причем царь и патриарх молились и проходили в алтарь совершенно так, как в св. Софии и других храмах. Так как мы имели уже случай познакомиться с подробностями этого акта литургии, то мы и не станем повторять их еще раз, а перейдем прямо к тому, что следовало за обычными действиями малого входа137.
Как мы видели, после возложения на св. престол апокомвия, который, понятно, приносился и в храм св. Апостолов, царь кадил вокруг св. престола и уходил из алтаря. В храме св. Апостолов, до выхода из алтаря, царь сперва молился у гроба св. константинопольских патриархов Иоанна Златоустого и Григория Богослова, мощи которых находились в алтаре храма св. Апостолов. Затем царь и патриарх через левую сторону алтаря выходили из него и шли в восточный конец храма к гробнице св. Константина и Елены. Помолившись здесь с зажженными свечами в руках, они подходили к мощам св. константинопольских патриархов, боровшихся за иконопочитание, т.е. Никифора и Мефодия, где также зажигали свечи и молились. Наконец, царь и патриарх подходили к гробницам царей и цариц, погребенных здесь, и, зажегши свечи, молились у гробниц царей, ближайших предшественников, предков или родственников царствующего императора, как это мы увидим ниже из обряда 21 мая.
Помолившись таким образом у гробниц знаменитых царей и патриархов, царь с патриархом выходил из восточного конца храма, в котором покоились все эти мощи и который назывался именем св. Константина, и по левой стороне храма, т.е. по гинэкониту, проходили назад по направлению к западной стороне храма. Дойдя до средины, царь и патриарх останавливались против алтаря, раскланивались и расходились в разные стороны: патриарх уходил в алтарь совершать литургию, а царь проходил далее по гинэкониту к нарфику и, выйдя через него в лутир, повертывал налево, чтобы по левой витой лестнице подняться в катихумении. У дверей, ведших к этой лестнице из лутира, стояли высшие чины синклита, церемониарий с силенциариями и приветствовали царя обычным многолетием. Царь, предшествуемый и сопровождаемый высшими чинами кувуклия, спафарокандидатами, маглавитами и другими чинами своей свиты поднимался в катихумении, причем завесы, висевшие в катихумепиях, поднимали силенциарии. Царь проходил через западные, находившиеся над нарфиком, катихумении с левого, т.е. северного их конца на правый и становился в правой, т.е. южной галерее катихумепий, в закрытом помещении, в котором он всегда стоял, когда слушал литургию в храме св. Апостолов и которое представляло собою род мутатория или параклитика.
После царя поднимались по той же витой лестнице в катихумении высшие чины синклита, приветствовавшие царя у входа на лестницу, и становились в западной галерее катихумений, где, против алтаря, т.е. на средине этой галереи стоял царский антиминс, на который ставились св. Дары, для причащения царя и высших чинов.
Когда по ходу литургии приближалось время приобщения св. тайн, за патриархом посылались два силенциария и патриарх поднимался в катихумении со св. Дарами, а затем приобщал царя и высших сановников и уходил с катихумений доканчивать литургию совершенно тем же порядком, как было описано выше, при изложении выхода в Халкопратийский храм. Так как процедура приглашения патриарха и приобщения была везде одинакова, то мы повторять ее не будем ни здесь, ни в следующих обрядах, хотя в Придворном уставе она описана во всех обрядах с большим или меньшим количеством подробностей138.
Царь, простившись с патриархом, после приобщения чинов, уходил в свое место и достаивал литургию. В это же время, вероятно, устанавливался и утверждался царем список чиновников и сановников, которые в этот день приглашались обедать с царем и патриархом139. По окончании литургии царь выходил, в сопровождении чинов кувуклия и своей военной свиты, через западную галерею из катихумений храма св. Апостолов внутренними переходами во дворец, находившийся близь этого храма, и здесь в китоне (покое), соответствующем китонам Большого Дворца, дожидался прибытия патриарха, за которым посылались опять силенциарии. Пред входом во дворцовые комнаты его встречали высшие чины кувуклия и доводили до того помещения, в котором он должен был дожидаться выхода царя. Когда патриарх, приходивший сюда в полном архиерейском облачении с некоторыми чинами клира, посидит немного и отдохнет, препозит отправлялся к царю и докладывал ему о прибытии патриарха. Царь, приказав пригласить патриарха в большую залу, где приготовлен был стол для царя с патриархом и приглашенных чинов и, накинув, при помощи бывших при нем чинов кувуклия, плащ, выходил в столовую, приветствовал его и целовался с ним. Затем приглашались прибывшие с патриархом иереи, которые совершали предобеденные молитвы и пели соответствующие песнопения, после чего патриарх благословлял трапезу и снимал свой омофор, который и уносили иереи в одну из ближайших комнат. Царь, в свою очередь, снимал с себя плащ и садился с патриархом за стол, а чины кувуклия становились вокруг стола. Царь и патриарх выпивали по одной чаше, сидя за столом одни в присутствии только чипов кувуклия, до входа не только «друзей», т.е. приглашенных к обеду сановников, но и стольников, т.е. чинов, заведующих царскими обедами и прислуживавших за столом.
После этого, по знаку царя и распоряжению препозита, сначала вводились чины, заведовавшие царским столом и прислуживавшие за царскими обедами и завтраками140. Когда они занимали свои места и расстанавливались в соответствующем порядке, по новому знаку царя, установленным порядком вводились «друзья», т.е. сановники и чиновники, заранее приглашенные к столу по утвержденному царем списку.
Ввод чинов производился подобно тому, как вводились сановники и чиновники всего синклита для торжественных заседаний и приемов, но при вводе в столовую для завтраков и обедов фигурировали стольники. Вместо остиария, ходившего за разными отделами чинов для ввода в Золотую руку во время больших выходов в храм св. Софии, здесь фигурирует стольник (ὁ τῆς τραπέζης), который, подобно остиарию, когда чины дойдут до завесы входной двери, становится пред завесою и, по знаку царя и препозита, толкает ее рукою, давая этим знать енгистиариям (или силенциариям), стоявшим за завесою, что пора поднять или раздвинуть завесу и впустить «друзей» или тот или другой отдел чинов в залу, где были приготовлены столы и где сидел царь с патриархом141.
Когда друзья входили и занимали свои места за столами, по указанию атриклинов, руководствовавшихся рангом должностей и чинов, начинался обед с соблюдением принятого чина и порядка. По окончании обеда, «друзья» выводились таким же порядком, как и входили, причем шли к выходным дверям задом, лицом к царю. Царь и патриарх оставались с кувуклием и чипами стола; по знаку препозита, бравшего знак от царя, чины стола выходили, и в столовой оставались только чины кувуклия с царем, как пред обедом. Царь и патриарх снова пили по разу из чаш и вставали из-за стола. Царю подавали и накидывали плащ, а патриарху иереи приносили омофор и, надевши его на патриарха, совершали молитву. Патриарх, по обыкновению, давал царю просфоры и флакончики с освященным благовонным маслом. Иереи, приглашенные для надевания омофора и совершения послеобеденной молитвы, выходили, и патриарх, раскланявшись с царем и поцеловавшись, уходил тем же путем, каким пришел в обеденную залу, в катихумении, а оттуда спускался в храм. При этом возвращении его до катихумении сопровождают его и поддерживают высшие чины кувуклия, а дальше до самого храма силенциарии, которые ходили его приглашать и сопровождали его на пути к царю.
Царь, простившись с патриархом, уходил в китон, отдыхал немного, потом переоблачался для возвратного пути в Большой дворец. Так как возвращался царь уже не пешком с крестным ходом, а верхом на парадно убранной лошади в сопровождении чинов и партий Ипподрома, словом, с полным парадом (ἔμπραττος), то он переоблачался также в парадные одежды, но такие, в которых он обыкновенно совершал торжественные выезды и въезды. Все торжественное шествие от дворца Дафны, где, пред выходом в св. Софию, царь облачался в дивитисий и хламиду, он совершал в этих длинных и неудобных для верховой езды одеждах. После обедни в китоне или, быть может, в параклитике, он снимал хламиду и для переходов из параклитика в китон, а из него в столовую накидывал только плащ, оставаясь, однако же, все время в дивитисии142. Так как дивитисий, длинный и довольно узкий в подоле бесполый хитон, сделанный из расшитой роскошной и тяжелой материи, для езды верхом был совсем неудобен, то царь заменял его более удобным, как по своему покрою, так и по материи, хотя также роскошно отделанным и украшенным скарамангием, в котором обыкновенно совершались выезды царя в городе и который, смотря по торжественности случая, был различно отделан и украшен. Вместо скарамангия царь надевал иногда для выездов и въездов верхом и другие хитоны. В понедельник Пасхальной недели, как отмечено в обряде, для возвращения верхом, вместо дивитисия, он надевал пурпурный коловий, т.е. хитон с короткими рукавами, расшитый золотыми трубочками или валиками, а по краям обшитый жемчугом и драгоценными камнями. Коловий этот назывался «гроздом» (βότρυς)143.
Сверх коловия на царя надевали поясной меч, обделанный в золото и украшенный драгоценными камнями и жемчугом в таких же ножнах. Такого рода мечи (σπαϑία) довольно часто встречаются на памятниках искусства, на которых изображаются или императоры в военных костюмах и с мечами, или царские телохранители, оруженосцы, несущие парадные царские мечи за царем. Царское облачение для парадного отъезда довершал препозит, возлагавший на честную главу царя тиару, которая называется также туфою или даже тогою и отличается как от диадимы собственно, так и от парадной царской короны в тесном смысле, хотя и представляет собою также парадный головной покров144. Насколько можно судить по обрядам Придворного устава, памятникам и свидетельствам средневековых писателей, тиара или туфа надевалась царями для торжественных въездов после одержанных над неприятелем побед, а потом и вообще для парадных выездов верхом по городу, которые по облачению царя и обстановке всего поезда походили на торжественные въезды.
В таком наряде царь из покоев дворца, прилегавшего к храму св. Апостолов, выходил в сопровождении чинов кувуклия в катихумении над нарфиком, причем находившиеся тут завесы поднимали кувикулярии, и направлялся к левой витой лестнице, той самой, по которой он пред литургией поднялся в катихумении. Когда царь спускался по этой лестнице и выходил в лутир или двор храма св. Апостолов, его приветствовали собравшиеся у входа на лестницу (ὁ ϰοχλίας) чины синклита обычным многолетием: «на многие и добрые годы да продлит Бог святое (или твое) царствование!», как приветствовали они его здесь, когда царь поднимался в катихумении пред литургией. Но теперь высшие чины синклита были уже не в хламидах, в которых они совершали крестный ход и слушали литургию, а в пурпурных плащах, как высшие чины кувуклия и некоторые другие чиновники, которым предстояло сопровождать царя верхом и пешком. В то время, когда переоблачался царь, переодевались и чины в свои пурпурные плащи145.
Окруженный чинами кувуклия, синклитом и телохранителями царь, сойдя с лестницы, проходил через двор или лутир к двери со двора храма на улицу, где стояли верховые лошади в парадной сбруе для царя и сопровождавших его верхами чинов. Верховой конь царя, как обыкновенно в подобных случаях, был, по всей вероятности, белой масти. Вся сбруя коня, т.е. узда, седло, и служащие частью для укрепления седла, частью для украшения коня, ремни, между прочим, шейные, унизаны были жемчугом, драгоценными камнями и золотыми и эмалевыми бляхами146. На хвост и на ноги коня, кроме того, надевались перевязи из широкой ленты или ремни с висящими концами. Словом, царский конь для торжественного отъезда убирался так, как убраны кони на дошедших до нас, хоть и немногочисленных памятниках, византийского искусства, на которых изображаются торжественные, парадные выезды и триумфальные въезды царей. Сюда, между прочим, принадлежит золотая булла Балдина II, на которую Дюканж указывает, как на образец изображения парадно убранного царского коня (рис. 25). Еще лучшим образцом и, притом, более близким ко времени составления Придворного устава может служить бамбергская ткань (рис. 26), на которой изображен победоносный царь на коне, убранном согласно с вышеприведенным описанием парадной сбруи, в момент въезда в город после удачного похода против неприятеля147.
Верховые лошади, назначенные для высших чинов кувуклия и синклита, были также не в простой обычной сбруе, а накрыты парадными попонами148.
Севши за воротами двора св. Апостолов на убранных таким образом коней, чины синклита в обычном порядке, т.е. младшие впереди, выстраивались, по всей вероятности, в два ряда и ехали впереди царя; за ними следовали высшие чины кувуклия также верхами, а за ними уже сам царь. По сторонам и спереди эту процессию окружала конная и пешая гвардия: с той и другой стороны чинов синклита ехали также на парадно убранных в попоны конях спафарии и спафарокандидаты, препоясанные мечами, с секирами и щитами в руках, причем спафарокандидаты, как одетые в полную парадную форму, имели на себе цепи или гривны. Чинов кувуклия окружали с обеих сторон также конные спафарокувикулярии в присвоенных им хитонах с мечами и секирами в руках. Кроме того, с той и другой стороны шли пешком в соответствующем порядке разные чины гвардии в парадной форме: кандидаты, скривоны, царские мандиторы, курсоры, деканы и другие.
Рядом с царем шли пешком с одной стороны протостратор, а с другой – конюшенный комит (ϰόμης τοῦ σταύλου), а рядом с ними, с той и другой стороны, шли страторы, со щитами, держа в руках пальмовые ветви.
Сзади царя ехали на парадно убранных конях в парадной форме, препоясанные мечами и с секирами на плечах (σπαϑοβάϰλια) протоспафарии евнухи, которые обыкновению в торжественных выходах стоят позади царя. За ними ехал в пурпурном плаще на парадном коне логофет дрома, за которым следовали протоспафарии бородатые, одетые и вооруженные так же, как и протоспафарии евнухи, и конные кувикулярии.
Поезд замыкали друнгарий виглы или числа и подчиненные ему офицеры числа и гвардейских отрядов, а равно и не шедшие впереди царя маглавиты и другие чины царской военной свиты. Все эти чины ехали на некотором расстоянии от кувикуляриев и протоспафариев, ехавших за царем. Сзади всех ехал наместник числа и сдерживал толпу, шедшую за царским поездом, чтобы она шла на некотором расстоянии от поезда и не смешивалась с ним149.
Всю эту массу чинов, военных и гражданских, расстанавливал и затем руководил всем поездом церемониарий, который становился и шел во главе процессии в пурпурном плаще, предшествуемый четырьмя силенциариями, державшими в руках золотые жезлы.
Направляемый церемониарием торжественный царский поезд медленно двигался, сопровождаемый народом, по тем самым улицам и площадям, по которым царь шел с крестным ходом пред литургией и которые были убраны и усеяны душистою зеленью и цветами, по распоряжению ипарха.
Торжественность и великолепие царского поезда в значительной степени увеличивались еще тем, что через известные промежутки на всем пути его встречали димы Ипподрома, приветствовали и сопровождали своими песнопениями и славословиями, так что и на возвратном пути улицы и площади, по которым двигался поезд, оглашались праздничными песнопениями, многолетиями и возгласами, подобно тому, как крестный ход пред литургией сопровождался пением соответствующих церковных песнопений и тропарей.
Первая встреча происходила у мраморных львов. Здесь стоял заречный дим венетов с своими певчими и начальниками, во главе которых находился димократ венетов, т.е. доместик школ. Когда царский поезд приближался к месту первой встречи, церемониарий брал доместика школ за руку и подводил к подъезжавшему царю, который, доехав до места приема, останавливался. Доместик, поклонившись и поцеловав ногу царя, подавал ему, обернув, конечно, руку хламидою, книжечку или свиток с поздравительными и хвалебными стихами, по своему содержанию соответствующими тому празднику, в который совершался выезд.
Царь принимал ливелларий и передавал его комиту ставла, а димократ венетов, т.е. доместик школ, отойдя на свое прежнее место к своему диму, осенял царя крестным знамением в то время, как дим пел славословия царю и возглашал приветствия, которые, как и весь прием, были почти тожественны с таковыми же действиями димократа и дима при встречах царя на пути в храм св. Софии и обратно.
Как при первой встрече на пути в храм св. Софии, димократ венетов подавал, после поклонения, царю ливелларий, так и здесь, при первой же встрече, он тем же порядком делал это. Только там царь отдавал ливелларий препозиту, а здесь, во время верховой езды, он отдавал его шедшему рядом комиту ставла150.
Приветствия димов при возвращении верхом из храма св. Апостолов, как и из других храмов, бывали почти такие же, как при возвращении из храма св. Софии. Как там венеты приветствовали царей словами: «добро пожаловали», так и здесь у мраморных львов запевалы загородного дима венетов возглашали: «добро пожаловало божественное царство», а народ восклицал трижды: «добро пожаловал» (или пожаловали, смотря по тому, сколько было царей, один или несколько)151. Затем следовали обычные славословия и многолетия, повторявшиеся при каждой встрече димов и состоявшие в том, что запевалы или певчие дима возглашали многолетие (многая лета или времена) с прибавлением известных хвалебных эпитетов царям (божественное царство, самодержцы римлян), а народ трижды повторял многолетие и заканчивал другою формою многолетия: «долголетним содеет Бог святое царство твое (или ваше)!»
Выслушав эти славословия у мраморных львов, для чего вся процессия останавливалась, царь двигался со всем поездом далее. Дим венетов, делавший первую встречу, с доместиком школ во главе, также шел вместе с другими впереди царя и на ходу говорил дромики (τὰ δpoμιϰά); а если царь прикажет, то пелись апелатики (ἀπελατιϰά)152. К сожалению, песнопения и стихотворения, певшиеся во время выездов, изложены гораздо короче, чем песнопения димов во время больших выходов, описанных во II кн. Byzantina. Так, при описании первого же приема венетов приведены только дромики, а апелатиков не приведено ни одного, между тем как при изложении славословий и песнопений в другие подобные праздники приводятся некоторые апелатики, но не указаны дромики. Так как относительно дромиков, приведенных в «актах» понедельника Пасхальной недели, сказано, что они поются и в других случаях, то можно думать, что они приведены здесь все, чтобы не приводить их при изложении «актов» в другие праздники. Весьма возможно, что приведенные там апелатики, по крайней мере, некоторые из них пелись и в понедельник Пасхальной недели, как дромики пелись в другие праздники и при всяком приеме повторялись одни и те же славословия. С этими апелатиками мы познакомимся в тех обрядах, в которых они приводятся в Придворном уставе, а теперь мы должны довольствоваться дромиками, приведенными в «актах» понедельника Пасхальной недели при описании первой встречи венетов. Вот эти дромики:
1) «Радуйся, державнейший самодержец, радость вселенной, служитель Бога, счастье римлян, гордость венетов, веселие и украшение, да соизволит божество, чтобы ты управлял своим государством сто годов».
2) «Вот радость днесь, тишина и милость великая! Ибо владыки (цари), облекшись радостью, как зарницы, блещут державою, и миру посылается счастье, ибо наша радость та же, что и восхищение мира (т.е. цари)».
3) «Силу создала десница Бога нашего, владыки! Мир стал господствовать в собственном царстве и в вере возвысил его к благоволению153. Радуйтесь небесные воинства! Сорадуйся, войско римлян! Возрадуйтесь, все христиане, и празднуйте Господу!».
Сопровождаемый этими славословиями, царь и весь поезд достигали храма св. Полиевкта, пред прибытием к которому венеты останавливались и, прекратив свое пение, отставали от поезда, потому что у храма св. Полиевкта происходил второй прием. Здесь поджидал царя белый дим венетов с димархом во главе. Его точно так же, как и димократа, подводил к царю церемоииарий, димарх кланялся, целовал ногу и подносил ливелларий остановившемуся царю, после чего отходил к своему диму и, ставши впереди его, пред царем, осенял его крестным знамением, когда народ пел многолетия и славословия и держал руки под хламидою, когда пели запевалы или певчие.
А певчие и димоты возглашали совершенно те же самые приветствия и многолетия, как и при первой встрече, а затем, когда царь и весь поезд двигался далее, пели дромик или апелатик, сопровождая царя пением до церкви св. Евфимии Оливрия.
У этой церкви царь опять останавливался для третьего приема, который делался загородным димом прасинов с своим димократом, т.е. начальником экскувиторов во главе. После обычных действий, поднесения ливеллария, славословий и многолетий, когда царь и вся процессия двигалась далее, загородный дим прасинов пел в качестве дромика на глас первый песнь, которая пелась обыкновенно прасинами же при пятом приеме на пути царя в св. Софию в первый день Пасхи, т.е. «Безвременно (до начала времен) Отцу соцарствующий в последние времена временно с людьми жил и, на кресте ад и смерть пленивши и тридневным воскресением своим мертвым воскресение обновивши, Сам возвысит рог Ваш, владыки, победами над варварами»154.
С пением этого стиха прасины шли впереди царя до Филадельфия, где царя встречал опять димократ венетов с загородным димом и где совершалось то же, что и при первой встречи, за исключением поднесения ливеллария. Этого поднесения уже не бывало ни на этот раз, ни в следующие разы, когда опять приходилось делать прием димократу венетов, так как поднесение ливеллария совершалось только один раз во время выезда или выхода каждым из четырех представителей четырех партий или димов ипподрома, а при втором и следующих приемах, если таковые были, ливелларии тем же лицом не подносились155.
Димократ с загородным димом венетов, встретив царя у Филадельфия, провожал его до Тавра, где его встречал и приветствовал красный дим прасинов с димархом во главе. Димарх прасинов, как представлявшийся царю с своим димом в первый раз во время возвратного поезда, подносил царю ливелларий, а затем осенял царя крестным знамением, пока народ пел обычные многолетия и славословия. После этой встречи, которая, по общему счету приемов, была пятою, красный или городской дим прасинов шел впереди царя с песнопениями до арки Хлебного базара, где димарх оборачивался назад, чтобы сделать здесь шестой прием, во время которого делалось и пелось то же, что и в других; только димарх прасинов не подносил ливеллария во второй раз. От Хлебного базара красный дим прасинов шел впереди царя до фора Константина, на котором происходил седьмой прием. Поезд снова останавливался, и царь принимал и затем слушал многолетия и славословия городского дима прасинов с димократом их, т.е. начальником экскувиторов, во главе. Прасины, после встречи, шли впереди царя по Средней улице до Претория, у которого приветствовал царя белый или городской дим венетов с своим димархом во главе. При этом, по счету восьмом, приеме, в конце обычных многолетий и славословий запевалы венетов восклицали: «добро пожаловало истребление сынов Агари (т.е. добро пожаловал истребитель или сокрушитель, победитель сынов Агари, арабов, мусульман)156. А народ заканчивал славословия обычным многолетием: «долголетним содеет Бог святое царство твое на многия лета».
После славословий загородный дим венетов шел впереди царя до Милия; дойдя до Милия, димарх с димом возвращался назад и под аркой Милия совершал девятый прием. Отсюда поезд в сопровождении городского дима венетов двигался к баням Зевксиппа, где происходил десятый прием, который делался городским димом прасинов с их димократом во главе, сопровождавшим царя до решетки Халки, у которой происходил последний прием. Этот прием, одиннадцатый по счету, делал, по обыкновению, димократ венетов с загородным их димом157.
Здесь у железной решетки Халки все сановники и чиновники, ехавшие верхом, сходили с лошадей и по передним портикам дворца, предназначенным для гвардейских караулов, сопровождают царя пешком, между тем, как он один ехал верхом через Халку и Школы до больших ворот, ведших из Школ в палату экскувиторов. Эти ворота, или двери, стояли на высоком пороге (пульпите) в несколько ступеней, и ехать верхом далее было невозможно. Царь, поэтому, обыкновенно сходил с лошади, когда въезжал во дворец через Халку и Школы. Здесь же он и садился на лошадь, когда выезжал из дворца через Халку. Так как во время выходов в большие Господние праздники, стоя на пороге этой двери, царь производил иногда скривонов, то в обряде эта дверь иногда называется «большою дверью экскувитов, где бывает производство скривонов»158.
Сойдя с лошади у двери палаты экскувитов царь, предшествуемый чинами синклита и сопровождаемый кувуклием, проходил через эту палату, а затем через палату кандидатов мимо дверей, ведших отсюда в Консисторию. Здесь пред дверьми Консистории чины синклита собственно, которые, при возвращении царя из храма св. Софии в большие Господние праздники, приветствуют царя в последний раз многолетием и откланиваются ему в Консистории, выстраивались в должном порядке, говорили ему обычное многолетие и оставались здесь, а затем расходились по домам159.
Впереди царя шли далее только высшие чины синклита и вместе с чинами кувуклия сопровождали царя до дверей храма Господа. В средних или красных вратах этого храма они также приветствовали царя многолетием и откланивались ему, не входя в храм, а царь в сопровождении чинов кувуклия входил через среднюю бронзовую дверь в храм Господа, после того, как препозит снимал с него при входе в храм туфу или тогу. В храме Господа приветствовали царя многолетием вошедшие сюда раньше царя и ставшие здесь в два ряда чины кувуклия, которые после этого немедленно запирали двери храма Господа, между тем, как царь шел через храм на солею и молился пред святыми вратами со свечою в руке, поданною ему препозитом.
Помолившись здесь, царь с чинами кувуклия выходил из храма и по переходам (διαβατιϰά), связывавшим храм Господа с дворцом Триконха и называвшимся потому «переходами Господа», шел сначала в полукруг Триконха, а из этого дворца переходами сорока мучеников в Хрисотриклин. Здесь чины кувуклия становились ранее прибытия царя и последние еще раз приветствовали его многолетием: «на многие и добрые годы да продлит Бог святое царство твое».
Царь проходил в китон Хрисотриклина, т.е. в собственные жилые покои, а чины кувуклия, не обязанные дежурить во дворце, уходили и расходились по домам. Словом, царь шел по палатам дворца совершенно так же, как в Богородичные праздники, по возвращении из Халкопратийского храма.
Читатель, знакомый с выходами в большие Господние праздники, не может не заметить, что главные моменты возвращения царя от палаты экскувитов до Хрисотриклина сходны с обратным шествием царя по дворцовым зданиям после больших выходов в храм св. Софии. Как там высшие чины синклита откланиваются царю в Оноподе и Золотой Руке, так здесь в дверях храма Господа, который, в занимающем нас обряде, по своему положению на пути царя, соответствует Августею и также запирается по входе туда царя.
Из Августея царь идет по переходам дворца Дафны к Триконху, а здесь он идет туда же из храма Господа по переходам Господа, а, начиная с полукруга или сигмы Триконха, путь был совершенно одинаков.
На возвратном пути после поездки верхом только не происходило переоблачения из хламиды в плащ, потому что царь ехал верхом в коловии или скарамангии, в котором он шел до своих покоев при Хрисотриклине и там же разоблачался и одевался в свое домашнее платье. Но туда церемониалы не проникают, потому и мы должны остановиться на Хрисотриклине и здесь покинуть царя160.
Вышеизложенным порядком выходы в храм св. Апостолов совершались до Льва VI Мудрого, который заменил выход выездом161. Нововведение Льва состояло в том, что царь не делал из дворца выхода в св. Софию и не шел оттуда с крестным ходом пешком в полном парадном облачении до храма св. Апостолов, а, выйдя из дворца в верховом костюме через диаватики и храм Господа, садился на лошадь у большой двери палаты экскувитов и ехал, окруженный чинами, частью верховыми, частью пешими, до храма св. Апостолов.
По прибытии туда, царь переоблачался в парадное облачение и дожидался прибытия патриарха с крестным ходом. С прибытием патриарха, царь встречал его и затем делал с ним малый вход, после чего царь и патриарх исполняли все то, что полагалось по прежнему порядку и что нами выше изложено. Подробнее выезд царя из дворца мы опишем при изложении выезда в храм св. Мокия в Преполовение, так как в храм св. Мокия цари издавна ездили верхом и потому в старом обряде этого праздника выезд описан довольно подробно. По готовому типу этого выезда совершался выезд и в храм св. Апостолов, когда выход и крестный ход были заменены выездом.
С заменою выходов выездами в понедельник Пасхальной недели, такие же выезды стали совершаться и в другие праздники, когда цари отправлялись в храм св. Апостолов, т.е. в Антипасху, праздник св. Апостолов, в день смерти Василия Македонянина, в неделю Всех Святых.
Во всех этих случаях выезды совершались одинаково; изменялись только облачения по цвету, да, быть может, пелись различные апелатики. Но в неделю Всех Святых богомольный выезд значительно отличался тем, что литургию царь не слушал в храме св. Апостолов, а доехав, как и в другие сейчас названные праздники до храма св. Апостолов верхом по новому порядку, царь сходил с лошади у двери лутира, ведущей к орологии храма св. Апостолов162. Войдя через эту дверь в лутир, предшествуемый чинами синклита и сопровождаемый чинами кувуклия и военной свиты, царь поворачивал направо, входил в нарфик храма Всех Святых, из него поднимался в катихумении этого храма и входил там в отделение катихумений, закрытое завесами. В виду предстоящего входа в храм св. Апостолов и затем в храм Всех Святых вместе с патриархом, царь, как и все чины, переоблачался: царь снимал золотой скарамангий, в котором он ехал, и надевал дивитисий, а высшие чины синклита, вместо красных плащей, в которых они ехали верхом, накидывали хламиды.
Когда патриарх с крестным ходом, прибыв к храму св. Апостолов, входил в него, препозит, получив об этом известие от церемониария, докладывал царю и приглашал веститоров для облачения царя в хламиду. Веститоры входили и накидывали на царя соответствующую празднику хламиду163. В дивитисии и хламиде царь, сопровождаемый чинами кувуклия, выходил в открытое отделение катихумений, где стояли в иерархическом порядке чины синклита. При выходе царя из-за завесы, они падали ниц, затем вставали и, после возгласа: «повелите!», сделанного церемониарием по знаку препозита, восклицали хором обычное многолетие и в том же порядке шли к витой лестнице, по которой поднялись, и которая вела из катихумений в нарфик храма Всех Святых. За ними следовал царь с чипами кувуклия и своей военной свиты. Спустившись в нарфик храма Всех Святых, вся процессия проходила через него в смежный нарфик храма св. Апостолов, а из него в лутир храма св. Апостолов.
Здесь ожидали царя димы ипподрома и, как только царь выходил из нарфика на двор, царя встречал загородный дим венетов с своим димократом, т.е. доместиком школ, который и подносил царю букет из роз. Немного спустя, пред входом в орологий, еще во дворе то же самое делал димарх венетов с белым димом венетов. Когда цари уже входили в дверь орология, царя встречал и подносил ему букет из роз димократ прасинов, т.е. доместик экскувиторов, с загородным димом прасинов. При входе в гинэконит храма св. Апостолов то же самое делал, наконец, красный или городской дим прасинов с своим димархом.
Когда, после этих приемов, царь через гинэконит или северную сторону храма входил в храм, направляясь к алтарю, его встречал вне алтаря патриарх, который, в ожидании царя, по прибытии с крестным ходом, стоял пред св. вратами алтаря, а затем вместе с царем входил в алтарь, где царь прикладывался к св. покрову и евангелию, подносимым патриархом. После обычного каждения вокруг престола, царь и патриарх открывали крестный ход, выходя из алтаря храма св. Апостолов, при пении певчими: «Слава Тебе, Христе Боже...»
Когда царь выходил из алтаря с патриархом, препозит подавал царю процессиональную свечу, с которой царь и шел, рядом с патриархом, из храма св. Апостолов в храм Всех Святых. Подойдя к этому храму с крестным ходом, патриарх совершал обряд открытия храма и, когда двери храма при пении стихов псалма «Возьмите врата, князи, ваша», открывались, патриарх совершал с царем малый вход в храм Всех Святых и, по обыкновению, через солею и средние св. врата входил с царем в алтарь, где царь прикладывался к покрову св. престола, кадил его вокруг и затем вместе с патриархом шел через правую сторону алтаря в прилегавший к нему с этой стороны евктирий с алтарем в честь св. мученика Льва. Здесь царь, по обыкновению, молился пред алтарем со свечою в руке, а затем прощался с патриархом. Патриарх уходил в храм Всех Святых совершать литургию, а царь через синтрон алтаря уходил в смежный с ним евктирий в честь святой царицы Феофанό, жены Льва Мудрого.
Здесь царь снимал хламиду и садился в ожидании чтения евангелия. Когда приближалось время чтения евангелия, царь из евктирия св. Феофании и (быть может, в евктирии св. Льва, который примыкал к алтарю храма Всех Святых) становился у входа в алтарь, закрытый завесою, и слушал евангелие и ектению, за ним следующую. Выслушав евангелие, царь возвращался опять в евктирий св. Феофании, садился там, утверждал списки приглашенных на этот день к обеду чиновников и сановников, потом облекался в обшитый золотою каймою плащ и через нарфик евктирия св. Ипатия выходил на прилегавший к восточной стороне храма Всех Святых и вышеозначенным евктириям дворик (ἐξάερον), а оттуда поднимался по деревянной лестнице, ведшей из евктирия св. Константина, что в храме св. Апостолов, в катихумении этого храма. Через них царь с чинами кувуклия проходил во дворец, прилегавший к храму св. Апостолов. В большой палате этого дворца, по окончании литургии, давался обед духовным, военным и гражданским сановникам по чину понедельника Пасхальной недели, описанному выше.
Из того обстоятельства, что царь с патриархом входят в храм Всех Святых после «открытия» церковных врат при пении: «Возьмите, врата князи, ваша и пр.» видно, что выезд в этот храм соединялся с праздником обновления или освящения храма Всех Святых. Такие празднования дня освящения храмов были очень распространены в Константинополе и в недавно открытом древнейшем уставе Великой церкви164 имеется довольно много указаний на эти ежегодные праздники освящения, которые состояли в важнейших храмах в том, что из св. Софии или другой церкви делался крестный ход, иногда с патриархом во главе, а по приходе в празднующий годовщину своего освящения храм совершалось последование «открытия», причем, при пении вышеупомянутых стихов псалма, открывались церковные врата и совершался малый вход.
В данном случае, в день празднования освящения храма Всех Святых, которое, очевидно, совершалось в неделю Всех Святых, крестный ход совершался патриархом из храма св. Софии с духовенством и народом без участия царя, который приезжал верхом с своим синклитом раньше патриарха и с ним совершал крестный ход только из храма св. Апостолов, стоявшего рядом.
Подобного же рода праздник, соединенный с выездом царя в храм св. Апостолов, совершался 21 мая, день празднования памяти св. Константина и Елены, и освящения небольших храмов или евктириев в честь их, построенных при дворце Вона или Новом дворце близь храма св. Апостолов. Для празднования этого дня за несколько дней царь вышеописанным порядком торжественно переезжал из Большого дворца в Новый, где перед святыми и честными крестами служилась всенощная частным образом, т.е. без парадного выхода и присутствия чинов синклита (οἰϰειαϰῶς).
В день праздника, 21 мая, царь около 2 часов дня, т.е. около 8 часов утра по нашему времясчислению, облачался в пурпурный скарамангий, препоясывался мечем и отправлялся верхом в сопровождении чинов синклита и кувуклия из дворца Вона в храм св. Апостолов по дороге, ведшей к храму св. Иoaннa в Ксиропипии. Доехав до храма св. Апостолов, царь входил через большую дверь лутира во двор, а оттуда в нарфик, где налево от входных дверей в восточной стороне были поставлены в особом помещении, отделенном от остального нарфика завесою, для царя кресла царские и куда заранее принесены были предметы царского парадного облачения: дивитисий и хламида.
Царь, войдя в это помещение, снимал свой военный верховой костюм и облачался в дивитисий и хламиду. В парадном облачении царь входил через царские двери из нарфика в храм собственно и шел к св. вратам алтаря, пред которыми и совершал обычную молитву со свечою в руке. После молитвы царь входил в алтарь и, повернув налево, направлялся к северной стороне алтаря, где был вход в придельный храм св. Константина. В дверях, ведущих в этот храм из алтаря храма св. Апостолов, стоял в ожидании царя патриарх и встречал его. Раскланявшись и поцеловавшись обычным порядком, царь и патриарх шли к святым вратам устроенного там алтаря в честь св. Константина, помолившись пред ними, входили в алтарь, где царь, без сомнения, прикладывался, по обыкновению, к св. престолу и затем, взяв у патриарха кадило, кадил вокруг св. престола, потом подходил с кадилом к гробам Льва VI, Василия Македонянина, царицы Феофании, жены Льва, и, наконец, к гробнице св. Константины и Елены и кадил пред ними. Совершив, таким образом, поклонение праху своих предков и мощам святых, память которых в этот день праздновалась, царь при пении певчими тропаря: «Креста Твоего образ на небеси видевши», выходил, сопровождаемый своим синклитом, из храма св. Константина и через дворик (ἐξάερον), прилегавший к алтарной конхе храма Всех Святых, выходил на улицу, ведшую ко дворцу Вона, причем во время шествия, до самого дворца, чины синклита, по обыкновению, пели вышеприведенный тропарь, а когда входили во двор дворца, начинали петь; «Слава Тебе, Христе Боже, апостолов похвала», песнопение, приличествующее празднику освящения храма. Во дворе дворца Вона царь садился на принесенное сюда пажами (ἀρχοντογεννήματα)165 кресло и дожидался прибытия патриарха с литиею. Когда приходил патриарх с крестным ходом и приближался к тому месту, где сидел царь, последний вставал, раскланивался и целовался с патриархом, приложившись сначала к кресту и евангелию, а затем оба они шли впереди всех и подходили к дверям евктирия св. Константина, где совершался чин «отверзения». По открытии дверей при пении: «возьмите врата, князи, ваша» и пр., царь и патриарх входили в алтарь св. Константина, молились там пред престолом и кадили вокруг него, а потом царь выходил из алтаря налево и, поднявшись на ступени, становился против большого креста св. Константина, в ожидании евангелия, а патриарх продолжал литургию.
Царь слушал литургию только до евангелия и следующей за ним ектении, как обыкновенно он делал, когда в храме не приобщался. По окончании ектении, царь уходил или, точнее, поднимался во дворец Вона, утверждал там список приглашенных чинов, затем ожидал прибытия патриарха с высшим духовенством, по окончании литургии. С прибытием их, царь с патриархом, высшим духовенством и чинами синклита, приглашенными в этот день, обедал по чину подобных праздничных обедов, главные моменты которого были указаны в изложении обряда понедельника Пасхальной недели.
Д. Беляев

Рис. 21. Миниатюра Ватиканского минология (18 окт.)

Рис. 22. Миниатюра Ватиканского минология (12 февр.)

Рис. 23. Миниатюра Ватиканского минология (16 дек.)

Рис. 24. Конная статуя Юстиниана по рисунку XIV в.

Рис. 25. Золотая булла Балдуина II

Рис. 26. Бамбергская ткань

Рис. 27. Керченский щит
* * *
Примечания
Из содержания I и II глав видно, что они были написаны или дополнены Д.Ф. Беляевым после поездки его в 1894 г. в Константинополь; отсутствие же упоминаний о поэме Родия в IV главе показывает, что эта глава была закончена, вероятно, ранее 1896 года.
Esquisse topographique de Constantinople (Lillie, 1892), стр. 44. 73. [отд. отт. из Revue de l’art chrétien, 4 série, II (1891)]. Рисунки 19–23. 27 в тексте исполнены по фотографиям, рис. 1, 2 и 6 заимствованы у van М i 11 i n g е n, Byzantine Constantinople (London, 1899), стр. 106–107; рис. 3–5. 7–6 – у Strzygowski, Jahrb. d. k. d. arch. Inst. VIII (1893), стр. 6, 8, 7, 13, 15, 20, 22, 23, 27, 9, 232, 233; рис. 17 и 18 y Barth’a, Konstantinopel (Berühmte Kunststätten, № 11), стр. 113, 116; относительно рис. 24–26 см. соответствующие указания на стр. 166 (прим.), 169 (прим. 1).
Литература по истории Византии [указана в статьях J. Мi11ег’а, Кubit-schek’a и Oberhummer’a у Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie, III, 1116 сл.; IV, 963 сл. Обозрение старой литературы дано было Г.С. Дестунисом в статьях „Топография средневекового Константинополя”. Журн. Мин. Нар. Просв. 1882, ч. СCXIX, 1–32; 1883, ч. ССХХѴ, 1–29, 229–263. Указания на позднейшие работы см. у Krumbacher’a, Gesch. d. byz. Litteratur 2, München, 1897, 1111–1112 и 1118. Из общих обозрений Константинополя и его памятников наиболее обстоятельным является сочинение Η.П. Кондакова „Византийские церкви и памятники Константинополя» в Трудах VI Археологического съезда в Одессе (1884), III, Одесса, 1887. Новейшим и наилучшим описанием Константинополя служит книга Е.А. Grosvenor’a, Constantinople, London, 1898, 2 тт. Ср. также новейший путеводитель по Константинополю Bädecker’a (1905 г.). О работе Mordmann’a, Esquisse topographique de Constantinople (Revue de l’ art chrétien, IX, 1891 и отдельно Lille, 1892), см. рецензию Д.Ф. Беляева в Визант. Врем. I].
Древние писатели, видевшие древнюю Византию, но, конечно, не предвидевшие ее славы, говорят только о крепости и высоте стен, но ничего не говорят об их протяжении и положении. Известия о линии древних византийских стен находятся у позднейших средневековых писателей, и точнее всего у Анонима-Кодина: начиналась стена при Византе от башни Акрополя и проходила до башни Евгения, а затем поднималась к Стратигию и проходила к баням Ахилла. Находящаяся здесь апсида, так называемая Урвикиева, была сухопутными воротами византийцев. Отсюда стена доходила до Милия, где также были ворота у византийцев. Отсюда стена шла до витых колонн цикалариев (Τζικαλαρίων, горшечников) и спускалась в Топы (Τόπους), а оттуда, загибая чрез Манганы и Аркадиевы бани, достигала Акрополя (В а n d u r i, Imp. Orient., Antiqu. lib. I, 1). Все названные местности, кроме витых колонн горшечников, известны и позволяют в общих чертах представить себе направление византийских стен, за исключением участка от Милия до Топов, за неизвестностью положения колонн горшечников. В пользу того, что на западе стены не доходили дальше Милия, говорит и предание о том, что палатка Константина Великого, во время стоянки пред Византией, находилась на том месте, где впоследствии был forum Константина, в центре которого стояла и еще стоит колонна Константина, называемая теперь обожженною или обгорелою колонною (Codini Origines, 41).
Известие Зосимы (II, 304) о том, что forum Constantini был построен на месте древних ворот, едва ли заслуживает доверия, если принять во внимание очертание местности.
[Указания на литературу см. у Oberhummer'a, Р а u 1 – W i s s о w а, Real-Encyklopadie, IV, 968. См. также Al. van Мillingen, Byzantine Constantinople, the walls of the city and adjoining historical sites, London, 1899. Статьи Г.С. Дестуниса по „Топографии средневекового Константинополя» помещены в Журн. Мин. Нар. Проев. за 1882–3 г.].
Cerim. I, р. 498 и 504, где описаны триумфальные въезды Василия Македонянина с сыном и Феофила с кесарем.
Cerim. I, р. 108: ἀπέρχεται μέχρι τοῦ βραχιολίου τῆς χρυσῆς πόρτης.
Cerim. I, ρ. 500: διῆλθον ἐν τῇ μέσῃ θριαμβευόμενα ἀπὸ τῆς χρυσῆς πόρτης ἕως τῆς χαλκῆς τοῦ παλατίου, ἀνοιγείσης τότε τῆς μέσης καὶ μεγάλης χρυσῆς πόρτης. Ср. ρ. 506. К сожалению, изобретатели других Золотых ворот, кроме существующих, вовсе не обратили внимания на это место или не знали его, а между тем, здесь прибавка при μεγάλη и μέση исключает всякую возможность объяснять μεγάλη иначе, как в смысле дверного отверстия, а не другого сооружения. Упуская это из виду, Мордтманн (Esquisse, 13), на основании известия Кедрина (II, р. 475), что Βασίλειος διὰ τῶν μεγάλων πυλῶν τῆς χρυσῆς πόρτης ἐθριάμβευσεν, думал, что большими воротами назывались настоящие Золотые ворота, а, в противоположность им, те ворота, которые стоят рядом с Золотыми и называются теперь Еди-Куле-Капусси, назывались μικρὰ πύλη (?), хотя самая фраза Кедрина показывает, что под μεγάλαι πύλαι разумеется часть Золотых ворот (πόρτης), которые большими не называются, между тем, как πύλαι, дверные отверстия, называются большими, в отличие от малых, боковых.
Очерк сухопутных стен, 15.
Das erste Militärthor wie alle Militärthore vermauert, hat aber als goldenes Thor zwei marmorne corinthische Säulen, als einzige Unterscheidung, weil es nur das kleine goldene Thor, verschieden von dem wahren goldenen Thriumph-thore, das in der Nähe von Sulu-Monastir war. D e t h i e r, Der Bosphor und Constantinopel, 2 Aufl. Wien, 1876, 51. Таким образом, Детье считает Золотые ворота за военные первые, за которыми следовали вторые, третьи и т. д.; но так как чрез них шли торжественные процессии, то их украсили коринфскими мраморными колоннами, чтобы хоть сколько-нибудь отличить от простых военных ворот. Как мы увидим ниже, такое мнение явилось от плохого знакомства с Золотыми воротами настоящими и теперь стоящими.
Разница заключается в том, что Датье считает настоящие Золотые ворота малыми, а большие ставит гораздо восточнее, в старой стене Константина; Мордтманн считает малыми теперешние Еди-Куле-Капусси, а придуманные Детьером называет Porta Antiqussima Pulchra.
[S t г z у g о w s k i, J а h r b. d. к. d. а г с h. Inst. (VIII) 1893, 1–39].
Свидетельства [важнейшие] о [таких] портиках [сопоставлены у Unger’а, Quellen d. byzant. Kunstgesch. 127 сл].
[На поле карандашом автором прибавлено: „за исключением гостиных дворов и тому подобных построек; пред домами такие галереи у нас считаются редкостью”].
[Unger, Quellen d. byz Kunstgesch. 128].
Byzantina, 1, 91 сл.
[На поле карандашом прибавлено: „можно сказать предположительно, что стояли статуи не Константина Великого, а Константина, сына Ирины, и др. современников”].
[О ней см. статью Д.Ф. Беляева в Летописи И-Ф. Общ. при Новоросс. унив. IV].
De hebdomo C-no disquisitio topographica, cap. 2: in confesso debere esse agnoscimus, Hebdomum ita appellatum quod Septimo (vetere scilicet Byzantio ad Promontorium Ceratinum) milliari distaret.
Ἕβδoμoν appellationem habuisse etiam inter Septimum istud milliare et urbem Constantinopolitanam interjectum Campum, in quo aedificia omnia, quorum meminerint Byzantini scriptores, nullaque in ipso milliari septimo stetisse ausim omnino contentere. Ibid. cap. 3.
Ibid. cap. XI–XII... ex locis allatis evidenter patet per sinum Ceratinum saracenos in Hebdomum, seu in Campum, urbi proximum pervenisse, a quo ad Cyclobium usque mari urbem obsidere.
Cap. XIV.
Cap. XVIII: Neque vero proxima dumtaxat civitatibus loca aut Palatia προαστείων nomine donata, sed etiam intra ipsam urbem.
[К ω ѵ σ τ α ѵ τ ι ѵ ι ά ς, Παλαιά τε και νεώτερα ἤτοι !περιγραφὴ Κωνσταντινουπόλεως... συνταχϑεῖσα παρὰ ἀνδρὸς φιλολόγου καὶ φιλαρχαιολόγου, Βενετία, 1824, 38. Hammer, Constan-
tinopolis und der Bosporos, Pesth, 1822, I, 196 сл. Π α σ π ά τ η ς, Βυζαντιναὶ μελέται τοπογραφικαὶ καὶ ἱστορικαί, Κ–πoλις, 1887, 2. 5. 19. 61. 63. 84. Dethier, Der Bospor und Konstantinopel, Wien, 1873, 25. Ὁ ἐν К–πόλει Φιλολογικὸς Σύλλογος. ΙΙαράρτημα τοῦ ΙΔ' τόμου ἀρχαιολογικὸς χάρτης τῶν χερσαίων τειχῶν К–πόλεως. 1884].
[Ε r s c h – G r u b e r, Allgem. Encyclopädie. I Section. Bd. LXXXIV, 297–298. Quellen d. byz. Kunstgeseh. I, 113 сл. 188 сл.].
[Труды VI Археологического Съезда в О д е с с е (1884), III (1887), 198. 201].
[Труды VI Археологического Съезда, Ш, 263–264].
[The Levant Herold, 10/22 April 1891. Ὀ ἐν К–πόλει Φιλολογικὸς Σύλλογος. ΙΙαράρτημα τοῦ ΚΑ' καί ΚΒ' τόμου].
[Schlumberger, Un empereur byzantin au X siècle, Paris, 1800].
) [Византийский Временник, I (1894), 398–399].
[См. Byzantina, II, стр. XXVII сл.].
[Cerim. I, р. 410 sq.].
[Η.Ф. Красносельцев, Типик св. Софии в Константинополе IX в., Одесса, 1892 – Л е т о п и с ь Историко-Филологического Общества при Новороссийском университете. II. Визант. отд. I, 156–254. А.А. Дмитриевский, Описание литургических рукописей, хранящихся в библиотеках Православного Востока. I. Τυπιϰά. I. Киев, 1895, V–ѴШ, 1–16].
[Д.Ф. Беляев, Новый список древнего устава Константинопольских церквей. Византийский Временник, III (1896), 426 сл., особ. 455. Ср. А.А. Дмитриевский, Тυπιϰά, I, 155].
[Источники эти сопоставлены Дюканжем].
[Свидетельства о церкви Иоанна Предтечи – ὁ ναὸς τοῦ Προδρόμου – сопоставлены у J. P. Richter’а, Quellen d. byz. Kunstgeschichte, стр. 145 сл.].
[Свидетельства о церкви Иоанна Богослова см. у J. Р. Richtег’а, ук. соч. 127 сл.].
Потому и в древнейшем из доселе известных уставов Великой церкви Влахернский и Халкопратийский храмы упоминаются, после св. Софии, всего чаще, как места церковных празднеств и торжественных, с участием патриарха, богослужений. См. Η.Ф. Красносельцев, Типик Церкви св. Софии IX в., Одесса, 1892, 25. Отдельный оттиск из 2-го вып. Летописи Истор. Филол. Общества при Новоросс. университете.
Известия о постройке и его переделках собраны Дюканжем в его Constantinopolis Christiana (lib. IV, p. 57 ed. Venet.). Ср. его же in Alexiadem Annae Comnenae notae, II, p. 513 Bonn. Эти известия повторяются и рассматриваются у Banduri в Imperium Orientale, tom. II, Comment, in Antiquitates Const. p. 471 sq. (ed. Venet.). Cp. ibid. p. 305. Gyllii de Topogr. Constantinopol. lib. II, с. XXI. Некоторые известия, приведенные Дюканжем, повторяет Византий в Κωνσταντινούπολις, I, 459–460. Эти же известия вкратце рассмотрены мною в статье: Храм Богородицы Халкопратийской в Константинополе, помещенной в 2-м вып. Летописи Историко-Филол. Общества при Новороссийск. университете (Одесса, 1892). Высказанные там соображения частью повторяются здесь.
Anonymi Antiquit. Constantin. 1ib. II. p. 23 (у Вanduгi в Imperium Orientate). Codini de aedific. p. 83 Bonn.: εἰς δὲ τὰ Χαλϰοπρατεῖα ἀπὸ τoῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου Ἰουδαῖοι ϰατῴϰουν χρόνους ἑϰατὸν ϰαὶ τριάϰοντα δύο ϰαὶ ἐπίπρασϰον τὰ χαλϰώματα.
Zonar. Epit. Histor. Lib. ХIII, с. ХѴIII, vol. III, p. 228 Dindorf. Cp. Cedreni Histor. Comp. I, p. 571 Bonn.
После вышеприведенных слов у Анонима-Кодина сказано: ὁ δἐ Μιϰρὸς Θεοδόσιος ἐξέωσεν αὐτοὺς (τοὺς Ἰουδαίους) ἐϰεῖϑεν ϰαὶ ἀναϰαϑαρίσας τοῦτον τὸν τόπον ναὸν τῆς Θεομήτορος ἀνήγειρε, συμπτωϑέντα δ’ ὑπὸ σεισμοῦ Ἰουστῖνος ὁ ἀπὸ ϰουροπαλάτων ἀνήγειρε ϰαὶ ϰτήματα ἀπεϰύρωσεν αὐτῷ ἀϰίνητα.
Theoph. Chronogr. ρ. 102, 1. 10–11 de Boor.
Comment, ad. Cerim. p. 135 Bonn.
Theoph. Chronogr. I, р. 102; ср. р. 248 и II, р. 107 и 152.
Codini de aedif. ρ. 113: τὴν ἁγίαν Σορὸν τὴν ἐν τοῖς Χαλϰοπρατείοις Ἰουστῖνος ἀνήγειρεν... ἐν δὲ τῷ δεξιῷ μέρει τῆς ἁγίας Σοροῦ εἰσὶ ϰείμενα τῶν ἁγίων μυροφόρων τὰ σώματα, ἐν δὲ τῷ εὐωνὐμῳ αἱ τρίχες τοῦ τιμίου ΙΙροδρόμου. Cp. Anonymi antiquit. lib. II, ρ. 25 (у Banduri)
Cerim. I, 1, 31: ἐξέρχονται διὰ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους τοῦ ϑυσιαστηρίου ϰαί διέρχονται διά τοῦ γυναιϰωνίτου τῆς αὐτῆς ἐϰϰλησίας (Халкопратийского храма)... ϰαὶ εἰσέρχονται οἱ δεσπόται διὰ τῆς τροπιϰῆς εἰς τὴν ἁγίαν τράπεζαν τῆς ἁγίας Σοροῦ. Ср. 30, 166: ϰαί διὰ τῆς πλαγίας τοῦ ἀριστεροῦ μέρους ἐξελϑὼν (ὁ βασιλεύς), εἰσέρχεται εἰς τὴν ἁγίαν Σορόν. Под гинэконитом здесь, по всей вероятности, разумеется собственно женский нарфик, а не корабль храма, потому что царь чрез него выходит в короне из храма и здесь приветствуют его высшие чины многолетием (1, 1, 31), а корона надевалась на царя патриархом уже по выходе из храма собственно, в пристройках, непосредственно примыкавших к храму, подобно св. Кладезю в св. Софии (ср. Byzantina, II, 182. О гинэконитах, см. там же, 141 сл.).
Codini de aedific. р. 113: участие в чтениях этих „важных сановников» (μεγάλοι ἄνϑρωποι) и многих магистров мотивируется именно тем, что здесь хранились одежда и покров пресв. Богородицы.
В Благовещенском обряде (I, 30, 166), после описания пребывания царя и патриарха в св. Раке, сказано: ὡσαύτως ϰαὶ ἐν τῷ ἐξ ἀριστερᾶς ὄντι εὐϰτηρίῳ εὺξάμενος, τίϑησι ἀποϰόμβιον ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ ϰαί ἐξέρχεται. В Обряде Рождества Богородицы (I, 1, 31) об этом же евктирии сказано: ϰαὶ εἰϑ’ οὕτως ἐν τῷ εὐωνύμῳ εὐϰτηρίῳ τῆς αὐτῆς ἐϰϰλησίας μετὰ τῶν ϰηρῶν εὐχόμενοι ἀποτιϑέασιν ἕτερον ἀποϰόμβιον ἐν τῇ ἁγίᾳ Σορῷ. Так как пред этим описывались такие же действия в св. Раке, то под τῆς αὐτῆς ἐϰϰλησίας нужно, по всей вероятности, разуметь храм св. Раки, но конечные слова сейчас приведенной цитаты ἀποτιϑέασιν – Σορῷ представляют буквальное повторение предыдущего периода, в котором идет речь о действиях царя в св. Раке. На основании вышеприведенных слов Благовещенского обряда можно думать, что в обряде Рождества Богородицы в конце периода об евктирии вместо ἐν τῇ ἁγίᾳ Σορῷ следует читать ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ. Ср. нижеследующее изложение обряда выходов в Халкопратийский храм.
Codini de aedif. ρ. 113: τὸν ἅγιον Ἰάϰωβον τὸν πλησίον αὐτῆς (τῆς ἁγίας Σοροῦ) ὁ αὐτὸς βασιλεὺς (Ἰουστῖνος) ἀνήγειρεν, ἔνϑα εἰσὶν ἐν σοροῖς λείψανα τῶν ἁγίων νηπίων ϰαὶ τοῦ ἁγίου Σιμεὼν τοῦ ϑεοδόχου, προφήτου Ζαχαρίου ϰαί Ἰαϰώβου τοῦ ἀδελφοϑέου, ἐν δὲ τῷ δεξιῷ μέρει τῆς ἁγίας Σοροῦ εἰσὶ ϰείμενα τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναιϰῶν τὰ σώματα, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ αἱ τρίχες τοῦ τιμίου προδρόμου. Cp. Anonymi Antiquit. lib. II, ρ. 25 (у Banduri). Ср. Du Cange, Constantin. Christ, lib. IV, p. 76. Дюканж приводит здесь место из миней, где ἀποστολεῖον св. Иакова называется находящимся ἐν τῷ σεβασμίῳ ναῷ τῆς ἁγίας Θεοτόϰου, πλησίον τῆς ἁγιωτάτης Μεγάλης Ἐϰϰλησίας. Дюканж совершенно справедливо разумеет под упомянутым здесь храмом Богородицы Халкопратийский храм. После взятия Константинополя мощи, находившиеся в храме св. Иакова, где их видел еще Антоний Новгородский, были расхищены целиком или по частям и отвезены в европейские храмы и монастыри. См. у графа Riаnt’a в указателе ко 2-му тому его Exuviae sacrae Constantinopolitanae s. v. Iacobus, Simeon Theophorus, Zacharia, Zona Mariae.
В пользу помещения храма св. Иакова в Халкопратийском храме и отожествления его с евктирием, упоминаем в вышеприведенных местах Придворного устава, говорит недавно открытый Типик Великой церкви под 23 окт.: в нем ἀποστολεῖον св. Иакова назван находящимся ἔνδον τοῦ σεβασμίου οἴϰου τῆς παναγίας Θεοτόϰου πλησίον τῆς Μεγάλης Ἐϰϰλησίας, а в другом месте, при обозначении службы в субботу после Пасхи, он назван находящимся ἔνδον τῶν Χαλϰοπρατείων, причем указано утреню совершать в Халкопратийском храме, а для служения литургии переходить в храм св. Иакова, который здесь, как и в Придворном уставе, называется евктирием (εἰσερχόμεϑα ἐν τῷ αὐτοῦ εὐϰτηρίῳ). Но проф. Красносельцев, который приводит эти места в своей вышеназванной статье о Типике Великой церкви (стр. 40–42), без достаточных оснований считая храм пресв. Богородицы, построенный царицею Вериною, женою Льва I, за тожественный с Халкопратийским, неправильно думает, что храм св. Иакова и мощи Симеона Богоприимца находились именно в храме, построенном Вериною. Для этого нет никаких оснований, тем более что, как мы увидим ниже, храм, построенный Вериною, скорее можно отожествлять с храмом Богородицы ἐν τοῖς οὐρανοῖς, а не с Халкопратийским.
Кроме указанных Дюканжем миней, о празднике освящения Халкопратийского храма говорится в уставе Великой церкви под 18 дек., где сказано, что из Великой церкви лития выходит в Халкопратийский храм около 3-го часа дня (т.е. в 9 ч. утра) перед обеднею; по прибытии духовенства и патриарха в нарфике Халкопратийского храма происходило, при пении: „Возьмите врата князи ваша», открытие дверей (Η.Ф. Красносельцев, Типик Великой церкви, 49, отдельный оттиск).
Константин Багрянородный причисляет Халкопратийский храм к ναοὶ δρομιϰοί, т.е. четырехугольным длинным храмам, каковы были базилики, имевшие по своему плану сходство с δρόμοι, местами для бега (de admin. imper. cap. 29 in fine; ср. Дюканж, Gloss. Gr. s. v. δρομιϰά). Относительно своего деда тот же Константин Багрянородный в биографии Василия Македонянина (cap. 93, р. 339, Bonn.), сообщает, что Василий Македонянин ϰαὶ τὸν ἕτερον τῆς πανυμνήτου Θεοτόϰου, τὸν ἐν τοῖς Χαλϰοπρατείοις ϑεῖον ναὸν τῆς πανσέπτου ϰαὶ ἁγίας Σοροῦ, ταπεινὸν ἰδὼν ϰαὶ ἀφώτιστον, ϰαὶ φωτοδόχους ἑϰατέρωϑεν ἀναστήσας ἁψῖδας ϰαὶ τὸ τέγος μετεωρίσας εὐπρεπείας ϰατηύγασεν ϰαί μαρμαρυγαῖς φωτὸς ϰατηγλάϊσε.
В Constantin. Christ, Du Cange’a Халкопратийский храм в числе храмов, посвященных Богоматери, рассмотрен под № IX (lib. IV, р. 57 ed. Venet.), храм, построенный Вериною под № XI (р. 58), а храм ἐν οὐρανοῖς под № ХХѴШ (р. 62 b).
Дюканж под № 11 приводит выписку из III новеллы Юстиниана, в которой в обязанности клиру св. Софии ставится совершение богослужений, кроме св. Софии, еще в храмах св. Ирины, св. Феодора и храме пресв. Богородицы, построенном Вериною, причем этот последний храм называется лежащим в соседстве или смежности с храмом св. Софии (ὁ πρὸς τῷ ἁγιωτάτης Μεγάλης Ἐϰϰλησίας γειτονήματι ϰείμενος ᾠϰοδομήϑη παρά τῆς εὐσεβοῦς τὴν λῆξιν Βερίνης). На основании этого соседства с храмом св. Софии, Дюканж заключает, что храм, построенный Вериною, был тожествен с Халкопратийским и относит к храму, построенному Вериною, некоторые другие известия, в которых говорится о храме Богородицы, близком к св. Софии, в том числе известие Андрея Дандоло о перенесении мощей св. Симеона в Венецию, хотя в этом известии храм Богородицы, из которого взяты мощи, называется только соседним с св. Софиею, без обозначения его названия. А так как, по свидетельству Анонима-Кодина, мощи св. Симеона находились в храме св. Иакова, входившем в состав Халкопратийского храма, то в известии Дандоло под храмом Богородицы нужно разуметь Халкопратийский храм, если, конечно, известие Анонима-Кодина верно. Очень возможно, что проф. Η.Ф. Красносельцев был введен в заблуждение Дюканжем и, признавая храм, построенный Вериною, за Халкопратийский, отнес известие Анонима-Кодина о мощах, хранившихся в Халкопратийском храме (собственно в храме св. Иакова) к храму, построенному Вериною, и поместил все мощи, которые, по словам Анонима-Кодина, находились в Халкопратийском храме, в храме Богородицы, построенном Вериною, хотя нет ни одного указания на то, что означенные у Анонима-Кодина мощи находились в храме, построенном Вериною.
Храм пресв. Богородицы „в небесах” упоминается у Анонима-Кодина и в греч. минеях. В изданиях это место читается так: ὁ Ῥοδανὸς ἔϰτισεν οἶϰον, ὃς ϰαλεῖται τὰ ἐν οὐρανοῖς; ἐστὶ δὲ τῆς Μαμαίνης. В рукописи Анонима стоит in cod. Reg. 1: ὃς ϰαλεῖται τῆς ϰοράνης (вероятно из βοράνης благодаря сходству в написании ϰ и β); in cod. Reg. 2 et Colb. ὃς ϰαλεῖται εὐοράνης (у Banduri, Imper. Orient., Comment, p. 356). В рукописях Кодина это место читается также различно; кроме вышеприведенного чтения, которое, но словам Banduri, Lambecius ex cod. Vat. reformavit, в другом Ватик. кодексе читаем: ὁ Ῥοδανὸς ὄπισϑεν τῆς ἁγίας σοφίας τὸ νῦν τυγχάνον, ὅπερ ϰαλεῖται τὰ Αὐγοράνης. В греч. минеях под 9 дек. (зачатие пресв. Богородицы) говорится, ЧТО В ЭТОТ день τελείται ἡ σύναξις ἐν τῷ σεβασμίῳ οἴϰῳ τῆς Θεοτόϰου τῷ ὄντι ἐν τοῖς οὐρανοῖς πλησίον τῆς ἁγιωτάτης ἐϰϰλησίας. Но и в минеях чтение ἐν οὐρανοῖς имеет варианты. У Никодима в Синаксаристе под 9 же декабря читается: ἐν τῷ !σεβασμίῳ οἴϰῳ τῆς Θεοτόϰου, τῷ ὄντι ἐν τοῖς Εὐοράνοις παρὰ τὴν ἁγιωτάτην Μεγάλην Ἐϰϰλησίαν (Η.Ф. Кρасносельцев, Типик св. Софии IX в., 43). К сожалению, я не имею под руками Никодимова Синаксариста и не знаю, имеются ли другие разночтения в названии занимающего нас храма. Но и приведенных разночтений, полагаю, достаточно для того, чтобы чтение ἐν οὐρανοῖς считать довольно сомнительным. Принимая во внимание, что храм Богоматери, построенный Вериною, нигде, кроме Ш новеллы Юстиниана, не упоминается, можно думать, что в вышеприведенных, очевидно, испорченных рукописных чтениях мы имеем упоминания об этом храме и что вместо этих чтений следует читать не ἐν οὐρανοῖς, как читал Ламбеций, а ἐν Οὐερινοῖς или ἐν τοῖς Οὐερίνης, каковым способом часто обозначаются места храмов и других зданий как у Анонима-Кодина, так и в Церковном уставе св. Софии IX в. (ср. Η.Ф. Красносельцев, ibid. 28 сл.).
Тожество этих храмов, кажется мне, подтверждается и указаниями на место этих храмов. По Ш-й новелле Юстиниана храм, построенный Вериною, находился в смежности с св. Софиею, по Никодимову Синаксаристу он находился у (παρά) храма св. Софии, а по Типику IX в. храм ἐν τοῖς οὐρανοῖς был ἐν τῷ ἐξαέρῳ св. Софии, т.е. на одной из площадок или дворов, окружавших храм св. Софии. По Ватик. рукописи дом Родана, на месте которого был храм, находился ὄπισϑεν τῆς ἁγίας Σοφίας, а так как переднею частью храма св. Софии может считаться западный или южный фасад, обращенный на Августеон, то выражение „сзади” можно понимать только в смысле северной или восточной стороны храма св. Софии, где, вероятно, и находился храм пресв. Богородицы, построенный Вериною, т.е. между св. Софиею и св. Ириною (Древнею).
Lаbагte, Le Palais imperial de Constantinople, Paris, 1866,. 40.
Πασπάτης, Ἀνάκτορα, 84 сл., ср. приложенный к книге план, где против юго-восточного угла св. Софии поставлено три храма рядом. Это Халкопратийский храм с храмами св. Раки и апостола Иакова. При составлении своей статьи о Халкопратийском храме, помещенной во 2-м выпуске Летописи Историко-Филологического Общества при Новороссийском университете, я имел неосторожность обратить внимание в книге г. Паспати только на тот ее отдел, который носит заглавие: „Богородица Халкопратий” (стр. 84–85) и не просмотрел след. отдела: „крытая лестница”. Так как в первом из указанных отделов Паспати не связывает Халкопратийского храма с храмом св. Софии, а говорит только о ее положении у юго-восточного угла св. Софии, то я счел долгом похвалить Паспати за это отступление от Лабарта, тем с большим удовольствием, что такие случаи представлялись мне редко и мне гораздо чаще приходилось, особенно в I кн. Byzantina, опровергать Паспати, чем соглашаться с ним. К сожалению, случай был неудачен: в следующем отделе Паспати не только повторяет ошибки и натяжки Лабарта, но и старается их подкрепить новыми доказательствами, которые, однако ж доказывают только, как мало Паспати понимал обряды Придворного устава.
Об этих выходах см. мои Byzantina, II, 220 след.
О Мидии, лутире и западных вратах св. Софии, см. там же, 91 сл., ср. Указатель к II кн. Byzantina.
Cerim. I, 30, 169; ср. I, 35, 185.
Об этих изменениях обряда богомольных выходов в Благовещение и Рождество Богородицы сказано ниже, где подробно изложена процедура выходов по-старому и новому порядку.
О положении фора Константина относительно площади Августеона и св. Софии см. выше, 48, а о соединявших эти топографические пункты портиках ср. Byzantina, II, стр. XX.
Об этой долине и подъеме почвы от нее к фору определеннее других говорит Жилль в Topogr. Constant, lib. I, с. ѴШ (у Banduri в Imperium Orientate, ed. Venet. p. 286): ex prim a promontorii planitie, in qua dixi Sophiae templum et Hippodromum esse, molle dorsum secundi collis mille passibus leniter ascenditur usque ad Columnam Purpuream (т. e. Константина).
В своей статье о Халкопратийском храме, названной выше, я высказал предположение, что Халкопратийский храм находился в долине; но в рецензии на исследование проф. Красносельцева о Типике св. Софии, в виду того, что патриарх, идя прямо из св. Софии в Халкопратии, тоже ἀνέρχεται, я допускал возможность отодвинуть несколько храм Халкопратийский и поместить его на подъеме к фору. В виду этого проф. Красносельцев написал мне, что эта поправка, основанная на данном им чтении ἀνέρχεται, не нужна, так как он не ручается за правильность чтения ἀνέρχεται, вместо чего можно, по его словам, читать и ἀπέρχεται. О хождении патриарха прямо (εὐϑύς) в Халкопратийский храм и ненадобности заходить на фор Константина, см. исследование Η.Ф. Красносельцева о Типике и ср. мою рецензию в Ж. М. Н. Пр. 1892, ноябрь. Так как точно указать место Халкопратийского храма нельзя, то нельзя и сказать, насколько он близок к храму св. Софии, но, если он даже находился на половине пути от св. Софии к фору, то все-таки его можно считать близь лежащим и такое его положение не будет противоречить словам Хронографии Феофана, особенно если принять во внимание, что храм св. Ирины называется не только лежащим близко, но и ближайшим к храму св. Софии.
См. Byzantina, II, 92 сл.
Сведения, сообщенные византийскими писателями о доме Лавза, собраны Дюканжем в Constantin. Christiana, lib. II, р. 105 ed. Venet. кроме, конечно, тех данных, которые находятся в Придворном уставе Константина Багрянородного и которые вполне подтверждают заключения Дюканжа о близости дома Лавза к фору Константина и Средней улице. К сожалению, Дюканж, не знавший Придворного устава и потому имевший смутные понятия о частях Большого дворца, смешивает дом Лавза, стоявший на Средней улице, с триклином или палатою Лавзиаком, входившим в состав Большого дворца и лежащим между Хрисотриклином и Юстиниановою палатою (см. указатель к I кн. Byzantina). По словам Анонима-Кодина дом или дворец Лавза (τὰ Λαύσου) получил свое название от важного сановника, патрикия и препозита времен Аркадия, но первоначально дом был построен Константином Великим в числе 12 домов, построенных им для сенаторов, переехавших в Новый Рим (Anon. Antiquit, pars V, ρ. 12 у Banduri = Codini de signis, p. 37 Bonn.). Дом Лавза отличался великолепной отделкой и обилием украшавших его предметов искусства.
Chron. Paschale, I, 695 Bonn. Ср. Cedreni Hist. I, 616, где, между прочим, об этом пожаре сказано: ἐν μέσῳ τῶν Χαλϰοπρατείων ἀρξάμενος αὐτάς τε ἀνάλωσεν ἄμφω τὰς στοὰς ϰαὶ τὰ προσεχῆ πάντα τήν τε ϰαλουμένην Βασιλιϰήν, ἐν ᾗ ἀπέϰειτο βιβλιοϑήϰη, ἔχουσα βιβλίους μυριάδας δώδεϰα ϰτλ. Ср. приведенное у Du Cange’a Const. Christ, lib. II, p. 119 из Зонары: οἶϰος δ’ ἦν ἐν τῇ ϰαλουμένῃ Βασιλιϰῇ ἔγγιστα τῶν Χαλϰοπρατείων βασίλειος, ἐν ᾧ ϰαὶ βίβλοι πολλαὶ ἐναποϰεῖνται. Codini de signis, ρ. 89 Bonn.: ἐν αὐτῇ τῇ βασιλιϰῇ χρυσορόφῳ ὀπίσω τοῦ Μιλίου ϰτλ.
К сожалению, Дюканж в главе о сенате смешивал не только эту Базилику с сенатом, но и оба здания сената, из которых одно находилось действительно на юге от св. Софии, а другое на форе Константина, считал за одно н то же здание и даже утверждал, что здание сената на форе Константина не упоминается у средневековых писателей. Но уже Бандури справедливо заметил, что Дюканж в этом случае ошибается, и указал (Imper. Orientale, Comment, ρ. 473 Venet.), что уже в древнем описании Константинополя по регионам (см. у Дюканжа в Const. Christ. ρ. 56) Базилика помещается в 4 регионе наряду с Milium (Milliаге aureum) и площадью Августеоном, между тем как здания сената перечисляются одно в шестом, а другое во втором регионе. Не менее ошибочно и то, что сенат на форе Константина не упоминается у средневековых писателей: он не только упоминается, но н прямо называется сенатом фора.
Об этой лестнице, ведшей из верхних переходов Магнавры в катихумении св. Софии, см. мои Byzantina, I, 121. Случаи шествия царя в храм по этой лестнице из дворца и обратно изложены в Byzantina, II, 134, 238 и 245. Царь ходил по этой лестнице, когда шел в храм св. Софии „тайно“, т.е. не парадно, кратчайшим путем в сопровождении ближайших чинов кувуклия и своей военной свиты.
К сказанному в Byzantina, II, 221–222 о том, что при средних выходах приема высших чинов в Золотой Руке не бывало, необходимо прибавить заметку, сделанную при составлении и редакции (здесь пропущена часть сноски, содержащая греческий текст, см. стр. 112 оригинала)
Byzantina, II, 221–224.
Относительно цвета облачений царя и чинов в большие Господние и другие праздники, ср. Byzantina, II, 42–43.
Cerim. I, 30, 162: ἀλλάσσουσι οἱ μὲν πατρίϰιοι χλανίδια λευϰά, ἔχοντα ταβλία ἀπὸ ὀξέων, (ἐν γὰρ ταύτῃ τῇ ἑορτῇ οὐ φοροῦσιν τὰ ὑπὸ χρυσοϰλάβων ταβλίων χλανίδια)... В этом месте мы имеем интересную заметку относительно, так сказать, степени парадности облачения чинов. Хотя в Благовещение, как и в большие Господние праздники, выход совершался в парадных облачениях, но, однако, не самых роскошных и дорогих, а несколько более простых, чем в большие Господние праздники. Оттенок парадности заключается в том, что нашивки на хламидах, надевавшихся в Благовещение, были не златотканные, а простые пурпурные, не вышитые золотом. Цвет нашивок выражается словом ἀπὸ ὀξέων. К_ сожалению, точное значение этого слова определить трудно. Дюканж s. ѵ. ὀξύς переводит этот термин посредством лат. violaceus, но из приведенных им мест не видно, что ὀξύς выражало именно этот оттенок пурпурного цвета. Так как ὀξύς, острый, в цветовом смысле означает: резкий, яркий, блестящий, а в соединении с πορφυροῦς резко-ярко-пурпуровый, то, по выражению Rеiskе (Comment. 555, ср. 228 и 753), perarduum est dicere, quem colorem voce ὀξύς significent, rubrum ne аn violaceum. Можно только сказать, что ὀξύς означает яркость, резкость цвета или оттенка пурпура, но какого именно, сказать трудно: может быть пурпурного, красного, а, б. м., фиолетового, так как пурпурный цвет имел разные оттенки.
Записки Класс. отд. Имп. Р. Арх. Общ. т. IV. 8
Заметка эта относительно облачения в Благовещение прибавлена к обряду Крестопоклонного воскресения и отнесена к 29 главе, хотя, по содержанию своему, эта заметка принадлежит к следующей, 30, гл., в которой трактуется о том, „что нужно соблюдать, если праздник Благовещения пресв. Богородицы случится в воскресенье средней недели”. Потому глава 30 должна начинаться раньше, с начала этой заметки: ἰστέον, ὅτι ϰτλ. (I, 29, 161, строка 18), в которой говорится о некоторых деталях Благовещенского выхода, если Благовещение случится в воскресенье вообще. За этой заметкой следует другая заметка, начинающаяся также с ἰστέον и служащая как бы введением к самому обряду. Между этими двумя заметками помещено заглавие 30 главы, содержащей описание выхода в Благовещение, если оно случится в Крестопоклонное воскресение. Но так как обряд и начинается именно описанием того действия, которое совершалось в Благовещение, если оно приходилось в Крестопоклонное воскресение, то во второй (вводной) заметке и надобности вовсе не было: она только повторяет заглавие 30 главы и вставлена, очевидно, как и первая заметка, при редакции сборника специальных обрядов. Это видно, как из характера этих заметок, так и из того, что Благовещенский обряд в своем прежнем виде начинается словами, которыми начинаются многие другие обряды: προέρχονται ἅπαντες ἐννύχιοι ἐν τῷ παλατίῳ ϰαὶ ἀλλάσσουσιν ϰτλ. Ср. I, 10, 71; I, 11, 86; I, 14, 91; I, 15, 96; I, 16, 98; I, 18, 109; I, 19, 114; I, 22, 124; I, 23, 128; I, 26, 143; I, 29, 161; I, 32, 171; I, 38, 191; I, 61, 277 и др.
Этот момент, т.е. начало крестного хода, после каждения св. престола, подробнее всего описан в I, 1, 28, где сказано, что выходят из алтаря царь с патриархом не только после возгласа архидиакона и молитвы патриарха, но ϰαὶ τὰ ἐξῆς τῆς ἐϰϰλησιαστιϰῆς ϰαταστάσεως γενομένης πάσης. В I, 10, 74 и I, 30, 164 о пребывании царя в алтаре говорится очень кратко и о молении не упоминается.
Относительно восковых свечей, снабженных рукояткою и розеткою для того, чтобы во время шествия под открытым небом можно было удобно держать их и чтобы воск не капал на руки и платье, см. мои Byzantina, II, 241, прим. 2.
Тропарь Благовещения обозначен в Благовещенском обряде (I, 30, 164) начальными словами: Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ ϰεφάλαιον.., т.е. Днесь спасения нашего главизна... Тропарь, значит, пелся в Благовещение тот самый, который и теперь поется. Тропарь на Рождество Богородицы не обозначен. Теперь в Рождество Богородицы поется тропарь: Рождество Твое, Богородице Дево...
) Первые моменты крестного хода подробнее, нежели в Благовещенском обряде (I, 30, 164), описаны в обряде Рождества Богородицы (I, 1, 28). Здесь упоминается второе краткое молебствие между амвоном и западным вратами (γίνεται ϰἀϰεῖσε εὐχὴ ϰατὰ τὴν ἐϰϰλησιαστιϰὴν ἀϰολουϑίαν), между тем как в Благовещенском обряде (ср. I, 10, 74) сказано короче, что царь и патриарх шли с солеи прямо к западным или царским вратам. Возможно, впрочем, что иногда действительно так и бывало. О пении тропаря сказано в Благовещенском обряде, а в обряде Пасхального понедельника указано, что его начинают петь певчие на амвоне (I, 10, 74, ср. II, 19, 609). Хотя в обрядах не указано, кто несет крест, тем не менее можно сказать, наверное, что крест нес „крестоносец», так как особые церковнослужители, называвшиеся крестоносцами и носившие крест в крестных ходах, существовали в западной и восточной церкви с IV в., хотя в западной церкви они назывались, подобно военным знаменоносцам, драконариями (draconarii, собственно носители знамен с изображением драконов). Такой „крестоносец“ изображен в минологии Василия под 26 окт. (ed. Albani, I, ρ. 145) и 26 янв. (ibid. II, ρ. 137), где изображены и кресты, которые носились в процессиях. Это – большие, богато украшенные кресты с длинной рукояткой, которую крестоносец держит в обеих руках (Кгаus, Realencykl. d. christl. Alterthümer, s. v. Draconarius и σταυροφόροι). В Придворном уставе такие процессуальные кресты называются σταυροὶ λιτανιϰοί, а носящие их служители иподиаконами (I, 20, 120; I, 21, 123). На миниатюрах под 26 окт. и 26 янв. (рис. 19, 20) представлены процессии или крестные ходы, установленные в воспоминание больших землетрясений. Ведь, 26 окт. во главе процессии идет патриарх с евангелием и кадилом, за ним крестоносец и духовенство. Под 26 янв. патриарх с царем идет по средине процессии; впереди их крестоносец и духовенство, а сзади чины царского синклита. В обоих случаях патриарх идет с евангелием и кадилом, что несогласно с данным в тексте описанием, по которому евангелие несет впереди архидиакон. Не знаю, насколько точно передают подробности крестного хода миниатюры минология, но в занимающих нас обрядах Придворного устава прямо сказано, что царь и патриарх идут с солеи к западным вратам, προπορευομένων αὐτῶν τοῦ τε σταυροῦ ϰαὶ τοῦ εὐαγγελίου (I,1, 28), а так как евангелие носится пред патриархом обыкновенно архидиаконом, то и в моем описании назван архидиакон (ср. I,1, 14: цари προσϰυνοῦσι τὸ ἅγιον εὐαγγέλιον βασταζόμενον ὑπὸ τοῦ ἀρχιδιαϰόνου). Но в дальнейшей процессии евангелие, вероятно, нес, хотя, б. м., и не все время, сам патриарх, когда он шел во главе духовенства, простившись с царем, как это изображено на указанных миниатюрах и как видно из того, что он входит в храм св. Константина на форе с евангелием (ὁ δὲ πατριάρχης μετὰ τοῦ εὐαγγελίου ϰαὶ τῶν οἰϰείων διαϰόνων ϰαί ψαλτῶν ἀνέρχεται ἐν τῷ εὐϰτηρίῳ... τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου. I, 1, 30).
О надевании головного убора в мутаторий у красных врат упомянуто в сравнительно позднейшем обряде Рождества Богородицы (I, 1, 28), вошедшем в состав 1 гл. I кн. Придворного устава. Ни в обряде понедельника Пасхальной недели, ни в обряде Благовещения о надевании шапки или короны в мутатории ничего не говорится. Умолчание о надевании короны в двух последних обрядах можно было бы объяснить краткостью изложения сравнительно с обрядом Рождества Богородицы, если бы такого же умолчания о венцах не было и в перечне царских облачений во время праздничных выходов (I, 37). В этом перечне мы находим указания, в каких одеждах (дивитисии и хламиде) царь совершал крестный ход, – но о коронах ничего не сказано, между тем как при перечне предметов облачения, в каких он возвращался из Халкопратийского храма во Дворец (р. 190 и 191), названы короны (στέμματα). Принимая во внимание это обстоятельство, можно думать, что во время написания более древних обрядов для крестного хода царь, если и надевал какую-нибудь шапку, то, б. м., не корону в тесном смысле (στέμμα), а какой-нибудь другой головной убор, не столь нарядный, как στέμμα, вследствие чего, б. м., этот головной убор и не назван в обрядах и перечне облачений. Но так как эти царские шапки (туфы, камилавки и т. п.) украшались подобно коронам и впоследствии имели значение корон, то, по-видимому, можно сказать, не рискуя сделать большой ошибки, что цари совершали крестные ходы в коронах или венцах, по крайней мере относительно X в., тем более, что на рисунках Ватиканского минология, относящегося к этому времени, цари, участвующие в крестных ходах, изображаются обыкновенно в коронах или очень сходных с ними шапках, например, Феодосий Младший в вышеназванном рисунке к 26 янв.; тот же Феодосий в миниатюре к 27 янв. (Menol ed. Albani, II, 140) и Михаил III в миниатюре к 24 февраля (ibid. 209).
Относительно красных врат св. Софии, мутатория около них, двора св. Софии, Афира, Милия и пр., см. Byzantina, II, гл. IV, а также указатель к этой книге.
Хотя в занимающих нас обрядах не указано, что на пути от св. Софии до фора Константина царский синклит пел священные гимны соответствующего праздника, тем не менее можно предполагать, что и во время шествия от храма св. Софии к фору Константина, чины синклита пели гимны, как они обыкновенно пели их во время таких шествий царя „с собственным молебствием” (μετὰ τῆς οἰϰείας (или ἰδίας) λιτῆς), тем более что в числе сопровождавших царя лиц находились димы Ипподрома, чины числа и царские гребцы с своими певчими и запевалами, которые, как мы увидим, поют катавасию праздника и которые в известном смысле могут быть сопоставляемы с церковными певчими, шедшими с патриархом. Запевает во время царских крестных ходов обыкновенно церемониарий, как руководитель и распорядитель процессии. Ср. мои Byzantina, II, 246. Ниже мы встретим несколько таких случаев. Относительно пения разных песнопений и славословий не только димами Ипподрома, но и чинами числа (οἱ τοῦ ἀριϑμοῦ), ср. ibid. 254.
Расстановка чинов царской свиты и гвардейских отрядов (τῶν ταγμάτων) довольно подробно описана в обряде Рождества Богородицы (I, 1, 28–29), короче в обряде Пасхального понедельника I, 10, 74 и Благовещенском I, 30, 164; но в них зато имеются указания на такие действия, которые не упомянуты в обряде Рождества Богородицы. Так, например, в Благовещенском обряде, после описания прибытия царя к колонне Константина, буквально тожественного с обрядом Пасхального понедельника (I, 10, 74), прибавлено замечание о расстановке военной свиты царя и чинов гвардейских отрядов, которого нет в обряде Рождества Богородицы. Место, которое занимали димы Ипподрома, и по обряду Рождества Богородицы, подтверждается одним местом обряда триумфа на Ипподроме (II, 19, 611), где, кроме того, прибавлено, что вместе с ними стояли чины числа (οἱ τοῦ ἀριϑμοῦ), царские гребцы с певчими ϰατὰ τὸν τύπον, по установленному порядку, т.е. как обыкновенно бывает в таких случаях, когда совершаются молебствия у колонны Константина. Во время триумфа все они поют славословие и многолетие, как в обрядах Богородичных праздников, нас занимающих, поют катавасии праздников.
Относительно поклонения царю высших духовных сановников пред целованием любви, см. мои Byzantina, II, 171–172. В обряде Рождества Богородицы сказано (I, 1, 29): εἰσέρχονται οἱ μητροπολῖται ϰαὶ ἀρχιεπίσϰοποι, ϰαὶ τὴν ϰατὰ τύπον ἀποτελοῦσιν προσϰύνησιν, δηλόνοτι διὰ τοῦ τῆς ϰαταστάσεως ϰαὶ τοῦ ῥεφερενδαρίου !προσαγομένους ϰαὶ τοὺς δεσπότας προσϰυνοῦντας. Уже первый издатель Лейх заметил ошибочность текста в ЭТОМ месте и совершенно правильно читал προσαγόμενοι... ϰαὶ προσϰυνοῦντες вместо προσαγομένους... ϰαὶ προσϰυνοῦντας.
Расстановка духовных чинов описана в обряде Рождества Богородицы (I, 1, 29–30), где подробнее говорится о прибытии патриарха и действиях его у колонны Константина. Короче все эти моменты описаны в Благовещенском (I, 30, 165) обряде и обряде Пасхального понедельника (I, 10, 74–75), каковые обряды и в этой части буквально тожественны. По словам обряда Рождества Богородицы, γίνεται ἡ συνήϑης ἐϰτενή παρὰ τοῦ διαϰόνου, δηλονότι προϰύπτοντος διὰ τῶν ϑυρίδων τοῦ εὐωνύμου μέρους τοῦ αὐτοῦ εὐϰτηρίου.
Путь царского крестного хода указан в Благовещенском обряде, I, 30, 165: διέρχεται ὁ βασιλεὺς... διὰ τοῦ Ἀντιφόρου ϰαὶ εἰσέρχεται ἐν !τῷ ἐμβόλῳ πλησίον τοῦ Λαύσου, ϰαὶ ἀπὸ τῶν ἐϰεῖσε ἀπέρχεται ἐν τῷ ναῷ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόϰου τῶν Χαλϰοπρατείων. В конце того же обряда, где говорится об особенностях хода во время дурной погоды, сказано (р. 169), что царь, дойдя до Лавза, ἀριστερὸν ἐϰϰλίνας, ἀπέρχεται εἰς τὰ Χαλϰοπράτεια. Относительно окружающей царя свиты замечено, I, 1,30: царь дожидается патриарха в нарфике, τῆς βασιλιϰῆς τάξεως ἐϰεἴσε παρισταμένης, ἤγουν, τοῦ ϰουβουϰλείου ϰαὶ τῶν ἀσηϰρητῶν χρυσοτριϰλινιτῶν τε ϰαὶ βασιλιϰῶν ἀνϑρώπων. Об этих чинах, см. указатели к I и II кн. моих Byzantina.
О малом входе подробности ср. мои Byzantina, II, 153–154.
Относительно деревянной лестницы Халкопратийского храма и мутатория, см. выше. О мутаториях вообще, ср. мои Byzantina, II, 128 сл. и 133 сл.
Хотя порядок приглашения патриарха и приобщения изложен здесь подробнее, нежели в Благовещенском обряде (I, 30, 166–167), но эти подробности имеются в других обрядах, в которых излагается такой же приход патриарха в катихумении для приобщения царей и высших чинов. Сюда принадлежат обряды, которые будут описаны ниже, а именно: понедельника Пасхальной недели (I, 10, 78), Вознесения (I, 18, 112–113). Ср. Сретенский обряд (I, 27, 151), где указано, какие сановники в подобных случаях после царя приобщаются из рук патриарха.
[О скарамангий см. статью Д.Ф. Беляева „Облачение императора на Керченском щите“. Журн. Мин. Нар. Просв. 1893, октябрь].
Для выезда верхом, как мы увидим ниже при изложении других богомольных выходов и выездов, царь обыкновенно переоблачался в скарамангий и плащ, а чины, бывшие в скарамангиях, надевали вместо хламид плащи. Ср. Byzantina, II, 7–8, прим. 4. В обряде Благовещения скарамангий назван обшитым золотою каймою (σκαραμάγγιον χρυσόϰλαβον). В перечне облачений сказано (I, 37, 191), что цари для выхода надевают (τὰ πορφυρᾶ χρυσᾶ σϰαραμάγγια). Так как чины облачаются в одежды такого же цвета, то они, по замечанию Благовещенского обряда, надевают σαγία ἀληϑινὰ πορφυρᾶ (ср. мои Byzantina, I, 91).
Относительно обычного прощания царя с патриархом, апокомвиях, просфорах и благовонном масле, см. мои Byzantina, II, 180–184.
О приемах димотов, см. I, 1, 32 и I, 30, 168. Оба эти обряда согласны относительно 1 и 4 приема, несколько разноречат относительно 2 и 3. Между тем как по I, 1, 32, т.е. по обряду Рождества Богородицы 2-й прием совершает красный дим с димархом во главе, по Благовещенскому обряду 2-й прием совершался загородным димом прасинов с димократом во главе, а относительно 3-го сказано кратко, что его совершают οἱ τοῦ μέρους τῶν πρασίνων без указания их представителя. Так как димократ прасинов совершал с загородным димом прасинов 2-й прием, то под οἱ τοῦ μέρους τῶν πρασίνων можно разуметь только красный дим прасинов с димархом прасинов во главе. Если в Благовещенском обряде нет ошибки в порядке приемов, как можно предполагать на основании других подобных приемов, о которых будет речь ниже, то, значит, мы имеем здесь дело с маленьким изменением в порядке приемов, происшедшем после написания Благовещенского обряда. Как бы то ни было, во всяком случае место 3-го приема в рукописи и изданиях читается неверно: I, 30, 168, строка 9 вместо δέχονται αὐτὸν εἰς τὸν Αὐγουστέα нужно читать δέχονται αὐτὸν εἰς τὸν Αὐγουστέωνα, так как здесь речь идет не о тронной зале во дворце Дафны, называвшейся Августеем (ὁ Αὐγουστεύς), а о площади между Халкою и св. Софиею (ὁ Αὐγουστέων). Эта ошибка легко объясняется большим сходством в названии площади и тронной залы. Как здесь площадь Августеон названа именем залы, Августеем, так I, 1, 33 зала, Августей, два раза названа Августеоном, на чтὸ указано было в Byzantina, I, 100, прим. 2, и II, 225, прим. 1. В обоих случаях ошибочность написания очевидна для всякого, кто обратит внимание на положение площади и залы и примет в соображение, где должен находиться в данном случае царь, в зале ли дворца Дафны или на площади пред входом в Большой дворец.
О Халке, ее больших воротах, выводивших на Августеон, и решетке (τὸ ϰάγϰελλον), ведшей к бронзовой двери Халки, см. мои Byzantina, I, 131–132. Путь от Халки до Консистории описан там же, только в обратном порядке, 123–130. О храме Господа и его положении относительно Консистории и палаты кандидатов см. там же, 122. Ср. приложенный к I кн. план Лабарта.
Путь царя и чинов чрез Халку и храм Господа, как весь вообще обряд обратного шествия из Халкопратийского храма, как в Благовещенском обряде, так и в обряде Рождества Богородицы (I, 1, 32 и I, 30, 168) описан кратко. Приветствие синклитиков у Консистории соответствует приветствию их в Консистории при возвращении царя из храма св. Софии в большие Господние праздники, а приветствие высших чинов синклита у храма Господа такому же приветствию их в Золотой Руке Августея (см. мои Byzantina, II, 193–194.
0 переходах храма Господа, Триконхе и переходах Сорока мучеников, см. мои Byzantina, I, 90, ср. 43.
Шествие чрез храм Господа и упомянутые переходы кратко описано I, 1, 32 и I, 30, 168–169. Подробнее этот путь описан I, 10, 84; I, 17, 107.
Место обедов в Благовещение и Рождество Богородицы, облачение чинов и состав приглашенных указан в клиторологии Филофея (II, 52, 762 и 782, ср. I, 30, 169). В I, 30, 169 не указано, где совершался обед, а сказано только, что чины синклита проходили в Лавзиак. Полагаю, что они собирались тут для приглашения, подобно протоспафариям в воскресные дни (см. Byzantina, II, 30), тем более, что в Лавзиаке обедов не происходило. Относительно Лавзиака, однополотенной двери из него в Идик и др. топографических пунктов, см. указатель к I кн. моих Byzantina. Ср. приложенный к ней план Лабарта.
О составе 1 гл. I кн. см. Предисловие к Byzantina, II, стр. XXXVII–XL. Ср. стр. 37–38.
Когда царь не приобщался св. тайн в том или другом храме, куда он делал богомольный выход или выезд, то он обыкновенно слушал только евангелие и ектению, а затем уходил из храма. Такие случаи указаны уже при изложении выходов в храм св. Софии. Мы там видели, что в Неделю Православия, по новому порядку, царь не приобщался св. тайн, а слушал литургию в катихумениях только до евангелия, а затем уже распоряжался насчет приглашения чинов к обеду и уходил в патриаршие палаты (Byzantina, II, 247). Такие случаи мы встретим еще несколько ниже при изложении выходов в городские и дворцовые храмы.
Об этих видоизменениях и сокращениях, сделанных Львом VI в обрядах богомольных выходов в Антипасху и Пасхальный понедельник, см. Byzantina, II, 220 след. и 230–233.
Лев Мудрый вообще произвел много изменений, как в обрядах выходов в храмы, сокращая и упрощая их, так и в придворных порядках и обычаях, урегулировав и видоизменив некоторые из них. См. Byzantina, II, 182.
Дошедший до нас специальный Благовещенский обряд (I, 30) носит даже, как мы заметили выше, заглавие, указывающее, что он первоначально был написан или записан по случаю Благовещения, бывшего в Крестопоклонное воскресение. В первоначальной своей форме он начинается именно с описания поклонения чинов животворящему древу, но так как особенность выхода ограничивалась только этим поклонением, то со слов μεσούσης τῆς δευτέρας ὥρας (ρ. 162, строка 20) начинается уже общий для всех дней Благовещенский обряд, который в великосубботнем обряде (1,35, 186) называется прямо общим Благовещенским выходом (ἡ ϰαϑόλου προέλευσις τοῦ εὐαγγελισμοῦ).
В Крестопоклонное воскресенье чины поклонялись „честному и животворящему древу” (τὸ τίμιον ϰαὶ ζωοποιῶν ξύλον τοῦ σταυροῦ, τὰ τίμια ξύλα, I, 29, 161; I, 30, 162), каковым именем назывался крест, сделанный из найденного св. Еленою подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос (Ср. мои Byzantina, II, 237 сл.). Но это, очевидно, был не тот самый крест, который находился в храме св. Софии и которому цари поклонялись в Крестовоздвижение, а другой, принадлежащий дворцу, как мы увидим ниже. Относительно упомянутых здесь частей и зданий дворца, см. указатель к I кн. моих Byzantina.
Обряд выхода в Великую субботу изложен в Byzantina, II, 224–229, потому я не считаю нужным излагать его, хотя он вкратце повторен в прибавке к обряду Великой субботы (I, 35, 184–5), на основании которой излагаются те особенности Благовещенского выхода, если Благовещение приходилось в Великую субботу.
О мутатории и его частях, см. Byzantina, II, 131. Относительно двери из св. Кладезя в триклин мутатория и раздачи здесь кошельков с деньгами, см. ibid. 181.
Это замечание, сделанное в конце обряда Великой субботы, написано, очевидно, еще тогда, когда цари ходили в Халкопратийском храме в катихумении, следовательно до нововведения, сделанного Львом VI (?). А так как заметка прибавлена к обряду Великой субботы, то ясно, что и весь этот обряд написан раньше этого нововведения и принадлежал к сборнику старых специальных обрядов, вошедших вместе с другими специальными обрядами в Придворный устав, в виде целого сборника, как об этом было сказано в предисловии ко II кн. Byzantina, стр. XXXVI след. Ср. ibid. 229 и 235.
I, 35, 186, равно как, и I, 32, 176, слова текста ἐπὶ λεπτῷ ἐξεϑέμεϑα переведены на латинский язык неправильно посредством: breviter explicuimus. Ἐπὶ λεπτῷ значит, напротив подробно, обстоятельно, в деталях, как действительно и описан выход в Благовещенском обряде сравнительно с краткою заметкою I, 35, 184–5.
Этот устав описан проф. Η.Ф. Красносельцевым в II вып. Летописи Историко-Филологического Общества при Новороссийском университете, Одесса, 1892 в статье под заглавием: Типик церкви св. Софии в Константинополе. Статья эта издана и отдельным оттиском и была предметом моей рецензии, помещенной в октябрьской книжке Журнала Министерства Народного Просвещения за 1892 г. О богомольях (ἡ λιτή) или крестных ходах из храма св. Софии в Халкопратийский храм по уставу Великой церкви в IX в. проф. Красносельцев говорит на стр. 51 отдельного оттиска.
Потому препозит обыкновенно спрашивал накануне праздника, угодно ли царю совершить богомольный выход (см. мои Byzantina, II, 22 и 40).
В II кн. Byzantina, при изложении выхода в Великую субботу для переоблачения св. престола в храме св. Софии, я соединил обряд облачения с обрядом омовения (стр. 224 сл.), которое, по позднейшим церковным обрядам, совершалось в Великий четверг. Так как омовение действительно соединялось с переоблачением, то я предположил, что в IX–X в.в. омовение совершалось в субботу и что участие царя в облачении св. престола в субботу представляет собою только часть этого обряда. Но изданные недавно проф. Η.Ф. Красносельцевым извлечения из древнего устава Великой церкви (см. вышеназванную статью, 93) показывают, что обряд омовения и в IX в., следовательно, издавна, совершался в четверг, а в субботу, независимо от омовения, происходило облачение св. престола (ibid. 96). В первом царь не участвовал, а во втором участвовал. К сожалению, в извлечениях проф. Красносельцева „омовение” выражено непонятным словом ϰατάπαυσις, и не сразу можно догадаться, чтὸ разумеется в уставе под ϰατάπαυσις τῆς ἁγίας τραπέζης. Так, на стр. 51 трактата проф. Красносельцева приведенное у меня в тексте место относительно крестного хода в Великий четверг, если оно случится в Благовещение, гласит так: μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς τριϑέϰτης ϰαὶ τὴν ϰατάπαυσιν τῆς ἁγίας τραπέζης ἐξέρχεται ἡ λιτὴ ϰαὶ ἀνέρχεται ἐν τῷ φόρῳ ϰαὶ ύποστρέφει εἰς τὰ Χαλϰοπρατεῖα. То же самое мы находим в извлечении из Типика на Великий четверг (ibid. 93): !μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς τριϑέϰτης γίνεται ϰατάπαυσις τῆς ἁγιας τραπέζης. Но в чем состояло это ϰατάπαυσις, не сказано ни в Типике, ни в объяснениях Η.Ф. Красносельцева. Принимая во внимание, что в позднейшее время в Великий четверг происходило омовение св. престола св. Софии, которое называется в обряде омовения ἔϰπλυσις τῆς ἁγίας τραπέζης (Goar, Eucholog. 2-е изд., 497 сл.), нельзя сомневаться, что в обоих вышеприведенных местах вместо ϰατάπαυσις следует читать ϰατάπλυσις омовение, тем более что λ при известных написаниях можно очень легко принять за α. С восстановлением этого правильного и единственно возможного чтения, становится несомненным, что омовение издавна происходило в четверг, а в субботу, независимо от этого, было омовение и облачение св. престола, непосредственно после омовения без участия царя. К сожалению, при разборе трактата Η.Ф. Красносельцева о Типике св. Софии IX в., я не обратил надлежащего внимания на эти темные места, которые для меня стали ясны только при изложении Благовещенских выходов, после более внимательного рассмотрения вышеприведенных мест Типика св. Софии, до издания моей II кн. Byzantina отдельным оттиском, так что в последних листах II кн. я еще мог заметить вкратце относительно этих мест и поправить свою ошибку.
Относительно совершения Благовещенского выхода в Вербное воскресение, см. прибавку, сделанную в конце обряда Вербного воскресенья, I, 32, 176. Обряд крестного хода в этом празднике будет изложен ниже, в числе выходов в дворцовые храмы. Средние выходы описаны в II кн. Byzantina, 220 сл. В остальной части выход совершался, как описано выше.
Заметка об особенностях Благовещенского выхода в понедельник Пасхальной недели помещена в конце обряда выхода в этот последний праздника, I, 10, 85. Выход в храме св. Апостолов будет изложен ниже.
Заметка об этом сделана после изложения обряда Рождества Богородицы, I, 1, 33.
О подобных антиминсах, см. Byzantina, II, 173 сл.
О шествии царя в дурную погоду, см. I, 30, 169.
Постройку храма св. Апостолов все древнейшие историки и хронисты, а в том числе и современник Константина Евсевий, приписывают самому Константину [см. сопоставление свидетельств у J. Р. R i с h t е rʼа, Quellen d. byz. Kunstgeschichte, 101 сл.]. Хотя известие, находящееся в Жизни Константина Евсевия, о том, что храм св. Апостолов построен между Пасхою и Троицыным днем в год кончины Константина, весьма сомнительно и представляет, по всей вероятности, позднейшую вставку или искажение, как заметил В а л е з и й (nota ad lib. IV, cap. 58 Vitae Const.), тем не менее, сомневаться в постройке этого храма Константином гораздо раньше года его смерти нет оснований, так как, кроме свидетельства других писателей, у самого Евсевия в следующей главе (59) прямо сказано, что Константин задолго до смерти обдумал вопрос о месте своего погребения (ἀλλ’ ὁ μὲν ἐϰ μαϰροῦ ϰαὶ πρόπαλαι τῷ λογισμῷ τοῦτο πρυτανευόμενος, ἀφιέρου τοῖς Ἀποστόλοις τὸν νεών). По словам хронографии Феофана (р. 27 de Boor), первою погребена в этом храме св. Елена, мать Константина, которая скончалась за 12 лет до смерти своего царственного сына.
Хотя храм еще при постройке посвящен был св. Апостолам и строился в честь их, тем не менее торжественное освящение (ἐγϰαίνια) его произошло, по-видимому, только при наследнике Константина, Констанции, после перенесения туда мощей св. Апостолов сперва Тимофея, а потом Андрея и Луки, которые, несомненно, перенесены были при детях Константина Великого, как можно заключить вместе с Дюканжем из слов Филосторгия (Const. Christ. lib. IV, р. 72 ed.Venet.), который прямо говорит, что храм св. Апостолов освящен Констанцием. Может быть также, что храм был и освящен при Константине Великом, но Констанцием снова освящен после переделок и каких-нибудь новых пристроек, вызвавших новое и окончательное освящение храма во имя св. Апостолов.
Euseb. Vita Const. VI, 59: τῆς τῶν ἀποστόλων ϰοινωνὸν τὸ ἑαυτοῦ σϰῆνος μετὰ ϑάνατον προνοῶν ὑπερβαλλούσῃ πίστεως προϑομίᾳ γεγενῆσϑαι, ὡς ἂν ϰαὶ μετὰ τελευτὴν ἀξιῷτο τῶν ἐνταυϑοῖ μελλουσῶν τῶν ἐπὶ τιμῇ τῶν Ἀποστόλων συντελεῖσϑαι εὐχῶν. Δώδεϰα δ’οὖν αὐτόϑι ϑήϰας, ὡσανεὶ στήλας ἱεράς, ἐπί τιμῇ ϰαί μνήμῃ τοῦ τῶν ἁποστόλων ἐγείρας χοροῦ, μέσην ἐτίϑει τὴν ἑαυτοῦ αὐτὸς λάρναϰα, ἧς ἑϰατέρωϑεν ἀνὰ ἕξ διέϰειντο πρόϑυροι. Я нарочно выписал это интересное свиде-ство современника св. Константина, потому что оно очень ясно характеризует взгляд самого Константина на его заслуги и значение для христианской церкви. Нет ничего невероятного в том, что в гробницы предполагалось постепенно перенести и мощи св. Апостолов, так что св. Константин оказался бы действительно среди Апостолов. Где положены были мощи вышеназванных 3 Апостолов, по перенесении их в храм, неизвестно; быть может, именно в трех из 12 гробниц. Впоследствии, однако же, мощи трех Апостолов положены были под алтарем, где и найдены были при Юстиниане, когда, для постройки нового более великолепного храма, пол храма, построенного Константином, был снят, как об этом свидетельствует Прокопий Кесарийский (см. ниже известие Прокопия о постройке Юстинианом нового храма на месте Константинова).
Что прах Константина покоился не в самом храме, а близь него, в примыкающей к нему какой-нибудь специально для того назначенной пристройке, это видно из слов Иоанна Златоустого, который говорит, что прах Константина находился ἐν τοῖς προϑύροις. Дюканж (Const. Christ. 70), который приводит это место, переводит это слово посредством vestibulum. Такой перевод может подать повод к недоразумению и заставить думать, что Константинова гробница находилась в одном из нарфиков, окружавших храм. Иоанн Златоуст под τὰ πρόϑυρα разумеет, по всей вероятности, особый, нарочно устроенный Констанцием портик для помещения гробницы Константина, как об этом ясно говорит Зонара (ἐν τῇ ἰδιαζούσῃ στοᾷ, ἣν ἐπὶ τῇ τάφῃ τοῦ πατρὸς αὐτός (ὁ Κωνστάντιος) ᾠϰοδόμησεν XIII, 13). Этот портик, конечно закрытый, без сомнения, примыкал к какой-нибудь части храма, как впоследствии в храме Юстиниана, как мы увидим, евктирий или ἡρῷον Константина примыкал к восточной части храма. Очень может быть, что первоначально прах Константина был поставлен в самом храме, а затем, после постройки специального помещения, перенесен был в него.
О крестообразной форме плана первоначального храма говорит Григорий Назианзин, который называет его πλευραῖς σταυροτύποις τέτραϰα τεμνόμενον (Du Cange, Const. Christ. 71), но каким образом образован был крест, неизвестно.
Eusebii Vita Constantini, IV, 59: οἶϰοί τε βασιλέων ταῖς στοαῖς λουτρά τε ϰαὶ ἀναϰαμπτήρια παρεξετείνετο ϰτλ. Упоминание всех этих пристроек важно в том отношении, что храм св. Апостолов и впоследствии, как при Константине и Евсевии, представлял не единичное здание, а целый комплекс зданий, больших и малых храмов и жилищ, целый городок, занимавший довольно значительный квартал.
Е.Е. Голубинский, История Русской Церкви, 1, 2, стр. 66 сл. [2 изд. (Москва, 1904), 76 сл.] говорит, что Юстиниан приложил купол уже к готовой форме не купольного низа. Ср. стр. 67. [2 изд. 77] На этот готовый низ, заимствованный от базилики, Юстиниан поставил купола и пр. Это мнение не согласно с прямым свидетельством Прокопия de aedific. I, 4, которое цитуется Е.Е. Голубинским; из свидетельства Прокопия видно, что прежний храм был для постройки Нового срыт до основания (τοῦτον (τὸν νεὼν) Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ὅλον οὐϰ ὅσον ἀνανεώσασϑαι διὰ σπουδῆς ἔσχεν, ἀλλὰ ϰαὶ μεγέϑους ϰαὶ ϰάλλους πέρι ἀξιώτερον ϰαταστήσασϑαι). Да едва ли и возможно было с архитектурной точки зрения на стенах и фундаменте, поставленных для базилики, каковою в сущности был храм, построенный Константином, поставить пять куполов, из которых средний довольно велик и, насколько можно верить рисункам в Минологии Василия, утвержден притом на довольно высоком барабане, который вдвое, если не больше, увеличивал тяжесть купола.
Храм св. Апостолов изображен под 27 января, ed. Albani, t. II, ρ. 140 (перенесение мощей св. Иоанна Златоуста в храм св. Апостолов и 18 октября, ed. Albani, t. I, р. 125 (память св. Евангелиста Луки, изображено положение его мощей в храм св. Апостолов).
О распространении крестообразной формы церквей у нас, особенно в позднейшее время, см. Е.Е. Голубинский, История Русской Церкви, I, 2, стр. 69 сл. [2 изд. 80 сл.].
Η.П. Кондаков в своем прекрасном очерке истории константинопольских церквей ставит этот вопрос, но не решает его (Византийские церкви и памятники Константинополя, Одесса, 1886, 42). [О храме св. Апостолов ср. статью О.Ф. Вульфа „Семь чудес Византии и храм св. Апостолов”. Изв. Русск. Археол. Инст. в Константинополе, I (1896), 35 сл.].
В словаре Дюканж за доказательствами отсылает в Constantin. Christiana, 108–9 Парижского = 74 Венецианск. издания, но и тут доказательств того, что занимающие нас ἡρῷα были именно портики, не приводится.
Cerim. II, 6, 533: после молитвы в алтаре храма св. Апостолов, цари ἐϰνεύουσιν ἀριστερᾷ πρὸς ἀνατολὴν τοῦ αὐτοῦ βήματος (т.е. храма св. Апостолов) ϰαὶ ἀπέρχονται πρὸς τοὺς τάφους, ἤγουν εἰς τὸν ἅγιον Κωνσταντῖνον ϰαὶ ἐϰεῖϑεν ἔνδον τῆς εἰσαγούσης πύλης δέχεται τούτους ὁ πατριάρχης ϰαὶ πάλιν ἐν τῷ ἐϰεῖσε βήματι ἀπευχαριστοῦσι τῷ Θεῷ... ϰαι ϑυμιᾷ (ὁ πρῶτος βασιλεὺς) εἰς τὸ ἅγιον βῆμα ϰαὶ τὸν τάφον τοῦ Λέοντος ϰτλ. Изложение этого места см. ниже в конце этой главы, где излагается вся эта глава [устава].
Юстиниан не только построил для себя ἡρῷον, но и приготовил великолепную гробницу, которая, по словам Корнппа, была сделана из чистого золота (puro auro, Coripp. de Iustini Laudib. 111). Кодин прямо приписывает постройку того помещения, в котором был погребен Юстин и Феодора, Юстиниану, причем называет его τὸ ἔξω μνημοϑέσιον. Оба места ср. также у Дюканжа, Const. Christ, lib. IV, р. 74.
Относительно этой палаты см. Cerim. I, 10, 79–80. Ср. перечень парадных праздничных обедов атриклина Филофея, II, 52, 769 (ἐν τῷ μεγάλῳ τριϰλίνῳ τῶν παλατίων), 773. Ср. II, 7, 538.
Свидетельства средневековых писателей об этом храме приведены Дюканжем, Const. Christ. lib. IV, ρ. 90–91 ed. Venet. [J.P. Richter, Quellen d. byz. Kunstgesch. 228]. Придворный устав Константина Багрянородного, не говоря ничего против этих свидетельств, до некоторой степени, хотя и косвенно, подтверждает эти свидетельства. В I кн., которая начинается сборником богомольных выходов, обряда выходов в неделю Всех Святых не имеется, но он вошел в состав начала II книги, где помещены не вошедшие в состав I книги, частью более поздние обряды, а в том числе и обряд выхода в храм Всех Святых, в котором уже упоминается евктирий св. Феофанὸ, жены Льва VI, построенный тем же Львом, вероятно, вместе с храмом Всех Святых или вскоре после него (Cerim. II, 7, 537). Кроме этого, умолчание о выезде в храм Всех Святых в перечне обедов Филофея, составленном в 900 году, может быть принято за косвенное свидетельство того, что храм этот построен после 900 года, во вторую половину царствования Льва.
В виду всего этого для меня не совсем понятно заявление Дюканжа (1. с.), что храм Всех Святых longe ante Leonem stetisse, тем более, что в доказательство этого мнения, противоречащего прямым свидетельствам писателей, приводится только рассказ о перенесении в 962 г. Никифором Фокою крови Христовой и других реликвий, привезенных Никифором из Сирии, в храм Всех Святых. Хотя чудесное истечение крови и воды из распятия случилось гораздо раньше Льва VI, при Константине Копрониме, но перенесение этой крови в храм Всех святых произошло уже при внуках Льва VI, потому не может говорить в пользу более раннего построения этого храма.
Cerim. II, 7, 538. Ср. ниже изложение обряда выхода в неделю Всех Святых.
У продолжателя Феофана просто сказано, что Лев возле храма св. Апостолов построил храм в честь Феофанὸ (de Leone, с. 18, р. 364 Bonn.). У Симеона Магистра о постройке храма в честь Феофанὸ говорится после рассказа о смерти Зон Зауца и погребении ее в храме св. Зои, построенном Львом нарочито для погребения своей второй супруги, и замечено, что, построив храм во имя Феофанὸ, и ее похоронил или положил ее гроб в этом храме, как Зою похоронил в храме св. Зои (р. 703). В хронике Георгия Монаха так же, как и у продолжателя Феофана, ничего не сказано о погребении Феофанὸ в храме ее имени, а говорится только о постройке храма возле св. Апостолов (р. 860 Bonn; ср. ed. Muralt, p. 780). Почти буквально тожественно с тем, что сказано об этом у Кедрина-Скилицы (р. 260). Наконец, Зонара, как и продолжатель Феофана, говорит, что в евктирии св. Феофанὸ было положено тело ее; следуя в этом случае продолжателю Феофана, Зонара, как писатель позднейший, особенного значения не имеет. Из ближайших же ко времени Льва хронистов только продолжатель Феофана говорит то, что Дюканж приписывает всем им (Const. Christ. 1. IV, р. 113 ed. Venet.), не отделяя свидетельства о погребении Феофанὸ от свидетельства о постройке храма. Замечательно, что все эти хронисты, как и Кодин (см. у Дюканжа I. с.) говорят, что евктирий во имя св. Феофанὸ был построен возле (πλησίον) св. Апостолов, а не Всех Святых. Такое обозначение указывает на несравненно большую известность храма св. Апостолов, как самого важного, после св. Софии, городского храма, а быть может, и на то обстоятельство, что во время постройки евктирия во имя св. Феофано храма Всех Святых еще не было. По свидетельству хроники, евктирий св. Феофанὸ был построен до 900 года. И действительно, в перечне праздничных обедов Филофея, составленном в 900 году, выезда в храм Всех Святых, когда также бывал обед во дворце при храме св. Апостолов, не упоминается, между тем как в перечне царских облачений (I, 37) этот выезд упоминается. Из этих обстоятельств с некоторым основанием можно заключить: 1) что храм св. Апостолов был построен после 900 года, 2) что перечень царских облачений написан после постройки храма Всех Святых, следовательно, также после 900 года. [О храме св. Феофанὸ см. J.Р. Richter, Quellen d. byz. Kunstgesch. 229 сл.].
Память блаженной царицы Феофании православною церковью празднуется 16 декабря. Изображение Феофании находится в Минологии Василия под этим числом, ad. Albani, t. II, р. 34, рис. 23.
Наши паломники видели и поклонялись мощам св. царицы Феофании. Стефан Новгородский (1342 г.) в женском монастыре св. Константина, а иеродиакон Зосима (1420 г.) в монастыре Филострата. По словам Никодима мощи св. Феофании покоятся до настоящего времени в Константинопольской патриархии (Сергий, Полный Месяцеслов Востока, II, 390 [= 2 изд. (Владимир, 1901), 508]).
В память какого мученика Льва был построен этот евктирий, сказать не берусь. В Православном календаре значатся два Льва: Лев Великий, римский папа, и Лев, епископ Катанский (в Сицилии), но ни тот, ни другой мучениками не были, а скончались в мире (см. Сергий, Полный Месяцеслов Востока под 18 и 20 февраля [2 изд. II, 76.77]. Ср. Минологий Василия под теми же числами). В перечне константинопольских храмов в Const. Christ. Дюканжа евктирий во имя Льва, мученика или епископа, не значится, так как он известен только из Придворного устава, который Дюканжу не был известен.
Св. Ипатиев православная церковь чтит несколько; во имя какого из них построен был и кем евктирий возле храма Всех Святых и св. Апостолов, мне, по крайней мере, неизвестно. В перечне Дюканжа он также не упоминается.
В латинском переводе слово ὁ φᾶρος почему-то два раза переведено посредством forum, хотя forum ὁ φόρος и ὁ φᾶρος не имеют между собою ничего общего, кроме сходства в написании. Переводчик, быть может, держался написания рукописи Кодина, где вместо φᾶρος стоит φόρος, хотя и там следует скорее читать φᾶρος, чем φόρος в виду упоминаемого выше παλατίου.
Codin. de signis, ρ. 52 и de aedifie. p. 99 Bonn.; cp. Anonymi antiquit. у Banduri p. 44.
Относительно цвета облачений в разные праздники ср. мои Byzantina, II, 43 прим. Облачения в Богородичные праздники см. Cerim. I, 37, 189 и 191. Облачение для выхода в понедельник Пасхальной недели I, 10, 72, где сказано, что во дворце Дафны, т.е. в Октогоне, близь Августея, царь облачается веститорами в χλανίδα χρυσοφεγγῆ λευϰήν. В обряде этом не только о цвете дивитисия ничего не говорится, но и самый дивитисий вовсе не упоминается; но из этого еще не следует, что царь совершал выход без дивитисия, в одной хламиде. Как все подобные выходы совершались царем в парадном облачении, т.е. в дивитисии и хламиде, так и выход в храм св. Апостолов через св. Софию царь, без сомнения, делал в этих парадных облачениях, которые он обыкновенно надевал во дворце Дафны, дивитисий (вместо скарамангия) в китоне, а хламиду (вместо плаща), в Октогоне, см. мои Byzantina, II, 51 и 61. Дивитисий и хламида бывали обыкновенно парные, т.е. белые или цветные, пурпурные, хотя и разных цветов и оттенков, но в известной определенной комбинации, соответствующей празднику. Относительно парности этих одежд см. особенно Cerim. I, 37, 189 след., где постоянно упоминаются того или другого цвета διβητήσια ϰαὶ αἱ τούτων χλαμύδες, т.е. соответствующие, парные хламиды.
Текст I, 10, 75, стр. 20–23, очевидно, испорчен пропусками и требует исправления. § 4 гл. 10, в котором идет речь о шествии царя от колонны Константина до храма св. Апостолов, начинается так: Κἀϰεῖϑεν περιγενόμενος ὑπὸ τῶν προειρημένων, διέρχεται (ὁ βασιλεύς) τὴν μέσην λιτανεύων, τὸ δὲ τροπάριον ἐν τῇ τῆς λιτῆς περιόδῳ ἄρχεται ὁ τῆς ϰαταστάσεως. Καὶ ἀνϑῶν (ἀνϑ’ ὦν Reiske) τὴν μέσην διέρχεται διά τε τῶν Ἀρτοπωλέων ϰαὶ τοῦ Ταύρου, ϰαταλαβὼν τὸν ναὸν τῆς παναγίας Θεοτόϰου τῆς Διαϰονίσσης, ἐπιδίδωσι ὁ βασιλεὺς τὸ λιτανίϰιον ϰαὶ μέχρι τοῦ Φιλαδελφίου διελϑών, ἐϰϰλίνει τὸ δεξιὸν μέρος ϰαὶ διέρχεται διὰ τοῦ Ὀλιβρίουν ϰαὶ τῶν Κωνσταντινιανῶν μέχρι τοῦ ἁγίου Πολυεύϰτου, ὑπαλλάξας δὲ ϰἀϰεῖσε ϰηρίον ϰαὶ λαβὼν ἕτερον ϰηρίον... διέρχεται τὴν μέσην τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ϰτλ. Как Лейха, так и Reiske затрудняло слово ἀνϑῶν и следующие, потому как тот, так и другой старались исправить это место частью изменением интерпункции, частью заменою чтения ἀνϑῶν посредством ἀνϑ’ ὦν в смысле propterea, quando. Но эти поправки, на мой взгляд, не только не выяснили места, а напротив еще более затемнили его, особенно интерпункция, которая принята в изданиях. Кроме этого места, дальше слова: ἐπιδίδωσι ὁ βασιλεὺς τὸ λιτανίϰιον указывают на пропуск нескольких слов, так как, если царь отдает свечу процессионную, то, очевидно, делает это для чего-нибудь. Далее следующее указание, что царь и у храма св. Полиевкта переменяет свечу (ὑπαλλάξας ϰἀϰεῖσε) позволяет заключать, что и раньше он переменял свечу, а где это было, на это указывает недоконченный период ἐπιδίδωσι ὁ βασιλεὺς τὸ λιτανίϰιον. Так как перемена свеч и отдавание свечи, конечно препозиту, происходило пред храмами, то можно думать, что царь делал эту перемену свеч не потому, что одна свеча у него на пути сгорала и он брал другую, а потому, что ему нужно было вместо процессиональной свечи (τὸ λιτανίϰιον) взять свечу молитвенную, т.е. такую, с которой цари молились. Такой обмен свеч встречался у нас уже не раз и потому не должен удивлять нас. Мы видели, что царь, дойдя со свечою до колонны Константина с процессиональною свечою, для молебствия брал молитвенную свечу, которую он, после молебствия опять отдавал, чтобы снова взять процессионалную свечу и продолжать с нею крестный ход. То же было и во время выхода в св. Софию в Крестовоздвижеиие, когда царь сопровождал Честное Древо из патриарших палат в храм с процессиональной свечою, а потом брал молитвенную свечу (ср. Byzantina, II, 241, где показана разница в употреблении этих сортов свеч и приведенных названий). Принимая во внимание, что цари во время богомольных выходов, проходя мимо храмов, обыкновенно молились в них или перед ними, примеров чего можно найти довольно в выходах царей в св. Софию, изложенных во II кн. Byzantina, можно предполагать, что и во время выхода в храм св. Апостолов цари молились в попутных храмах или пред ними, как царь молился в Школах пред храмом св. Апостолов, там находившимся. Если это соображение верно, то, значит, после слов ἐπιδίδωσι ὁ β. τὸ λ. выпало довольно много слов, в которых говорилось, что царь, отдав свечу препозиту, брал у него другую, молился, а потом, отдав молитвенную свечу, брал у него вновь процессиональную свечу, с которой и шел далее.
Ср. Byzantina, II, 153 сл.
Ср. выше.
Когда царь слушал только евангелие и следующую затем ектению в храме, в который делался богомольный выход или выезд, список приглашаемых для завтрака или для обеда с царем представлялся для утверждения царю главным стольником (ὁ ἐπὶ τῆς τραπέζης) и дежурным атриклином в то время, когда царь, прослушав ектению, сидел в мутатории и дожидался окончания литургии. Так было, как мы видели, в неделю Православия (Byzantina, II, 247). То же самое отмечено в обрядах I, 19, 118 и I, 20, 121 (μετὰ δὲ τὴν ἀπόλυσιν τῆς ἐϰτενοῦς ϰεϑέζονται (οἱ δεσπόται) ϰαὶ εἰσάγει ὁ τῆς τραπέζης μετὰ ϰαὶ τῶν ἀτριϰλινῶν τὸ ϰλητώριον ϰαὶ σταχεῖ αὐτὸ ὁ μἐγας βασιλεύς, т.е. после окончания ектении, цари садятся и стольник с атриклинами приносит пригласительный список, а царь утверждает его). Составлялись списки с соблюдением ранга и очереди чинов атриклинами, что составляло, вместе с введением, с рассаживанием и выводом чинов, одну из главных обязанностей их, как говорит об этом сам атриклин Филофей в своем клиторологии (II, 52, 703, 740 след. Ср. мои Byzantina, II, 181).
Когда царь в том или другом храме слушал всю литургию и приобщался, то утверждение и установление списка едва ли могло происходить после евангелия, так как царь должен был слушать пред причащением всю литургию, а всего удобнее могло быть после приобщения св. тайн, когда царь дожидался, пока патриарх приобщал чинов синклита, или, по уходе патриарха с св. дарами, до окончания литургии, если приглашение не производилось до обедни, когда цари, прибыв в известный храм, сидели в храме в ожидании прибытия патриарха.
Не входя в подробности ввода чинов и порядков, соблюдавшихся при царских обедах и завтраках, что потребовало бы много времени и места, я считаю необходимым изложить здесь эти порядки в том только объёме, в котором они обыкновенно описываются в обрядах богомольных выходов. Кроме занимающего нас обряда выхода в храм св. Апостолов (I, 10, 79), изложенный в тексте порядок с опущением или упоминанием тех или других подробностей описывается в Вознесенском обряде I, 18, 113 (кратко), в обряде Преполовения (I, 17, 104), в Сретенском (I, 27, 153), в обряде недели Православия (I, 28, 160). А так как в этих случаях соблюдались такие же порядки, как и вообще при завтраках и обедах с участием патриарха, то для уяснения некоторых подробностей сюда могут быть привлечены обряды царских обедов с патриархом в Хрисотриклине и палате XIX аккувитов, дававшихся патриарху н духовенству в Крещение и четверг Пасхальной недели (I, 14, 95 и I, 26, 146–147). По всем этим обрядам, до ввода чинов, заведовавших царским столом (οἱ τῆς ὑπουργίας), когда в столовой находились только цари с патриархом, окруженные чинами кувуклия, стоявшими вокруг стола, кувикулярии вносили две чаши или бокала, из которых цари пили по разу (εἰσενεγϰάντων δὲ τῶν ϰουβιϰουλαρίων τὰ ϰουϰουμάρια, πίνουσι πρός ἅπαξ, τῇ γὰρ τάξει ταύτῃ εἰσέρχονται τὰ ϰουϰουμάρια διὰ τῶν ϰουβιϰουλαρίων, ἡνίϰα ὁ βασιλεὺς μετὰ τοῦ πατριάρχου ἀριστᾷ. I, 14, 95). Бокалы или чаши называются ϰουϰουμάρια от cucuma, котел, каковое название указывает на форму их, т.е. что они походили на маленькие котелки или низкие стаканчики с закругленным дном. Ср. Reiske, Comment, ad Cerim. p. 201.
Относительно ввода чинов no βῆλα см. мои Byzantina, II, 202 сл. Ввод в столовую подробнее всего описан I, 14, 95 и I, 10, 70. Для завтраков в храмах за завесами стоят чины, состоявшие при царском столе, так называемые енгистиарии (οἱ ἐγγιστιάριοι), а в Хрисотриклине в течение всей Пасхальной недели поднимали завесу силенциарии. Порядок ввода чинов, обеда и вывода чинов указан также атриклином Филофеем в его клиторологии (Cerim. II, 52, 742 след., 766 след.). Относительно обеда в понедельник Пасхальной недели в большой зале дворца у храма св. Апостолов см. II, 52, 769, где перечислены чины, приглашавшиеся в этот день к обеду. Ср. 773.
Шел ли царь из того помещения, в котором он слушал литургию, в столовую в хламиде или плаще, в обряде Пасхального понедельника не указано. На основании других обрядов сказать точно и определенно также нельзя, так как это зависело от того, проходил ли царь какими-нибудь переходами, невидимо для чинов синклита, стоявших в катихумениях, или шел мимо их. Если он проходил скрытыми переходами, как это часто бывало в Большом Дворце, пред и после выходов и приемов, то он обыкновенно довольствовался плащом; если же ему нужно было проходить открытыми путями, мимо чинов синклита и среди их, то он шел в полной парадной форме (ἠλλαγμένος), т.е. в хламиде и дивитисии до китона пред столовой залой или до этой залы, где уже и снимал хламиду, оставаясь в одном дивитисии до прибытия патриарха, для встречи которого на царя обыкновенно накидывали плащ, снимавшийся обыкновенно пред обедом, как изложено у меня в тексте. Об этих переоблачениях я имел случай говорить в статье „Облачение императора на Керченском щите“, помещенной в Журн. Мин. Нар. Просв., 1893, октябрь и отдельно изданной (Спб. 1893, 30 след.), где указаны и относящиеся сюда места из Придворного устава. В дальнейшем изложении выходов мы встретим еще и отметим подобные случаи.
Относительно надевания скарамангия, вместо дивитисия, для езды верхом сказано в сейчас названной статье моей „Облачение императора на Керченском щите”, 26 след. Так как при изложении обрядов выходов и выездов в храмы мы встретимся не раз с подобными фактами переоблачения в скарамангий для езды верхом, то приводить эти факты нет необходимости. Ср. мои Byzantina, II, 7–8 примеч. Употребление в понедельник Пасхальной недели для отъезда во дворец именно коловия отмечено, как в обряде этого праздника (I, 10, 80: ϰολώβιον τριβλάτιον χρυσοσωληνοϰέντητον, διὰ λίϑων ϰαὶ μαργάρων ἠμφιεσμένον, ὃ ϰαὶ βότρυς ϰαλεῖται), так и в перечне парадных царских облачений, употреблявшихся во время праздников (1, 37, 188: τὰ ϰολώβια ἤγουν τοὺς ϰριούς).
Тиара, как известно, означает головную повязку, которая делалась, как из мягкой, так и твердой материи; в последнем случае она могла быть довольно высокая и походила на высокую шапку, расширяющуюся к верху или прямую. Потом тиарами стали называться именно такие шапки, по своей форме походившие на персидские и затем турецкие. Украшенные плюмажем или султаном (τόγα или τοῦφα от перс. tog или tug), такие шапки назывались тогами или туфами. Образцом такой шапки может служить шапка конной статуи Юстиниана I, поставленной им на площади Августеоне, в память побед над персами и описанная много раз, в том числе и у Прокопия Кесарийского. По случаю падение этой шапки при Феофиле, говоря о ней, хронисты называют ее именно туфою (Sim. Mag. в Theoph. contin. p. 645 ed. Воnn. и Georg. Mon. p. 808) и таким образом дают понять, какие шапки назывались туфами или тогами. С этим совершенно согласны описание туфы или тиары, которые мы находим у Зонары и Цецы. По свидетельству первого (lib. ХѴII, с. IX, ed. Dindorf vol. IV, p. 123), Василий II Болгаробойца, после покорения Болгарии, совершил триумфальный въезд в Константинополь, увенчанный высокой тиарой, которую простой народ называет туфою (τιάρᾳ ταινιωϑεὶς ὀρϑίᾳ, ἣν τούφαν καλεῖ ὁ δημώδης ϰαὶ πολὺς ἄνϑρωπος). Цеца (Chil. 8, 184) говорит, что тиара, персидский головной убор, возлагалась на голову византийскими царями после побед (т.е. во время триумфальных въездов) и называлась также туфою, причем, как на образец ее, указывает на головной убор Юстиниановой статуи. Подтверждением этого свидетельства Цецы, кроме сейчас указанного примера, т.е. въезда Василия II, может служить обряд триумфального въезда царя Феофила после победоносного похода на саракин (Cerim. Append. ad llbr. I, 505). Феофил совершил въезд, также βαλὼν τὴν τιάραν ἐπὶ τῆς ϰεφαλῆς αὐτοῦ. Хотя статуя Юстиниана и колонна, на которой она стояла, давно уничтожены, но по счастливой случайности сохранился рисунок этой статуи, сделанный в 1340 году, найденный Детьером (Déthier) в библиотеке Сераля в 1864 г. и сообщенный Эллинскому филологическому обществу в Константинополе (см. труды этого общества, II, 103). После этого рисунок был воспроизведен несколько раз и, между прочим, в № 8 „Материалов по археологии России, издаваемых Императорскою Археологическою Комиссиею в исследовании проф. Покровского о Керченском щите. Еще лучше рисунок воспроизведен в Esquisse topographique de Constantinople Mordtmann’a, Lille, 1892, 65 (см. у нас рис. 24). Относительно τοῦφα или τιάρα см. Ducange, Gloss. Gr. et. lat. s. v. R e i s k e, Comment. ad Cerim. p. 591.
Плащи эти называются σαγία ἀληϑινά (I, 10, 88–89), т.е. пурпурные (см. Du Cange Gloss, gr. s. v. и Gloss. latin. s. v. Alithinus). Ἀληϑινός собственно значит истинный, настоящий=лат. verus, каковое слово также употребляется в значении „настоящего пурпурного”. Так как πορφυρᾶ ἀληϑινή противополагается τῇ ἐξιτήλῳ, pallidae, то, по словам Reiske (Comment ad Cerim. p. 189), apparet hinc ἀληϑινόν, et verum proprie splendidum, splendore ardens et oculos feriens notare. Если это соображение верно, то чины надевали в понедельник Пасхальной недели светло-красные плащи, что подходит к светлому празднику, когда облачались вообще в светлые одежды.
Относительно убранства коня царского, см. I, 10, 80–81: ὁ δὲ ἵππος ἔστρωται σελλοχάλινον χρυσοῦν διάλιϑον, ἠμφιεσμένον ἀπὸ μαργάρων, ἐν δἐ τῇ οὐρᾷ τοῦ αὐτοῦ ἵππου ϰαὶ τοῖς τέσσαρσι ποσὶν ἀποϰρέμανται πέτασοι πράνδιοι. Ср. I, 17, 99 и 105: ἱππεύει δέ βασιλεὺς ἐφ’ ἱππου ἐστρωμένου ἀπὸ σελλοχαλίνου χρυσοῦ διαλίϑου χειμευτοῦ, ἠμφιεσμένου ἀπὸ μαργάρων. Ἐν δὲ τοῖς τέσσαρσι ποσί τοῦ αὐτοῦ ἵππου ϰαὶ τῇ οὐρᾷ πράνδιοι πέτασοι ἀποϰρέμανται. Такая парадная сбруя называется τὸ χίωμα, мн. ч. τὰ χιώματα и потому в обрядах Придворного устава для краткости иногда говорится, что цари едут ἐν ἵπποις ἐστρωμμένοις χιώμασι διαλίϑοις или σύν χιώματι διαλίϑῳ (append, ad Cerim. libr. I, p. 500 и 505. Ср. I, 37, 188, 190 и 191; I, 43, 268). По словам Кодина, de offie. с. XVII, ρ. 97 χαιώματα назывались ремни или ленты, унизанные жемчугом и драгоценными камнями и надевавшиеся коню на шею и на спину сзади седла. Дальнейшие подробности о χίωμα, см. в моей статье: „Облачение императора на Керченском щите”, 20–24, где приведены мнения Рейске и Дюканжа об этом предмете.
Πράνδιον (у Константина Багрянородного в Придворном уставе πράνδιος)=brandeum, fascia, vitta=лента, а πέτασος, означает в классич. языке с широкими полями шляпу, а затем широкую крышку вообще, но в нашем месте πέτασος, очевидно, употребляется уже в качестве прилагательного и означает „широкий”. Действительно эти ленты довольно широки, так что до некоторой степени походили на короткие чулки или гамаши и потому вовремя Кодина назывались τουβία= tibialia, собств. tubae.
Золотая булла Балдуина II воспроизведена Дюканжем в начале I т. его Gloss. Gr. и в Familiae Byzantinae, р. 176 ed. Venet. [Наш рисунок взят у Sabatier, Iconographie de cinq mille médailles, St. Pétersbourg, 1847, pl. XXIV, 15 suspplémentaire]. Рисунок бамбергской ткани дан Шлумбергером в его богато иллюстрированной книге о Никифоре Фоке (Un empereur Byzantin, Paris, 1890, 365). [Наш рисунок, как и рисунок в книге Шлумбергера, взят у Саhiеr et Martin, Mélanges d’archéologie, II (Paris, 1851), табл XXXIV]. Сюда же можно отнести и Керченский щит, найденный в 1891 г., роскошный хромолитографированный рисунок которого приложен к исследованиям о нем Стржиговского и Н.В. Покровского в № 8 Материалов по археологии России. С него сделан литографированный снимок, приложенный к отдельным оттискам моей вышеназванной статьи [наш рис. 27 исполнен по специально исполненному для настоящего издания фотографическому снимку с Оригинала, хранящегося в средневековом отделении Императорского Эрмитажа.
Кони чинов кувуклия и синклита называются ἐστολισμένοι ὑπὸ καταφράκτω. Κατάφραϰτος уже у древних писателей означает покрытый панцирем (ἡ ϰατάφραϰτος ἵππος конница в панцирях); у средневековых писателей τὸ ϰατάφραϰτον означает панцирь для людей и лошадей (Du Cange, Gl. Gr. s. ѵ.). Какого рода панцирные покрышки или попоны надевались на коней для праздничных выездов чинов, сказать определенно, за неимением более обстоятельных описаний, трудно; но можно думать, что эти панцирные покрышки были более или менее похожи на те, которые мы видим на конях, на которых едут всадники при триумфальном въезде Феодосия в Константинополь после победоносных походов на скифов (у Bаnduri, tab. VI и X).
Описание царского поезда, данное в тексте, основано, главным образом, на обряде Пасхального понедельника (I, 10, 81–82); но так как все подобные выезды делались по одному установленному порядку, то некоторые подробности взяты из других обрядов, особенно I, 17, 99, где, хотя перечень короче, указаны некоторые подробности, опущенные в I, 10, 81. Ср. также I, 30, 167. ·
В качестве участников поезда мною названы только те военные и гражданские чины, которые упомянуты в обряде I, 10, но, конечно, этот перечень далеко не полон. В поезде, без сомнения, участвовали все наличные чины синклита, царской военной свиты, кувуклия и гвардейских отрядов, так что полный перечень их, насколько названия их нам известны из одного клиторология Филофея, занял бы целые страницы.
О действиях димократа венетов при первой встрече, см. Byzantina, II, 79 сл., где в прим. 2 к стр. 79 указана ошибочность рукописного чтения места I, 10, 82 относительно первой встречи и сделана его поправка.
Ср. Byzantina, II, 185 и 80.
Славословия и приветствия димов изложены в I, 5, 49 и след., перечень приемов и описание действий димократов и димархов даны в I, 10, 82–3. А так как в „актах», т.е. изложении встреч и славословий других праздников, в которые царь возвращался по той же дороге, неоднократно замечено, что встречи димов вовремя их совершаются так же, как в понедельник Пасхальной недели, то и эти обряды с их „актами» необходимо иметь в виду для сравнения и поверки. О них будет речь ниже. „Апелатик» в Byzantina II, 83, я передал посредством „отходный», а „дромик» можно перевести словом, „походный пли маршевой».
В греческом тексте, очевидно, имеются недочеты и повреждения, которые делают его мало понятным. Чтобы получить хотя какой-нибудь смысл при переводе, я читал, вместо ἐν αὐτῷ αὐτὴν, т.е. πολιτείαν.
Относительно приема, когда пели этот стих в первый день Пасхи, см. Byzantina, II, 85.
Порядок поднесения ливеллариев точно указан I, 10, 83, где сказано, что димократы и димархи венетов и прасинов только „при первом приеме подают ливелларий, а при прочих не подают, потому что это делается только один раз”.
В изложении приемов (I, 5, 51) такой конец славословий при восьмом приеме отмечен особо, как нечто отличное от других приемов; но вся особенность этого приема заключается собственно только в словах ἡ ἀναίρεσίς τῶν τῆς Ἄγαρ, так как приветствие: ϰαλῶς ἦλϑεν с каким-нибудь величанием говорилось в конце славословий и при других приемах на возвратном пути, как мы видели выше.
При изложении числа и места приемов мы держались „актов” понедельника Пасхальной недели, так как в них приемы изложены полнее и точнее. Этот перечень несколько разнится от того, который имеется в обряде понедельника (I, 10, 83). Эта разность состоит частью в местах встреч, частью в чередовании димов. Так, второй прием по актам происходил у св. Полиевкта, а по обряду I, 10, 83 у св. Христофора; по актам у Модия приема не было, а по обряду между Филадельфием и Тавром был прием у Модия, где принимал красный или городской дим прасинов. Зато по обряду не производилось приема у Претория, где по актам происходил восьмой прием. Место десятого приема в актах не указано, а сказано только, что он происходит немного спустя после приема в арке Милия. Но в обряде понедельника местом предпоследнего приема названы бани Зевксиппа; на основании этого замечания я и приурочил десятый прием к этому месту, но могло быть также, что предпоследний прием происходил у ворот Мелеты, против так называемого Ахилла, т.е. статуи Юстиниана, как в Вознесение (I, 8, 56). В общем по актам и обряду при возвращении из храма св. Апостолов делалось по 11 приемов. Кроме разницы в месте некоторых приемов (δοχαί), акты отличаются от обряда и чередованием димов или партий (δῆμοι или μέρη) ипподрома. Пять первых приемов совершаются в одинаковом порядке; разница начинается с шестого: по актам шестого, прием делает красный или городской дим прасинов, по обряду белый или городской дим венетов седьмой прием по обряду делает у Хлебного базара красный дим прасинов, по актам красный или городской дим прасинов на форе; восьмой прием по обряду делается на форе, по всей вероятности, белым или городским димом венетов, а по актам им же у Претория; девятый прием по обряду загородным димом прасинов у Милия, а по актам здесь же белым димом венетов; десятый по обряду городским или красным димом прасинов у бань Зевксиппа, по актам загородным димом прасинов, вероятно, там же; одиннадцатый по актам и обряду у решетки Халки. Эта разница происходит от того, что обряд написан в другое время, по всей вероятности, раньше актов и констатирует порядок, существовавший во время написания обряда, по всей вероятности, до Льва VI, а в актах показан порядок, установившийся при Льве и, быть может, существовавший во время составления Придворного устава или, по крайней мере, сборника актов. К сожалению в обряде перечень приемов к концу (р. 84, стрк. 3–8) изложен слишком кратко и неясно, а потому, быть может, испорчен переписчиком, сделавшим пропуски и поставившим неверную интерпункцию. Благодаря пропуску в строке 45, выпало название дима, делавшего прием на форе. На основании счета приемов и очередей, можно думать, что на форе принимал белый или городской дим венетов. Принимая во внимание это предположение, а равно и способ обозначения приемов при кратком их изложении в обряде Преполовения (I, 17, 106), способ, очень близкий к тому, который употреблен в занимающем нас месте, вышеуказанные строки, по моему мнению, нужно дополнить и читать следующим образом: ... ϰαὶ διασώζουσιν (οἱ τῆς πολιτιϰῆς τ. μέρους τ. Βενέτων) ἕως τῶν Ἀρτοπωλέων τῆς πολιτιϰῆς τοῦ μέρους τῶν Πρασίνων ϰαὶ δέχονται τὸν βασιλέα ἐν τῷ φουρνιϰῷ τῶν ἀρτοπωλῶν. Τῆς πολιτιϰῆς τοῦ μέρους τ. Βενέτων δέχονται τ. βασιλέα ἐν τῷ φόρῳ. Τῶν περατιϰῶν Πρασίνων δέχονται ἐν τῷ πλαϰωτῷ τοῦ Μιλίου. Τῆς πολιτιϰῆς μέρους τ. Πρασίνων δέχονται τὸν βασιλέα ἐν τῷ Ζευξίππῳ. Τῶν περατιϰῶν μερῶν Βενέτων δέχονται τὸν βασιλέα έν τῇ Χαλϰῇ. Легко можно восстановить этот конец перечня и в более подробном виде и даже в самой подробной форме, но краткость обозначения трех последних приемов заставляют довольствоваться вставкой тех слов, которые напечатаны у нас разрядкой и которые необходимы для восстановления смысла и полноты перечня. Для того, чтобы все вышесказанное было ясно и наглядно, я позволю себе представить перечни приемов по актам и обрядам в виде таблички, тем более что в этих перечнях мы имеем весьма важные и несомненные указания топографических пунктов от храма св. Апостолов до дворца.
По обряду (I, 10, 83–84)По „актам» (I, 5, 50–51) 1. У Мраморных львов
Загородные венеты. Там же
Те же 2. У св. Христофора
Городские (белые) венетыУ св. Полиевкта
Те же 3.У св. Евфимии ОливрияˆЗагородные прасиныТам же
Те же 4. У Филадельфия
Загородные венетыТам же
Те же 5. У МодияˆГородские (красные) прасиныУ Тавра
Те же 6. У Тавра
Городские (белые) венетыНа Хлебном базаре
Городские (красные) прасины7.На Хлебном базаре
Городские (красные) прасиныНа форе Константина
Загородные прасины 8.Hа форе Константина
Городские (белые) венетыУ Претория
Они же 9. У Милия
Загородные прасиныТам же
Городские (белые) венеты 10. У бань Зевксиппа
Городские (красные) прасиныТам же (?)
Загородные прасины 11.У решетки Халки
Загородные венетыТам жеˆОни жеПодведя итоги приемам, мы найдем, что из 11 раз царя встречали венеты шесть, а прасины пять, что начинает и заканчивает приемы самый главный дим загородных венетов с одним из важнейших военных сановников, доместиком школ, во главе.
Об этой двери и производстве в ней скривонов, см. мои Byzantina, I, 124–129, где показано, почему у этой именно двери царь сходил с лошади н садился на нее.
О палатах экскувитов и кандидатов и входных дверях Консистории см. Byzantina, I, 121 след. О чинах синклита, откланивающихся царю в Консистории, см. Byzantina, II, 193.
Относительно возвращения царя чрез Онопод, Золотую Руку и Августей, переходы Дафны и Триконх, см. мои Byzantina, II, 193 и след. Относительно храма и переходов Господа, Триконха и переходов 40 мучеников, см. Byzantina, I, 123, 88 след., 120.
Как уже было указано, об этом имеется заметка в конце обряда понедельника Пасхальной недели (I, 10, 86): „Нужно знать, что при Льве блаженной памяти введен был такой порядок: царь в златотканом скарамангии и венце садится на лошадь и таким образом отправляется в храм св. Апостолов, а возвращаясь назад верхом, надевает коловий, называемый гроздом, а на голову белый венец и таким образом возвращается. Так совершается этот выезд до сегодняшнего дня”. Ср. Byzantina, II 221 и 230.
В I кн. Придворного устава нет обрядов выездов в Антипасху, в праздник св. Апостолов и в день смерти Василия, так как эти выезды тожественны с выездом в понедельник Пасхальной недели. По этой причине и при составлении II кн., в которую вошли, в качестве дополнения к I кн., многие обряды, не бывшие в сборниках, вошедших в I кн., не записаны обряды выездов в эти дни, но обряд выезда в неделю Всех Святых записан и составляет гл. 7 II кн., р. 535–538. А так как поездка из дворца до храма св. Апостолов и обратно совершалась по чину понедельника Пасхальной недели и Антипасхи, то в обряде излагаются только такие действия царя и патриарха, которые составляют отличие этого выхода, а относительно остальных в обряде замечается, что они совершаются по чину других выездов в храм св. Апостолов н в другие храмы. Восстановить эти подробности можно легко по другим обрядам, без всякого риска сделать ошибку. Но для избежания повторения, я прибавляю из других обрядов только то, что необходимо для связи и понимания дальнейшего изложения.
В обряде (II, 7, 535) о переоблачении не говорится, а сказано только, что царь в катихумениях, по прибытии в храм пред литургией, совершает и следующие действия, как обыкновенно в таких случаях. А эти действия и состоят в том, что царь и чины переоблачаются в парадную форму для участия во входе в храм с патриархом, так как в верховом костюме, в котором они прибыли в храм, этого делать не полагалось. Такие именно случаи переоблачения до прибытия патриарха имели место в храме св. Мокия (I, 17) и храме пресв. Богородицы Источника (I, 18), как мы увидим ниже.
О праздновании дня освящения церквей в Константинополе, см. статью Η.Ф. Красносельцева „Типик церкви св. Софии в Константинополе IX в.“, помещенную во II выпуске Летописи историко-филологического Общества при Новороссийском университете, стр. 207 и след. (Статья эта вышла также отдельным оттиском). Здесь проф. Красносельцев разбирает и чин или последование „обновления», как оно совершалось в IX в. В главных моментах, которые отмечены в Придворном уставе, чин „открытия» или „отверзения” (ἀνοίξεως), согласен с церковным чином, как он указан для праздника освящения или обновления (ἐγϰαίνια) Халкопратийского храма, и состоял из всенощной накануне, потом в день праздника крестного хода в Халкопратийский храм, где, по „отверзении” дверей, совершалась литургия.
Ἀρχοντογεννήματα встречаются, сколько мне помнится, единственный раз в Придворном уставе только в этом позднейшем сравнительно обряде и соответствуют, очевидно, позднейшим архонтопулам (Ср. Reiske, Comment, р. 616).
