Татьяна, дочь царская
I
Вечер уже переходил в ночь. Двое городовых прохаживались, притоптывая, около ресторана «Эрмитаж», что на Петровке, и озабоченно поглядывали на дверь, сквозь которую слышалось разудалое пение. Скоро уж вывалит на улицу профессорско-студенческая шатия-братия для ночного гульбища по зимней Москве. Татьянин день!
Было морозно, ветрено и шёл снег — сочетание очень неприятное, когда нужно несколько часов простоять-проходить на открытом воздухе, хоть даже и тепло одетым. А особенно если сегодня твои именины и день рождения сразу.
— Слышь, Савва Петрович, а чего ты вообще-то дежуришь сегодня? — спрашивал молоденький городовой своего напарника, — обязаны тебе сегодня гуляльный день дать.
Напарник, густобородый, коренастый, раза в два постарше молоденького, в ответ вздохнул тяжко:
— То-то и оно, что гуляльный!.. Прости, Господи, да не мне гулять. Охрана мы! Нам порядок стеречь, когда другие вот так гу-л-ля-ют! Прости, Господи. А нас — всего ничего. Кажный год в этот день дежурю, сам напрашиваюсь. Мой день! А я что, Святых Таин причастился с утра — вот и именины с рожденьем вместе, вот и попраздновал.
— Не-е-е, чтоб в именины и штофик-другой не пропустить?.. Не-е-е…
— «Не-е-е», — передразнил старший, — вон они, пропускатели! Любуйся! Щас повалят, успевай только из сугробов вынать да мордобой разнимать, «не-е-е», вроде, умствованные люди, уч-чёные… А фабричные — то проще гуляют, нам беспокойства меньше. И ещё, шельмецы, Татьяну нашу, мученицу, в оборот свой «уч-чёный» взяли, стыдоба! Щас вон, заглядывал… верзила косматый, энтот,.. рисовальщик-малевальщик, давно его знаю, из кабаков не вылезает, шампанское щас налил ведро, благо задарма, сам Рябушинский ведь в этот день им ихнюю нализанку оплачивает, вот ты поди ты,.. поставил ведро на стол и орёт: «А это Татке-Танюшке нашей оставим, пусть за наше здоровье выпьет, как мы за её всю ночь!» — и заржал жеребцом. А?!
— Ну и что? — молодой пожал плечами и улыбнулся. — Не жадный, значит, пущай себе гуляет, сам бы присоединился, а то вот угораздило в такой день дежурить…
— Да вот ты что.., ты-то при чём?! Хотя все мы при чём, коли день такой. Я сам весь в Татьянах, кругом меня одни Татьяны, да и мой святой сегодня, и моего папы святой, и фамилии моей святой, и все — сегодня,.. а насчёт «угораздило» — уж лучше угораздить на дежурство, чем к ним присоединяться, потом отсоединяться — всё равно что из болота выбираться, когда слеги некому подать. Ты, вот, кто? Ты вот вдумайся! Ты — го-ро-до-вой! А?! Какое званье, какой почёт в звании! За порядок и покой отвечаешь! И не где-нибудь, а в стольном граде! В самой белокаменной!.. А энти! Тиллигенция, прости, Господи, да с ними и поговорить не об чем, энто ж до полного обалдуйства доучинились… В прошлом годе, вот из энтой самой двери, в энто самое время, вываливается,.. профессор тухлого бульона, весь из себя,.. ну, на ногах, понятное дело, стоять не может, орёт. Я, мол, энтот… думский оратор, глаголом сердце-поджигатель… уж какую солому и чем он там поджечь может своим глаголом, не знаю.., эх, хотя соломы сейчас какой хошь найдёшь. Ну и, понятно дело, задом в сугроб — плюх! Ну, понятно дело, вытаскиваю, ну, он орёт, что, мол, к медали представлю «за усердие», меня, то бишь.., фамилия, говорит, как? Сейчас, говорит, предписание устрою! Ну и опять на сугроб его перетягивает и всё про мученицу нашу из него прёт глаголом его поджигательно-орательным.
Ну, встряхнул я его, эдак повежливее, чтоб, значит, орательность-поджигательность призаткнуть и говорю ему, что насчёт медали беспокоиться не надо, есть она у меня, и как раз «за усердие», в пятом годе дадена вместе с «Георгием». В общем, скоко было во мне усердия, стоко и приложил его тогда, чтоб, значит, поджигательность-орательность призаткнуть, и про мученицу Татьяну лучше б призаткнуться вам, ваше превосходительство, никакая она вашей бражке не покровительница, не может она покровительствовать вашим орательно-поджигательным безобразиям, и мой святой, имя которого ношу, Савва Сербский, сегодня и его день — тоже против… И вообще, говорю, отцепить вас надо от сегодняшнего дня, хотя вот прицеплять вас некуда, каждый ведь день — память какого-нибудь святого, нельзя святых обижать вашим прицеплением. Ну, тут он в обиду впёрся, меня отпихнуть пытался: «Фамилия? Смирно!» — орёт, токо теперь уже не чтоб медаль выдать, а чтоб нажалиться на меня начальству и за можай угнать. Я говорю, фамилия моя Мертиев, тоже святой сегодняшний, мученик палестинский, Мертий, да тебе, видать, о том неведомо, ну а коли отпихнёшь меня, плохо тебе будет, опять в сугроб сядешь и уж не выберешься… Ну, отволок его назад, допивать — наше дело такое… Сегодня опять его видел, токо смурной какой-то… А когда отволакивал его тогда, он удивляться начал, чего это я ему всё про святых долдоню, так и сказал — долдоню, а ещё проф-фессор! Ну, а я и говорю, как же не долдонить, кругом нас они, Святая Русь, ведь и Татьяна наша, опять же… А он ка-ак вздыбится:
— Ты! — орёт, — Татьянушку не трожь! Она не из числа святош, она — символ!
Ну, тут я и отпустил его, как услыхал про «символ» — растерялся, а он, понятно дело, сел в сугроб, без опоры-то, и давай мне долдонить, что, мол, не в церкву надо ходить, а, значит, книжки ихние профессорские читать, в них, мол, правда жизни и дорога в это… в царство разума и свободы, тьфу, прости, Господи. Нет уж, говорю, топай сам по энтой дорожке и гори в энтом своём царстве на дровишках разума и свободы, а моя дороженька — через церкву в Небесное Царство.
— Эх, — вздохнул молодой, — и где оно, Царство это, пощупать бы!
— Эх, а и гнили в вас, молодых!.. По-щу-пать!.. Щупалы отсохнут. Щупай бабу свою.
— А ты не задавайся, Савва Петрович, попа-проповедника из себя не корчь, сам ведь не знаешь, где оно.
— Не знаю. И знать того не надобно. Веровать надобно, что есть оно, с нас и довольно. Нешто можно к Господу Богу с вопросами приступать? Всё Им нам сказано, всё расписано, а чего вместить не можем — на веру принимай и вопросов не задавай, вопросы пусть вон профессора задают. Всё-то им разъяснить надо, всё-то им понять надо. А уж коль понять не можешь, что понять не всё можешь, то или дурак, или профессор. А я — городовой! Родитель мой, Пётр Мертиевич, отучил меня хворостиной вопросы задавать, и очень я ему за это благодарен. И дедушка мой, кому я фамилией обязан, так же хворостинку свою к сему моему месту приложил.
— Слушай, Савва Петрович, а и то, фамилия у тебя чудная…
— Сам ты!.. Токо ж говорил, в честь мученика палестинского Мертия фамилия моя. Когда указом Царёвым отпускал барин моего дедушку на волю, ну дедушка и попросил его дать фамилию ему по его имени — Мертий, а значит, фамилия — Мертиев.
— Слушай, а я не слыхал про такого, про Мертия.
— Да то-то и оно, про много чего мы не слыхали, много чего не знаем, чего вот оно, под боком, но нам Царство Небесное пощупать подавай. Да я сам святых наших мало знаю, а надо бы кажный день их жития-то читать, для того и грамота дадена, да всё в суету уходит. А вот дедушка мой страсть как любил Димитрия Ростовского читать про жития святых, всех святых почти жития наизусть, память у него была! Вот и получился я весь в дне сегодняшнем: Савва мой сегодня, папаши моего Пётр тоже сегодня…
— Погоди, — перебил молодой, — как Пётр сегодня? Пётр же летний! Пётр да Павел час убавил, гы… Я ж сам — Пётр.
— Да Петров-то сколько! Ты — Пётр летний, апостол, а папаша мой — Пётр зимний, сегодняшний, мученик. И Мертий, основатель фамилии моей, сегодняшний. И в Татьянах я весь: мамаша моя — Татьяна, благоверная моя — Татьяна, дочурка у меня — Татьяна, коли до внучки доживу, тоже Татьяной будет, когда б ни родилась, есть на то благословение. Ну а внук, так или Савва, или Пётр зимний, или Мертий, во-от… Татьяной-мамашей у Татьяны-мученицы нашей я вымолен, чтоб вообще родиться, а в семь лет, вот в энтот самый день, отмолен мамашей моей от болячки смертной: три дня в беспамятстве метался, очухался, смотрю — а мамашенька моя на коленях в слезах перед образом нашим семейным стоит, а образ наш — Владимирская Матушка наша, Царица Небесная. Да не токо семейная Она, у всего села нашего Она Покровительница, церква у нас в селе Владимирская. Батюшка у нас стро-огий был, кажный вечер обязывал всех сельчан акафист Ей вычитывать. Проверял. А неграмошных в церкви собирал, сам читал… Ну вот, очухался я, сказал чего-то, а мамашенька моя от радости сама в несознание впала, впору её отмаливать. Такие вот были первые мои сознательные именины. Владимирская наша не токо, выходит, воительница, но и целительница. Чёй-то долго сегодня не вылазят профессора-то…
Меж тем метель усилилась. И даже подвывать слегка стала. И тут со стороны Садового кольца послышался звон колокольчика подъезжающего экипажа. Их полно стояло уже кругом, ожидая пьяную интеллигенцию. Савва Петрович подошёл к мостовой, чтоб показать, куда встать лучше, но это оказался не лихач и не извозчик. Сквозь темноту и круженье снега, в отблеске тусклого высокого фонаря проступали очертания небольшой двухместной зимней кареты на широких полозьях. Запряжены в неё были два горячих, великолепного экстерьера серых орловца (в лошадях Савва Петрович знал толк). «Однако, такие и понести могут», — подумал он любуясь рысаками. Дверца кареты распахнулась, и из неё на снег легко соскочила молодая дама в тёмной меховой шубке с белым воротником и без шапки. Лица было ещё не разглядеть, но так легко соскочить, минуя каретную лесенку, могла только молодая. «Профессорская дочка, небось, за папашей приехала»… Через мгновенье лицо дамы предстояло перед дицом городового Саввы Петровича Мертиева. Призастыл городовой, даже рот у него приоткрылся, созерцая возникшее из полутьмы и снега диво дивное. Видал, и не мало, в своей жизни он красивых девичьих лиц, в селе его, Владимирском, все девки были как на подбор. Одна из них женой его стала. За день дежурства на посту такая иной раз красавица мимо прошествует, что вслед ей смотришь, пока не скроется она. Но такого лица он ещё не видывал. И дело было не в действительно ослепительной красоте той, что смотрела сейчас на него, и не в неожиданности её появления из метели. Не тот человек Савва Петрович, чтоб приворожиться вот так красотой и неожиданностью. Но нечто необыкновенное излучалось из её детских празднующих глаз. Они были именно празднующими, они светились праздником, и они призывали праздновать вместе с ними. И детскость их была особая. Обычно детский взгляд вызывает потребность покровительства, а также умиления у того, на кого он направлен. Эта же совсем юная девушка не нуждалась в покровительстве, казалось, что она сама чувствует себя покровительницей того, на кого вот так смотрит своим детским взглядом, в котором нет наивности, нет беззащитности, нет и следа милых детских глупостей, но есть детская праздничная радость, и хочется раствориться в этой радости, в этой излучаемой из детских глаз доброте. И доброта эта, к которой прицеплен взглядом, тоже особая, под стать особой радующейся детскости. Это доброта — повелительницы. «Повелеваю!» — звучало-виделось в каждой искорке, которые рассыпались из её радующихся глаз. «По-ве-ле-ва-ю радоваться вместе со мной!» и оставалось только подчиниться этому повелению, и не было ни сил, ни желания уйти от этого подчинения, выскользнуть из-под власти празднующих глаз. Власти! Право на власть чувствовалось во всём облике этой ошеломляющей красавицы. Правда, ошеломлённость у Саввы Петровича уже прошла. Теперь, глядя в необыкновенные глаза, он ощущал радостный покой и улыбался, и совсем не думалось о том, что скоро предстоит маята с пьяными профессорами, и вообще казалось, что где бы и хоть среди кого ни появилась эта праздник источающая девушка, все должны подчиниться её власти и чувствовать то же успокоение, что чувствовал сейчас Савва Петрович. Он знал, что право на власть имеет только тот, кому эта власть кем-то вручена. Ему лично власть наводить порядок на его посту вручена приставом, а тому — участковым ротмистром, и так далее до самой вершины. Пирамида. Когда он стоит перед приставом навытяжку, он всегда понимает, что стоит перед должностью. На должность ротмистром поставлен определённый человек, но завтра может быть поставлен другой. Любой человек связан с должностью волею своего начальника, передвижение людей по должностям, согласно воли людей — обыденная вещь. Но есть должность, где этого передвижения нет и быть не может должность эта там, на вершине пирамиды, это должность Царя. Никто его не может передвинуть, ибо власть его не от передвигающих людей, а от Неба. Людские передвижения заканчиваются вершиной пирамиды. На пирамиде, над пирамидой — Царь, он надо всеми, даже над законом, и отвечает он за всё, что сделано его властью, не перед народом, а перед Небом. Это Савва Петрович очень ясно и остро осознавал, хотя и не мог никогда словами это выразить, да и выражать не собирался. Один раз видел он Царя — во время коронации, когда он, молодой городовой, стоял в охранении на Соборной площади, а потом удостоился и в Успенском соборе у дверей стоять, первый раз в жизни в Москве! И сразу — Государь, в пяти метрах от тебя, и Сама Она, Владимирская, Настоящая, Единственная, Целительница его, и даже потом приложиться можно… И когда он увидел Царя, по Соборной площади идущего, трепет некий ощутил, трепет… ну как же бы это объяснить-то… «трепет радости» — вот так вроде, да не объясняет это ничего. И вот сейчас стоя (уже навытяжку) перед этой девушкой Савва Петрович ощущал почему-то тот же самый трепет, что тогда на Соборной площади, когда мимо него шёл Царь. И трепет этот не сминал ничуть радостного покоя, что испытывал он сейчас.
Савва Петрович сглотнул слюну, вздохнул глубоко и сказал:
— Вы бы, барынька, это, шапочку бы надели, застудитесь. Да и снег, вон, уже на волосы намёл.
Голова девушки была перехвачена, точно обручем, белой лентой, волосы, уложенные полушаром, действительно покрылись уже за эти мгновения многочисленными снежными островками. Она тряхнула головой и сказала, широко улыбаясь:
— Ничего, много не налетит.
— Папу изволите встречать, или женишка? — спросил молодой. Видно было, что ничего подобного тому, что происходило с Саввой Петровичем, он не испытывал. «Хороша девица!» — только это и сквозило из его ухмыляющихся глаз.
— Нет, — прозвучало в ответ, — жениха у меня нет, а папа мой… он меня благословил по моей просьбе… в общем, к вам я, служивые. С подарками. Всем нижним чинам, кто дежурит в эту ночь, подарки развожу, в честь праздника моего. Татьяна я. Вот, примите, и да хранит вас Господь и мученица Татьяна! — и оба городовых увидели в её руках шкатулку. Девушка извлекла оттуда два матерчатых маленьких конвертика и отдала их слегка потерявшимся городовым.
— Да как же это, барышенька, да что вы, — пробормотал Савва Петрович.
— Берите, берите, папа благословил.
— Спасибо превеликое и вам, и папе вашему, однако опасно, барышенька, ночью вот эдак-то ездить, хошь и в Татьянин день.
— Ну, вы же на страже, чего ж бояться! А в конвертике два образка: Татьяны-мученицы и Владимирской Царицы Небесной. Владимирская — любимый мой образ. Ну прощайте, с праздником и всего вам доброго.
— Ай, спасибо тебе, красавица, — Савва Петрович уже вынул образки из конвертика и держал их на ладони. — Ай да подарок к моим именинам!
Направившаяся к экипажу девушка остановилась, обернулась:
— У вас сегодня именины? — почти что даже испуганно прозвучал вопрос. — А… а как же вас зовут?
— Саввой меня зовут. В честь Саввы Сербского, сегодня и его день. Вроде как затмила его, получается, Татьяна-мученица.., а ведь страничек-то в житии его больше, чем у Татьяны нашей, во-от…
— Да, — прошептала девушка. — А ведь и правда… погодите! — Она подбежала к своему экипажу, впорхнула в него и через несколько мгновений снова стояла перед Саввой Петровичем, снова её лицо возникло перед ним из темноты и метели.
— Вот, это вам, на именины, — она держала на вытянутых руках небольшую икону, которая как раз накрывала собой две её ладони, — это Владимирская моя, папин подарок, я с ней не расставалась никогда. Это с Саровских торжеств, я тогда совсем маленькая была.., а внизу, в правом углу, мученица Татьяна…
— Постой, барынька! Да и так уж одарила! Папин подарок разве можно передаривать!
— Можно. Я так хочу. Папа одобрит. Может, больше и нет никого из мужчин, у кого в этот день именины, — затем она притянула Савву Петровича за воротник, чмокнула его в щёку, сказала «Храни вас Господь!» и побежала к экипажу.
— Э, стой, барынька, как папу твоего звать-поминать, — прокричал в метель городовой, когда опомнился от поцелуя. Но пара орловцев уже уносила карету к Рождественскому бульвару.
— Эх, — покачал головой Савва Петрович после того, как, перекрестившись, поцеловал икону, — вишь, Пётр летний, как оно образовывается, и не думал, и не гадал.., эх, дай, Господи, девочке сей и папе её всего… Сам знаешь, чего…
— А папа-то, видать, бога-атенький, — проговорил молодой напарник. Он покачивал на правой ладони образки, на подарочную икону Саввы Петровича он даже не взглянул. — Золотые ведь, каждый почти как червонец весит. И цепочки золотые. А может, прямо из червонца и сделаны? И работа грамошная, то-онкая, в ювелирке у Рувима как надо оценят.
— Да ты сдурел!..
— Да ты не бузи, Савва Петрович! — в свою очередь и не шуточно прикрикнул молодой. — Опять же, попа из себя не корчь! Крестик на мне есть, каким крестили меня, во-от, с тех пор и ношу! С меня и довольно. А это подарок шальной, ну и гульнём. Мне ведь подарок, чего хочу, то и делаю. Опять же, крещенскому гулянью цельных два дня ещё.
— Слу-ушай, да ты что ж мелешь-то, какой такой шальной подарок? Это как это «шальной»?!
— Да так: не было — есть, шёл — нашёл, с неба упало…
— Так ведь с неба же! А ты его Рувиму!
— Да ладно тебе. Метель нанесла! «С неба» — это я так… Чудит её папашенька, много, видать, червонцев, чего ж не поблажить… Был бы я женат, как ты, то может, на семью бы потратил, а так — гульнём!
— Ну, ладно, — Савва Петрович весь как-то обмяк вдруг от такого препирательства, — иди сейчас гульни, вон, к бульвару, там доглядывай, а я уж тут…
Долго смотрел Савва Петрович вслед уже пропавшему в снежной мгле напарнику. И тут разобрал весёлый шум-гам за спиной. Обернулся. Ватага студентов, явно из «Петровского подвала» — значит, выползать начали. Не знал Савва Петрович, что давно его заприметили студенты. Пили они на рябушинские деньги все подряд.
— Бр-ратия! — выволакивался из сидячего положения очередной «тостёр», — предлагаю выпить за то, чтобы у той, вон, морды, вон — за окном маячит (а это «маячил» Савва Петрович), чтоб он шашку свою никогда б не вынул.
— Да она у него с пятого года приржавела, — сказал главарь ватаги. — Господа, пш-шли пров-верим!..
Вот и вывалились они проверять. Будто к неодушевлённому предмету подходили они к нему, шатаясь, и дёргали за рукоять шашки. Савва Петрович стоял столбом, не сопротивляясь, и вроде бы не видел наседавших. Наконец за рукоять взялся главарь ватаги. И тут глянул в его мутные, пьяные глаза Савва Петрович, и показалось ему, как тогда, в пятом году, что перед ним враг. Что-то такое враждебное повеяло от всего его облика, от его пьяных зенок, от его прыщавого лба, некая жуткая злоба, злоба не спровоцированная ничем — злоба сама по себе. «А ведь и лет-то ему не больше, чем девочке сегодняшней — Татьяне, образки дарящей»…
Пять раз дёрнул за рукоять прыщавый главарь и затем сказал, злобно усмехаясь:
— Полно, служивый, а ну как злоумышленники нападут?
— Нападут — получат. Да и какие злоумышленники в Татьянин день? Вас вот до дому в целости доставить, вот и вся забота, — теперь Савва Петрович улыбался, отгоняя от себя образ врага: «Да мальчишечка ведь, ну напился ради праздника, да и чего же не побузотёрить в его-то годы?»
— А вдруг я злоумышленник? — не унимался прыщавый, — а у тебя шашка не вынимается?
Посерьёзнел опять Савва Петрович:
— Почему же не вынимается. Вынимается.
— Да ведь не могу я её вынуть.
— Да тебе её и не надо вынимать, она ж не твоя, а моя.
— А правильно угадал я, что ты её последний раз в пятом году вынимал?
— Правильно угадал.
— И что ты ею делал, когда вынул? Рубил?
— Нет. Только собирался. Получилось — пуганул только. Потому как разбежались тогда злоумышленники.
— А что они злоумышляли тогда?
— Царский портрет всенародно сжечь.
— И живого б человека зарубил за портрет?
— Всенепременно. Нешто это человек, коли ему Помазанника Божия сжечь надумалось.
— Нет, — прыщавый снова усмехался вражеской усмешкой, — теперь не выйдет. Приржавела твоя шашечка. Жаль, под рукой портрета нет.
Савва Петрович, не отрываясь от немигающих, усмешливых вражеских глаз, на него направленных, взялся правой рукой за рукоять и выдернул шашку из ножен. Взрывом лязгнуло, скрежетнуло, взвыло сталью о сталь, и обнажённая шашка нависла над прыщавым. Орава в один голос ойкнула и отшатнулась.
— Твоё счастье, что портрета нет, — сказал Савва Петрович.
— Эффектно, — сказал прыщавый, закуривая папироску, — запомню.
— Во-во, лучше папироску поджигай, запоминатель. Эх, ну чего вам неймётся, господа?
Притихшая ватага удалялась обратно, к «Подвалу». Прыщавый главарь несколько раз обернулся. И при каждом обороте его будто ветром злобы дуло оттуда сквозь белую метель. А девочка эта, Татьяна-дарительница, будто за спиной Саввы Петровича стоит, и именно на неё направлен ветер, и шашка его должна всё время стоять на пути этого ветра.
— Эгей, почтенный, как дежурится? — Из темноты и метели возникли двое в бобрах и едва на ногах. Спрашивал тот, кто потрезвей.
— Спасибо, ваше превосходительство. Пока спокойно. А вы где ж так подзадержались?
— А мы у Крынкина отмечались, на Воробьиных горах. Вот, а теперь сюда. Как там наш отступничек, поглядим… Не представляешь, — теперь он обращался к своему спутнику, — в Большом театре, когда хористы выскочили на сцену и загорланили «Боже, царя храни», император, ишь ты, присутствовал!.. Ну и с ними весь, естественно, прихлебательский зал загорланил. Так и он, коллега наш! Проф-фессор! Кадет! Тоже стоял и подпевал!.. Ну-у, что заслужил, то и получил. Студенты, вот молодцы так молодцы! Представляешь, врывались в аудиторию и выкрикивали: «Позор! Иуда! Холоп!..» Ну, мы только здороваться перестали. Обломали — вроде понял, хотя поначалу бурчал…
Идущему вслед за ними Савве Петровичу казалось, что он всё-таки ослышался и чего-то не так понял. Переспросить же было страшно — во-первых, не с ним разговаривали, а во-вторых — да не может же такого быть!..
— Эй, любезный, — тот, кто рассказывал, подозвал Савву Петровича, — возьми-ка его за другую руку, а то завалит, эк нализался, а ведь вместе пили.
Когда же его внесли в зал, тот вдруг ожил и заорал куда-то в гущу гуляющих:
— М-может, ты и на кресты церковные крестишься, а?
Отпустил тут руку Савва Петрович и даже отпихнул слегка от себя обоих. И оба бобрастых рухнули на паркет. Тут из гущи поднялся некто очень живописный. Он откинул ногой стул и начал сосредоточенно что-то искать в боковом кармане сюртука. И Савва Петрович понял, что это тот самый, которого «обломали». Наконец, нашёл живописный то, что искал.
— Да, милсдари,.. вот!.. Мне тут оказали честь, то есть, я хочу сказать, имели наглость!.. Вот — званный билет на торжество 300-летия Романовых, в Кремле, вот… и я его сейчас… свет, господа! Погасить свет! Я его сейчас!..
Вспыхнуло жёлто-голубым огнём, и в руках у прощённо-обломанного заполыхал факел. Корчилось, ёжилось изображение Императора, будто слова вместе с огнём: «Да что ж вам неймётся, господа?»
Грохнули шквальные аплодисменты, пожалуй что погромче, чем в Большом театре.
— Господа, — от радости один из бобрастых поднялся на ноги, — пьём за грядущее! И нас встретят всенародные аплодисменты, когда докры… до-бе-жим, долетим!..
Савва Петрович стоял с закрытыми глазами, правая рука его лежала на рукояти шашки. Он молился, чтобы сдержаться. Он знал, что если сейчас он шашку вынет, то никто отсюда живым не уйдёт. Наконец, отпустило. Он развернулся и вышел вон. На воздухе вздохнул полной грудью и достал икону, сегодняшний подарок. Она хорошо умещалась в нагрудном кармане кителя, и он решил, что пусть всё время она там и будет. Татьяна-дарительница с ней не расставалась, и он не расстанется. На иконе Татьяна-мученица в правом углу молилась Владимирскому образу Заступницы Небесной. Младенец прижимался щёчкой к правой щеке Матери и будто что-то шептал Ей в ухо, а Она скорбно-задумчиво смотрела одновременно в Себя, перед Собой и прямо в глаза Савве Петровичу. Ясно было, что слушают они молитву мученицы Татьяны и будто ожидают чего-то, а Татьяна, как показалось сейчас Савве Петровичу, плачет. И даже рыдания её сейчас как будто слышались. Ужас и ярость, что испытывал он, когда горело перед ним императорское лицо, уже прошли окончательно. Он тоже, как и Татьяна-мученица, плакал. Первый раз в жизни. Только без рыданий, тихо. Но как и о чём сейчас молиться, он не знал, да и не время было молиться, сейчас работа пойдёт вытаскивать из сугробов пьяных интеллигентов, которых только что в куски хотелось искрошить верной шашкой.
II
Александра Фёдоровна стояла перед семейной иконой Владимирской Божией Матери и радостно улыбалась. Она не молилась, она просто смотрела и улыбалась. Наконец-то она дождалась этого часа. Когда об этом узнала Элла[1], она вся просияла от счастья, и даже не по-монашески в ладошки хлопнула. После того, как одиннадцать лет назад каляевская[2] бомба разорвала на куски её мужа, никто не видел её даже улыбающейся, а тут Элла чуть «ура» не вскрикнула. Вдвоём они просили об этом. И вот сегодня супруг Александры Фёдоровны, Верховный Главнокомандующий, русский державный Царь Николай принял решение везти на фронт из Успенского Кремлёвского собора главную святыню русскую — икону Владимирской Божией Матери. Александра Фёдоровна никогда не задавала лишних вопросов, но когда ей было сообщено о принятом решении, её радующиеся глаза молча вопрошали: «Почему не раньше? Почему не год назал, когда на фронте было совсем плохо? Почему мы не начали войну с Неё, как тогда, когда вторгся Тамерлан?» И он понял безмолвный вопрос, и ответил кратко, тихо и убеждённо, как он отвечал на все вопросы:
— Милая Аликс, во мне нет ни силы той, ни дерзновения, как в великом князе Василии Димитриевиче, а рядом нет митрополита Киприана.
Потом помолчал и ещё более тихо добавил:
— И того молитвенного народа из той Святой Руси тоже больше нет. — Серые ясные печальные глаза его смотрели на супругу таким взглядом, который он очень редко позволял себе, и только наедине с ней. Всегда она приходила в трепет, когда он вот так смотрел и молчал. В последнее время такие взгляды его она стала видеть чаще. Она знала, что в нём силы, веры, и дерзновения не меньше, чем у Василия Димитриевича; она знала, что он видит больше, дальше и глубже всех окружающих, и знала она также, что он видит и чувствует то, что недоступно вообще никому. Несколько раз она пыталась заглянуть в эту недоступность, вот через этот Образ, что сейчас перед ней, молилась до полного изнеможения, когда нет уже слёз, молилась Ей, и всякий раз чувствовала, что твердеют, мрачнеют черты лица Её, и говорит Она: «Нет! То не вместить никому, кроме Помазанника Сына Моего. Никто да не посягнёт на недоступное…» И она отступала. Всему, что источалось этим Её Образом, она верила по-детски, абсолютно, без оглядки, безоговорочно, ибо этот Образ был источником всех её душевных и телесных сил, проводником и покровителем её жизни в этой стране, которую давно, окончательно и бесповоротно считала своей, а себя — русской. Когда старшей дочери был ещё только год, проводилась всероссийская перепись, и в графе «род занятий» под своим именем она увидела «хозяйка земли русской», ей даже не по себе стало, она испугалась. Написано было её супругом, переписной лист заполнял он. Увидев её реакцию, он тогда молча обнял её и поцеловал в волосы.
Ещё когда она не была его женой, и даже невестой, а лишь двенадцатилетней девочкой, впервые увидев этого человека, тогда шестнадцатилетнего юношу, беззаветно влюбилась и увидела взаимность, она ясно поняла, что её предназначение — быть его женой. Ничего больше не нужно, ничего больше в мире не существует. И то, что избранник её — наследник Престола величайшей в мире державы, самый захудалый уезд которой больше всего герцогства её отца, наводили её только на ту мысль, что она должна разделить со своим избранником всю ту тяготу его бремени, которую он сочтёт возможным и нужным на неё возложить. И даже если бы он не стал наследником, для неё это имело бы лишь то значение, что крест её был бы значительно легче — ей нужен был её избранник сам по себе. Но то, что она — будущая жена будущего Императора величайшей державы, к этому она была готова с двенадцати лет. И когда уже стала ею, воспринимала всё как естественное, неизбежно свершившееся. Но эти три слова, супругом начертанные, ожгли вдруг грандиозностью своего значения, вот только тогда осозналась эта грандиозность — никто ещё не называл её хозяйкой земли русской.
И сразу же улеглось, успокоилось от мужниной ласки, и Она, Владимирская, была на том же месте, где сейчас. И одновременно с успокоительными волнами от поцелуя чувствовала она тогда и от Её глаз физически ощутимую поддержку…
Двадцать два года уже она хозяйка земли русской, и не было дня, чтобы она не общалась с Владимирской. Считала, что этой иконе обязана многим, а главное тем, как легко и радостно приняла она православие. Её сестре Элле, будучи уже замужем и живя здесь, понадобилось целых семь лет борений, чтобы принять решение стать православной. У неё же всё оказалось безболезненнее и проще. Когда она, только увидав своего будущего жениха, поняла, какое в его жизни занимает место вера, то ей, двенадцатилетней девочке, сразу захотелось узнать как можно больше — что это за вера такая православная, и что это за народ такой — русские, эту веру исповедующие. Почему-то бабушка, королева английская Виктория, называла этот народ вероломным и крамольным — за убийство дедушки её жениха. Но, видя перед собой своего избранника, она не соглашалась с бабушкой. Когда же началась с ним переписка, она только и жила его письмами. И во всех письмах вопрос о вере затрагивался обязательно. Больше всего её смущало то место, которое занимала Мать Иисуса в вероисповедании жениха и его народа. Место, как ей казалось, совсем неподобающее. Ведь в Евангелии о Ней так мало, а у них, у православных, о Ней так много. Вся их жизнь пронизана Её покровом, молитвами к Ней, сказаниями о Ней, иконами Её, которых там в десять раз больше, чем икон Иисуса и всех святых Его, вместе взятых. Иисуса она любила всегда, вопрос о том, есть Он или нет, перед ней не стоял. Очень любила и всегда внимательно слушала проповеди местного проповедника, «короля проповеди», как его называли в кружке Эрни[3]. В речах «короля проповеди» вообще не было места Той, Которая была основой и опорой того народа, с которым ей предстояло связать свою судьбу и который называл свою землю Домом Пресвятой Богородицы. В одном из писем она узнала о невероятном чуде: бегстве великого полководца Тамерлана, бегстве без боя, бегстве от не пойми чего, бегстве совершенно невозможном, которого быть не могло, но оно — было. Сначала, конечно же, не поверила. Сразу растерялась: «А собственно, чему я не верю? Что войско Тамерлана приступило к границам России? Так отрицать это глупо, это исторический факт. И что сражения не было, и Тамерлан ушёл внезапно, отказавшись разорить, ограбить и захватить беззащитную страну, тоже факт. И как всё это понимать?»
В том письме лежала бумажная икона Владимирской, точная копия той, что в Успенском Соборе. Русские иконы она видела и до этого, но никогда не вглядывалась в них. Вгляделась. Что-то кольнуло в сердце, но всё равно не поверила. Спросила у «короля проповеди». Тот, зная, с кем она переписывается, и будучи всё-таки в Дармштадте лицом официальным, сначала изобразил нечто на лице и пожал плечами, мол, их это дело, кому и как поклоняться, пожатие плечами как бы говорило — да что с них взять-то… Но она не отступала, а, наоборот, требовала разъяснить несостыковку утверждения «да что с них взять» с реальной жизнью этого народа, создавшего уму непостижимых размеров, силы и процветания Империю, которую они называют Домом Её и утверждают, что без Неё не было бы ни Империи, ни их самих.
«Король проповеди» ответом показал себя во всей красе, потом, по прошествии времени, она каждый раз смеялась, вспоминая. Но сразу же и сминала смех, вспоминая с горечью тех, кто воспринимал эти проповеди и то, что за ними стояло — серьёзно, каким был её ныне покойный отец. Тогда «король проповеди», страстно жестикулируя руками, ногами, всем телом, внушал ей, что и не нужно уделять ни Ей, ни доскам, на которых Она нарисована, того места, которое определил Ей этот народ, хоть какую империю он там ни создал!..
— Вообще-то, — перебила она тогда, в размышлении потирая виски, — по всему должно выходить, что коли Она реально была и есть, да не просто была, но именно Она родила Иисуса, то, может быть, Она Сама определила место этому народу и объявила ему, что они теперь живут в Её доме, а они поверили в это?
В ответ на это «король проповеди» заметался ещё больше, и ещё больше почему-то стал распространяться о странностях народа, с которым она собирается связать свою судьбу. Особенно упирал он на странность почитания у них праздника Покрова. Покрова всё той же Богородицы. О празднике Покрова она услышала тогда впервые. Очень, оказалось, осведомлён «король проповеди» о православных празниках. А странность оказалась в том, что именно корабли русских, тогда язычников, идущие на Константинополь, разметала буря, когда греки во Влахернском соборе молились Богородице, что спасла Она их от напасти нашествия русских язычников. И Она покрыла Своим омофором молящихся, простёрла его над ними, и всё нашествие было потоплено в водах Босфора.
— И вот греки, вполне европейская нация, — восклицал, размахивая руками, «король проповеди», — почти забыли об этом празднике, а для русских (ох уж эти русские!), чьи корабли Она потопила, это чуть ли не самый значительный праздник после Пасхи!..
Тогда она больше удивилась не русским, а грекам, и не поверила, что они забыли о таком празднике. Разве можно забыть о чуде, которое спасло твоё отечество? Вот ведь не забыли же эти странные русские об изгнании Тамерлана. А кто его мог отогнать, кроме Неё? Тут «король проповеди», уже весьма разгорячённый, сказал так:
— Не может хоть кого изображение, нарисованное на доске, прогнать…
Она перевела взгляд на подарок из России, на Владимирскую, и почувствовала, что резкие убеждения, громкие слова «короля проповеди» стали почти неслышны, словно заглохли в некоем ватном тумане, а её будто обволакивает дрожь наводящий, от всего защищающий покров чего-то такого, чему нет объяснений словами человеческими, да и не нужно, и не хочется ничего объяснять. Вот тогда она и начала осознавать, что такое таинство православное, когда нет слов, но есть глаза с освящённой иконы, душу тебе пронзающие. Снова повернула голову туда, где таинства нет, откуда на неё сыпались убеждающие громкие слова. Прервала его замечанием:
— Но ведь ушёл же Тамерлан.
Заметался «король проповеди» и, актёрски закатывая глаза, заявил:
— Этому есть два научных объяснения. Первое: он спешил к любимой женщине в Самарканд, которая опасно заболела.
Тут она широко раскрыла на «короля проповеди» глаза и рассмеялась. Нет, она не знала тогда, что от пределов России он пошёл не в Самарканд, а на Астрахань, которую и взял почти сходу в декабре при двадцатиградусном морозе, вьюге. Но уж больно нелепо выглядело это объяснение. Она представила, как на такое его решение отреагировало бы войско, четыреста тысяч головорезов, двадцать лет с коней не слезавших и в совершенстве умевших только одно — убивать. И снова рассмеялась.
— Вы смеётесь над любовью, ваше высочество, — расстроенно произнёс «король проповеди».
— Я смеюсь не над любовью, — она сразу посерьёзнела. — Я смеюсь над первым научным объяснением, — и совсем уже холодно спросила:
— Надеюсь, над вторым вы не дадите повода смеяться?
— А второе объяснение — это русская погода, осень-зима надвигались, а эти два времени года — ох-хо-хо, гибельны для любой армии сами по себе. Печальный опыт Наполеона — типичный пример для тех, кто пренебрегает этим.
«А нечего тогда лезть!» — сердито подумала она, и мысль эту явно дополняло «к нам». Опять же, ничего она не знала о вьюжно-морозном штурме астраханских стен прямо с походного марша, но ей казалось неправдоподобным, что среди тёплого августа Тамерлан испугался будущих морозов. Раздавив на Оке неумелых ополченцев Василия Димитриевича, ему б до Новгорода и назал вполне двух недель хватило. Над вторым научным объяснением она смеяться не стала, только усмехнулась и головой покачала. Сколько раз она потом сталкивалась с этим, когда не хотят видеть очевидные вещи такими, как они есть, и не иноземные «короли проповеди», а близкие окружающие подданные, которые подданными быть перестали, а судорожно пилили сук, на котором сидели. Но всё это потом.
Вскоре она приехала первый раз в эту страну, хозяйкой которой ей предстояло стать, приехала в гости к Элле и её супругу, Великому князю Сергею. И, оказавшись впервые на литургии, испытала ощущение, которому так и не смогла подобрать названия. Сказать, что она была ошеломлена, значит, ничего не сказать. Видно, в человеке, где-то в потаённых недрах души, сидит ещё одно чувство, до времени не проявляемое, некий сгусток из ошеломления, радости, вдохновенного взлёта всех душевных и интеллектуальных сил, который жив ожиданием, что должно свершиться что-то важное, главное в жизни, и тогда оно, это чувство, заполнит собой и душу, и тело, для которых откроется новая и единственно нужная тайна бытия. И это «что-то», оказывается, только здесь, оно тоже единственное, и называется оно — литургия. То, что она чувствовала в Дармштадте, когда вглядывалась в подарок избранника, бумажную икону Владимирской Божией Матери, сейчас, в этом храме, среди этого действа, называемого литургией, было стократ усилено, её разом, как единое целое, охватило оно всей своей могучестью и реальностью.
Что всего их семь — она уже знала, но особо остро ощущалось таинство священства в лице необыкновенно красочно облачённого священника, таинство действенное и действительное: он был законным духовным лицом, соблюдающим законную внешнюю форму, согласно Божественному установлению. И если нет законности его священства, нет законности рукоположения, нет и таинства. И ещё: она почувствовала сейчас требование таинства к ней: требование искреннего желания и готовности принять его, осознать величие совершаемого и верить искренне. Иначе — осуждена будешь, иначе — погибель. И это тоже чувствовалось, да так, что лёгкая дрожь-судорога по телу прошла. Лики святых успокаивали. Никогда она не видала столько икон вместе. И, главное, Она здесь, настоящая, большая. И уже тогда прозревала юная Аликс, принцесса гессенского задворка Германии, будущая хозяйка земли Русской, что будет значить этот Лик, эта икона в её дальнейшей жизни. И, главное, благодаря Ей, принятие православия совершилось у Аликс проще и безболезненнее, чем у её сестры Эллы. Тот Лик Её, который встречал Алису впервые на первой её литургии, назывался Феодоровским. И как удивительно они похожи с Владимирской! Те же притягивающие к себе глаза, обращённые ко всем сразу, и Младенец, левой своей щёчкой прижимающийся к правой щеке Матери. И будто что-то шепчет Ей. Потом она узнала, что Феодоровская — тоже родовая святыня Романовых. Вместе они, Феодоровская и Владимирская, присутствовали триста лет назад в Ипатьевском монастыре, когда архиепископ Рязанский Феодорит, указывая на предстоящие иконы, грозно обращался к юному Михаилу, грозя этими святыми образами, что если откажется он принять царство, то будет отвечать перед судом Божиим за кровь и слёзы христиан. « …Волею Бога сии святые иконы совершили путь из Москвы, преклонись же перед ними и повинуйся! Если откажешься, на тебя падёт бедствие Отчизны. И настанет вновь междоусобие, и расточится царство Московское, и услышат о безгосударстве нашем враги, и придут и расхитят нас!..» И юный отрок Михаил стал Царём Михаилом Феодоровичем.
Она много думала, почему отказывался Михаил от предлагаемой власти. В истории Запада она не знала такого, чтобы от короны отказывались, за корону там всегда боролись. И не просто боролись — глотки рвали, не взирая ни на что, ни на какие родственные связи, всё готовы были отдать за корону рвущиеся к ней. Потом поняла особенность этой страны, особенность этих людей и особенность отказа (три раза отказывался отрок Михаил), ибо особый смысл здесь имеет слово «Царь». И к венчанности отношение особое — и у венчанных царей, и у их подданных. У подданных въелось в кровь уже, что венчанный отвечает не перед ними, а перед Тем, Кто венчал его на царство, на власть, на власть неограниченную. «Неограниченную» — беспредельностью веет от этого слова. Вообще, слово, которое обозначает понятие, не имеющее границ, когда вдумаешься в него, всегда трепет вызывает. А мера ответственности за «неограниченную», тебе врученную, власть вообще никакому осмысливанию, никакой разумной оценке не подлежит. А ещё: подданные венчают тебя на царство, и становишься ты для них — Царь-батюшка.
После той, первой своей, литургии, когда она оказалась окружена целым войском святых, на неё с икон глядевших а рядом неподвижно стоял будущий Царь-батюшка, тогда ещё даже не жених её, видя, что значит для него это необыкновенное действо под названием литургия, она и начала проникаться этим новым для неё словосочетанием. Это не рабский выверт холопского сознания, это предельное выражение доверия и любви к тому, кто в самом деле есть отец народа. Это как бы сгусток того церковно-семейного идеала, которым должен жить подданный святой Руси. И она не сомневалась, что подданные этой необъятной земли, хозяйкой которой ей предстояло стать, жили этим идеалом.
У её жениха, как и у его далёкого предка, не было выбора. Царство надо было принимать. По благословению тех же самых Ликов с Богородичных икон. Юный предок Михаил принимал избранничество от народа. Её жених принимал царство как законное своё наследство. Безвременная кончина его отца, Александра III, поразила всех, хотя все знали, что он тяжко и долго болел, но всё-таки надеялись, что выдюжит железный организм усмирителя Европы, отмолит великий молитвенник, батюшка Иоанн Кронштадтский. Организм не выдюжил, батюшка не отмолил. «Не плачь и не сетуй, Россия, — сказал тогда отец Иоанн. — Хотя ты и не вымолила исцеления своему Царю, но вымолила тихую христианскую кончину, и добрый конец увенчал славную его жизнь, а это дороже всего…»
Когда через два часа после того, как навеки закрылись глаза Александра III, новый Император принимал присягу членов фамилии и двора, слёз у него больше не было, все они вылились на отцовскую грудь, и он сказал, что принимает венец, хотя и не желал его, и надеется не на свои слабые силы, а на Господа Бога, возложившего на него этот тяжкий крест… «Скорбь Наша о почившем родителе — скорбь всего возлюбленного народа Нашего, и да не забудет он, что сила и крепость Святой Руси — в его единении с Нами и в беспредельной Нам преданности…» В себе эту преданность она чувствовала. Все её обожание его, как любящей женщины, было ничто по сравнению с ощущением, что она — подданная Самодержца, Царя-батюшки. И какой же ужас она испытала, когда увидела, что из всего огромного числа его ближайших родственников Романовской фамилии нет ни одного, кто хоть бы на малую долю имел то же ощущение, что и она. Была ещё одна — её сестра Элла, бывшая протестантка и иноземка. Из кровных родственников последним верным подданным был убитый муж Эллы, Сергей, царский дядя. Все же остальные дядья, двоюродные братья,.. да она просто задыхалась от гнева и горя, когда задумывалась об этом. Да как же так: у ближайшей опоры трона, у людей, которые нужны державе только потому, что есть державный властелин, их хозяин, нет не то что осознания его роли и своего места, да просто элементарного почтения нет! Они все считают себя выше и компетентнее его, его, которого они по всем статьям и мизинца не стоят. И каждый думает про себя, что уж я-то бы на его месте, я бы уж поуправлял бы… И червь точит, что вот не так распорядилась Высшая Сила, не меня на царское место поставила…
День, когда Государь принимал своих дядьёв и братьев, был для него днём кошмаров. Их доклады отнимали у него больше сил и приносили больше горя, чем страшные сводки об участившихся убийствах губернаторов, творимых террористами. Они всё время приставали к нему с претензиями, поучениями, требованиями, не понимая, что претензии Царю — это начало конца…
Мотнула головой, отгоняя чёрные мысли: не место этим мыслям перед Владимирской. Но это не помогло, мысли чёрные не уходили. Почему ни у кого из фамильного клана, генералитета и даже священства не вызывает энтузиазма решение везти Владимирскую на фронт?! Брусилов, командующий Юго-Западным фронтом, только вежливо поморщился, мол, ну привезёте и ладно. Отвёл глаза генерал Брусилов, когда она в упор посмотрела на него, и тогда ужасом прострелила её сознание совсем уже чёрная залётная мысль: да ведь он, генерал, командующий сотнями тысяч православных солдат, сам — не православный! Да он просто неверующий!… Мысль была слишком невыносимая, чтобы давать ей дальнейший ход, но продолжение её всё-таки проникло в сознание: да ведь нет же ни для кого из них, ближайших родственников и генералов, реальности помазанничества Царя. Что на нём благодать Святого Духа — для всех них это пустые слова, обряд, символ, не более. Но была уверена, что настроение солдатской массы другое. Очень остро и выпукло присутствовали в её памяти Саровские торжества в 1903 году, за год до рождения наследника. Душа её тогда парила на волнах всенародной радости. Её собственная радость от созерцания происходящего, от молитвенного пения полумиллиона русских людей, её подданных, была вообще безмерна. Переполненность радостью даже напугала её тогда, казалось, ещё немного, и немощная человеческая плоть могла просто не выдержать! Да, это была правда про этот народ, правда про его особенность среди прочих наций. Это воистину народ Божий. Паломничество по святым местам — излюбленное дело русских людей. Ни на одно торжество не собиралось такое множество народа, как на открытие мощей. И она видела огромный порыв народной любви к ней, их хозяйке, и почти отпускали мрачные мысли о клане Романовых и вообще о тех, которые сами себя почему-то называли — светом. И дочерей своих всегда оберегала от общения с ними. Ни на одном балу не были дочери и никогда не будут.
Семь святых уже канонизировано в царствие её супруга. Иоанн, митрополит Тобольский, вскоре тоже будет прославлен. И ведь каждое прославление — война с синодалами! И Серафима не хотели прославлять. Фактически заставил ведь их супруг её сделать это. Два храма в день строится в Его царствование. Да ну что ж ещё нужно-то, да Господи, помилуй!
В спину почувствовала лёгкий толчок. Не оборачиваясь, она отвела руки назад и обняла того, кто ткнулся ей в спину. Дочь-любимица, Татьяна.
— Когда мы едем на фронт к иконе?
Александра Фёдоровна обернулась к ней:
— Завтра. Знаешь, о чём я сейчас вспомнила?
— Знаю. Когда ты об этом вспоминаешь, у тебя всегда такое лицо. Я тоже это всё помню. Сегодня почему-то другое вспомнилось. Когда праздновали трёхсотлетие нашего дома и десятилетие Серафимова прославления, я спросила у Папа, что он сегодня записал в свой дневник. Он мне молча дал прочесть. И там было написано: «Та же толпа, что кричала — Осанна! — через три дня кричала — Распни Его!»
Александра Фёдоровна молча погладила волосы дочери и сказала:
— Идите, собирайтесь. А перед дорогой акафист прочитаем.
III
Начальник Генерального штаба германских вооружённых сил, а также фактический их главнокомандующий, генерал-фельдмаршал Пауль фон Гинденбург сидел в своём кабинете и ждал последней сводки с главного Восточного фронта, хотя он и так знал, что ничего утешительного в них не будет. С прошлого, победоносного для германского оружия, года обстановка резко изменилась. Стратегическая инициатива медленно но верно переходила в руки противника, наступать германские войска уже не могли, могли только обороняться. И хотя оборона была прочная, но русские в темпе доселе невиданном наращивали свой наступательный потенциал. Сейчас германская оборона готова к любому удару, но что будет потом?
Вошёл начальник оперативного отдела, положил сводки на стол и чему-то ухмыльнулся.
— В ваших сводках есть что-нибудь весёленькое, полковник? — невесело спросил Гинденбург.
— Во фронтовых сводках ничего особенного, экселенц, мелкая возня и такие же перестрелки местного значения. Из ставки противника любопытное известие: их верховный главнокомандующий принял очередное стратегическое решение, так сказать, очередной церковно-азиатский демарш-выверт…
— Ирония хороша, полковник, когда под ней есть основание. С тех пор, как русский Император стал верховным Главнокомандующим, мы не продвинулись ни на сантиметр! Мы прекратили наступать и зарылись в землю!.. Так что за выверт?
Несмотря на нагоняй, полковник продолжал ухмыляться:
— Икону их главную везут на их Юго-Западный фронт. Вместо пушек и снарядов, — ухмылка разрослась ещё шире, — всё время забываю… Владимирская. В Успенском соборе висит.
— И что всё это значит по-вашему?
— Думаю, что это ничего не значит, экселенц. Демарш. Моральная, так сказать, поддержка окопам. А я предлагаю на эту тему в наших фронтовых газетах комментарий дать. Чтоб с издёвочкой и карикатуркой…
— Принесите-ка мне лучше сведения об этой… Владимирской.
— А тут пленный есть, в котельной работает, у него Она на маленькой дощечке, говорят, по полночи перед Ней поклоны бьёт и вообще с Ней не расстаётся.
— Как попал в плен? — спросил Гинденбург, когда к нему привели пленного, — сдался?
— Да нет, упаси Господь, такая святыня при мне, нешто можно сдаваться? Землёй от взрыва накрыло.
— И что же твоя святыня тебя не выручила?
— Да что вы, господин генерал, как же это не выручила?! Да от такого взрыва-накрыва от меня б мокрое место должно остаться, а меня так, контузило только. Да уж оклемался давно. Тут эта.., господин полковник велел вам про Владимирскую рассказать, рассказчик-то из меня аховый, а рассказать ведь есть чего. — Сначала покажи.
Впервые в жизни Пауль фон Гинденбург рассматривал так близко и так долго православную икону. «Однако нарисовано сильно. Взглядики впечатляют, что у Матери, что у Младенца…» Гинденбург поднял глаза на пленного. Тот растерянно и недоумённо смотрел на главное лицо немецкой армии — что за прихоть такая генеральская, про Владимирскую ему рассказать. Полковник, переводивший своему главному и пленному, думал примерно так же.
Гинденбург протянул икону пленному и сказал:
— По приказу вашего Императора Её везут на фронт. Ту, которая в Успенском соборе…
Переменился в лице пленник, его глаза вспыхнули внезапной радостью, он истово перекрестился:
— Ай, давно бы пора, вот уж действительно весточка, нечаянная радость!..
— И в чём же радость?
— Так наступать теперь будем. А Она, Царица Небесная, Заступницей будет в наступлении нашем. Эх, были б мы такими, как предки наши, оно, может, и наступать бы не пришлось, а то и вообще б без войска обошлись.
— Это как же без войска?
— А молитва к Ней любого войска стоит, ежели, конечно, молитва настоящая, а не сотрясение воздусей. Пожижели мы нынче. А было дело… да вот совсем скоро первый Её праздник в году, в один день с Константином и Еленой. Взмолилась Москва как один «Пресвятая Богородица, спаси землю Русскую!» Хан Махмет-Гирей с силой несметной Москву обложил. А тогда сердита была на наш народ Хозяйка Дома нашего, потому как ослабли в молитве, заповеди забывать стали. Ничего, смилостивилась Царица Небесная, ушёл без боя хан с войском своим. А у нас и войска-то не было почти, а ханскому войску, каждому воину, привиделось вдруг воинство великое, в доспехах сияющих.
— Вроде галлюцинации, что ли?
— Уж не знаю, чего вроде, а ушло войско. Не ушло даже, а удрало.
— Германские войска не подвержены галлюцинациям, — отчеканил переводящий полковник.
Гинденбург же задумчиво пожевал губами и спросил:
— Как имя твоё, пленник?
— Саввой меня зовут.
— Включите этого Савву в списки обмена пленными, — затем подошёл к карте. — Значит, наступать будут на Юго-Западном фронте.
— Экселенц, я бы всё-таки не придавал большого значения этому демаршу с иконой. Там у нас трёхкратное превосходство в тяжёлых орудиях, в глубину десятикилометровая оборона, девять месяцев укрепляли, минные поля, большинство пулемётных точек бетонированы… Перспектив у наступления нет, их потери будут огромны.
— И всё-таки, пусть австрийцы будут в повышенной готовности. И приготовьте-ка резервы для затыкания там дыр. И ещё… с кем мы воюем, полковник?
Тот даже опешил от вопроса:
— Как?.. С русскими, экселенц.
— Точно, поэтому издёвочки и карикатурки про икону я отменяю. Мы воюем с русскими, но я не желаю воевать с Небесами.
22 мая 1916 года. На следующий день после торжественной службы в Успенском Соборе, когда Владимирская икона на плечах священства обошла Соборную площадь, все сто шестьдесят восемь тяжёлых орудий Юго-Западного фронта обрушили свой смертоносный огонь на австро-германские позиции. Целые сутки русские снаряды терзали-крушили окопы, людей, технику, укрепления. Крушили с совершенно невозможной, неслыханной меткостью. За всю войну, ни до, ни после этого, артиллерия ни одной из воюющих сторон не достигала такой точности. Все огневые средства первой и второй линии были разбиты, окопы разрушены, все, кто в них — уничтожены. Когда после артподготовки пошла первая волна атакующих, больше всего боялись встречного огня пулемётов, но атакующие цепи опередили оставшихся пулемётчиков и смяли их. Рядовой Савва бежал впереди всех. Громовое «Ура!» десятков тысяч наступавших звучало громче только что отгремевшей канонады. И, будто в звуках этих, зародился и стоял в вышине благословляющий Образ Царицы Небесной. И святынька его, размером с открытку, на груди, как показалось рядовому Савве, несколько пулемётных пуль на себя уже приняла. Но вот добежал он до огрызавшегося пулемёта и развернул его в сторону противника. Один из ста тридцати четырёх пулемётов, захваченных в первый день наступления, и семьдесят семь орудий к ним впридачу. Кони казаков грудью, на всём скаку, ломились сквозь колючую проволоку, рвали её и, без вреда для себя, мчались дальше. Командующий фронтом Брусилов не поверил, когда пошли сводки. Сорок тысяч пленных за первый день — такого размаха эта война ещё не знала. Фельдмаршал Пауль фон Гинденбург тоскливо подсчитывал неслыханные доселе потери. Южная группа армий была почти разгромлена. Мрачно прикидывал он, что, как минимум, дивизий тридцать пять придётся снимать, чтобы закрыть русский прорыв. В который уже раз за эту войну союзники спасены русскими. Пауль фон Гинденбург мрачно радовался, что у русских такие ненадёжные союзники, и вздыхал, жалея, что русский Император не его союзник. И ещё думал, что нет вот у Германии такой помощницы — Владимирской, после появления Которой на фронте кавалерийские кони рвут грудью колючую проволоку…
Рядовой Савва открыл глаза и увидел склонившуюся над ним сестру милосердия. Она глядела на него и улыбалась своими тонкими с припухлинками губами. Нечто необыкновенное излучалось из её детских глаз — будто праздник. Она снова повелевала праздновать, праздновать отступление смерти от рядового Саввы. Оказалось, и руки у неё сильные, она приподнимала его за спину и наматывала на его тело бинт. Таяла стена бессознания, в которую он был погружён, черты лица её стали различимы, и он сразу узнал её. Только что едва живой, рядовой Савва чувствовал, что в него возвращается жизнь. Глядя в его открытые глаза, сестра милосердия перекрестилась:
— Ну, миленький, просто чудо, считай, что прямо из смертной пасти вылез.
— Ты меня не узнаёшь, сестричка? — прошептал рядовой Савва.
— Когда из кармана гимнастёрки твоей икону вынимала, узнала. Две пули из тебя вынули, и ещё пять дырок сквозных в тебе. — Она помолчала, перестав улыбаться, и добавила:
— Две из них смертельные. А ещё вот… смотреть не больно?.. — на ладони у неё лежала Владимирская, её подарок в ту вьюжную ночь. Три пулевые выбоинки-вмятинки в правой руке Богородицы, будто три слепых глаза, смотрели на него. Такие же выбоины были на броне трофейного броневика, который он захватил после пулемёта. Он молча поцеловал эти вмятины, и сестра поставила икону на его тумбочку. Теперь он увидел, что глаза её страшно измождены.
— Отдохнула бы, сестричка.
— Некогда, миленький. У меня ещё таких как ты много, и две операции.
— А где Она сейчас, Чудотворная наша?
— На фронте, миленький, в Могилёве, в Ставке, в Троицком Соборе. Вернулась с передовой. Как перевезли Её сначала из Москвы на Троицу о Троицкий Собор, так и сейчас там.
— Наступаем?
В её измождённом ясноглазии явно проступила скорбь.
— Нет, миленький. Враг раны зализывает, а мы к новому удару готовимся. А в Троицком Соборе Она теперь на страже всех фронтов. Бог даст, когда будет Её главный праздник, тогда опять ударим. Ты уже, наверное, дома будешь.
— Нет, — твёрдо проговорил рядовой Савва. — Где Она, там и я. А то как же это, Она войска поведёт, а я — дома?
— Ну и замечательно. А ты, миленький, много не говори — нельзя тебе, и лучше глаза прикрой, а я побежала.
— Весь день она вот так, — сказал сосед по койке, — и не присядет ни разу. Когда из меня осколок вынули, она прислуживала — перевязывала, кровищу мою промокала, а кровищи было… Надысь меня пять раз за день перевязала, а могла один раз только. Кто ни позовёт, сразу бежит, хоть утку подать, хоть кровь остановить — всё она. Фартучек весь заштопанный, застиранный, платьишко такое же… Из небогатых, видать.
В памятный день отогнания Тамерлана перелома на фронтах не произошло. Не видел рядовой Савва, как стоял по ночам Верховный Главнокомандующий перед образом Стражницы всех фронтов, и результатом этого стояния было решение накапливать силы. И они накапливались грандиозными, небывалыми темпами. Не знал рядовой Савва никаких стратегических данных, что число аэропланов утроилось, число тяжёлых орудий учетверилось, пулемётов — ушестерилось…
Это был последний вклад Царя в дело победы. Всё это оказалось ненужным. Бессмысленна взрывчатка, которой стало в 40 раз больше, если оказался ненужным Царь, если Святой Руси подданные перестали ими быть. Сколько ни накопи взрывчатки Империя, если она перестала быть Святой Русью, она обречена. Бывшие подданные растащат взрывчатку, чтобы подорвать себя вместе с Империей, и осколки её станут ужасом вселенной. Это рядовой Савва всегда чувствовал, хотя не мог выразить словами, да и не собирался выражать. Он был уверен, что и все должны так чувствовать. Уверенность эта была сокрушена, когда ужас катастрофы гулял уже осколками и дымом по взорванным просторам бывшей Святой Руси.
Страшная душевная боль от громового удара-известия отступила. Ничто на лице её не выдавало того, что она пережила. Генерал Корнилов, явившийся объявить Александре Фёдоровне об их аресте, говорил потом всем, что она, как всегда, была холодна и надменна. Он, правда, помалкивал про главное, что сквозило в её взгляде: презрение и даже гадливость к нему. Как она ни боролась с собой, не смогла совладать с глазами своими, хотя больше всего её голова была занята вдруг свалившейся болезнью старших дочерей: полубеспамятство и температура на грани жизни и смерти. Особенно плохо было любимице, Татьяне. Мать стояла над ней, и будто от печки обдавало жаром от болящей. Но глаза были открыты, дочка даже пыталась улыбнуться. Но когда вгляделась в мать, улыбка её прошла:
— Что-нибудь случилось, мама?
Она знала душевную силу дочери и потому сказала ей всё.
— И что теперь с нами? — спросила дочь после долгой паузы.
— На всё воля Божия, пока мы только арестованы.
— А где папа?
— Он будет сегодня.
— А как?.. Почему?.. — Дочь приподнялась на локтях.
— Все предали.
— А волынцы, мой полк?
— Они предали первыми.
— А наш госпиталь?
— Он больше не наш.
Опустилась голова больной на подушку. Она закрыла глаза и прошептала:
— Да, на всё воля Божия.
5 марта 1917 года рядовой Савва стоял в Троицком Соборе Могилёва, штабном храме Ставки. Шла литургия, последняя литургия, когда отрёкшийся Государь стоял у алтаря напротив Чудотворной иконы Владимирской, перед которой двадцать два года назад он венчался на Царство — последнее православное царство на земле. Они прощались. Всю службу они неотрывно смотрели друг на друга, и, когда Государь прикладывался к Ней последний раз в жизни, рядовой Савва чувствовал, что он плачет, хотя лица его не было видно. Рядовой Савва не плакал, его колотила неуёмная дрожь, которой он раньше никогда не испытывал. Всё его существо прониклось ощущением, что он присутствует при событии, грандиознее и страшнее которого не будет в этом веке. Ничего не знал рядовой Савва про недавние слова Государевы, что «кругом трусость, измена и обман», но то, что почувствовал он от кучки генералов, обступивших Государя, усиливало дрожь и порождало в горле какой-то ком, который рвался наружу. Тошно почему-то стало рядовому Савве от обступавших Государя генералов. Особенно почему-то противен был казачий генерал, может, оттого, что знал рядовой Савва, что когда послал Государь казачков, Империи опору, бунт в столице усмирять, они вместо усмирения банты красные понацепили. «Да если б меня послал, да я б один…» Как тогда, в пятом годе, когда шёл он с шашкой своей полицейской на целую ораву погромщиков, и кто уцелел, те разбежались…
«Да как же это так, да как же теперь?!» — заколыхалось вдруг в сознании довеском к дрожи. Этим криком кричали его глаза, обращаясь к Лику на иконе, когда он одним из последних прикладывался к Ней. И после этого вдруг почувствовал утешение. И только теперь понял, что оно значит, доселе он такого не испытывал. «Да, впереди теперь одни скорби и ужас, но утешься и успокойся. Я с тобой, коли ты не трус, не изменник, не обманщик, коли ты верен долгу до конца, претерпи же до конца, и врата в Царство Сына Моего — открыты пред тобою…»
Ещё месяц рядовой Савва был при Ставке, которую он уже не воспринимал как Ставку. И через месяц он прощался с Ней, с Чудотворной Защитницей фронта. Её увозили с фронта за ненадобностью, не было больше фронта, не было державы, которую надо защищать, не было народа, который бы просил об этом, никто не стоял перед Ней по ночам в молитвенном порыве. Рядовой Савва вспомнил, что, когда он стоял в Успенском Соборе, казалось, что Она смотрит на всех сразу, что и было на самом деле. Когда Её грузили в вагон для отправки с фронта, Она не смотрела ни на кого…
В Царское Село рядовой Савва прибыл с назначением в караульные солдаты, караулить арестованную семью «полковника Николая Романова». Так значилось в назначении. С ним прибыло ещё несколько человек, отпетых негодяев и подонков. Они сменили караул предыдущий, негодяйство которого сходило на нет из-за общения с семьёй «полковника Романова». Требовалась свежая негодяйская кровь. Рядовой Савва попал в эту компанию благодаря усердной молитве перед своим образком, подарком Татьяны-дарительницы.
— Здорово, полковник! — рявкнул один из вновь прибывших. Остальные караульщики заржали, перемежая гогот похабщиной и матерщиной. Тот, к кому они обращались, копал лопатой огород, не видя и не слыша вновь прибывших. Напротив него сидела в коляске его супруга и с тихой радостью улыбалась ему. Матерщина и похабщина караульных усилились, но всё осталось, как и было. Один из новичков прервал ржанье и сказал:
— Дай ему волю, он всех нас, всю Рассею обратно перелопатит.
А рядовой Савва сказал:
— Да ему надо памятник золотой ставить.
— Чив-во?! — всколыхнулся один из вновь прибывших. — Это Кровавому-то?
— Крови на нём не боле, чем у тебя мозгов. А памятник за то, что двадцать два года управлял такими сволочами, как мы.
Не слушая ответной реакции, рядовой Савва смотрел на лицо сидящей в коляске. Оно выражало только одно — бесконечную любовь к тому, кто в нескольких шагах от неё сосредоточенно работал лопатой. И желание и готовность разделить с ним всё, что бы с ним ни случилось. Нет в мире той ругательной грязи, какую не вылили бы на неё всякие агитаторы, «члены комитетов», думские оратели, глаголом сердцеподжигатели, шаставшие безнаказанно среди солдат. Одного такого орателя штыком в своё время пропорол рядовой Савва. И вот теперь впервые он видел её. «Чужеземка», «властная», «истеричная» — как представляли её оратели, имевшая всё и всё потерявшая, потерявшая из-за того, кто перед ней сейчас, обматерённый и униженный, огород копает. Как же она должна б ненавидеть его!.. А рядовой Савва видел в её глазах только одно — любовь. И ещё: рядовой Савва отчётливо видел, что оба супруга действительно не воспринимают направленную на них брань. Они не демонстрируют это, от них в самом деле отскакивает вся чернота во зле лежащего мира. В них в самом деле нет обид, и они ни на кого не держат зла. И тут рядовой Савва почувствовал, что его начинает сотрясать та самая дрожь, что напала на него в Троицком Соборе в Ставке, и он начал понимать, в чём грандиозность и ужас события, при котором он присутствовал. И на тот безмолвный его выкрик-вопрос Лику на иконе ответ теперь виделся и слышался, ответ для разума, ответ без утешения и успокоения: «Да, вам Сыном Моим было оказано грандиозное и страшное доверие. Вашему государству, которое вы сами называли святым, дому Моему! Над вами было поставлено властвовать святое семейство. Вот они сейчас перед тобой, смотри и виждь! И ещё это было испытание. «Как птица птенцов, хотел собрать Я вас…» От вас нужно было только одно: вольное и безоговорочное подчинение. Загонять вас плёткой, давить на вас святое семейство на будет. Вы — званые! Но вы — не захотели…»
К работающему лопатой и сидящей в кресле подошла девушка в тёмно-сером платье. Дочка, явно, больше некому. По поводу неё тоже прошлись хохотливой похабщиной караульные. Она, как и родители, их тоже не слышала. Она стояла к нему спиной, но вот обернулась. И окаменел мгновенно рядовой Савва, и дрожь у него прошла. На него смотрела она, Татьяна-дарительница, сестра милосердия, его выходившая. Теперь глаза её не искрились праздником, но и печали в них не было, её взгляд был сосредоточен и задумчив. Убранные в полушар волосы обрамляла обручем серая лента. И она его узнала и медленно подошла к забору, их разделявшему. И вот они рядом, как тогда, в далёкий метельный Татьянин день. Рядовой Савва стоял навытяжку перед Русской Царевной и плакал. Именно такой, единственно такой и должна быть Русская Царевна, дочь святого семейства. Она улыбнулась ему и что-то сказала, но он не расслышал, из груди его вдруг вырвались едва сдерживаемые рыдания. Он упал на колени и припал лицом к её ботинкам. Она гладила его по голове и тихо говорила, что на всё воля Божия. Вновь прибывшие караульные брезгливо-недоумённо наблюдали непонятную сцену. А рыдания рядового Саввы разрастались всё больше.
«И мы не захотели… Я не захотел! Потому что не защитил вот эту девочку-Царевну ни шашкой своей полицейской, ни винтовкой солдатской! И эти обормоты вновь прибывшие, такие тоже из-за меня… И Она, покидая фронт, не смотрела только на меня…»
Но тут он почувствовал разливающееся по телу тепло от святыньки у сердца и от рук, гладивших его волосы. Он поднял голову — Царевна тоже плакала. А над её головой, в вышине, в звуках её плача и его рыданий, как тогда в громогласном «Ура!» наступавших, появился образ Чудотворной Владимирской; и будто шепчет что-то Младенец Матери, а Она, Вечная Державная Хозяйка дома своего, милостиво смотрит на своих верных.
Владимирская
Великий визирь великого хана впервые видел своего владыку таким сосредоточенным и даже угрюмым после успешной боевой операции его непобедимого войска. Обычно после разгрома очередного противника и взятия очередного города непобедимый воитель и хозяин всей поднебесной бывал расслаблен, благодушен и выказывал своим верноподданным всякие мелкие милости, вроде пощипывания за ухо и пощелкивания по носу. Верноподданным это не казалось мелким, ради таких милостей верноподданные готовы были умереть от верноподданности. Не счесть было взятых городов, несметно было число войск разбитых, рассеянных и втоптанных в бесчисленные земли, завоеванные несокрушимым властителем вселенной, великим Тамерланом.
Оба помощника визиря с гордостью носили на своих рабски улыбающихся лицах следы монаршего милостивыказывания: у одного ухо было цветом спелого граната и размером с большую тарелку, а у другого нос был, что тот же гранат и цветом и размерами. Из всех приближенных один лишь Великий визирь мягко-улыбчиво и как бы нечаянно, плавно-грациозно, (но уверенно и настойчиво) уворачивался от щелчково-щипальной милости. После разгрома армий Хорезм-шаха, Тамерлан заметил это. Непредсказуемо — загадочно ухмыльнулся. Ничего хорошего для приближенных не предвещала эта непредсказуемая загадочность.
— Твоим ушам неприятны мои пальцы, Хаим?
— О, великий, конечно же нет. Для меня была бы величайшая честь, чтобы твои могучие, благоносные пальцы оторвали бы их совсем. Я буду даже умалять тебя об этом. Но дозволь сначала дослушать ими и дознать все о той части вселенной, которую ты еще не завоевал, но собираешься завоевать. Когда нечего будет слушать, чтобы донести своему повелителю, я положу свои ненужные уши к твоим стопам…
Ухмыльнулся в ответ Тамерлан, но уже без непредсказуемой загадочности.
— Да, Хаим, к тому, как расширяется моя империя, пока твои уши имеют отношение, возьми для них эти серьги с кашмирскими изумрудами…
Давно это было. Нет уже давно ни хорезмского шахства, ни Бухарского, ни Срединной империи, раздавлены и удушены все султанаты, ханства, царства и халифаты, одна империя Великого Тимура, железного хромца, царя царей Тамерлана простирается от Желтого моря до Каспийского. Вот и Каспийское перейдено… И как могло взбрести в голову этому шакаленку, этому недоумку — заморышу Тохтамышу поднять меч на него! Султан Турецкий Баязет при одном имени Тамерлана с коня падает, а этот… Ну ничего, долго теперь ему собирать по степям остатки своего сброда, которое какой-то осел войском называл и даже предостерегал его! Тамерлана! от недооценки. Да это же…
— Хаим! Это не ты ли Тохтамышеву свору войском называл? Не ты ли ?…
— Я, о, несравненный.
— Что, твои уши тебе уже не нужны?
— Нужны, о, благосклонный. Я сейчас повторю — это было войско, а не сброд. Просто нет во вселенной воинов, равным тимуровым орлам и их вождю. Ты есть единственный лев, но не, не устану повторять, что спящему льву и шакал может перерезать вены. И даже сброд надо бить всей мощью, по орлиному, а не в пол — силы. Орел, привыкший воевать в пол — силы, в этой привычке несет в себе гибель, ибо возможно, где-то растет второй орел, пока еще орленок.
— Мои уши, вместе с моей головой ждут приговора твоего меча, о, справедливый.
Усмехнулся Тамерлан и — таки щипанул великого визиря за ухо.
Не стал на этот раз Великий визирь отвиливать от щипка, улыбнулся в ответ благодарно.
— К тому же, о, победоносный, на плечах разбитого Тохтамыша ты подошел к новой части вселенной, которая должна стать твоей. Но, скажи мне, что гнетет тебя, от чего не весел твой лик? Посмотри какая добыча, почти столько же, сколько ты взял от всех приаральских городов. И это с одного только года. Одной пушнины…
— Как он назывался, Хаим?
— Он назывался — Елец. Так почему ты печален, о, премудрозадумчивый?
— Я этого и сам не пойму. Я бы это хотел спросить у тебя. Нос и уши великого визиря должны чуять и слышать все. А?
— О, как я рад видеть, когда твои царственные уста озаряются улыбкой… И правда твоя, о, проникновенный, коли визирь задает вопрос, ему и отвечать. И ответ вот какой: от той земли, которую начали уже топтать копыта твоего серого красавца Айхола, действительно веет гнетом и тоской,.. — «О, Айхол! Несравненный чудо ахалтекинец, единственное на свете существо, к которому испытывалось нечто вроде любви, шесть лет друг с другом как одно целое, нет в мире другого такого коня, как нет в мире другого такого полководца»,.. — да, веет гнетом и тоской! Для всех кто вступает на эту землю,.. — «однако что это вдруг так разволновался Великий визирь».., — и не имеет к ней и населяющему ее сброду, вот уж воистину сброду, добрых чувств. А добрых чувств к ним испытывать нельзя! Ты назвал Тохтамыша шакаленком и заморышем, а войско его сбродом, так вот, а они платят дань Тохтамышу и его сброду.
А тридцать лет назад, когда заартачились они насчет дани, Тохтамыш столицу их, Москву, дотла сжег. И гнет развеется, когда твой Айхол, откроет своим копытом двери Новгорода, там, на севере…
— Ты здесь когда-нибудь бывал Хаим?
— Нет, о, великий.
— Однако ты хорошо осведомлен об их городах. И вообще…
— Что же бы я был за визирь и чего бы стоили мои нос и уши, если бы я этого не знал.
— От твоих слов мой гнет прошел, но от чего разволновался ты?
— Я не разволновался, о, любвеносный, я радуюсь, что перед твоими непобедимыми орлами богатейшая страна, которую некому защищать, регулярного войска нет, одна великокняжеская дружина, меньше твоего полка, урожай собран, да и без него эти воды и леса прокормят и оденут три твоих войска, а речной жемчуг ихний ничуть не хуже индийского, из этого паршивого Ельца вон целый сундук выгребли,.. верховодит ими князь Василий, мальчишка двадцати с лишним лет от роду, ни государственного, ни военного опыта, жаль вот худоват, твои избалованные гепарды морды отвернут.
— Почему они не сдали город, Хаим? Им же были поставлены мои всегдашние условия. Они, что, не поверили моему слову? Но вся вселенная знает, что Тамерлан свое слово держит.
— Им известно, о, великодушный, что Тамерлан свое слово держит, они знали, что сдай они свой город, жители бы были пощажены и что взята бы была только военная контрибуция и наложена дань. И все.
Но если со стен выпущена хоть одна стрела — городу и жителям конец. Это они тоже знали. Эти люди не сдают города. И сейчас, прости меня, о, всевластный, я даже рад этому. Потому что теперь участь Ельца, эта участь всей этой страны, это участь всего населяющего ее сброда. Копыта твоих коней сотрут с земли и страну эту и народ этот.
— Как они называют себя?
— Русскими.
— Поглядеть бы хоть на одного. Пленные есть?
— Один.
— Далеко?
— У входа перед твоим шатром. Он слегка изувечен, бревном его придавило, от того и взяли.
— Как бы мне с ним поговорить?
— Это можно. Я знаю их язык.
— О! А ты язык лунных жителей не знаешь?
— Если бы на луне были жители, — знал бы.
— Ну что же, поглядим хоть на изувеченного.
Ввели полуголого, худого, пожилого, бородатого мужика. Левая, вся переломанная рука, безжизненно висела, грудь была вмята и искровлена, из правого плеча торчал обломок кости. Мужик стонал.
Тамерлан обошел его вокруг, пристально разглядывая, и спросил:
— Больно?
— Больно.
— Умереть хочешь?
— Хочу.
— На кинжал.
— Нет, сам не буду.
— Трусишь?
— Трушу. Греха самоубийства трушу. Коли вы не убьете — так помру, близко уже, а сам себя… нет, Господа моего Иисуса Христа и Матерь Его гневить не буду.
Перевел взгляд Тамерлан на Хаима:
— Это он кого имеет в виду?
— О, душевидец, я много раз рассказывал тебе о поклоняющихся Этому Распятому и Матери Его. А эти,.. вот один из них пред тобой во всей красе, они вообще особые, они выродки, способные только на это поклонение и ни на что больше. И власть над собой они признают только Этого Распятого. Тохтамыш и те, кто был до него, кому они дань платили, не поняли этого. Любую чужеземную власть над собой они будут терпеть до времени. Не повтори ошибки Тохтамыша и его предков. Уничтожь их! И в ошибке этой виновны не кто-нибудь, а потомки великого Чингисхана! Твоего предка! Им ведь эти выродки дань платили, а те сидели в Золотой Орде, в Сарае своем, да меж собой за власть грызлись. А надо было снова, как Бату-хан, пройтись с войском по их городам и селам… Да и не как Бату-хан! После его похода их хоть треть, да осталась. А надо было всех под топор!.. А там по лесам старички всяческие отшельничать стали, с особым, уже совсем безумным, рвением поклоняться Этому Распятому,.. монастырей, где эти старички-отшельнички верховодили в три раза больше стало, чем до Бату-ханова похода!… Вот и плоды теперь пожинаются. Сжег Тохтамыш Москву, а что толку. Уничтожь их под корень, о, великий и беспощадный!.. А сам обряд ихнего поклонения, — в досках. Намалюют на доске Распятого и Мать Его, повесят доску у себя в избе и поклоны доске бьют.
Этот вот и защищал одну такую доску… Эй, — обратился Хаим к солдату, что привел пленника, — Доска та где?
— У входа валяется.
— Принеси.
— Ты воин? — опять обратился к пленнику Тамерлан.
— Да какой же я воин. Крестьянин я, ну и рыбачил помаленьку. Стерлядки, вон, на ярмарку привез. А тут и вы, нате, пожалуйста, здрасте — приехали…
— Ты слышал, что вам предложили сдаться?
— Как не слыхать. Иуда один, ну тот, который к вам переметнулся, он и прокричал нам, что б, значит, ворота мы открыли. Жаль из лука стрелять не умею, да без меня, слава Богу, стрелок нашелся.
— А ведь эта стрела и погубила и город и жителей. Неужто лучше вот так, огнем и мечом вас?.. А то б получше чем при князе вашем было бы, сдай вы город. И стерлядку б дальше ловил.
— Может быть так, может быть не так, но… ничего, что есть на этой земле, я вам не отдам… Эх, вот — ты, ну — ты, и откуда вас все прет и прет, одних раскувырдаешь, другие лезут, что ж там за дырка в преисподней, вот заткнуть бы ее… Ну, да ладно, Господня воля, всякое было, всякое и проходило.
— Нет, не заткнешь! — яростно выдохнул Хаим в бороду мужика, свирепо на него глядя, — это не пройдет. Такого на вас еще не было!
— Что ты сказал ему, Хаим? Ты опять разволновался.
— Нет, о, всевидящий, — Хаим опять улыбался, — я просто растолковывал ему, что таких орлов, как твои здесь еще не пролетало и что здесь растоптано и склевано будет все, не останется даже падали.
— Однако, — Тамерлан задумчиво уставился на пленника, — при полном неумении и почти без оружия дрались они — отменно. Первый город, в котором один пленный.
— И да пусть он будет последний. Пленных не брать, сдаваться не предлагать. Продавать их баязетовым купцам, так мороки не оберешься, в походах твоих от них одна обуза, слуг у тебя хватает, а оставить их здесь, хоть сколько! Хоть одного — нельзя!…
Теперь Тамерлан задумчиво глядел на Хаима и наконец сказал:
— Да, пожалуй, ты прав, визирь. Что-то мне опять беспокойно стало. Так где доска?
— Вот она, о, всепытливейший, вот этому они поклоняются. Погоди, она вся в пыли и песке, позволь я очищу ее,.. — с этими словами Хаим плюнул на доску и стал растирать полотенцем, сгоняя слюной пыль и песок. И в то же мгновение пленный сделал шаг в сторону Великого визиря и с рычанием вырвал у него доску и тут же с размаху хватил его кулаком по уху. Даже на вскрик не успел среагировать великий визирь и, отлетев метра на три, приземлился в углу шатра, носом в стойку. Когда поднимался он, нос и ухо его были такие же как у обоих его помощников. Солдата, бросившегося было к пленнику, Тамерлан остановил движением руки.
— Ты у меня эту доску сейчас сожрешь заместо хлеба,.. не-ет, я из этих досок угольки сделаю и ме-едленно на них поджарю тебя.
— Сделай милость, только не плюй больше при мне на святые лики. Ну, а коли сподобит Матерь Божья от огня иконы своей смерть принять, — дай, Господь, каждому.
— Хаим! — грозно напомнил о себе Тамерлан, — ваши разговоры переводи мне сразу и быстро.
Хаим перевел, стирая с лица кровь.
Тамерлан взял икону, приблизил к глазам и стал внимательно ее разглядывать, то удаляя ее, то приближая.
Давно Хаим не видал у своего повелителя такого взгляда, такого разглядывания. Давно уже великий визирь высветил и просветил все причуды и изгибы взрывного характера владыки мира, все душевные струнки его были как на ладони у Хаима и в совершенстве знал он какую когда нажимать надо, за какую посильней дернуть, а какую так поприжать, что б и сам хозяин о ней забыл, все взгляды властителя вселенной, что за ними стоит и последует, были изучены лучше линий на своих ладонях. Взгляд, которым хозяин сейчас разглядывал икону, Хаим наблюдал у него только однажды: так он рассматривал карту расположения персидского войска, того самого войска с которым (первый и последний раз за все войны) было потом сражение равных и чья возьмет до последнего момента неясно было. Только сверхъестественное чутье Тамерлана, его нечеловеческая интуиция, каменная выдержка и необыкновенное умение мгновенно ориентироваться в мгновенно — непредсказуемо изменившейся ситуации, спасли тогда от разгрома его армию и принесли разгром противнику. Измени он направление главного удара несколькими секундами позже, а ввод последнего резерва столькими же секундами раньше, ничего бы не спасло, уничтожена б была великая армия. Но все произошло наоборот. О том, что предстоим бой равных, знал Тамерлан, потому так и изучал карту. Но чего так смотреть на эту доску? Перевел Тамерлан взгляд на пленника:
— А на меня бы тоже бросился, если б я на нее плюнул?
— Да хоть на кого! Отцу б родному не спустил, матери б… Да нешто это возможно, последний забулдыга у нас никогда б не пошел на такое. Да и зачем?
— А и то,.. — усмехнулся Тамерлан, — зачем? Мой Великий визирь хотел всего лишь, пыль с нее стереть. Так ведь, Хаим? Ведь не было у тебя злого умысла?
— Был, о, повелитель.
— Ха-ха-ха,… ай, да доска! Мне это странно, Хаим, да ты пленному переводи, переводи и то что мне отвечаешь тоже переводи,… ну, да, помню твои рассказы, ну так родила вот эта женщина вот этого Младенца, ну подрос он, в самозванцы полез, от имени Бога выступать начал…
От имени Бога это нехорошо. Ну так распяли ж вы Его. И делу конец. Но зачем же на женщину плевать, о, Хаим? Она — то при чем, ха-ха-ха, плюнь на любую из моих заложниц, да ты ведь никогда не был женоненавистником, Хаим, ха-ха-ха…
— Я и не стал им, о, насмешливый, и никогда не плюну ни в одну из твоих наложниц, ибо они святы, они освящены твоими к ним прикосновениями. Но то, что ты держишь в руках не заслужило твоих насмешек, а заслужило — огня! Все это очень серьезно, о, пресветлый, то, что ты держишь в руках, это их сила, это как для тебя твой заговоренный меч, мой старый подарок, как твое войско… — Опустил руку Тамерлан, взял ладонью рукоятку неразлучного меча, воистину неразлучного, спал с ним вместе, действительно сила и спокойствие от него источались, но, что за сила в этой доске? И точно поймав его мысль, Хаим сказал, жестко глядя в глаза повелителю,:
— То, что изображено на этой доске, это не просто женщина, родившая Распятого, которому они поклоняются как Богу…
— Да не Распятому мы поклоняемся, а Воскресшему! — вскипел вдруг пленник и шаг сделал к великому визирю. На месте остался Хаим и сам врезал пленнику, опережая его эмоции, четко врезал, без замаха, в самую вмятину на груди. Даже не охнув, распластался на земле пленник.
— Хаим!.. Тамерлан поморщился и покачал головой, — ты всегда ненавязчиво учил меня сдержанности с такими…
— Этот не из тех, о, все они… ко всем к ним,… нечего быть сдержанными… Посмотрим еще, как он закорчится, заюлит под угольками из этой доски!… А на доске, я заканчиваю свою тягучую мысль, о, всетерпеливейший, для того, кто лежит сейчас у твоих ног, не просто нарисованная женщина, родившая распятого, но — Царица Небесная! Так они Ее называют…
— И кто же на Царство это Небесное Ее венчал?
— Да все тот же, Распятый, Сынок Ее…
— Да распяли же вы его! Как Он может кого-то на что-то венчать? Переутомился ты, Хаим.
— Я не переутомился, о, всепытливейший… Они… вот один из них лежит перед тобой,… которых ты должен завоевать,… нет! — уничтожить, они считают, что Он — воскрес.
И в этом все дело. И в том, что он воскрес, они стоят насмерть. И то, что нарисовано на этой доске, вот для этого и для остальных,… которых надо унич-то-жить!!… О, могущественный, — действительно дороже матери родной… Прости меня, о, всепрощающий, я, действительно, слегка утомлен…
— Угу, — задумался, слегка ухмыляясь, Тамерлан, — значит, говоришь, дороже матери?..
— Да. Защищая эту доску, он зарубил двух твоих воинов.
— Что?! Этот, двух моих воинов?! Из какого тумена?! Это — не воины, это не тумен, выстроить и каждого десятого, нет!… пятого — на кол!…
— О, справедливейший, не найдешь теперь из какого тумена…
— Всех! Всех выстроить… Если крестьянин, не умеющий стрелять из лука, убивает двух моих воинов, то это — не воины!
— Или, этот крестьянин, защищая эту доску, становится равным твоему воину.
— Угу! — без всякой уже ухмылки задумался Тамерлан, — значит, говоришь, дороже матери?… Хаим!
— Я здесь, о, повелитель!… — страдальчески глядел на Владыку мира Великий визирь. Ну что ж орать то, да вот он же я… Эх, как хочется иногда всадить кинжал сзади между лопаток этому вла-ды-ке… Да на замену нет никого, вот беда, не подыскали еще… Так ведь и подыщут когда, такой же ведь будет!… Других на таком месте просто быть не может… И ты вечно при них, вечный Великий визирь, направитель… А ведь и на кол запросто загреметь можно Великому визирю, один жест не такой, одно слово не туда сказанное, …завистников прорва,.. нашли чему завидовать, идиоты,.. да ни какому врагу не пожелаешь побыть хоть час в этой шкуре!.. Знать, когда только отвечать на вопросы, быстро и четко, а когда советы давать. И чтоб не спутать ситуацию, когда то, а когда это… А, впрочем, свыкся уже, да так, что без этой шкуры и жизни нет…
— …Хаим, сколько времени тебе нужно, что б привести его в чувство мазями своими и вообще, что там есть у тебя?
— Два часа, государь.
— Забирай его и действуй. Что б через два часа он был как живой.
После такого приказа на надо ни советы давать, ни отвечать ничего, надо поклониться и выйти…
— Скажи мне, как ты думаешь, зачем тебя выходили?
— Спасибо тебе, до сих пор не знаю как величать тебя.
— Я, кстати, тоже.
— Меня Владимиром зовут.
— А меня по-разному зовут, ты зови меня Тимуром. А теперь ты не на меня смотри, а на войско мое, здесь тумен один построен, а их у меня много, гляди, говорить будем после. И, глядя на то, что ты сейчас увидишь, помни вопрос, что я тебе задал. Хаим!… Начинай… А ты, Владимир, гляди!…
Глядеть было на что. До горизонта выстроилась конница в один ряд. Безмолвные, бездвижные кони, ноздря к ноздре, седло к седлу, по ноздрям прямая воображаемая линия бы уходила за горизонт. На конях всадники с копьями, такие же бездвижные и безмолвные. По остриям опущенных копий прямая линия также уходила за горизонт. И вдруг в один миг всколыхнулся строй. И вот уже по пятеро в ряд (мгновенна была перестройка), двести пятерок с одной стороны скачут на двести пятерок с другой стороны, копья у всадников подняты вверх. О, видеть надо этот встречный марш-галоп насквозь друг к другу. На полном скаку — навстречу, насквозь, седла в сантиметре друг от друга и ни одного не чиркнуло даже друг о друга. Еще мгновенье (и когда успели) и две тыщи всадников от горизонта скачут в сплошном ряду, копья наперевес, и в сотне шагов от восседавшего на Айхоле Властителя, разлетелись вдруг страшным воющем веером, копье, в левой руке у каждого всадника было уже не копьем, а… и слов-то не находилось у пленника Владимира, что бы сказать — чем, чем-то убийственно для противника мелькающем на вытянутой могуче-мускулистой руке, а правая рука саблей машет по сто взмахов в минуту… Та же минута и-вновь перед ошарашенным пленником Владимиром безмолвные бездвижные кони ноздря к ноздре, седло к седлу и всадники на конях с опущенными копьями — ряд конницы до горизонта.
— Что скажешь? — перед пленником Владимиром был Тамерлан. Айхол под ним был недвижим и не обращал внимания на потуги кобылы, на которой весьма нелепо восседал пленник Владимир, полизать его и потыкаться мордами.
— Чего ж сказать, — хрипло выдохнул пленник Владимир, — сила…
Покачал головой, ухмыляясь Тамерлан, глядя на пленнике:
— И как ты мог двоих моих воинов убить?
— Не свались на меня бревно, больше б убил.
— Значит говоришь, ради доски этой, что у тебя в руках и матери не пожалеешь? Та-ак, ну, а теперь слушай и решай. Гляди, сзади меня все военачальники мои и свита моя, короли всякие, падишахи… И вот! При них я говорю, а ты вспоминай мой вопрос, зачем тебя оживили, крестьянин… Пока тебя оживлял Хаим, я много думал о тебе, о народе твоем, о доске твоей… И о тебе, Хаим! Ты сказал, Хаим, что дело слишком серьезное и я так и воспринял его и коли так серьезно, как ты говоришь, то так и порешим. Если сейчас оживленный тобой сделает то, что я предложу ему, то тебя тут же посадят на кол, ибо получится, что ты соврал, а врать Великому визирю не годится. А предлагаю я вот что. Пленник, что у тебя изображено на доске?
— Образ Владимирской Царицы Небесной.
— Какой образ? Почему Владимирской?
— Потому что список с главной иконы чудотворной, которая сейчас в граде Владимире.
— Смотри-ка, ха, сплошные Владимиры, город Владимир, ты Владимир, доска Владимирская.
— Да, в каждом граде, считай, список этой иконы есть, а сама она, аж самим Лукой, евангелистом писана, на доске, на которой сам Спаситель вкушал. — Пленник перекрестился.
— Это, тот, которого распяли?
— Это тот, который воскрес.
— Ну и где же Он сейчас?
— А в том самом Царстве, Царица которого на тебя с этой иконы смотрит.
— Ага, Он, значит Царь, а она Царица?
— Значит так.
— И вот я предлагаю тебе сейчас плюнуть на твою Царицу на твоей доске. О! Вижу ты возмущен, ты в негодовании, ты готовишься к пыткам… пыток не будет, пленник Владимир, будет только предложение в добровольном плевке. Да и Хаим, ха-ха-ха, гляди как бойко переводит, твой ненавистник, на кол будет посажен, коли плюнешь. Порадуешься.
— Вот уж, радость! Какая ж радость, коли человека на кол.
— Он же радуется костру на месте бывшего города Ельца.
— То его грех, а мне грех такой его радостью радоваться. Уж, избавь.
— Нет! Не избавлю. И вот слушай цену твоего плевка: Вся страна твоя будет пощажена. Не пойду ее громить. При всех своих военачальниках, при свите своей говорю, вся вселенная всегда слышит Тамерлана, когда он говорит!… Не пойду громить твою землю, обойду. А тебя князем на ней посажу! Слово мое!! Слово Тамерлана! Ха-ха-ха, глянь как заволновался Хаим, — но обернувшись на Хаима, Тамерлан увидал каменно-улыбчивое лицо его. Оно было спокойно и даже надменно. Отвечая на Тамерланов взгляд, Хаим поклонился и сказал:
— Мое тело недостойно этого кола, который уже вбит за моей спиной, не мне на нем сидеть, государь, и я совсем не разволновался. Я, наоборот, радуюсь. И я не соврал. Как ты замечательно сказал, что если Великий визирь соврал, его место на колу. Тот кол, что вбит за моей спиной — не мое место. Он не плюнет на доску. Позволь мне не переводить то, что я тебе сказал.
— Позволяю. — Тамерлан вновь вперился тяжким взглядом в пленника:
— Ну! Решай! Хотя решать тут нечего.
— Точно что нечего. Сдурел ну… как тебя, Тимур, никогда не плюну я в Царицу Небесную, хоть на куски режь…
— Зачем мне тебя резать на куски? Я тебя с собой возить буду и ты будешь смотреть как уничтожается твой народ и твоя страна. Города, села и деревни — дотла. До ровного места, если бугорок замечу, всех причастных из своего войска — кол. Все население поголовно, поголовно! — слышишь, крестьянин Владимир, — в огонь и под топор, как советует мой Великий визирь — ни кого в живых, ни одного младенца. Всех замеченных в какой-то жалости, а у меня нет таких, пленник Владимир, ха-ха-ха, — всех на кол! Все леса прочешем, всех найдем, а леса — огнем, здесь останется одна горелая земля!… Ну, а потом, когда последний клочок земли твоей догорит и тебя на кол. Вместо княжеского трона, который я тебе сейчас предлагаю, крестьянин. Плюй!
— Нет, Тимур.
— Ха, тебе, что Хаима больше жаль, чем свою родину? Как вы ее называете?
— Хаима мне совсем не жаль, Тимур. А родину свою мы называем Святой Русью. И коль я — крестьянин из Святой Руси, не могу я плюнуть в Царицу Небесную.
— Да не в нее. В доску. В картинку.
— То не картинка, не доска, то Сама Она.
— М-да,… прав ты, Хаим. Ты действительно Великий визирь. Тот кол, что за твоей спиной, вели вынуть, обмажь смолой и пусть на него из моей сокровищницы насыпят бриллиантов, сколько прилипнет, все твои. Вместе с колом. Кол возьми с собой и береги как глаз свой. Потом, ха-ха-ха, если проштрафишься, сядешь на кол с бриллиантами, ха-ха-ха…
И тут всадники, на конях сидящие, тоже грохнули хохотом. И кони заржали. От одного такого хохота любой город ворота откроет. Взакат ржали всадники и кони, смеялся Хаим, смеялся Тамерлан, лишь один Айкол под Тамерланом как был безмолвен и недвижим, так и остался.
Пленник Владимир, неуклюже восседавший на кобыле, молча смотрел в землю, еще не догоревшую.
Остановил жестом руки Тамерлан бушующий хохот:
— Да, крестьянин, из Святой Руси, плохой ты ее подданный, не любишь ты свою землю. Представляешь, впервые во Вселенной, за крестьянином выбор — быть или не быть державе его и народу державы этой! И крестьянин выбрал — не быть. Пусть она будет уничтожена… Нет, я не повезу тебя с собой. Ты свободен, крестьянин. Езжай к своим,… как она зовется, Хаим?
— Москва.
— Езжай в эту Москву и все скажи, что я тебе сказал. В Москве я буду вслед за тобой, а этот город, Владимир, где доска это главная, будут брать те, которых ты сейчас видел. И доска эта,.. нет Хаим, не облизывайся, тебе я ее не отдам, она будет лежать у моего шатра и мы будем отирать о нее ноги. Езжай, Владимир. И не предлагай сдавать города. На битву созывай своих, не будет пощады вашим городам и вашим людям. Все!!..
* * *
Митрополит Киприан сидел в своей полутемной келье, перебирая четки и пытался думать. Ни дума не шла, ни молитва. Впустую крутились шарики четок, безо всякой отдачи напрягался мозг. Откинулся в кресле, расслабился, ноги вытянул: Эх, Господи, помилуй, что же делать-то?!.. Ясное дело военная защита невозможна, наслышан Киприан про этого Тамерлана, даже и без этого вестника, что в икону не плюнул. Молодец, однако!.. Василек войско собирает, да вроде собрал уже. Эх, войско, видел этих воинов Киприан, ударный тумен Тамерлана в полчаса их сомнет предлагал Васильку — войско сберечь и не только само войско, всех мужиков, что топоры в руках могут держать, вместе с дружиной в леса за Нижний увести, спрятать, потом пригодятся, а города без боя сдавать, может пощадят все-таки. Резко воспротивился Василек и даже нагрубил митрополиту и даже намек прозвучал в грубости, что, мол, чужеземец ты, митрополит, и хоть давно ты у нас, но не до конца ты эту землю своей считаешь. Это была неправда. Серб Каприан, поставленный на эту митрополию Вселенским Патриархатом, давно уже перестал быть сербом и стал насквозь русским и не мыслил уже себя вне этой земли, вне этого народа. Особую привязанность имел к великокняжескому семейству. Не дали раны подольше прожить Димитрию, ныне Донским прозванному, ну, да и соколик его, Василек — удалец, не соколик уже, а сокол. А сколько всяких дрянных слухов по Москве шляется про вдову Димитриеву, Евдокиюшку. Велел от своего имени пресекать слухи беспощадно, вплоть до отрывания языка. Мол и вдовство она не так блюдет и на пирах веселится… Только один Киприан знал, даже сын, Василек, не знает, что носит вдова на теле пудовые вериги железные, целую ночь напролет молится, час в сутки всего сна. Про себя знал Киприан, что он не вынес бы ни вериг таких на своем теле, ни молитв таких ночных, ни вообще жизни такой. Эх, моли Бога о нас, Евдокиюшка и да продлит Господь дни твои…
Да, тяжек крест митрополичить на Святой Руси, тем более после почившего Алексия. Остро чувствовал Киприан богомеченность этой страны, с которой сроднился. И это только утяжеляло крест. Каждый раз после утреннего и вечернего правила спрашивал себя: а до конца ли, без оглядки ли, с пользой ли ответственностью ты несешь свое служение? И отвечал себе с чистой совестью: до конца, без оглядки, с полной ответственностью. И что бы не случилось с землей этой, с народом этим, их участь будет и его участью. А тут еще напасть эта. Чувствовал Киприан, что то, что надвигается, есть самый страшный, самый ответственный момент его жизни. И нету рядом ни Сергия, ни Алексия. Все самому решать. Однако рядом Евдокия и соколенок ее Василек, а это — немало.
«Молитвами отец наших… Господи, помилуй нас…» — раздался звонкий голос за дверью.
— Аминь. Входи Василий Димитрич. Мир тебе князь — государь и благословение.
— Прости, владыко, давешнюю мою дурь-грубость…
— Давно все прощено, государь, и ты меня прости за дурной совет. Войско не должно прятаться по лесам, войско должно на поле боя драться, а уж там, как Господь решит. Сейчас пойду воинство твое благословлять, окроплять. Ну, да и в путь-дорогу. Да и Ока-река, широка — глубока, в помощь вам, хоть сколько, а утонет в ней страшилищ этих.
— Вряд ли, владыко, кто-нибудь из них утонет в Оке. Когда они переправлялись через Волгу, никто не утонул. Их кони плавают также, как и скачут. А когда они переправляются, с той стороны их лучники стреляют из лука. И лучники же стреляют с лодок, которые плывут спереди и сзади всадников. Две тысячи возов в обозе Тамерлана возят стрелы, при переправе и при начале атаки, что у Коломны будет одно и то же, выпускается миллион стрел за час. Большая часть моего войска должна быть убита этими стрелками.
— Государь, тогда, поясни,.. одно дело вести войско на смертный бой, а другое — на убой. Грех вести людей на убой, Василий Димитриевич.
— И я не поведу их на убой, владыко. И порукой этому будешь ты. Слушай меня, что я решил, прости, что в духовном деле совет тебе даю, да нет, не совет даже, — приказ. И он уже выполняется. Мои гонцы уже в дороге, другие ждут, что бы печатью твоей митрополичьей скрепить. По всем городам и весям, всей нашей Святой Руси матушки вот с сейчастного момента, всем православным, все бросить, все работы — заботы и в строгом посте три дня молиться только, о Пресвятой Владычице нашей Богородице…
— Почему три дня, Государь?
— Потому что больше не отпущено. И потому что примерно столько идти крестным ходом до Москвы из Владимира с Владимирским образом, с тем, что из Константинополя. Князю Андрею Боголюбскому помогала, булгар прогнала…
— Тамерлан это не булгары.
— Вот именно, владыко Киприан. Такой напасти не было на Руси. Нет, Киприан, не напасть это, это, слов у меня, …не подберу никак,.. плохо вы меня выучили, не по мне престол Московский… это испытание Божье нам, владыко, так я нынче думаю, или мы воистину Святая Русь, или… А ты плохо сказал, владыко. Да, Тамерлан это не булгары, ну и что?! Ей без разницы кто Ее дом пришел разорять, пьяный разбойник с топором из леса, Тамерлан ли с войском своим, или хоть тьма Тамерланов со всеми головорезами вселенной, сколько их там ни будь. Али мы не Дом Пресвятой Богородицы? Ну нету у нас защиты против Тамерлана, нету… Да как нету?! А — Сама?! Сама Хозяйка Дома Своего, Дома Нашего али не защитница?! Удесятери, Владычица, силу войска моего, дай защитить дом твой… Спаси землю Русскую. Если так, мы так возопием всей землей, всей державой!.. Если двое или трое просить будут, то Сын Ее посередь них, а если не двое и не трое, а всей землей. Единым плачем, единым дыханьем. И мы ж не просто так, мы ж не простые, владыко Киприан, мы жители дома Его Матери, мы подданные Святой Руси. Неужто такая молитва небеса не пробьет?!
Обнял митрополит великого князя.
— Не надо пробивать небеса, Василек.
— Да — да… это я… говорю ж, слова мои … так и боюсь ляпнуть чего не так, тяжек мне крест княжеский родительский.
— Нет, Василек, как раз по тебе. Похвала мужу пагубна, но то, что ты решил, это здорово, это — то самое. Да, — настало время мое. И — твое… А если Владимирцы икону не отдадут?
— Как это не отдадут? Силой взять, объяснить…
— Сам поеду.
— Нет, ты останешься здесь, ты ее встречать будешь. За порядок в Москве с тебя спрошу. Хотя, мне уже спрашивать не придется.
— Э, нет, князь, ай да выверт, начал о здравии, похвалу митрополичью получил, а кончаешь за упокой. Тот не воевода, кто войско не на бой, а на смерть ведет. Повторяться заставляешь. Ты ж молишь об удесятерении силы войска своего. И — получишь! Али что, воздусей сотрясенье молитва твоя?! Молишь, просишь, а про себя сомневаешься? С меня вон как стружку снял, промылил, пропесочил, а сам?!
А знаешь ты, Василек, какое ты в меня успокоение сейчас влил? — Митрополит встряхнул Великого князя за плечи, — да мы уже победили, Василек!
— Прости, владыко, — Василий Димитриевич стоял опустив голову, — да, в державных-то делах я мальчишка, как говорит князь Данила, а уж в молитвенных…
— Все при тебе, Василек, отправляйся с миром в душе к Коломне и жди там Тамерлана, а всяким Данилкам я тут язык поукорочу. И в Москве порядок будет, не сомневайся, все три дня эти вся Москва по храмам будет стоять, что б никто по домам не отсиживался, сам буду ходить по домам, кого найду, плеткой буду выгонять.
— Плеткой на молитву?
— Плеткой на молитву! Нам с тобой зазря что ли Хозяйка дома власть вручила?! Мы ведь с тобой домоуправители при хозяйке, крест это наш с тобой. Раз даден крест такой значит должны тянуть, значит есть на то силы, не по силам креста Господь не дает. А власть это и слово, это и плетка. Коли словами не пронять, тут и плетка, плетка не помогает, нате вам плаху с саблей…
И что б по всей дороге от Владимира все жители окрестные, да и дальние встречали Ее на коленях, а все кого ноги носят, что б за Ней до Москвы шли…
— Колокола!.. Что б все три дня по всей Руси набатный звон стоял.
— Почему ж набатный?
— А потому что на такую молитву набатом созывать надо: всё, люди русские, всё!
Кузнец, бросай свой молот, вставай на колени перед Божницей своей, коль храм далеко, ставь так позади себя семейство свое и взывай — Пресвятая Богородица, спаси землю русскую.
Пахарь, бросай и плуг и серп и делай то же самое.
Бояре-дворяне, купцы, ремесляне, все россияне, вставайте рядом. Не нужны больше ни железки из под молота, ни зерно из под серпа. Прах теперь все это, по всем домам-теремам вашим, к житницам-амбарам факел поднесен. Вот сейчас ясно будет камень ли вы защитный для Святой Руси или солома для геенны и что стоит ваша молитва и где сокровища ваши, тут ли, где уже занялось от факела, или на небесах, где Царица из ждет нашу молитву.
Нету нам спасения, только Сама Царица Небесная может нас защитить! Должна! Коли такую молитву услышит, увидит. Собирайте под набатный звон все, что есть в душе вашей и все, что собрали туда, в небеса посылайте — Пресвятая Богородица, спаси землю Русскую! Твои слова, князь, сам их неустанно повторяй и в пути и когда Тамерлана ждать будешь.
Вышки для костров, что бы сигналы подавать готовы?
— Да они всегда готовы, стоят и стоят… если мы победим,.. эх, прости Господи, огонь без дыма, если… то черный дым, к осаде готовьтесь.
— Василек, ты знаешь какой самый страшный грех для священнослужителя вот в таком положении как сейчас?
— Ну раз так спросил, то сам и отвечай.
— Дурную надежду успокоительную в пасомых вселять. И сейчас я говорю тебе, молись вот так как сейчас сказал, стой на Оке насмерть и знай, твердо знай, коли будешь так молиться как вот только что сам мне наказывал, удесятерится сила твоя! Не знаю как, но спасена будет Святая Русь. И про себя знаю, коли выдюжу молитву такую, которой ты приказал мне молиться, — не придется на вышках дымом черным сигналить. И не успокоением я тебя сейчас баюкаю, а как власть имущий, Богом мне властью данной, говорю тебе, — как Сергий — старец твоему отцу говорил: иди на безбожников, князь, и будут они посрамлены. Тебе ведь благодаря ожил я сейчас!… Эй, Василек, выше носок! Утром еще, вот только что еще, развалиной я был, мысли путались что, как, куда? Прости Господи…
Минута слова твоего и вот я — митрополит Московский, отец пасомых моих, твой духовный отец! А ты, что ж, Василек, слово сказал и сам своего такого дерзновения испугался? Негоже нам такого дерзновения пугаться, таким дерзновением жить надо, коли мы Святая Русь, коли мы домочадцы дома Пресвятой Богородицы! Иди к войску, я сейчас выду. С князем Данилкой, вот, разберусь только.
Князь Данила ходил из угла в угол туда — сюда. В одном из тех углов сидел старинный друг — приятель, купец-откупщик Новгородский Павел Милюгучьев, в другом притулился отпущенный Тамерланом елецкий крестьянин Владимир. Сюда почему-то привел его митрополит Киприан и здесь велел ждать. Князь Данила громко и нервно говорил:
— Вообще-то за такую твою весточку, слышь, ты, елецкий, тебе б надо как в сказке, голову с плеч.
— Спасибо на добром слове, княже, Тимур пожалел, а тебе, значит, голова моя понадобилась. Вообще-то за такую мою весточку подарками одаривать надо, а не голову с плеч.
— Совсем ты сдурел, елецкий, тебе еще и подарки!
Гляди, Милюгучьев, я думал, что наглее твоих новгородских, да моих рязанских, только мы с тобой, сами новгородцы-рязанцы, а тут еще вот ты поди ж ты, елецкие-то поширше.
— Нет больше елецких, один я…
— Да, — один! И еще вякаешь тут брякаешь чего-то, вест-ни-чек, ух!… А Тамерлан-то, прав ты елецкий, он — то пожалел! И не только тебя. Че — во зенками лупаешь? Слово — то ведь его, действительно — сло-во! Не нарушит. Знаю я его. И вон, новгородец тоже знает его, сидит, вон, потупился. Ну, Пашка, скажи, аль не прав я?
— Прав, — сказал новгородец Павел Милюгучьев и поднял глаза свои на елецкого. Аж вздрогнул елецкий, хлестче тимуровых стреляли в него глаза купца-откупщика новгородского.
— И откуда ж вы его так знаете?
— А оттуда! Торговые дела с ним имели! Еще когда он в Туркестане со всеми этими шахами-падишахами возился. А я шелк вез из Китая, — новгородец поднялся и тоже стал ходить туда-сюда, и ему ничего не стоило просто отнять мой товар и,.. — задницу мою на один кол, а голову на другой…А он сказал — вези куда везешь и слово дал, что никто меня не тронет. И вот я здесь! Обещал он тебе, что не пойдет на нас коли плюнешь ты на икону, так и не пошел бы, коли слово он дал. А он — дал!
— Погодь, — привстал елецкий крестьянин, — так ты что?.. Что же мне плюнуть надо было?!
— Да!
Сел назад елецкий крестьянин и рот открыл.
— Что пялишься?! Никого б от этого не убыло. Плевок на доску и не больше. И не вздумай плести мне, что это в Царицу Небесную плевок! Напридумали… И ушел бы Тамерлан. А теперь что? Нет, ты глаза не уводи, елецкий, ты отвечай, что теперь? Ты очень живописно обрисовал как перед тобой Тамерланова конница маневрировала и что мы ей противопоставить можем. Тебя?! С твоей кобылой, Тамерланом же подаренной? Кстати, кобыле цены нет, чистопородная арабская, аджарова кровь, знаю я их, в Багдаде за такую ведро монет дали бы. Слышь, Данила, на Руси теперь и трофей есть от самого Тамерлана, ха-ха-ха… Да не прижимай ты доску свою, не отниму…
— Ты! — вскочил тут елецкий крестьянин.
— И я еще глаза отвожу!.. Это ты у меня щас отведешь, заведешь…
И то, что ты доской назвал точно, что не отнимешь. Тимуру не отдал, а уж тебе-то.. Ну! Во не думал, что в Град-столице, аж в государевых палатах, в сердце Дома Богородицы такое услышу и таких богохульников увижу. А?! До-ск-у он не отнимет!
Ай да Святая Русь, ай да стольный град! В Ельце у нас таких нету. Эх… и Ельца больше нету.
— И ничего здесь не будет! — Рявкнул князь Данила. — И все из-за тебя. Уж это-то слово Тамерлан точно сдержит и все леса обшарит, у него не залежит. А я не богохульник! Я 25 лет заведую посольским приказом при трех Великих князьях. И все были мной довольны! И Русь Святая, как видишь, стоит пока несмотря ни на что!
— Стоит, слава Богу, несмотря на то, что вот такие как вы присосались. При трех князьях он служил,.. богохульник все одно ты и есть!…
— Да, ты хоть раз, крестьянин, с иноземцем вел переговоры?!
— Да, вот, сподобил Господь… Пришлось, эх, Господи помилуй. С самим Тимуром вон, попереговорил, вон аж на кобыле его к вам прискакал. Да уж лучше на кол, чем видеть вас, да слышать.
— Да что ты с ним!.. — возвысил голос новгородец, — да выкинь ты его.
— Да митрополит приказал его держать. Давно б выкинул.
— Да уж, давно б сам бы ушел, не будь владыкиного наказу.
— На-ка-зу!.. А ты без наказу хоть раз пробовал с иноземцем попереговаривать? С Тимуром он… Вот и не-пе-ре-го-ворил! Правильно он тебе говорил, впервые во вселенной крестьянин — болванин решает быть или не быть державе его. Решил.
— Да, решил! Быть державе! Да токмо без вас посольско-приказных.
— И где ж быть-то?! На кобыле своей арабской, Тамерланом даренной, против его конницы выйдешь?!
А держава, если хочешь знать, крестьянин — болванин на посольско — приказных и держится. Я с иноземцем по-пе-ре-го-вариваю, не ты… С Тимуром он… А за иноземцем сила! Тут и юлить надо и врать и обещать, чего никогда не исполнишь. Ди-пло-матия. Без нее ни одной державе не выстоять.
— Русь Святая без вранья и юления выстоит.
— Нет!! — аж взревел князь Данила, — будет он мне тут!… Болванин, чистенький, пахарь ишь ты земли русской без лукавства!… Сидит вот, перед тобой лях, а сила за ним, и в орде его посланнички шелудят против нас и я это знаю, а он этого не знает, что я это знаю и вот нужно на этом сыграть и то не проиграть, из этого вытрясти, что он там припас, чего у него там за его себенаумешной душой стоит. И что нам выгоднее: отдать ему часть полоцкой землицы или нет; отдадим — гарнизон они свой снимут, договор со шведами не продлят, на зато храмы там православные позакрывают, не отдадим, — храмы останутся, но и гарнизон ихний останется, жди от него любых пакостей, шведы тут же не дремят… И что б татары не двинулись и что б тефтоны не знали о чем я тут пе-рего-ва-риваю и что б вот он, князь Данила сделал жест в сторону друга новгородского, из Китая шелк довез и продал бы и что б ему хорошо было и Руси Святой прибыточно и что б ты там в елецких речках стерлядку спокойно ловил.
Не съюлишь — не выгадаешь, не выгадаешь — все спустишь.
— Ну вот и наюлили…
— Нет, ты представляешь, Павел, а ему ведь и княжить предлагали!
Новгородец только рукой махнул.
— Представляешь я к этому с докладом иду: Княже, надо решить насчет пошлинного тарифа с Ганзой, ха-ха-ха…
— Вот уж точно, что никогда б ты ко мне не зашел, — сказал елецкий Владимир, — тебя б я из приказа сразу турнул.
— А со шведом-ляхом, литовцем-германцем по-пе-ре-говор-ничать своего б попа деревенского елецкого послал?
— Да уж лучше его, чем тебя!…
— Дверь открылась, в дверях стоял митрополит Киприан.
— Все, ребятушки, миритесь, да в путь дорогу. Вместе поедите. Приказ великого князя. В дороге лаяться запрещаю, в дороге молиться совместно благославляю.
— Чего-то не то ты говоришь, владыка. Во первых мне с этим мириться, или лаяться не пристало. А во вторых и куда ж это теперь мне ехать? Да еще с этим вот. Спасибо за такого попутчика.
— Попутчика тебе терпеть придется, как и ему тебя, а ехать во Владимир. И не ехать, мчаться, что б пыль столбом.
— Во Владимир?! Да ты что, владыко? Что ж это за приказ такой великокняжеский?
— Из Владимира икону брать Царицы Небесной и нести ее сюда пешком крестным ходом. По Руси пост и молитва до прихода Ее сюда, до сретенья Ее здесь. Встречать ее я с народом буду.
— Эх, сказал бы я тебе, владыко, окромя сана!.. Повредились вы все тут что ли с горя? Ты небось на это его подбил?!
— Ошибаешься. Это он меня. Дай Бог и дальше так подбивать.
— Да не иконы надо носить, а из Москвы имущество, сокровища вывозить! С каким народом кого ты будешь встречать?! С бабами московскими и стариками? Они раньше Тамерлана встретят, его пики, сабли и копыта его коней! Семьи надо вывозить!..
— Нет, князь, Данила, бегства из Москвы не будет. Все останутся здесь.
— Что, так хочется геройски быть растоптанными конями Тамерлана?
— Нет, князь Данило. Всей Москвой молиться будем Царице Небесной, уже начали. Присоединяйся. Только в пути своем во Владимир. А сокровища и баб вывозить? Да далеко ли их увезешь от коней Тамерлана. Да и войско имеем.
— Ха-ха-ха, войско,.. прости владыко, грех такой смех, ни и то, что собрано, грех войском называть. Ну, сама дружина-ладно, эти хоть секиру держать умеют, да знают, что натягивать надо тетиву, а не древко, а уж работники-ополченцы… на коня как на печку залезают, копье как удочку держат, а щит как вон вахлак елецкий икону свою, вон к пузу прижимает.
— А он между причем, вахлак-то елецкий, двоих тамерлановых чудищ убил-победил. А ну как у ратников-ополченцев удесятерится сила?
— Да с чего, владыко?
— С того, Данила. Эх, слишком долго ты с иноземцами попереговорничал, как говорит вахлак елецкий. С Молитвы, Данило, с молитвы,.. — взял митрополит Данилу за плечи, крепко взял и к себе придвинул. Давно ничьих рук вот так не ощущал князь Данила, и никто никогда вот так не смотрел на него, как сейчас митрополит смотрит, и вообще не помнит, что бы митрополит вот так смотрел на кого-нибудь, тяжек, взыскующ, горек был взгляд митрополита, но одновременно как-то заботлив и просветлен. И еще казалось: вот-вот заплачет митрополит Киприан.
— Опомнись, Данилко, остынь, в себя приди, князь. И никогда больше то, что я слышал про плевок в доску, про слово Тамерлана… Выжги это из себя, князь. Ну хотя бы на эти дни, когда Царицу Небесную в Москву сопровождать будешь.
— А что, другого больше некого послать?
— Другого некого. С собой человек 20 стражи возьмешь из тех, кто секиру держать умеет и древко от тетивы отличает, с Владимирцами попереговорничать будешь, думаю неохота им будет с такой святыней расставаться. Да и кому охота.
— Что б на эту тему попереговорничать другие нужны, духовные с сане, а не я…
— И духовные будут, едут уже и ты пригодишься.
— Думаешь отнимать придется?
— Может и так. Главное, думаю, Сама Царица Небесная всем даст понять, что Ей угодно.
— А может Она не захочет Владимир покидать, а тут я с секирщиками?
— Захочет. Она ждет этого от нас.
— Ишь! Не круто ли берешь за Нее решать?
— Нет. Я за Нее не решаю… А что б всплеск народной молвы к Ней… Разве может Она этого не хотеть? Итак, я, митрополит Московский Киприан, именем Бога, приказом великого князя Василия велю тебе ехать во Владимир.
— Ну, а этот-то со мной зачем?
— А этот единственный, кто Тамерлана сам видел, в стане его побывал, город свой защищал, в бою убил двоих, разорение выдел, силу их видел, за Владычицу нашу постоял-пострадал и нести теперь ее снова хочет. Владимир, образ этот, что привез, ты, оставь мне, вернешься — верну тебе… А ты, новгородец, седлай серую арабскую кобылу, трофей от Тамерлана, твоя она теперь, дарим мы с Владимиром тебе ее. Потом в Багдаде обменяешь ее на ведро монет. А то лучше подожди… чуть, будут тебе и жеребцы трофейные арабские от Тамерлана. заведешь в Новгороде конюшню чистокровных арабских. Седлай и в Новгород свой скачи с грамотами от меня и от Великого князя, в грамотах одно только: все бросать, на молитву вставать: Царица Небесная, спаси землю русскую.
Хотел было новгородец сказать в ответ, что вот эдак-то Москве не стоит приказывать господину Великому Новгороду, мы и сами с усами, с Ганзой, с тефтонами торгуем не спросясь Москвы… Но, глядя на торжественно-сосредоточенный взгляд Киприана — промолчал.
— Спасибо за кобылу, владыко.
— Езжай с Богом. Сам молись, не забывай. Когда схлынет напасть, отстой молебен водосвятный перед чудотворной вашей Новгородской, перед Знамением Пресвятой Богородицы. Есть у вас в Новгороде такая дос-ка! Прости Господи.
Подошел новгородец к Киприану, сам уперся в него взглядом своим. Знал толк в людях новгородец, полмира объездил, обплавал, обошел. Со всякими разными людьми дело имел, любое лукавство в глазах собеседника сразу высвечивал. Если кто-то что-то сказал ему, а в душе хоть малюсенькое сомненье-копошенье хоть чуточку самую насчет сказанного своего имеет, сразу чуял чуточку эту. Нельзя без такого чуянья такому купцу с таким размахом. Но сейчас, глядя на Киприана, аж поежился новгородец, холодок прошелся по костям его.
Железная уверенность, правота и прямота, — вот что чуяло чутье его стоящем перед ним митрополите Киприане.
— Слушай, владыко, так ты что вправду что ль думаешь, что — схлынет?
— А ты что ж думаешь, что я грамоту с Митрополичьей печатью даю или успокоительную байку-сказочку?
— Слушай, а может мне тогда с войском остаться? Коли говоришь удесятерится сила, да я тогда один пол-тумена Тамерланова положу. Я-то и саблей и копьем как надо умею.
— Нет, новгородец, нет, Павлуша, другое нынче для тебя поприще. Поднимай на молитву господина Великого Новгорода. И всех, кого на пути встретишь.
— Эх, владыко!… Да, ежели в правду схлынет, да я … я обратно в Москву пешком пойду и серую кобылу арабскую на себе принесу!
— Эх ты, купецкая морда, — улыбнулся Киприан, едва не рассмеялся, — ну, что б другое обещать. А ведь и потащишь, не спущу тебе.
— Потащу, владыко, не надо спускать, удесятерения сил для этого попрошу. Э-ех!… Ладно! Едем, князь Данило, приказ великокняжеский исполнять. Бочку медовухи готовь, один выпью. Владыко, тебе тоже от слова не отвертеться, готовь пару для кобылы моей, жаль не ахал-текинка она, а то б и из-под самого Тамерлана можно было б.
Эх, хорош у него скакун, всем коням конь. На жаркое пойдет, ха-ха-ха!..
— Э, новгородский, медведь еще жив, шкура его тоже, делить ее не гоже, молись лучше пригоже.
— Иду, владыко, иду. Эй, елецкий, ты уж это, зла не держи, не серчай.
— Эх, новгородский, какое там зло, какое серчание, одна судьба у всех, уж если на молитве зло держать, тогда нам не арабских коней копыта надобны, а другие, не дай Господи. Езжай с Богом и мы поехали.
Перед войском Василий Димитриевич говорил слово:
— Дети мои! Воины православные!
Грянуло наше время! Настал самый великий и страшный час нашей жизни. Много больше сил у Тамерлана, чем у нас… Да больше ли, коли с нами Хозяйка дома нашего, дома Пресвятой Богородицы и все святые угодники наши!.. Взмолимся же, как один перед Ней: Пресвятая Богородица, спаси наши силы, дай отстоять дом Твой, прогони супостата прочь от пределов Твоих!.. И вперед на врага, воины православные, молитву неустанно повторять. И когда бой начнется, пусть она нам щитом будет…
* * *
Очнувшийся купец новгородский Павел, очень ясно вдруг осознал, что его серой красавице, которую он уже нарек Серной, давно пора не просто устать — выдохнуться после многочасовой скачки, но и вообще быть просто загнанной и упасть.
Но она не просто не падала, но держала первоначальный темп и не подавала никаких признаков усталости. А очнулся новгородский Павел от многочасовой молитвы. Очнувшись, так был этому поражен, что едва из седла не вылетел. Да, все это время пока продолжалась скачка, он твердил про себя: «Пресвятая Богородица, спаси землю русскую». Давно уже он едва рот перекрещивал по утрам, когда, зевая, просыпался, и делал то же самое, когда, зевая же, засыпал. А что бы вот так, много часов, будто в забытье, ничего не помня, в седле!..
И как грамоты княжеские и митрополичьи раздавал, раскидывал, тоже почти не помнит. Да и делал он это почти на ходу, почти не останавливаясь. Вот только сейчас остановился.
— Эй, селяне, это еще Тверская земля?
— Тверская, тверская. А ты откуда ж и куда, красивый такой? А лошадка у тебя, ну, прям, загляденье.
— Скоро таких лошадок сюда припрется, на каждого хватит. А на каждой лошадке всадник с копьем и с саблей. Эх, не дай, Господи… Вот что б не приперлись, вот вам грамота от Великого князя и митрополита и что б делали то, что в них прописано, о чем приказано. А приказано — молиться. И всех окрестных на это поднимайте. Сам вот всю дорогу только это и делал. Вот ты поди ты! А ведь это же чудо… Ну как, если бы третья нога выросла. Точно.
— Да тут эта… сказано, что все бросить…
— Вот и делай как сказано.
— Да мне сено вывозить надо! Завтра дожж могет быть.
— Могет. Тамерлановым коням оч-чень пригодится сухое сено.
— Да кто ж энт такой? Вроде Мамая что ли, вроде Тахтомыша?
— Мамай и Тахтомыш вместе взятые это щенок слепой, а Тамерлан — волк матерый. Вот такое вот сравненьице. И уже жертва первая волчья есть. Ельца больше нет, пепелище и развалины и такие как вы все перерублены.
— А такие как вы?
— В первую очередь. Пощады никому.
— А Елец-то вообще-то, того… — далеко.
— Для него все близко. Он вчера еще в Китае был.
— Да ладно врать-то.
— Его кони летают как ласточки, а плавают как щуки.
— Да ладно врать-то… И леса наши, того, не очень-то в них на конях-то.
— Из ваших лесов он себе степь сделает. А его кони все ваши болота-озера выпьют. Наше войско сейчас ему наперерез идет, но вас надеется. На молитву вашу, а я вместо того чтобы с войском быть, с вами вот тут… Приказ выполняю. И вы выполняйте. А не то — плетку возьму!
— Что же кроме нас и молиться некому на Святой Руси?
— Некому. Коли каждый на другого кивать будет — некому. Коли «Далеко», да «по лесам отсидимся» — некому. Близко и — не отсидитесь! Вот и выходит — не Святая Русь, а название одно. И Государев указ — не указ. Писано, да не про нас.
— Ла-адно, разгрозился тут… Не название одно… Про нас указ. Да и без указу, сказал — поняли сразу. Езжай дале с Богом.
— Эх, скажи мне кто утром, что — я! …кого-то на молитву подбивать буду — засмеял бы.
— И то, что это ты развеселился-то?..
— Да вот, понимаешь, мне ж эту вот кобылу, ребята, на обратном пути на себе на горбу тащить придется. Разве это не смешно?
— Кобылу на себе?! Это ж зачем же?
— Обещал. В ведь придется тащить.
— Ну как мимо нас потащишь, подсобим.
— Нельзя. Обещал, что один… Ладно, прощевайте, селяне, мне ведь не скакать, лететь велено, ласточкой лететь, не зря же подо мной скакун из Тамерлланова стана…
Изрядная толпа бородатых насупленных мужиков перегородила дорогу.
— …Не отдадим святыню…
— …И ваш архиерей нам не указ…
— …Да что там, да подкупили они его, они Московские такие…
— …Все себе забрать Москва хочет..
— …Обнесем крестным ходом вокруг города…
— Правильно! И довольно с того, а то — в Мо-ск-ву…
Елецкий Владимир пошел к толпе.
— Здорово, Владимирцы! Мир вам и благоденствие. Только не будет вам ни мира, ни благоденствия, коли не отпускаете на крестный ход образ сей Пречистой…
— Не, глянь, мужики, они еще и угрожают.
— Да Москва всегда токо на силе стояла…
— Не москвич я, владимирцы, поклон передаю вам от сожженного Ельца. И поклон не откуда передать, один я остался. Видел живого Тимура как вас вот вижу, ближе даже. Войско, вам предназначенное, наблюдал. В Ельце один я остался. Здесь никого не останется. Это он твердо обещал, а слово он держит. Образ малый сей иконы, список с вашего, защищал я, чудом Царицы Небесной цел и жив он. Сейчас владыко Киприан ему об нас с вами молится. Не пойдем против воли Матери Божьей, пойдем крестным ходом в Москву…
— …Не, опять они про Ее волю! Гляди-ка каки знающие.
— …Никто Ее воли не знает!…
— …Не отдадим!…
— Я знаю Ее волю. Отдадуте! — вперед выдвинулся князь Данила.
Мужики из толпы оторопели. Мгновенно наступила тишина и князь Данила мгновенно ей воспользовался. Он поднял вверх руку и во всю мощь своих легких гаркнул:
Да, я, князь Данила, слуга Государев, кстати я не Московский.
— …Москва все поглощает…
— Не перебивать! Я — знаю Ее волю. Ее воля прежде всего в том, что б этот чудо-собор, вами построенный, собор в честь Ее Успения, что б он целым и невредимым до скончания веков стоял. А в Соборе, что б образ Ее, главный образ Ее на Руси, — был, и что б тоже до скончания веков.
— …Был… Уносите же…
— Не уносим! А в столицу крестным ходом несем. А не понесем… не перебивать!! Не понесем — так и собор этот разрушен будет и икона великая сожжена будет. И ваше «скончания веков» здесь будет в огне и под саблями и копытами Тамерлана. Вместе с собором этим и иконой. И она вам этого не простит. А в Столицу несем, потому что — Столица, потому что Тамерлан на нее первей всего идет. Не будет столицы и державе конец. Всегда так. А без нее, без иконы этой, столица беззащитна.
— …Так войско же пошло…
— Войско только на этот крестный ход и надеется. Вся Русь надеется. А вы, подлецы, на пути встали. Да всего лишь в доме… Не просто в доме, а в Доме Пресвятой Богородицы из одной светелки в другую нарисованный образ хозяйки переносим Освещенный и всеми чтимый. До может завтра Ее же таким же крестным ходом в Смоленск понесем. А ведь и понесем, придется. Тефтоны-ляхи оттуда на нас скалятся и зубы не перестают точить. Да и кто на нас не скалится. И я и понесу ее в Смоленск из Москвы. С вами ж вместе. А оттуда на Дон, коли понадобится.. Дорогу! Все, кто ходить может, все вслед за иконой за нами. И чтоб пение ваше и колокола в стане Тамерлана слышали!…
— …Чего пристыл, елецкий, вперед за мной…
— Ну и глотка у тебя, князь Данило.
— Сам не ожидал.
— И я не ожидал, думал юлить будешь.
— Нет, с этими не поюлишь, не ляхи, эти сразу на вилы.
— Ты, это, князь Данило, за богохульника-то прости что-ли…
— Да уж чего там, было, не отвертеться теперь.
— Уже отвертелся, считай.
— …Эх, ну, берем что ли, благословили уже. Никогда столько попов вместе не видал все в праздничном, что ли правда со всей Владимирщины?
— Как не видел? В Москве-то? Да их на день Егория Победоносца в Москве больше… на крестном ходе…
— Эх, елецкий, давно я на этих празднествах не бывал… А скажи кто вчера, что с тобой икону эту потащу, так плюнул бы в того.
— Эк тебя на плевки-то разбирает, плеватель. Ну, а скажи, а сам-то веришь, что как ты им проорал тут, здорово проорал, так и есть, что спасительницу несем в Москву?
Вздохнул князь Данила тяжким вздохом:
— Нет, елецкий, нет увы… Я выполняю великокняжеский приказ.
— Хорошо, однако, выполняешь.
— Ну, если я знаю, что, когда и как ляху — немцу сказать, то уж нашим-то…
— Оно и — да, оно и — ладно… приказ выполнил ладно, глядишь и в душе отложится. Ведь в самом деле, спасительницу несем, князь Данило.
— …Да донесем ли, это ж толпища-то!.. Эй, растопчите ведь, свалите, оглоеды…
— Приложиться спешат.
— Гляди и плачут.
— Так ведь о спасении просят-плачут, ну и — прощуются…
— Да, может, назад понесем.
— Э, нет, Москва назад ничего не отдаст. Да и то, где же, как не в стольном граде Владимирской пребывать…
— Не, ну это, невозможно!.. Да не прите вы!…
— Пожалей глотку, князь Данило, в пути на другое сгодится, переть все равно будут.
— Не гляди, дети под ногами… Куда ты?! Задавят!
— К Цалице Небесной плилозыться…
— Плилозиться!.. — Князь Данило поймал мальчишку за шкирку и поднял его к иконе:
— Прикладывайся, шельмец,… подстрахони, елецкий.
— …Мамка, мамка, я плилозылся…
— …Ну и ручищи у тебя, князь Данила! Думал завалимся…
— Однака тяжела ноша, нести долго. Не сопреем?
— Донесем. Кто хоругви несет, тем тяжельше. Потужимся. Это тебе не с ляхом юлить.
— Это тебе не плуг за кобылой поправлять.
— Да, взялись за плуг, князь Данила, да не обернемся… Эх, Царица Небесная, спаси землю русскую…
* * *
Долго смотрел митрополит Киприан на Владимирскую из Ельца. Пытался представить, как на нее смотрел, что видел в ней Тамерлан.
Большим мастером был неизвестный иконописец со скрупулезной, дотошной точностью скопировал он икону. Абсолютная копия. Сколько Киприан не видел списков с Владимирской, точной копии сделать никто не мог, ибо невозможно скопировать эти глаза, этот взгляд — приникающий, успокаивающий и взыскующий вместе, при чем все эти три качества на самом высшем недоступном для любой кисти уровне. Ибо как ни манипулируй красками, геометрией линии и точек, из которых составляется изображение, как ни изыскивай соотношение цветов, как ни вымучивай из себя всего мастерства — знания движения выражений лиц человеческих, никогда не положить тебе того единственного штриха, той единственной точки, которая сделает изображение женского лица единственным вселенским ликом Девы — Богоматери. Нету в природе того штриха, той точки, не причем здесь любое мастерство. Что б снизошел на штрих, на точку тот Дух, творящий из лица святой лик, нужна сверх молитва, нужна рука евангелиста Луки, смотрящего на живую Матерь Божью. И вот неизвестный это сделал. Или так Киприану казалось? Ибо очень ему сейчас хотелось увидеть то, что присутствовало только у Владимирской, Ее единственность, Ее вселенскость. Это — Сама Богородица… И только мы, русские, эту вселенскость видим-воспринимаем. Вообще само то, что иконы вообще есть, что или переполнена Русская земля, воспринималось сейчас как чудо, как вселенская богоизбранность того чуда-понятия «Святая Русь», которому беззаветно отдался служить митрополит Киприан и частью которого себя считал.
Он зашторил окно, зажег свечу перед ликом и встал на колени. Маленькое узенькое пламя походило на желтую самосветящуюся кисточку. И пятно тусклого света на Богородичьем лике… «Пресвятая Богородица, спаси землю русскую!» — прошепталось тихо. Тихо, но страшно. Воплем взывающим, шепотом прошептанным.
И вот уже не тусклое пятно на лике, будто светящийся тоннель протянула от теперь ослепительного лика к шепчущим губам Киприана. Никуда конечно не выйдет он из своей кельи и ни с какой плеткой не пойдет по Москве, не оторвать от себя молитвенный тоннель, соединяющий с Царством Небесным и Царицей его.
Каждой клеткой тела своего, каждым нервом мозга своего, каждой незримой стрункой души своей осознал Киприан, что вот сейчас только, впервые в жизни и возможно в последний раз, пробуждается в нем то, что и называется — молитвой. Это тоже — дар, дар на малое время, ибо не может обычный человек вынести этот дар долговременно, взорвется, распадется душа от такого напряжения. Великий старец Сергий молился такой молитвой каждый день, но то — Сергий. Нет его больше. Как нет?! Давай, батюшка Сергий, рядом ты сейчас с Той, к Которой я обращаюсь, помогай!…
Пытался Киприан, все время пытался, устроить в себе непрестанную молитву, но каждодневные митрополичьи дела, постоянное дерганье со всех сторон, непрестанное общение с людьми, ломали непрестанность молитвы. Привычка вникать в каждую мелочь, в любой обыденной текучке искать и находить не мелочь, даже Иисусову молитву приглушала. Невозможно оказалось вникать, думать, говорить и делать и молиться одновременно, только когда до любимого своего подмосковного Голенищева добирался, только там мог уединиться, да и то только на считанные часы. Только там чувствовал себя — монахом. Там размышлял в тишине как понять, объять и соединить с архиерейским своим служением слова великого Исаака Сирина: «Без удаления от мира никто не может приблизиться к Богу. Удалением же называю не переселение телом, но устранение от мирских дел. Добродетель удаления от мира состоит в том, чтобы не занимать ума своего миром»…
Это ведь про монахов! Какое уж тут не занимать ума своего миром. Но если отнят миром огромный пласт от монашеского молитвенного дела при архиерейском служении, то это явно и безусловно — такова воля Самого Основателя Церкви. Разрешает Он монаху, если надет на него архиерейский клобук, занимать ум свой миром и послабу дает молитвенно-аскетическому деланью. Но уже за архиерейское служение так спросит как ни с кого ничего не спрашивает. И если хоть крупица этого служения не по совести, нерадиво, не продумана до конца и со всех сторон, если, взвешивая решение, хоть что-нибудь упустил, если в не ту сторону рассуждение повел, если важное за неважное принял и наоборот, если Божий дар с яичницей спутал, если Божью волю не распознал и свое решение под нее не подстроил…
…А возможность распознания воли Его дана Им коли Он на дело подвиг и панагию архиерейскую вручил, …вот тут-то и молись, от всего отрешись, не ленись — спрашивай. Ответит!… И если хоть в одном из этих «если» промашку дал — никакой пощады. Там, в трясине преисподней, среди огня — чада вечных тоски и страха быть тебе в самых нижних рядах, а на голове твоей языческий жрец будет стоять и участь его легче твоей будет. «Крест тяжек, архиерей, не жди поблажек,» — как говорит князь Данила. Как только пришло окончательное познание этого, осознание до самого дна души, так пришли жалость и прощение к двум главным врагам своим, наглому беззаконнику Митяю, рвавшемуся в митрополиты, и еще более наглому обманщику, дружку Митяевому, архимандриту Пимену. Последний таки дорвался до митрополичьего сана через подложные грамоты. Оба страшно и не по-людски кончили. Искренно и истово каждый день молился Киприан об их успокоении.
А уж натерпелся он от них и из-за них… «Как кабан между волками — и рылом и клыками…» — как сказал князь Данила. И сам Данила среди тех волков побыл и он гнал Киприана. Да было, что и били его и в тюрьму заключали и из Москвы выгоняли москвичи, Митяем подговоренные. И от самой Верховной власти понапраслину пришлось терпеть, что не сторонник он Литвы, коим он отродясь не был, много чего было, то в Киеве приходилось оседать, то в Константинополе судиться. До отчаянья, до озлобления шаг только был, не позволил себе тот шаг сделать, чувствовал правоту свою, законность своего поставления и молился тогда как никогда. Тогда и понял, что такое есть скорбь, на человека, свыше насылаемая, а только так и понимал он тот ужас, что скрутил тогда его жизнь.
Мечом и щитом только в бою владеть научишься, а меч, в огне горна не побывавший, — не меч. Азбучная истина, но что это истина, только через личную шкуру понимается, когда она сквозь шкуру понимается, когда она сквозь скорби продирается. И про смирение только такие вот мытарства дают ответ, что оно такое. Все святоотеческое читанное про смирение и смиренных — замечательно. Глядишь в глаза игумена Сергия и плакать хочется — нет в них ничего кроме смирения и любви и чувствуешь совершенную их недоступность для себя, сколько ни прочитай, сколько ни гляди. Но, когда тебя, законного митрополита, предназначенные для тебя пасомые, за панагию хватают, да с метлами на тебя выходят… Такая обида поднимается!… И тогда понял — если обиду не выгнать из себя, причем так гнать, как вот сейчас метлами тебя гонят, — можно уезжать из этой страны и отказываться от митрополии. Не думал Киприан ни уезжать, ни отказываться, однако послание сердитое, обидчивое написал Сергию. Все справедливо написал, но тяжко было на душе, когда представлял, как читает его послание Сергий и плачет. И чувствовал на себе будто тоннель молитвенный от Сергия сквозь бушующие напасти — напраслины. Тогда и решил твердо выжигать обиду, всю молитву, какая есть, на это направил. Тогда и увидел сквозь Сергиев тоннель, тогда и осознало до конца, проколотое обидой сердце, огромность, грандиозность глыбы-горы под названием Смирение. И недоступность-неприступность ее вершины при проколотом сердце. Смирение, это не болтание щепкой на волнах обстоятельств, не униженное подчинение сильному, не вынужденная линия жизни слабовольной, себя не уважающей души, смирение это целенаправленное действие от осознанно принятого твердого решения каменной воли. Безволие и смирение это вода и огонь, вместе им не жить. Смирение — это высшее достижение всех, что есть вместе взятых творческих возможностей, что заложены в нас Создателем. Смирение это — сила, необоримая ничем. Вера, которая горы сдвигает, стоит на покаянии, горы оно двигает. Позыв к покаянию — начало веры, покаяние рождается из зернышка смирения. Воля безоглядная, разум, от гордыни просветленный, душа, наполненная жаждой очищения — почва, зернышко питающая. Взрастая и крепчая, все это вместе образует пирамиду Духа, на вершине которой — святость. Все это известно было, но только, чувствуя через тоннель, сергиев плач-молитву оттуда, с вершины, чувствовал, что тает-плавится игла-обида, проткнувшая сердце, тает и вытекает. И когда новой напраслиной облили его, что де сбежал он из Москвы во время Тохтамышева погрома, то просто плакал. Не оправдывался. Погром был страшный, сожжено и разрушено почти все, 24 тысячи трупов лежало в развалинах Москвы, когда он вернулся туда из Твери. Неделю целую погребали их. Не сбежал он из Москвы и не трусил, не смерти боялся Киприан, боялся оставлять пасомых своих, государство, без архиерейского окормления, без митрополичьей власти. Без них — смерть Святой Руси. И вообще, самое страшное для этого народа, частью которого он уже был — безвластье. Никакой погром не страшен, после любого набега отстроимся, если есть власть княжеская и митрополичья духовная. Они нераздельны, но каждая независимо делает свое дело. Таинственность и непостижимость их нераздельности и независимости, их совместного бытия-действия осознал-прочувствовал сразу, когда при первом появлении на этой земле (думал торжественно встретят) с него начали будущие пасомые облачения сдергивать и метлами…
Всего лишь шесть лет назад все улеглось, утряслось, окончательно оформилось в сознании пасомых и великокняжеской власти, что именно он — митрополит Московский и всея Руси, ему — мирить ссорившихся князей, защищать обиженных, благословлять на войны, гасить-упразднять церковные смуты. А смуты эти волнами идут, один раскол стригольников чего стоит, начали с того, что, мол духовенство предано корысти и потому — де таинства, им совершаемые, не действительны, а кончили полным отрицанием таинств (Да только так и бывает), что и за усопших молиться не надо, потому что воскресения мертвых нет. Во как! Это на Святой-то Руси такие вот волны! И все волны — с Запада. Стригольники из Псковщины, а с Новгородом непреходящая морока с его вольностью-самостийностью. Пора понять им, что никакой вольности-самостийности не будет у них, вся Русь под Москвой будет, так все никак, все не унимаются, заерепенились совсем недавно, насчет прав митрополита на церковный суд в ихнем Новгороде, сам в Новгород ездил, увещевал подчиниться — ни в какую. Только войсками удалось их унять. И Василек молодец, скалой встал на его стороне. И вот теперь Тамерлан…
Пресвятая Богородица, спаси землю Русскую!.. — устремился в светящийся тоннель уже крик его, а не шепот. И увидел он, хотя глаза его были закрыты, что принят его крик. И от лика, от глаз его взыскующих, пришло отдачей нечто, чему нет определения ни на каком языке человеческом… Чего нельзя определить, о том не надо говорить, — как сказал бы князь Данила… Однако, можно определить! Это крик его, облагодаченный Духом Святым, отразился от лика и ударом вернулся. Значит и Отец Небесный тут, только от Него Дух Святой исходит. Живой лик, от которого тоннель светящийся протянулся, он попросил. А если он просит, дается — все! Но, чтобы он попросил, вот так к нему надо возопить, как возопил сейчас он, митрополит Московский и всея Руси Киприан, все свое, личное из себя выбросив и превратившись всем существом своим в этот молитвенный крик-порыв. Страшен был удар отразившегося облагодаченного потока, давящая, ломящая боль волной прошлась по всему телу, она вышибала все остатки того «своего», «личного», что неизбежно оставались еще, ибо невозможно личным усилием, вышибить из себя ВСЕ, личное что мешает созерцанию и пониманию того, что тебе сейчас дано будет, что ты просишь. А понимаешь ли ты что ты просишь? — обдало сразу после удара все очищенное этим громом — вопросом. А тело все — в каменном оцепенении, не нужно сейчас тело, нету его…
— Да, теперь понимаю, — выдохнулось слезно и сокрушенно из бестелесного, очищенного разума. Рассыпался гром-вопрос в очищенном разуме на мириады составляющих, суть и громкость которых были такие же как и то, из чего они образовались. Каждой бестелесной клеточке, досталось своя составляющая. О, Господи, утиши волны благодати Твоей.
— …Да, понимаю… Спаси землю Русскую!!..
СПАСИ… — огромность, многогранность и в то же время предельная простота, простота, у которой нет никаких составляющих, однозначность, единственность этого всеобъемлющего, грандиозного слова — СПАСИ — только этим СЛОВОМ молиться надо, только об этом просить…
…От чего — спаси? От кого — спаси?
От копыт коней Тамерлановых? Давно забыт Тамерлан, при чем здесь Тамерлан? При чем здесь любая напасть земная?… «Давно забыт?» А как это «давно»? Что такое «давно»? Да ведь нет же времени в Царствии Там, где Ты — Царица. И я сейчас — в нем… Дай его всем, всем моим пасомым, это прошу… нет — требую! — я, митрополит Московский Киприан, Ты Меня посадила домом твоим управлять, так дай же им, всем!!.. кем я управляю жить в том Царстве, где Ты — Царица!..
СПАСИ!.. «Да будет воля Твоя — вот то главное, что понимается сейчас, перед тоннелем благодати стоя… Воля Твоя… Во всем!.. Без обиняков, без толкований, безо всего нашего дурного мудрования. «Что Бог не делает, все к лучшему» — И только так!
И если такова воля Сына Твоего, что бы растоптан был дом Твой Земной — Святая Русь, а жители его прекратили своего земную жизнь — да будет так. И никаких вопросов нет и быть не может почему так, коли такова воля Его, Твоего Сына. Но!…
СПАСИ… — спаси жителей дома Твоего, вознеси их ВСЕХ в твое Царство, всех до единого, никто из них, и я в первую очередь не заслужили того, но ты, все равно, вознеси всех! Меня оставь, ибо из всех недостойных, я самый недостойный, пастырь их,.. но всех остальных — вознеси… И пусть я не истребил в них их грехи…
Возвращалось тело, отпускало каменное оцепенение, уходил в кисточку-пламя святящийся тоннель… Тусклое пламя свечки горело перед Владимирской иконой.
— …Владыко, владыка! Прости уж, что тереблю тебя так. Владыко, видишь меня, слышишь меня?
— Что?.. — Киприан увидел склонившегося перед ним келейника:
— Владыко, который уж день на коленях стоишь,.. аж подойти к тебе страшно, благослови слово молвить.
— Говори. Помоги подняться, затек.
— В Москву, владыко, входит Царица Небесная, Владимирская, уже к Кучкову подходит, вся Москва на улицах…
— Ух… ой, подержи-ка, шатает… Звонят-то как!
— Набат.
— Беги, скажи, пусть на трезвон переходят. Красным звоном встречать Царицу Небесную!
Раздался удар в дверь и в келью ввалился звонарь с Успенского собора. Аж вскрикнул митрополит и келейник.
— Владыко! Огонь на вышках. Без дыма!!.
* * *
— Хаим, отчего мы так долго стоим, отчего не идем на север?
— Ты объявил отдых воинам, о, повелитель, — Хаим улыбался своей неподражаемой улыбкой. — И сейчас ты спрашиваешь, о, пытливейший, жалкого Хаима то, о чем может знать только один человек во всей вселенной. Это властитель вселенной — ты, повелитель. И вот совет жалкого Хаима — пора. Кони насытились и отдохнули, а всадники никогда и не уставали. Пора! Я тут выяснил из какого тумена были те, убитые отпущенным тобой крестьянином.
— Ну! — лежащий на тигриной шкуре Тамерлан приподнялся на локте.
— Я выстроил его от твоего имени, повелитель.
— И?!
— И я объявил им всем благодарность от твоего имени. Только от твоего общения с пленным у тебя созрело беспощадное решение про эту страну. Прости, о, беспощадный. А тумен оказался тот самый, который ты показывал пленнику. Город Владимир, их бывшую столицу, я обещал этому тумену целиком.
— А та доска большая?
— Той доски уже там нет. Как доносят мои лазутчики, она на подходе к Москве.
— На подходе? А что, у нее ноги есть?
— Ноги есть у того, кто ее несет, — улыбка исчезла, примерзлость всегдашней подобострастной ухмылки осталась на велико-везиривых, толсто-жабьих губах, — а ног много.
— Они что, уносят ее, что бы мы ее во Владимире не взяли? Так в Москве я буду раньше.
— Нет, о, пытлиыейший. Они сейчас всей землей бьются о землю головами своими перед этой доской, что бы ты не был ни в Москве, ни во Владимире.
— Ха, действительно лишний народ в моей вселенной. Опасный народ. Ты говоришь, что только на это их головы и годятся, как только, чтобы биться о землю и падать на землю от моих мечей… Да будет так,.. — зевая Тамерлан ушел всем телом в тигриную шкуру, — завтра,.. уже сегодня, — дорассветный подъем. Пора кончать с ними.
— Не помазать ли мне твою ногу, повелитель?
— Нет, Хаим, сегодня не так она болит, иди…
Никто кроме Хаима в завоеванной вселенной не мог напоминать Тамерлану о его хромоте. Он сам напоминал о ней демонстративно свите своей. Да! Хромой калека повелевает вселенной. Пощупал меч. Меч был на месте, пошла сразу от него к пальцам успокаивающая, силы дающая энергия. Хорош Хаимов подарок. Кол с бриллиантами в ответ разве хуже, ха-ха-ха…
Замер смех, хуже даже, подавился смехом Тамерлан: он увидел как растворяется в черном почти воздухе его шатер.
Звезды яркие теперь были шатром. Он обалдело огляделся. Он был один в степи. Шкура тигриная была под ним, меч рядом, но больше никого. Войска, с которыми завоевано пол-мира — не было. Ничего и никого не было, только звезды и он сам, Тамерлан, владыко мира. Один на тигриной шкуре. Показалось, что будто звезды зловеще ухмыляются — один! Да — один! Но ведь не могут звезды ухмыляться. Причудилось. Но… Это уже не чудилось, не казалось, он услышал вдруг подземный гул приглушенный, в грохот переходящий, так начинается землетрясение, знал он. Хотел вскочить, но будто прилипло тело к тигриной шкуре, не было сил не только вскочить, но и просто, крякнуть, подняться. Стих внезапно гул-грохот, высокий земляной вал перед ним набухал, поднимался еще выше, наконец перестал подниматься, застыл. Из-за вала начало нарастать, рассеивая черноту ночи, необыкновенное свечение, еще мгновение и — нет ночи, нет зловеще усмехающихся звезд… и он увидел на вершине вала — Ее. Она! Будто из той доски, на которую плевал Хаим и не плюнул пленник, отскульптурилось и ожило изображение Ее. И невозможно ослепительное сияние вокруг головы. А за ней какие-то крылатые светящиеся. А рядом с Ней какой-то невозможно — страшный, красный крылатый и взгляд, душу пронзающий, тело убивающий… А в руке у него рукоятка вроде как от меча, а от рукоятки не лезвие, а пламя, с ревом низвергающееся пламя, бьет в землю в нескольких локтях от хромой ноги владыки мира.
«Одного этого красного с мечом хватит на все мое войско», — пронеслось в ошалевших, пристывших извилинах Тамерлана. Сжал крепче свой меч под боком. Нет, это не меч. И тут услышал он голос Ее:
— Видишь ли ты Меня, железный хромец? Слышишь ли?
— Да, — едва выдавились из царственного рта, — вижу, слышу.
— Узнаешь ли?
— У…узнаю… Не сверкай так, ослепну… — и сквозь закрытые веки приникала необыкновенная, ослепительность от Ее головы.
— Ослепнешь. Коли слышишь, слушай, пока не ослеп. Ты вторгся в запретные пределы. Эта земля — Моя. Здесь милую и сужу только Я. Уходи. Если к полудню ты будешь еще здесь, здесь ты и останешься на веки с войском своим…
Ударило огнем из меча крылатого в лапу тигриной шкуры, вскрикнул Тамерлан, рывком назад отполз… Не было ухмыляющихся звезд, снова он лежал в своем шатре. Что это было?! Да было ли? Было. Дыра в тигриной лапе и обугленная земля в дыре, — первое, что увидел очнувшийся владыка мира. Было: все очнувшееся сознание состояло только из Ее голоса.
И уже светало.
Схватил шнур и все дергал и дергал в истеричном изнеможении и чего-то кричал. Очнулся. Увидал перед собой ошарашенных военачальников, свиту, Хаима с обоими помощниками.
— Прости меня, о, расслабившийся, все ли ты вспомнил из своего сонного видения, что мы все сейчас слышали? То, что ты нам поведал, собрав нас?
— Это было не сонное видение, Хаим. Я не спал!
— Ты спал, повелитель, я не прощу себе и прошу себе самого строгого наказания, что я не прислал тебе твою любимую наложницу…
— Я не спал, Хаим!
— Спал, повелитель! Ты спал, Тамерлан!
Удивленно воззрился на великого визиря железный хромец. Так с ним говорить не было позволено никому, даже Хаиму. Хаим бесстрашно глядел в глаза царю царей.
— Да, это говорю тебе я, твой великий визирь, который ни разу не соврал тебе и ни разу не ошибался. Кол с бриллиантами не мой кол. Ты спал, государь! И не пристало владыке мира прислушиваться к бабьим голосам, во сне приходящим. Мало ли какой мне был сон. Воин, покоритель вселенной, который прислушивается и присматривается к снам, лишится и своего шатра! Могучий Тамерлан испугался бабы в своем сне?! Моя шея к услугам твоего меча, моего подарка, но я не откажусь от своих слов!…
Бабий голос?… И вновь ожил Ее голос и послышался гул, будто от начинающегося землетрясенья:
— …Если до полудня…
— К полудню мы должны быть у Оки, государь.
— Что? — приблизил свое лицо к лицу великого визиря — и ты ведь тоже какой-то не такой, Хаим.
— А тебе ничего не сни-лось?!
Не выдержал тамерланова взгляда Хаим, опустил глаза.
— Мне сны не снятся, повелитель, я крепко сплю… Я страшусь того решения, что зреет в тебе, о, решительный. Что скажет войско?
— Ты не спал, повелитель вселенной, врет твой великий визирь.
— Что? — Тамерлан обернулся на голос, — это ты сказал, Огрызок?
— Я готов повторить это, как Хаим готов повторить обратное. Темир Асак, великий Тамерлан, не подвержен сонным суевериям…
— С каких это пор, о великий, — яростно перебил Хаим, — Огрызок смеет перебивать твоего великого визиря?
— Он не перебивал тебя, Хаим, а на таком совете может сказать каждый, даже Огрызок. Тем более, что этот такой совет собран в первый раз. И думаю — в последний.
— Он обвинил меня во лжи! А ты меня! Коли твердишь, что я спал!
— Ты спал, о, твердокаменный.
— Ты не спал, о, разуменейший…
— Хаим, давай не припирайся друг с другом как два пьяных дервиша на бухарском базаре, дабы не постигла нас с тобой участь тех дервишей, и заодно и бухары, сметенной нашим повелителем…
В другое время Хаим рассмеялся бы такой дерзости Огрызка, даже Тамерлан прощал Огрызку его всегдашее шутовское хамство, но сейчас Хаим был свиреп и нудержимо напорист против всякого, голос подающего, говорить должен только он, Хаим, и даже этого, которого никто всерьез не принимал задушить был готов за дурное припирательство.
Не воняй свое шакальей пастью, Огрызок, сейчас не время шуток, болаганить будешь в Москве.
— Как раз именно там, Хаим, балаганить я не буду, потому что я не пойду с войском, если оно пойдет на Москву.
— Теперь Тамерлан смотрел только на Огрызка и лицо его выражало полное изумление. Пойдет или не пойдет Огрызок с войском, было Тамерлану не просто все равно, но просто такого вопроса существовать не могло. Если в 25-м тумене, в 38-м обозе сто восьмидесятой сотне, у 62-го кашевара трехсотой арбы, щенок приблудный, которому кашевар несколько раз кости, уже обглоданные, подкидывал… пойдет или не пойдет этот щенок с войском дальше, имеет для Ковара значение? А для командующего 120-б туменами? Иногда Тамерлан вспоминал Огрызка и это резко поднимало всегда его настроение, а значит и настроение и всех окружающих его. Очень любил Тамерлан в промежутках между сражениями щелкать по носу Огрызком высококровных и осанистых членов своей свиты. Например, в последний раз очень развеселила всех пропажа фамильного перстня у бывшего наследника у бывшего эмирата… забылось вот название эмирата, уж больно много их было, спер перстень, естественно, Огрызок (больше просто некому) и, уже почти уличенный, подсунул его в карман бывшему наследнику бывшего харезмшахства. Потом, вместе, оба наследника отлавливали Огрызка на предмет совместного побития его (убивать Огрызка Тамерлан категорически запретил), так и и не отловили и в этом отлавливании и состояло веселие Тамерлана и его свиты. Двадцать языков знал Огрызок и на всех языках этих его звали только Огрызком. Не сговариваясь. Про себя он говорил так: я сижу на пирамиде жизни, как на Тимуровом колу, слезть с него нельзя, с него можно только вынуть, — мертвого, ха, ха, ха. Пирамида жизни состояла из подлости, ухватистисти, бессовестности, сверхлукавства и сверхненависти к окружающему мира и населяющим его людям. Высота пирамиды, не досягаема ни для кого, кроме Огрызка. И — сверхжажда отомстить окружающему миру и населяющим его людям за такую его жизнь, проткнутую пирамидой, за самого себя, такого, какой есть. Все дество безпризорничал, воровал, был постоянно (и за дело) бит, бил сам, оттачивал мастерство мошенника, (отточил до невероятия), сам себя продал в мальчуковый гарем сарацинского купца, потом купца того сжег вместе с гаремом и кораблем в багдатском порту, потому, в том же порту поджигал с успехом корабли конкурирующих купцов (кто больше заплатит, того поджигал чуть позже), погорел на попытке поджега индийского корабля, удалось бежать, потратив на побег все заработанное, потом промышлял на великом шелковом пути в качестве разбойника, предводителя шайки разбойника, начальника караванной стражи против разбойников, был бил и разбойниками и купцами и охранниками, дорвался до должности советника одного приуртышского хана, которого и продал вместе с ханством Тамерлану, в чем Тамерлан совсем не нуждался. Обещал, что стравит двух мелких ханов меж собой на потеху повелителя вселенной, что и сделал с успехом. Хохоча, Тамерлан наблюдал побоище двух несчастных войск друг против друга, кончившихся полным истреблением друга друга. Никогда так не хохотал Тамерлан ни до ни после, наблюдая неуклюжее единоборство дерущихся друг против друга скотоводов, дерущихся не пойми за что, за хохот Тамерлана над ними. Так и прилип с тех пор Огрызок к Тамерланову войску, время от времени веселя повелителя вселенной какой-нибудь уникальной свой выходкой, размер подлости которой даже Хаима заставлял головой покачивать и смеяться: ну, Огрызок, спорить готов, что нет больше такого подлеца (на кол сяду добровольно, коли найдется) в той вселенной, которая уже завоевана…
— Так ты сказал, Огрызок, что не пойдешь со мной в Москву? Или я ослышался? — Тамерлан подходил к Огрызку мягкой, демостративно полукрадущейся походкой. Для кого бы-то ни было, к кому вот так шлет Тамерлан это означало только одно — стопроцентную смерть от тамерланового меча, рукоятку которого он всегда сжимал правой рукой, когда вот так подходил к своей жертве.
— Значит ты, ты ог-ры-зок, ты огрызок даже для последней вши моей шкуры, на которой я сплю, и, вот ты — со мной, ха-ха-ха, не идешь на Москву. Ай, какая угроза! Ха-ха-ха.
— Свита и военачальники грохнули ответным хохотом, большинство свиты вымученно-поподобострастно, военачальники искренно-весело. — Хаим, ты видишь, его, ты слышишь его, этого Огрызка, он со мной не идет на беззащитный город, в котором одном богатства как в трех Персиях. Ай, какое горе, что будем делать, Хаим? Сколько раз его сжигали, Хаим?
— Я не считал, повелитель. Но огонь от тебя должен быть последним огнем этого города.
Резко обернулся Тамерлан на Хаима, не спел Хаим огородиться подобострастной улыбчивой маской, зло, растерянно и устало глядел на повелителя Хаим. И понял Тамерлан: вне всякого сомнения тоже голос мучил Хаима.
«…видишь ли ты Меня, слышишь ли?..»
— Видишь ли ты меня, Огрызок! Слышишь ли?!
Тамерлан рывком перевел свой испепеляющий взгляд снова на Огрызка.
— Вижу, Тамерлан, слышу. Очень хорошо тебя слышу, Железный Хромец. Лучше, чем ты слышишь Ее, …ты очень живописно обрисовал Ее, спасибо тебе за это… Она похожа на ту, на доску нарисованную, на которую плевал твой Великий визирь, на которую не плюнул тот пленник из-за чего ты, якобы и идешь покорять эту страну?.. Не сверкай глазами, отвечай, по-ве-литель. Похожа?!
— Как две капли воды. — Не узнал своего голоса Тамерлан. И никто из окружающих не узнал, аж вздрогнули все разом военоначальники великого полководца. Великий завоеватель, будто кукла заведенная, отвечает быстро-быстро (и слюну сглатывая!) И не кому-нибудь, Огрызку!.. — «как две капли воды…» И вперяется взглядом владыко вселенной в поганого Огрызка, будто впервые видит, будто нашел чего-то в его шутовском облике, нечто такое, что вот так вот перекорежило его всего. А и то, — военачальники сейчас, глянув на Огрызка и впрямь не узнавали его, никогда так не смотрел Огрызок, а тем более на кого?! — на владыку мира, да и вообще!.. никто ведь никогда веди и не видел взгляда Огрызка, потому что не было его, взгляда, потому что никогда никому не смотрел в глаза законченный подонок Огрызок, всегда его глазки бегали. И вот, не мигая, уверенно стоя, глядит прямо в испепеляющие глаза своего повелителя.
— Не пялься на меня так, Тамерлан, и не зови меня больше Огрызком, спасибо тебе, ты возвращаешь мне имя.
— И как же теперь тебя величать?
— Не надо меня никак величать, обойдемся. Она найдет как меня поминать, а я не знаю, не помню. Но я больше не Огрызок.
— Так кто же ты? — рявкнул Тамерлан. И тут же будто опомнился, головой туда-сюда забодал-закачал, да что же это происходит, с кем я говорю…
— Со мной, — тихо сказал бывший огрызок, так сказал, что будто морозом страшным, мгновенным, прошлось по нутру Тамерланову, и внутренний голос угадал «со мной»… Да кто ты вообще…
— Меня слушай Тамерлан, а не великого визиря, уходи, Она — не шутит.
— А может не было Ее, Огрызок, а? Великий визирь вон так и говорит.
— Он врет.
— Он никогда не врет.
— Он врет сейчас.
— А зачем ему врать сейчас?
— Об этом спроси у него сам. Думаю ответа ты не получишь.
— Хаим, что ты на это скажешь?
— Мне не о чем говорить с Огрызком, государь, я поражен, что с ним говоришь ты.
— Я тоже поражен, Хаим. Поражаться есть чему, Хаим. Представляешь, Огрызок принял решение, сочетание этих слов не возможно, решение он может принять только о том, как стибрить перстень, а потом залезть на такую на одну моих наложниц, за что кара однозначная для всех — смерть. Он знает это, Хаим, и он идет на этот риск каждую ночь, хотя он прохвост знает, что именно его-то я за это не казню. Ты рисковый человек, а, Огрызок?
— Нет, Тамерлан, я трус, это известно всем, и тебе больше всех. Прости меня за наложниц. Но если ты еще раз назовешь меня Огрызком, я плюну в твою морду и не буду растирать плевок полотенцем, как растирал его на той доске твой великий визирь.
Это было уже слишком, это было сверх всякой меры, а Огрызок — улыбался. И это было вообще вне всех мер.
— Ты пил вчера… — и не назвал Тамерлан его Огрызком.
— Да, Тамерлан, и ты это знаешь, это знают все, потому что пил я каждый день.
— Может ты с похмелья рвешься на кол?
— Похмелье кончилось, Тамерлан. Лучше на кол от твоей руки,.. Хаимчик, пару бриллиантов со своего кола не подбросишь?.. Чем смерть о Нее в твоем походе на Москву.
— И чем же предпочтительнее мой кол? Пару бриллиантов я на него наклею.
— Твой кол предпочтительнее тем, что смерть на нем, это жизнь с Ней.
— Это ты с сегоднешнего похмелья решил?
— Да Тамерлан, после этого я увидел тебя, ты сам меня позвал, как позвал всех. Вот они стоят перед тобой, с ума сходят, думают, а не рехнулся ли наш поливелитель. Только Хаим так не думает, он-то знает, да весело мне Тамерлан. И на колу, которого мне не избежать смеяться буду. Спасибо тебе Тамерлан. Вот оно как бывает, видишь, какая причудливость случается, это Она меня позвала твоим истерическим голосом. Испугался повелитель вселенной? Правильно испугался. Я сам испугался, тебя увидав. Да, Тамерлан, только тебя увидав сегодня таким, каким ты сейчас есть, услышал я Ее голос. Ко мне! Столько, сколько святотатств в жизни сделал, ты меньше городов взял, Тамерлан… Хоть сотня блаженных Августинов напевало бы мне этакое свое святошеское, рассмеялся бы только. И смеялся. За этот смех сегодняшний кол и будет мне ответом. Тебя мне надо было увидеть было таким, Тамерлан, каков ты сейчас. Не подвержен никаким галлюцинациям сонным полководец Тиму. Глаза и уши Тамерлана видят только то, что есть на самом деле, нет в мире большего реалиста, чем Тамерлан, иначе этот мир бы не лежал бы у его ног. Еще минуту назад и не думал я, что смогу вот такое сказать. Да какое там сказать — подумать. О чем можно думать, слезая твоей наложницы, Тамерлан, самой красивой женщины мира. И тут я увидел тебя. И увидев тебя, понял я, что ты действительно видел и слышал Ее. Ты сейчас смотришь на меня и чувствуешь, что я прав. Может ты все-таки не посадишь меня на кол, Тамерлан?
— Не посажу, если ты скажешь, что ты — Огрызок. И все, что ты сейчас наплел — твое вранье.
Именно сейчас мое вранье кончилось, и я — не Огрызок!
— О великий,.. да на меня смотри, Тамерлан!
— Что? Хаим, это ты так сказал?
— Я! Ты видишь о мудрейший… Да на меня смотри, а не на Огрызка!.. Да, я такой храбрый, что вот так тебе говорю, потом сажай меня на кол с этим Огрызком. Ты видишь, что эта земля, что эти доски с людьми делают? Ты хочешь, чтоб против тебя выступил тумен вот таких Огрызков и таких, как тот урод крестьянин-рыбак?! И их тумен сомнет даже тебя! Ты глянь на этого Огрызка, что Она с ним сделала. Ты!! Сделал! Своей истерикой… Эту землю, которая вот таких вот Огрызков!.. Ее надо сжечь и растоптать, государь.
— Да? — успокоился вдруг Тамерлан.
— Да.
— А теперь о деле.
* * *
— А ведь не спал ты, Хаим. А в тебе нет того голоса, что есть во мне? А?!.. — страшным шепотом прошептал Тамерлан, — а ты! — возвысил он голос до крика, — даешь ты мне гарантию, мне! И войску моему!.. И вот им, военачальникам моим, братьям моим по оружию!.. Что угроза эта… не спал я, Хаим!! Что угроза эта ничего не значит? Коли ты, ты! — даешь, к полудню будем на Оке. Так, ты даешь нам гарантию, что войско мое не попадет под землетрясение, что кони все вдруг не сдохнут от не пойми чего… Ты! Даешь! Гарантии?!
Закрыл глаза великий визирь. Видел, чувствовал Тамерлан бушевание в душе Хаима от того же голоса, что жил сейчас в нем самом. Жуткой гримасой искорежилось лицо великого визиря. Из искореженного рта прохрипело:
— Нет. Не даю.
— Ты действительно великий визирь, Хаим… А Огрызка на кол. Всем команда: полный сбор, по коням, строиться в походный порядок. Движение на юго-восток, к Волге, по дороге, до самой Волги никого не трогать, темп движения — скорой рысью. Все!..
* * *
— …Владыко, огонь без дыма!
Победа?!
— Победа! Ушел железный хромец.
— Как ушел?
— На копытах своих ушел.
Трезвон красный, всем колоколам звонить! Всей Москве, всем кто есть вокруг к иконе прикладываться…
* * *
Прижав уши, не рысью, а полным галопом мчался несравненны ахалтекинец, красавец Айхол, будто и впрямь чувствовал реальность угрозы от купца Новгородского на жаркое угодить. Не знал он, что в это время купец новгородский стоит перед своей Серной и на чем свет клянет ее и себя — ну ведь никак не дотащить ее на себе до Москвы, где уже ждет его полная бочка медовухи, приготовленной князем Данилой.
Ничего этого не знал Айхол, погоняемый царственным хозяином. Никогда Айхол не чувствовал хозяина таким, ни разу еще до этого не доставалось ему плеткой просто так, в походной скачке, а сейчас всего исполосовал. Чувствовал только красавец Айхол, что никогда больше не ступят его копыта на эту землю, откуда вот так, без боя, уносит он своего хозяина. Сам же хозяин скакал с закрытыми глазами, которые видели обгорелую землю в дыре тигриной лары, в уши его еще были наполнены тем голосом, которому поверил он, уводя с собой свое непобедимое войско. И нанося плеткой очередной удар своему Айхолу, чувствовал зависть к этому беззащитному без войска народу, который не нуждается ни в каком войске, пока защищает его Та, Которая сказала ему:
— Эта страна Моя, здесь сужу и милую Я.
И голос этот накрывал сейчас его, владыку мира, будто покрывалом неким, невидимым и прозрачным, на невыносимо жалящим, на ухо кричащим: бегом! вон пошел!
И войско его, сзади скачущее, жаленье это чувствовало, и каждому солдату этого удирающего непобедимого войска ясно было, что кто бы их ни вел, никогда больше и приближаться нельзя к земле этой, от которой гонит любое непобедимое войско, еще более непобедимый жалящий покров-голос: «Эта страна Моя! Здесь сужу и милую только Я!».
Спецпродотряд имени товарища Диоклитиана
Отъевшийся на реквизированном сене конь Семёна Будекина испытывал к согнанной толпе такую же классовую ненависть, как восседавший на нём хозяин и командир. «Да ведь и эти ничего добровольно не отдадут…» Конь хрипел и скалил на толпу зубы. А Семён, приподнявшись на стременах, уже гремел всей своей зычностью:
— Внимай мене, селяне-поселяне, буржуены земляные,.. а ты,.. нетрудящийся культовый служака, охмуряла! — шибче всех внимай! Мы к вам с продразвёрсткой с войском моим. И весь мировой пролетариат незримо за мной стоит… Не, сорок дворов всего, а поди ж ты, церквёха есть. Эх, богомолики вы мои, святенькие вы мои!.. Слых, комиссар, а в ей мощи есть? Ишь ты, в такой-то махонькой! А-а, местночтимые,.. ладно, отместночтились, гы… И так! Я есть… командир особого чрезвычайного спецпродотряда имени товарища Диоклитиана.
У стоящего впереди толпы священника отпала челюсть.
— Имени кого? — оторопело переспросил батюшка.
— Имени товарища Диоклитиана! Хош и импяратор, а наш человек, ба-альшой революционер, пошустрил богомоликов, да таких вот как ты, попов-охмурял… Чего пялисся-то?
— Дак, удивительно. Много уж тута всяких проходило и белых, и серых, и красных — разномастных, а вот чтобы имени товарища Диоклитиана,.. такого и подумать не мог, что увижу.
— О многовом об чём вы подумать не могли, мно-о-го чего не видали! Глядите вот теперь, пока гляделы не выест.
— Дык чем ж тебе богомолики да попы насолили, что аж Диоклитианову тень потревожил? Сам-то крещёный, небось?
— Небось! — грозно ответил Семён. Помрачнело вдруг его весёлое бесшабашное лицо. — Ты мене крещеньем моим не тыкай, раскрещён я ныне, рас-кре-стилси!
— А нешто можно раскреститься-то?
— Всё ныне можно. Озлён я ныне на вас, попов-богомоликов, ох, озлён! Открыли на вас глаза люди добрые.
— Уж не энтот ли добрый, что за спиной твоей на добром коне, вон свои глаза закрыл, млеет, твои-то открыв.
Выдвинулся тут конь комиссаров, а сам горбоносый комиссар, свесившись к батюшкиной бороде, проскрежетал с ухмылкой:
— А ты, оказывается, бесстрашный, поп, храбрый, да? Да! Я — открыватель глаз, я… А твои — закрою сегодня.
— Да уж сделай милость, закрывай скорей, а то уж невмоготу видеть вас… Да ещё и имени товарища Диоклитиана.
Только открыл было рот комиссар, чтобы сказать что-то совсем уже злобно-едко-убивающее, да вдруг остановил свой взгляд поверх поповской головы, чем-то вдруг заворожился будто и — сразу пошёл конь комиссарский, толпу раздвигая. Остановился конь через пять шагов. Расхохотался комиссар в голос:
— Ва! Азохен-вей, господин доктор, ай да встреча!.. Ай-ай, главный русопет и жидоненавистник Империи и в таком виде, ай-ай… Далеко ль путь держим, ваше черносотенное величество, чи в Ростов, чи в Севастополь? А вам идут крестьянские тряпки, доктор Большиков, ха-ха-ха…
Свесился с коня комиссар, наклонился совсем близко к лицу того, на кого наехал:
— Ну и скажи-ка ты мне теперь, чей Бог есть Бог: мой — гойский истребитель, или твой — слюнтявый добродел-самозванец? Это ведь не твой милостивец тебе не помог сквозь нас к своим пробраться, ибо он вообще ничего не может; не-ет, это мой Мститель тебя к моим ногам бросил!
— Чо, знакомый? — Семён подъехал к комиссару.
— Знако-о-мый. Рекомендую — первый российский монархист-черносотенец и белогвардеец, доктор Большиков — публицист и деятель,.. ну, там, может и не первый, ну, второй или третий,.. но в первой десятке это уж точно. Книжечку накропал десять лет назад, где революцию нашу и всех деятелей её обгаживает, опомоивает. Застрял, вишь, ха-ха-ха, крестьянчиком прикинулся!
— Так что говорить-то с ним, шлёпнем на месте, и всё.
— Не-ет, Сёма, чуть же погодим, погоди… Давай-ка его с попом вместе в сарай церковный, вон в тот, запри-ка их… а этих, остальных, распусти пока, мы тут щас обсчитаем пока, что с этой деревенькой делать… да мощи ещё… Идея есть! Поразвёрстничаем чуть после, впереди, вон, Знаменское, триста дворов, а тут-то и взять особо нечего, кроме как из церкви.
— Так ведь потырят, позаныкают окладики да золотишко своё, пока мы обсчитывать будем.
— Да ничего они не заныкают. Из домов не выпускать никого, вот и всё; а там бабам к переднице штык поставим, пусть подумают: со штыком ли посношаться или изо всех щелей что ни есть вынуть. Вынут! А мы с тобой в алтарь пойдём военный совет держать, а заодно и потрапезничаем за престолом, норму свою допьёшь.
— Эт-то всепреобязятельно, гы, — повеселел опять Семён Будекин. Вообще-то всегда весёлым был Семён, весело жил, весело с германцами воевал, весело в революцию въехал, весело речи огневые держал, весело отнимал. А дореволюционная жизнь уже и не помнилась совсем, не вспоминалась, да и вспоминать-то было нечего. Не занудливую же токарную работу вспоминать на резиновой фабрике Брауна, не девок же своих многочисленных, к которым всегда относился как к семечкам — лузгнул и выплюнул. Одному попу, которого недавно в расход пустил, перед тем, как пулей раскрошить ему мозги, выплеснул в бородатую физию его: «Православна-а-авная держа-ава, твою так!.. Откуда ж в ей, православной, шлюх столько?! Сам по ним прошёлся, знаю, чо грю!..» Драки вот, после поддатия, улица на улицу, те вспоминались с удовольствием, драться всегда любил, лихим драчуном всегда был. Когда в мае шестнадцатого немчуру в Москве громили по чьей-то подсказке (хрен теперь найдёшь, по чьей) с очень большим удовольствием в громлении поучаствовал, ту же фабрику Брауна и громил он, до самого вот только Брауна не добрался, но кабинет его искрошил в щепки. Пол Китай-города было тогда в огне, на четыре миллиона тех золотых рублей нажгли, накрошили, накорёжили. И полицейским, на пути вставшим, досталось, и полицейским вставили. Тогда впервые он и свиделся с нынешним своим комиссаром, товарищем Беленьким. Будто из под земли вырос он, глаза завлекающие бешеные горячие, глотка — паровоз переорёт. На тумбу взобрался и проорал:
— С немцами воюем, а в тылу вон, одна немчура. Вон сколько их наши заводики, да магазины позахватывали! Куда ни плюнь, одни Зингеры, да Брауны! А в генералах — Келлеры! А ну-ка и плюнем! Бей, ребята, громи всё немецкое, поможем Фронту!
В самую ту сердечную точку, что едва полужила задавленная, попали бесхитростные слова товарища Беленького. Страшную, огневую, всесметающую сладостную энергию хранила в себе точечка, но была всего лишь точечкой. Пьяные потасовки с сотоварищами-собутыльниками не растравливали точечку, оплеухи девкам — тоже. Махаться-то махались, было что и до крови, однако и по сторонам поглядывали — беломундирников не видать? Да и на Тверскую пьяненьким выходить — подумаешь, стоит ли? Да и скорлупа некая душевная сердечная, тонкая, но чувствительная, обрамляла точечку. И вдруг — в самое в туда, в самую — в неё! Будто стрела изо рта и из глаз товарища Беленького в точечку — бей! И вот уже и полицейскому по морде — не страшно! Давно ли шапку перед Брауном ломал, и вот — нету тормозов, счастье Брауна, что не было тогда его в кабинете. Взорвалась точечка, разлетелась скорлупка, и разлилась всесметающая сладостная энергия. Именно от Беленького нужна была стрелочка точечке Будекина. Пустым звоном был бы любой призыв любого из его сотоварищей, да и вообще всех, с кем до того и после сталкивался Семён. То, что излучалось от Беленького, то, что стрелу на себе несло в точечку, оказалось сильнее душевной стерегущей скорлупки и страха перед внешними устоями. И воля личная Семёна Будекина тут проснулась (а то, нешто это воля — Марухе по мордам съездить, да мастера про себя отматерить) и выбрала: то, что разлилось из точечки, обратно не заталкивать, уж больно сладостно разлилось, а то, что вякнуло было в дальних душевных недрах, голос некий размазнявистый и слюнтявый — его затолкал ещё дальше, вообще совсем бы его пришиб, да никак не получается , до сих пор иногда в дальних недрах нет-нет, да поскуливает.
И на настоящего немца, врага стреляющего, ходил в атаку, и двоих штыком самолично припорол, однако той вдохновенной раскрепощённой злобы, что испытал во время тылового погрома, в бою не почувствовал. Поручик, что их из окопов поднимал, тоже чего-то прокричал, чего-то должно быть патриотическое, но никак не зажгли Семёна его слова, пожиже был поручик товарища Беленького. Потом, после приказа номер один, поручика в кашевары направили, а вскоре и вовсе шлёпнули — нечего орать патриотическое, лично сам и шлёпал. Тогда же следом и попа того полкового шлёпнул, что на точечку разлившуюся, было, покусился. Перед осенним наступлением исповедь с причастием в полку устроили. Когда очередь до Семёна дошла, что-то вдруг надломилось в нём от въедливых взыскующих поповских глаз. Силы в тех глазах было не меньше, чем у товарища Беленького, но силы обратной — назад в точечку стало собираться то, что разлилось тогда во время погрома. О погроме и поведал попу, да ещё с сокрушением поведал. И ещё поведал, что чует в себе что-то таящееся, страшное и нехорошее. Так прямо и сказал, вытащили вдруг такое вот признание поповские глаза. Очень внимательно поп выслушал признание и уже когда давно отнял епитрахиль от головы Семёна, всё ещё поминал его, крестясь и головой покачивая. Ну как его было не шлёпнуть?! Когда вновь внезапно вынырнул товарищ Беленький, тогда и разъяснилась Семёну вредоносная суть поповского охмурения. Фронту товарищ Беленький помогать больше не собирался, теперь он велел фронт разваливать. Едва только слово сказал товарищ Беленький, сразу и пропало охмурение. Поднабрал за год силы товарищ Беленький. А и сказал-то всего, руку на плечо положив:
— Они, попы, есть самый вредный элемент, их первых в расход, — и, глаза к глазам придвинув, дошептал грандиозным шёпотом: — они нас силы лишают, они из нас волю выкачивают, они нам жить не дают, как мы хотим!.. Так звучал смертный приговор тому попу полковому.
Если Семён Будекин никогда не имел ничего и иметь не собирался, то товарищ Беленький имел в своё время очень много, так много, что его ученик (ныне комиссарствующий в Наркоминделе) даже спрашивал его, удивлённо глядя на его торжествующую пляску среди толпы на мостовой, когда Царь отрёкся:
— Зачем Вам эта революция, а? Вон, гляньте, буржуев бить будут, а? А ведь же Ваш папа какой капиталист! Же ведь у Вас такие большие деньги! Это я-то — понятно, когда вижу эту офицерскую гойскую рожу…
Тогда он ответил, не прекращая торжествующей пляски:
— Деньги не пропадут. Если есть власть, можно и деньги отменить.
— Да где же взять таких человеков, чтобы натворить то, что вы нам обрисовывали?
— Да вот они, вокруг нас! Ха-ха-ха!.. С бантами ходят. Русаки до двадцать пятого колена, ха-ха-ха!
Вообще товарищ Беленький терпеть не мог праздных вопросов, хорошо, что этот кретин мало вопросов задаёт… Вообще-то рьян напарничек! Хорош!… Чересчур даже рьян, осаживать даже приходится. «Имени Диоклитиана» — ха-ха-ха, не-ет, всё-таки хорош… Однако, вот, не понимает, что мучеников во имя Этого,.. — даже про себя Имя тошно произнести — нельзя плодить! А то по рьяности попу одному, уже приконченному, уши, дурак, отрезал. А чего мёртвому резать? А вот Имя то из полумёртвого окровавленного рта успело-таки вылезти. Приканчивать надо до того, как Имя обозначится! Или уже пытать, пока не отречётся.
Ещё мысль не давала покоя и, почему-то, так серьёзно не давала, что в печёнке, никогда алкоголя не знавшей, ныло, когда ей предавался: в книжице той проклятой, в проповеди той ненавистной уж больно широки возможности для тех, кого так беспощадно он, Беленький, уничтожает. Туда попасть, к Нему. И хоть самозванец Он, да и нет Его вовсе! — однако, ноет в печёнке. Тут шайку пойманных беляков-партизан в расход вводили пулемётом, никто из них под пулями ни Имя Его не произнёс, ни перекрестился, однако же заныло в печени, когда трупы мыском сапога трогал…»…за други своя…» — из той проповеди вдруг вспомнилось. И будто чувствовалось Его присутствие. И нет удовлетворения от совершённой казни. И сам себя стыдил и очень стройно себе доказывал, что чушь — мысль эта дурацкая, а вот нету удовольствия, хоть ты тресни! И на этот раз не обошёл проповеди…
Мрачно глядел на Семёна, пока тот свою дозу дохлёстывал. Как вообще можно эту мерзость к губам подносить?!
— Слушай, Сёма, а ты, поди, на Диоклитиана потянешь, а? Он так же, небось, за престолом церковным сидел и водку на нём пил, ха… Только ты чего семисвещник-то смахнул? Там лампадки серебряные.
— Подберут лампадки. Слушай, а давай тебе фамилию поменяем, а то она у тебя ну прям белогвардейская. Давай тебя Красненьким запишем, а? Ух, силён первач, раза на пол круче водки. Ну так чо, будешь Красненьким?
— Сначала я тебя в Диоклитиана перепишу. А я и так краснее некуда… Ну до чего ж вонюча твоя зараза! Так вот, директива уже, между прочим, имеется насчёт мощей, вскрывать скоро будут. А мы с тобой эти местные сейчас вскроем на предмет обличения, побряцаем косточками святоши. Это, командир, важнее, чем хлеб, да побрякушки из них вышибать.
Раку вскрывали ломом.
— Ты глянь, комиссар, серебра-то, серебра сколько! а ты — лампа-ад-ки! Сколько одних самоваров наклепать можно… ой! не, ты глянь, комиссар, ой глянь-ка — старик, спит будто, не, ты глянь… Он когда умер-то?
— Разглянькался! Умер он 200 лет назад.
— Однако, за 200 лет сгнить бы пора.
— Да это искусственное мумифицирование, — товарищ Беленький стоял чуть сзади, не видел его лица Семён. И хорошо, что не видел, очень он бы удивился лицу товарища Беленького.
— Муми… чего?
— Потом объясню. Давай прикроем пока. И пойдём допивать. Я тоже пропущу…
— Ты?! Да за это я эти гробы каждый день вскрывать буду!
…А в сарае сидели запертые доктор Большиков и священник. Священника звали отец Емельян. Но никто из огромной его паствы не звал его так, все его звали в глаза и за глаза отцом Ермолаичем, по его отчеству. Был он местным, разменял уже восьмой десяток, Ермолаичем его звали чуть ли не с детства, и как сан принял — всё одно Ермолаичем так и остался.
— Ну что, дохтур, давай что ль, поисповедую тебя, а то ить отходную самое время читать, прям сей момент ить могут войтить и — на расправу, ить. Суда ить не будет. Давай-ка к Господнему суду изготовляться. И за этих, товарищей Диоклитианов, ой, Господи — то,.. хошь рязанских, хошь иерусалимских, с бандой их вкупе — тоже помолимся.
— Ну уж, батюшка, да ты что?! За врагов-то Христовых?!
— Да уж и то. Нешто мы с тобой друзья Ему? Кто ж ещё за энтих громил бездушных помолится? Да и энтот, что к тебе-то приступал, хошь и не крещёный и злодей из племени антихристова, а ить человек, не бес, да ить и не в храме же, келейно,.. ну как не помолиться за него?
— Да не о молитве о нём думать надо, а как бы придушить его, гада, успеть бы! А там хоть и пулю в лоб получить.
— Пулю свою мы и так получим, летит уже, успеть бы не придушить кого, а своё бы «Господи, помилуй» успеть бы произнесть, свою б душеньку успеть бы спасти, а не чужую б придушить…
— Да не могу я, понимаешь ты, ни о какой своей душе думать, пока стерва эта жидовская мою родину топчет, тебя, меня топчет, храмы разоряет, у-ух!.. Чего я вчера, осёл старый, не ушёл?!
— Оно, эта,.. может, и осёл, а может и не, может, Сам Господь оставил, может, пора нам? А храм разорят, это точно… Над мощами надругаются, баб снасильничают, мужиков поубивают, отнимут всё…
— Да, — зловещим шёпотом произнёс доктор Большиков, — добро гоя не принадлежит никому, оно принадлежит первому попавшемуся еврею — это у них так в Талмуде… Пфеферкорн!..
— Прямо так и писано? Ну да и Господь с ним, с имуществом-то… Эх, имущество, сокровища,.. чего уж,.. понасобирали, понаделали тута сокровищ, а ведь сказано, не собирайтя тута, на небесах собирайтя, где сокровище наше, тама ить и сердце наше, ту-ута наше сердце-то, а там на небесах пусто от нас. А ведь оттуда, с небес наше нам и возвращается, облагодаченное, благословленное. А пустоту-то чего ж благословлять. Да вот ты хоть, вот, умный, вроде и православный, глаза, вот, на масонов да на жидов открывал, а свои глаза-то сердечные, простецкие закрыл. На Помазанника Божия мыслью и сердцем замахивался? Замахивался. То бишь, Бога Самого судил, обсуждал своим тилигентским умишком, не тот де, Помазанник, я да лучше знаю, какого нужно. А? Небось ведь и так думал, что я де сам на его царском месте не хуже буду. А? Во-от… Ну и нате вам таперя товарища Диоклитиана, заместо Помазанника-то.
— Не зубоскаль, батюшка, и так тошно.
— Да уж какое там зубоскальство, много на моём горбу грехов, а вот энтого за собой не наблюдал. А что тошно, эт-то очень даже понятно, ещё б вам не тошно, всем вам умникам умничавшим тошно, сами хотели всё решить-разрешить, ну вот и разрешили. И всегдашняя ваша отговорка тута: мы-та-де как лучше хотели, да вот мешали все, да вот ежели бы, да кабы, да вот тот вот не тот, и энтот не таков, и царь не гож, и министр не хорош, и поп не рьян, и народ пьян, да воли б нам, то бишь вам, во-от, а получилось — …Вот оно и выходит тута — вы с одной стороны с горлопанством своим, а с другой — товарищи Диоклитианы, с хваткой ихней, не чета вашей и нашей… вот и сидим тута,.. эх, и знаешь, самое-то нам тута и место!..
— Нет! — почти что взревел доктор Большиков и вскочил на ноги. Батюшка даже перекрестился в испуге, — Нет! — забушевал доктор Большиков, — да! да! да! Подтверждаю! Ненавижу! Ненавижу последнего царя, ненавижу!.. Царство ему небесное. Он виноват, он, он! а не я! И народ этот наш… ваш! гнусен, подл, бездарен, вор, пьян и лентяй… Ты тут плёл с амвона: вот бы нам бы сюда Матушку Иверскую, Она бы вывезла… Да была у вас и Иверская и Казанская и ещё штук сто! И что?! Вывезли?! Монастырей штук тыща, церквей штук тыщ сто, мощей в каждом уезде — и что?! Не Иверская, а немец бы мог вывезти, немец! Да и тот, гад, разбит… А лучше б завоевал! А Государь ваш — размазня… ух!.. Да я ж его ещё ребёнком помню, на «Державе» помню, это яхта императорская… Уже тогда в нём захудалость какая-то чувствовалась, личико вялое, жёлтое. Он с отцом своим, тогда ещё наследником, буйно-помешанным Александром третьим, в какую-то игру играли беготливую, какие-то подушечки кидали на палубе. Так папаша аж подпрыгивал при каждом удачном кидании, и орал и хохотал на всё море, как ребёнок, а ребёнок хоть бы улыбнулся раз, хоть бы что шевельнулось в его глазах. Они уже тогда застывшие были.
Батюшка давно уже привстал и таращился на Большикова изумлёнными глазами, пытаясь что-то вставить в страстный его монолог и, наконец, вставил:
— Во, прорвало! Не, ты погодь-ка про глаза, это для дураков глаза те застылые… Не, ты кого буйно-помешанным назвал?!
— Да его, его! — опять взвился доктор Большиков, — Его величество Александра Третьего Александровича, кого ж ещё! До сих пор резолюцию-рецензию его о моих статьях храню. Первая рецензия такая, дословно: «Статейка как лесенка: первая перекладинка — мысль любопытная, следующая — чуть неправославная, а все перекладинки гнилые. По такой лестнице лезть — в тартарары залезть». Вторая рецензия короче: «Мысль остря, в говне застря».
Ещё и рифмач… Ре-цен-зент! А небось, Гегеля от Гоголя не отличал. Когда нос державный на говно заряжен, поневоле всё завоняет. В Юрьеве, он тогда ещё Дерптом был, вваливается к нам в гимназию, я тогда преподавал там, нежданно-негаданно, всегда так любил! прямо с охоты, как есть в мужицком зипуне, в сапожищах грязных, глазищи таращит, от взгляда стены гнутся, и ревёт, что твой медведь раненый: «На территории России в гимназиях и судах должно говорить на русском языке!..» А у нас тогда на немецком преподавали, и вообще всё, что официально, всё на немецком… Да я ли! Русский до 25-го колена, в черносотенцы записанный, против русского языка?!
— А и удивительно, — тихо сказал тут батюшка, — и чегой-то тебя в черносотенцы записали?
— А я и есть черносотенец! И, между прочим, до сих пор! — ещё более возвысил голос доктор Большиков, хотя больше вроде и некуда было, — только тогда я был монархист поневоле, куда ж нашим баранам без монарха, а теперь я республиканец поневоле, хотя и у республики должна быть твёрдая власть, вожак! А не эти милюково-керенско-гучковы… Да ведь баранам-то, батюшка, в вожаки-монархи всегда козла дают! Эх… Ну так, рявкнул он перед нами про великий и могучий, чтоб только на нём бы разговаривать, мы, естественно, в струнку, души наши не то что в пятках, а чёрт-те где, в центре земли. Небось, немцы да латыши, те не то что русский, а свои родные языки от страха забыли. Миротворец!.. Идёт он мимо нас, громогласничает, около меня останавливается, вглядывается, узнал и — рот державный громогласный до ушей и — третью мне рецензию выплёскивает: «Дал бы, — говорит, — я тебе всю эту немчуру под начало, да ты ж первый, первее первого немца немцем и станешь…» Задумался. Видать слова свои громогласные смаковал.
Ну а я возьми и в ответ ему и сам выплеснул: «Да ведь и Вы, Ваше величество, тоже ведь на две трети, увы — немец, это не мешает Вам быть русским императором».
— И что же в ответ? Убили тебя, сослали?
— Расхохотался миротворец, по плечу меня хряпнул, едва не отлетело оно и четвертую рецензию выдает: «Храбр — хвалю, да вот жаль, что дурак, вся неметчина моих предков при православном венчании русью оборотилась, а из тебя и крещение русского не сделало, в тебе, — говорит, во мне то бишь… ре-цен-зент-миро-тво-рец!.. — русского, — говорит, — только что нос картошкой, а штаны, вон, и те немецкие». А?! Это про меня-то! Ну, естественно, моя немчура, которую он мне хотел под начало дать, конечно тут же русский язык вспомнила, тут же взакат расхохоталась…
— Дык, а чего ж ты обиделся?
— Обиделся?! Ты вот щас чего ухмыльнулся? Чего ж такого смешного-остроумного в его словах? А на помешанных я не обижаюсь. А если на принцип, то как не обидеться? Весь свой талант, все свои мозги, всю силу публициста, что в пере моём есть, да, есть, есть! И тут я ложноскромничать не стану,.. всё! всего я себя отдал на служение России, просвещению русских, монархии, наконец, кость бы ей в глотку! Да! Глаза раскрывал! Только нашему народу глаза надо не пером публицистическим раскрывать, а ломом!.. А мои статьи вот эдак-то им отрецензированные! да они полезнее его тринадцатилетнего царствования!.. — Батюшка только рукой махнул и не собирался уже перебивать.
— Какой прок от его царствования?! — продолжал, меж тем, бушевать доктор Большиков, — Только и есть, что вам, попам, из казны жалование платить стал.
— Эт точно, он нашему иерейскому сословию истинный благодетель. А то ить пропадали, совсем прям ить нищенствовали.
— Да туда вам и дорога, да с вас ещё и драть надо, а не казну на вас разорять!
— Да уж и разорили. Что ж, лучше когда мы за требы с крестьян брали?.. А и… ну ты прям как товарищи Диоклитианы нападаешь.
— Ишь ты, за как, а?! Да, нападаю! Может ещё скажешь, «за что?»!
— Да нет, не скажу. Да ты утишься, присядь, ишь ажио и кулаки сжал,.. да сядь, говорю, пу-бли-цист!.. Не скажу я «за что?», есть за что. Не оправдали мы, иереи, жалования царского и надежд Его. Вроде и старались, да плохо, видать, старались. Дак ить, однако ж насильно тоже брата вашего, прихожанина нашего, рази ить втащишь на путь православный. Эх!.. А вы-то вот, грамотные, эх,.. как же страшно-то, Господи, какой дар-богатство нам вручён был, запросто так, ни за что как обошлись с ним!.. Скольки ни читал вашего писаного, пу-бли-цисты, у-чи-те-ли, ужас берёт, как же вы — умники суть — природу Царской власти не понимаете… А и — какого рожна вам, умникам, надо было… Да ить — Царь, да ить это ж,.. ну… да ить и слов нет, чтоб назвать, чтоб тебя, умника, пронять, что есть Царство и Царь на Руси… Эх, мне б коз пасти, да вот иереем стал. Сам Государь Александр Александрович на это ить меня и сподобил, заставил лично, можно сказать, когда в местах наших быть изволил. А что я могу? Одно того, что от змия зелёного свободен.
— Во-от, он весь в этом: налететь, наорать, козопаса в иереи, а мыслителя — в козопасы!
— Оно, правда, хоть и козопас, однако средь моих прихожан никто в смуте энтой не хулиганничал пока. Вот учительша токо, да и то… Была девчуха, как девчуха, крестьянска дочь, никаких бзиков в голове, хотя чего уж,.. в каждом сословии нынче свои бзики. В двенадцатом годе, помню, двое моих прихожан — остолопов на молебне — ярмонку тута открывали, а за царя, говорят, молиться не будем, тихо друг дружке сказали, да я услыхал. Ажно молебн прервал. Ух и отчехвостил их, а заодно и всю толпу под горячую руку. И все-то обалдели, на меня глядючи. Сам себя таким злым не упомню больше. И будто ор мой вышиб чего-то из них — я про тех двух остолопов, — притихли, потупились. Ну, вот, эта… да, учительша. Так ить отправили на учёбу, да я ить старый дурак, и способствовал энтому, в столицу, в Питер. Вернулась и… ой, Господи, на-у-чи-ли! Она, ить, эдаким-то товарищем Диоклитианом ещё тогда стала! Так сразу и ляпнула мне, что, мол, в мире науки нет-де Бога вовсе. Во как! Это куда ж Он делся, говорю, прости, Господи, везде Он есть, а в науке Его нет? А Его, говорю, нет в одном месте, в аду. Так ить рассмеялась в ответ.
— Да уж, господин козопас несостоявшийся, дискуссионер из тебя тот ещё.
— Дис… кто? Хотя понятно… Так вот, пытался я дискусси-о-нерить с ней и с её колокольни. Откуда ж, говорю, сударыня-барышня, учительша-мучительша, всё взялось-то? Так рассмеялась, ты, говорит, съездий, поучись у умных людей, где я училась, а потом со мной разговаривать будешь. Во как. Убьют её, скорей всего. Не красные Диоклитианы, так белые, аль зелёные, или ещё какие цветные. Всем она поперёк горла, потому как хуже гордыни да учительства страсти ничего нету… А в раж вошла, иди, говорит, жалуйся ректору нашему, хохочет, токо он, говорит, так же думает, и — опять хохочет…
Замолчал тут отец Ермолаич, задумался, загрустил. Хотя нет, понятия «грусть», «загрустил» чужды и враждебны были ему. Это он сам так для себя решил. Давно решил. В понятии и созвучии «грусть» ему чуялось, виделось, слышалось нечто недоношенное, фальшивое, смазливое и разлюли-слюнтявое и неестественное! На душе у человека должно быть или горько или отрадно. Если же «грустно» — то это салонно-наносная наружная фальшь. Если же вдруг налетала она на человека, то не поддаваться ей надо, не балдеть от неё, не на гитаре бренькать, а гнать от себя вон поганой метлой. Посему на дух не выносил отец Ермолаич романсов. Однажды, совсем недавно, в Знаменке, на празднике гуляния по случаю царского тезоименитства (да разве недавно? Всё теперь, что было до обвала — не просто давно, а было ли вообще?), так вот, целую проповедь закатил отец Ермолаич ошарашенной публике (ить вся знать-перезнать, вся тилигенция-чиновщина тута…) про то, что негоже тренькать романсики на тезоименитстве-то… «… та же удаль, тот же блеск в его глазах, только много седины в его усах»… Это ить через всю жизнь тот блудный поцелуй пронесла!.. И даже обозвал романс предтечей революции. Скандал целый вышел, и даже губернатор отцу Ермолаичу внушение сделал, мол, перебарщивать-то, батюшка, не надо. Ощетинился тогда отец Ермолаич, упёрся — да я ить недобарщиваю, ваше превосходительство, да хоть ить и про вас от… Про превосходительство не успел отец Ермолаич, вытолкали вежливо с того праздника-собрания и долго ещё возмущались тогда после выталкивания, потом, впрочем, оттаяли, когда вновь захныкала гитара «… где ж вы, дни любви, сла-адкие сны…» и даже посмеялись добродушно, хотя и не без ехидства, на предмет занудства батюшки, посудачили с усмешками, переходящими в хохот, над литературными потугами отца Ермолаича. «Господа, а ведь наш законоучитель писателем заделался,» — объявил тогда гимназический ректор, — Вот ить какая тудыть-то! Ха-ха-ха!» Больше всех была поражена и смеялась ермолаичева молоденькая протеже, у которой в науке нету Бога. Рассказ его назывался «У Бога всего много», напечатан он был в «Зёрнышках Божьей нивы» — детском церковном литературном журнале, который никто из собравшейся публики ни при каких погодах ни себе, ни детям своим никогда не читал.
— Ну так вот, — продолжал ректор, — вообще-то жаль старика,.. всё дергается, всё царство спасать лезет, ну такое там наплёл, в рассказе то бишь. Ну в общем, так сказать, лапотно-лубочное развитие Нагорной проповеди, со всеми, естественно, «ить» и «тудыть», и, главное, вот никто не ожидал — упёрся — никакой редакции, никакой редакции, никакой правки не допускает, знаю, говорит, ваши правки!.. Уж его редактор и так, и эдак уламывал — ну нельзя, говорит, такое печатать, писательство — это ж дар, ну нет его у тебя, отец Ермолаич! Ну, а ежели, говорит, у вас есть, что ж не пишете, чтоб ить пронять народишко-то, то бишь нас, без его слова сирых.
Усмехнулся ректор, и не поймёшь, как усмехнулся, все остальные окружающие вот также усмехнулись.
— Да! А он ещё: ить в пропасть, говорит, ползём, да не ползём, а летим! И что ж, говорит редактор, ты считаешь, что рассказец твой заслонкой что ли станет на пути полёта? И выяснилось, что да, считает наш досточтимый законоучитель! Ну, напечатали, потешили старика, а вообще-то выносить его, конечно, больше невмоготу. В рассказе-то? Да что ж, ить-кает, ноет, слезу по поводу веры пускает, нашего брата кадета пинает, царство спасает, как жить поучает. Да ладно, господа,.. Анна Андреевна, а, голубушка, «Утро туманное», а?
— Просим!..
Написали-таки тогда коллективный донос на о.Ермолаича всё местное кадето-интеллигенто-демо-начальство, что мол пора батюшке на покой заслуженный, заговариваться, мол, на проповеди начал, да и проповеди на ругань больше похожи и всё начальство местное лягает, и слово «кадет» в его устах хлестче матерного звучит (а кадеты, между прочим, — официальная партия!), а сам, между прочим, того и гляди Чашу с Дарами на входе выронит.
Местный архиерей, преосвященный Никон, любил отца Ермолаича и реагировать на донос не собирался, однако навестил его к празднику Знамения, сам служил.
— А ты знаешь, батюшка, в чём правы твои оппоненты, то бишь — Ить и в чём же? — насторожился отец Ермолаич.
— А вот в чём: взялся за перо, так законы пера, то бишь писательства выполняй. Вот у тебя тут купец, грешник закоренелый, и вдруг р-раз — в нём совесть Господь пробудил, и дальше до конца твоего художества описывается, какой он стал хороший и как много он наделал доброго, как все этим умиляются, и как он сам этому умиляется. Так?
— Ну да, так.
— Да так-то так, так вот для песенки-романса про Кудеяра-атамана это проходит, а для художественного, слышь ты, ху-до-жественного, а ты ведь за художество взялся-то, слова, этого мало, и не то, что мало, а совсем не то нужно.
— Так ить чего ж тогда?
Тут архиерей раздражился слегка и даже вспылил:
— А вот чего! Не разнюнивать о нём уже раскаянном, а сам тот момент перелома, само раскаяние, причину внутренно душевную отказа от греха ты и должен описывать, ты должен словами показать — как это было, душевную переломку его обстоятельно и аргументированно по полочкам разложить, чтоб читатель поверил, что так бывает и чтоб он умилился, а не издевательски хохотал, чтоб он о себе задумался. Я лично так не умею сказать, ни слов, ни дара такого у меня нет. А рассказик твой читать даже мне было тошно и приторно. А что ж про этих учителишек говорить! И они тебе, и эти кадетишки и интеллигентишки ещё и рецензию подсуропят в каком-нибудь своём журнальчике. На бумагомарание наглее нашего брата русака жидокадетствующего в целом мире не сыскать. И чтоб это было первое и последнее твоё хватание за перо, понял?!
Опустив голову, отец Ермолаич вздохнул:
— Как не понять. Так ить страшно, владыко. Я ить думал их к Евангелю подвигнуть, чтоб читали, думал пронять как-то, детям хоть их хошь плотинку какую против супостатчины поставить.
— Ну а сам-то как думаешь, подвигнул, поставил?
— Когда писал, когда вслух своим воробышкам читал, думал, что подвигнул, иначе разве б взялся?
— Ты вот лучше скажи, отчего у тебя на престольном-то Празднике храм был на половину пуст? Где твои пасомые, писатель?
— Да ить мои пасомые все почти на фронте, сам знаешь.
— Знаю. Но и здесь ещё есть, вот только не видал их вчера. Этот даже хлыщ из гимназии стоял, в кулак зевал, ждал, когда ж кончится, однако — пришёл. А где ж бабы твои из Удельного, из Варварина? И престол и архиерейская служба, а у них что на зиму-то глядя? Зимник уже вон, сенокос, что ли, посевная на снегу, иль редиску в декабре пропалывают?!
— Завтра пойду туда, и в Удельную, и в Варварино, и в Курилово. Эх, грехи наши тяжкие, там и узнаю почему да как.
— Да я уж всё выяснил, батюшка. Пили они всеми деревнями позавчера до мертвецкого оскотинивания. Утром с похмелья не до литургии. Мужики с фронта, будто, на побывку приехали. И ты, кстати, это знаешь. Человек сорок всего, будто, да? Странно, много чего-то. Не дезертиры ли? Вот это ты и выясни завтра. Ну иди, дай благословлю тебя… ну вот, ну и ступай с Богом… Стой!
Вздрогнул испуганно отец Ермолаич, обернулся.
— Ну-ка, подойди, повернись… Ты откуда ко мне-то? Из школы? Эх, Господи, вот искушение-то. Так и ходишь весь день?
— Да что такое, владыко?
— Да вот повернись, дай сниму с тебя… Погоди… нет, не отдерёшь! Ну-ка, снимай с себя рясу-то, щас новую вынесу. Да снимай, говорю!
Долго смотрел на снятую рясу переоблачённый отец Ермолаич. На самом заду её был намертво приклеенный ватманский круглый лист бумаги размером с большую тарелку, а на листе, цветными карандашами нарисованный, корчил рожу весёлый бес, очень похожий на отец Ермолаича.
— А рисунок-то взрослого, — сказал архиерей.
— На стул, наверно, положили, шельмецы, клеем вверх, — вздохнул отец Ермолаич и покачал головой.
— Во тебе и рецензия, — владыко врезал со всего маха по бесовской роже, — вор-р-обышки!..
… Отпустил задумку отец Ермолаич — перед ним размахивал руками доктор Большиков и чего-то орал. Вслушался.
— Да, козопас несостоявшийся, с нашим-то народом нужно быть демоном! чтобы править им, — перекрестился о.Ермолаич, вздохнув, — ну хоть не таким бешеным, как его папаша, ре-цен-зент!.. — только рукой махнул отец Ермолаич, — но и не изящным шаркуном от рождения, как наш последний. «Молись, да к берегу гребись» — так ведь и по поговорке нашей, а он молился только!
Поднялся тут отец Ермолаич, за грудки взял доктора Большикова.
— А ну, заткнись!..
— Сам заткнись! — откинул батюшкины руки доктор Большиков. — Кучер должен быть сильным мужиком, а тут у кучера 180 миллионов седоков… Ну ладно, про Распутина брехня, но раз болтают, раз такое брожение по стране — откажись от Распутина.
— А от жены? От жены тоже отказаться, если болтают? Такие вот чер-но-со-тенцы?! — сам от себя не ожидал отец Ермолаич, что голос его способен нести на себе столько злости, сколько прозвучало её в его вопросе. Эх, действительно нет на вас отца его, отрецензировал бы он вас, охальников, чтоб неповадно было… А и то ить, ты глянь-ка, черносотенец, смерть перед нами, может, лютая стоит, а мы тута ругаемся… Эх!.. а что ругаться-то? Всё уже, ВСЁ КОНЧИЛОСЬ для нас, понимаешь? Твоими штучками кончилось и моим нерадением… Да, Ляксан Ляксаныча все боялись, держал он обруча, мы ж, русаки, без обручей никак не можем.
— Да замолчи ты, наконец, козопас, не желаю я слушать ничего ни про Ляксан Ляксаныча твоего, ни про сынка его!
— От ить ужас-то, лучшие Государи за тыщу лет, а он, черносотенец, монархический писатель, ревмасонов обличатель, лучших Государей хлещет похлестче масонов. Да лучше б ты водку пил, хотя ить это… хотя учительша новоявленная ажно рычала, помнится, от злости, когда читала твои писания. Она ведь это, кадетка, или что-то вроде энтого, хлёстко знать писал-то про революционеров да масонов, да вот и дописался.
— То есть?!
— Да что то, то и есть! Я-то хоть козопас, а ты-то, что ты Богу-то припас? В писульках твоих Бог через строчку, а в душе у тебя Его не больше, чем у той швабры хохотливой, учительши рычащей. Одного поля ягодки, коли эдак-то про Государей-помазанников!
— Кто так отрёкся от власти, тот недостоин её!
— Это мы все казались недостойными Его. Отца-то его — да, боялись. Сын, понимаешь, надеялся на наше ему послушание, а мы изменили ему. Изменив Царю, как ты в своих писульках, разве можно говорить, что верен самодержавию, как опять же ты утверждаешь в тех же писульках? Вот и получается, что перестали мы быть охранителями царства, а значит, перестали быть православными, ибо у царства нашего Русского цель главная — охранение православия нашего, храмов Божьих от врагов-погромщиков. А Христа, что в сердце у нас у каждого должен бы быть, Его можно в нас уберечь Царством-государством? Никак. Когда мы Его из себя сами изгоняем, никакое Царство-государство не поможет. Выгнали Христа из сердца-то, огляделись — да и ну зачем же нам Царство с Царём-Помазанником? да и то — не нужен Царь подданным, у которых Христа нет. Вот тебе всё тут, вся альфа с омегой, весь тут урожай, а всё сжали, что посеяли, до единого зёрнышка. Божьими рабами быть не захотели, ну дак извольте под плётку товарища Диоклитиана, в его рабство, от него не отвертишься. Да помолчи ты, иди сюда, сюда, дурень. Вон, уж голоса пьяные слышу. Оно и ладно, эх, снизойди, Господи.
Хошь и без раскаяния, а хоть болячки свои душевные назвал. С того довольно, видать, остальное, что есть, чепуха, видать. Давай башку-то под епитрахиль, уж вон они, за дверью. Сколько тыщ прошло под энтой епитрахилью, ты вот последний теперь… Первому тебе говорю: у меня ведь, это, опосля каждой исповеди ком копошащийся вонючий над собой видел. Весь в огне. Сгорал начисто ком — приняты грехи. Жуть как страшно видеть! Так и не привык. Поначалу просил-умолял чтоб не видеть энтого. Опосля одной такой молитвы и опалило меня от кома горящего. Ажио закричал. На литургии-то! Всполошились все, думали — спятил. А близка к тому… Больше не просил. Терпел. Не вижу щас тута ни кома, ни огня. Эх, милостив буди. Господи, прости нас окаянных… — прижал к себе доктора Большикова о.Ермолаич, зашептал уставную молитву разрешающую.
Лязгнуло, скрипнуло, распахнулась дверь, в проёме возник комиссар Беленький. Жуткий вид был у товарища комиссара, а изо рта его несло чем-то и вовсе убивающим. Тигром и с рычанием тигриным бросился Беленький вперёд, сорвал епитрахиль с головы доктора Большикова и ещё дернул. Треснула эпитрахиль, порвалась, отец Ермолаич на пол полетел, а товарищ Беленький всё с тем же рычанием уже топтал эпитрахиль ногами.
— Успе-ел! — Беленький пожирал глазами отец Ермолаича и будто надеждой маячило в тех глазах, — а может, не успел?
— Дак ить успел, как не успеть, — отец Ермолаич, кряхтя поднимался на ноги. — Мы ить всегда успеем, коли с Христом-то, топчи — не топчи… Это ж чем же разит от тебя, твоё иерусалимское благородие, это ж хуже, чем от кома горящего.
— Какого кома? — просто испепеляли огненные глаза товарища Беленького.
— Да грехи так же воняют, да ить, ладно… Бедный, всё ить тебе тута чужое, а уж самогонку-то нашу, у-у-у, её и Диоклитиан-то ваш, небось, дёргаясь да рожу перекося, потреблял. От Диоклитиана пожиже воняло. Чего это ты без него-то? А ить что? Страшно тебе, иудей?
Невероятной силой воли своей могучей сдержался товарищ Беленький, чтоб не садануть, что есть мочи, в этот итькающий рот, не видимый за белой бородой. Да, страшно было товарищу Беленькому. Нет, не то немного слово, не страшно. Бесстрашный же был человек товарищ Беленький. Один, помнится, безоружный, целый полк беснующейся пьяной солдатни переагитировал. Уломал и мытьём, и катаньем, и угрозами, и посулами не по домам с фронта катить, а батальон добровольцев смять. И в бою не прятался товарищ Беленький, и в быстропеременчивых ситуациях не терялся, и в решениях принятых был беспощадно твёрд. И заложников, ораву целую, не расстреливать, а демонстративно вешать — не боялся; многие тогда трусили — да растерзают же, товарищ Беленький, нас-то в десять раз меньше этих, у кого заложников взяли, и всего-то три винтовки и патронов хрен да ни хрена — а чуял (а чутьё какое у товарища Беленького!), что — проскочит, не растерзают, всё теперь проскочит, всё они проглотят, сами верёвки принесут! Своих трусов-паникёров спокойно и с улыбкой расстреливал прямо в строю, даже без пяти шагов вперёд, как римляне. И вообще во времени этом (это гои назвали его безумным временем, а в нём ведь, времени сём, ума-то целая палата), так вот, во времени этом был, как рыба в воде, если бы не острейшее ощущение присутствия тени, ну или чего-то там! — этого Самозванца Распятого, точнее даже легенды о Нём (до чего ж этот подлый разгильдяй-народ легенды-сказочки любит!). Причём, казалось, что эта тень (ну или чего-то там), будто некие зёрнышки, на ощупь неощутимые, в каждом из этих уродов разбросалась. Причём — во всех! От последних подонков, проституток и воров-подзаборников до самых высших. И даже в этом кабане Семёне Будекине, уже столько храмов разорившем, чуял он зёрнышко. Было оно у него, было. Нет больше, потому что нет больше Семёна Будекина. Нагруженный восхитительным самогоном, поднялся с трудом Семён Будекин, оттолкнулся от алтаря, стряхнул с матерком чего-то ещё там и сказал, что пойдёт на пару часов оклематься, и грозно предостерёг, чтоб без него попа не расстреливали, его поп. Беленький сосредоточенно кивнул (ох и зараза ж эта гойская самогонка!), а как ушёл Семён, немедленно велел своим четырём ближайшим сподвижникам-подручным выкинуть местночтимого старика из раки, а в раку хламья набить. Подручные споро, скоро и с радостью исполнили. А упавшему на топчан Семёну вдруг въехал в голову сон. Не знал ничего про этот сон товарищ Беленький, однако такая вдруг тоскливая непоседливость разлилась по всему телу, от ногтей до ногтей товарища Беленького, что хоть всех вокруг себя стреляй, хоть самому стреляться! Сядет — не сидится, ляжет — не лежится, ходить туда-сюда невозможно, ни думать, ни пить, ни рот открывать, и даже стрелять тошно, хотя расстрелять кого-нибудь очень хочется.
А сон Будекина был прост. Семён видел всего лишь местночтимого старика бородатого. Одно лицо и бороду. И вот поднялись веки старика, открылись его глаза. И захотелось вдруг Семёну бежать прочь от этих глаз, ну хоть проснуться. Его сознание революционное, ясно понимавшее, что бежать нельзя, а можно только проснуться, делало страшные усилия разбудить Семёна, но усилия чьи-то против Сёминого сознания были явно сильнее. Так и стояло перед ним лицо старика, так и смотрел он на Семёна, а Семён на него. И больше ничего. Не было во взгляде старика ничего сильного, пронзающего, за душу берущего, — видно, при жизни своей простецкий был старик, взглядом, не то, что товарищ Беленький, — но… он просто был ЖИВОЙ. Сейчас живой. И не двести лет назад, когда его похоронили, а вот сейчас, на пьяного Сёму смотрит — живой. И ничего во взгляде ни укоряющего, ни жалостливого, просто живой взгляд живого человека, умершего 200 лет назад.
Трезвый пробудился Семён, хотя и пошатывало его. И пошёл к раке. Оторопело смотрел на хлам.
— Э, Беленький, где старик?
— Какой старик, Сёма? — Беленький стоял сзади и улыбался. — А был ли мальчик, Сёма?
— Какой мальчик? Старик тут…
— Да это так, цитата. Старик в надёжном месте, сейчас уничтожим. А перед тобой — прямые доказательства гнусности и лживости поповщины и попов.
— Дай-ка гляну на старика!
— Да зачем, Сёма?
— А ещё раз хочу глянуть на это… естественное му-ми… чего там?
— Мумифицирование, Сёма. Когда тебя в бою грохнут, я сделаю всё, чтобы тебя мумифицировали.
— Ладно, делай. А сейчас старика давай.
— Пошли.
Долго смотрел Семён Будекин в яму, где на соломе, обильно политой соляркой, лежал старик. Трепыхалось в Семёне революционное сознание, противилось всячески тому, что сейчас произойдёт, а должно произойти то, что старик должен открыть глаза.
— Не-ет! — взревело, взвыло, взгрохотало его командное нутро, переполненное самогоном, призывая Семёна Будекина, хозяина своего, немедленно бросать горящую спичку вниз и бежать прочь, ибо помешать старику открыть глаза оно никак не могло.
Открыл старик глаза.
— Ну что, Сёма, что тебе ещё интересно от естественного мумифицирования?
— Беленький, ты видишь, что он открыл глаза?
Заглянул Беленький в яму.
— Сёма, глаза его закрыты, Сёма… Эта пакость, которую мы с тобой пили, откроет тебе глаза в той вон навозной куче, и ты там увидишь Веру Холодную вместе с Юлием Цезарем.
И посмотрел товарищ Беленький в глаза Семёна Будекина вроде как с последней надеждой. А Семён посмотрел на Беленького, оторвавшись от открытых глаз старика. Этот взгляд и был ему смертным приговором. Видел, чуял в мутных Семёновых глазах товарищ Беленький то самое ненавистное зёрнышко. Набухало зёрнышко и грозило страшной непредсказуемостью. Отошёл на шаг назад товарищ Беленький и выстрелил в затылок Семёну Будекину. Рухнул беззвучно в яму Семён.
— Это в бою, Сёма, — сказал товарищ Беленький. — Эту деревню мы назовем Будекино, в честь героя, павшего от рук кулаков.
Лежал Семён Будекин на старике, и руки стариковы обнимали Семёна. Дернулись вдруг и обняли. Остолбеневшим ближайшим подручным комиссар приказал:
— Немедленно поджечь, потом закидать камнями, чтобы кости переломать, и засыпать.
И вдруг ринулся к сараю, к запертым пленникам…
— Сволочь жидовская, ненавижу! — взревел доктор Большиков и бросился на Беленького, но был остановлен коротким грамотным ударом в челюсть.
— Ну-ка, быстро, приколоть его штыком! — скомандовал ближайшему сопровождающему. Сопровождали его не ближайшие подручные-соплеменники занятые огнём и камнями, а четыре молодых солдатика с винтовками. Ближайший сопровождающий немедленно исполнил приказание. Вскрикнул, охнул доктор Большиков, и, пока кончался, товарищ Беленький держал своё ухо у его рта. Наконец поднялся, злорадно усмехаясь:
— Подох. С чудным предсмертным кличем: не-на-ви-жу! Ха-ха-ха-ха! — И никаких тебе «други своя», ха-ха-ха…
Даже сопровождающие солдатики поёжились от этого его хохота. Понятно, приятно и посмеяться можно, убили вражину, туда ему и дорога. На комиссара кидался, вражина! Но чему-то не тому, чему-то непонятному для них радовался хохочущий комиссар.
— Так что зря старался, ваше преподобие-неподобие, ха-ха-ха, — почти пропел товарищ Беленький.
— А это ить как сказать. Это ить одному Богу ведомо. Эх, да лучше на себя глянь: сколь страшен и несчастен ты, ить и вправду Диоклитиан.
— Думаешь, потяну? — усмехнулся товарищ Беленький.
— Да пожалуй и напоширше потянешь. А ить… и трудно это ему давалось.
— Ну-ну, поп, — приблизился страшной своей зловещностью Беленький почти вплотную к батюшке. — Ну разродись, что там шевелится в твоих землянках-извилинах, чего гнетёт?
— Гнетёт? Да ить рази может чего-то гнетить меня, коли крест на мне, Христос на кресте, и душу с разумом ты не вышиб из меня! Это ить тебя гнетёт! Всю видать жизнь твою гнетёт. А ить страшное слово-то — гнетёт! Ить любой гнёт душевный враз снимается, коли вот он, крест-то, да Христос на нём, а ты… ить ужас!.. на себя энтого гнёту ещё и валишь, и валишь, и вишь, ещё и усмехаисси тому, радуешься, дурак, прости, Господи! Диоклитиан, тоже мне… Хотя ты-то видать, Диоклитиан, а то-то — мальчишка. Тот что хотел? Читал я… да так оно было, слово-то ускальзывает… этой! Ну да — лояльности к римскому языческому королевству-импяраторству. А ты? — почти глаза к глазам сошлись иерей Ермолаич и товарищ Беленький. Так и смотрели друг другу в душу, и ни один не отшатнулся и глаз не отвёл, только ухмылка исчезла с лица товарища Беленького.
— Ну вот, тому Диоклитиану нужна лояльность, а тебе — погибель человеческая, то бишь, чтоб как можно больше человеков отступили от Христа перед смертью своей, от заповедей Его. Вот ить ужас-то! Не понимаешь? По-ни-ма-ешь! Вон, зёнки-то у тебя, что тот пулемёт «Максим»… Ну, а — зачем? В чём тебе радость отступления? В чём тебе радость, что у убитых тобой последнее слово — ненавижу?! А да ить нет тебе никакой радости, вот ты чего прикинь, вот ты чего подумай. Ну глянь-ка при мне ещё раз на дохтура-то, вот он лежит со ртом раззявленным, ну, порадуйся ну, эта, димонстратни мне и вонприспешникам своим радость твою, а? Ну! Похохотай ещё, мол, зря старался, поп, ну!.. Ой, Господи, прости, ну до чего ж вонь от тебя… Ну так вот, если цель и радость у вас (да нету радости-то, нагоняете на себя!) — погибель человека, и делаешь ты всё это не корысти ради, вижу, какая корысть у пулемёта, корысть у того, кто стреляет из него… и радость… да ладно, про радость не буду больше, какая там радость, ну да… так это… и если погибель людей и есть путь приготовления тому, кого ты ждёшь… вот ужас-то! Что же это за образина тогда, а? А чего тебя-то ждёт при воцарении его, думал? Благодарность, думаешь? Рассмеяться в пору, да грех ить. А ты всё ухмыляисси и ухмыляисси, а чем ты мнишь-то себя в том его мире, кого так и дождётесь! Не дай, Господи, дожить. Ну да ить тебе ж благодаря, и не доживу, может как польза зачтётся тебе, дураку, это ох, Господи… Вторую тыщу лет всё вы маетесь, дёргаетесь. Не надоело? Не устали? А вот скажи мне, иудей… А это, а где ж командир твой горластый? Именем Диоклитиана Знаменку пошёл обчищать? Ну да самое время: ночь — это ж ваш день.
— Убил я его, поп. Только что. Вместе с мощами твоими местночтимыми в одной яме горит. Геенским огнем горит. Ха-ха-ха!
— Ну если убил ты, то, может, и не геенским, — неожиданно вдруг улыбка сквозанула из белой бороды.
— Так что ж, думаешь, простятся ему все его кружева, что мы с ним за год наворотили? — весело спросил Беленький.
И отец Ермолаич ещё шире улыбнулся? Был бы здесь кто из тех, кто давно его знает, так сказал бы, что никогда не было у него такой страшной улыбки. И вдруг положил он руку на плечо товарищу Беленькому, сжал его и к себе придвинул, почти так же, как совсем недавно придвигал к себе доктора Большикова. — Слышь ты, а ведь и для тебя ещё тропочка осталась и воротца не захлопнуты, а?
Очень внимательно вглядывался на отца Ермолаича придвинутый Беленький и руку его не отдёрнул, не оттолкнул. Смотрел пристально.
— Да ить для тебя ж сказано: нет ить ни иудея, ни элина, все ить мы для Него одинаковы, все мы для Него дети, всех примет, коли сами придём. Ведь чуешь ты, вижу — чуешь, что не самозванец Он. Ить свернёшь себе шею-то… Рази ить против просто самозванца будет столько ненависти, сколько вон из зёнок твоих пулемётом стреляет! Чего ты радовался так прощальному выкрику вот энтого вот, штыком твоим проколотого, чего так проколоть его заспешил? Ну что тебе до того, что вот он вот чего-то сделал или чего-то сказал вопреки тому, чему учил Тот самозванец, а? Какой-то бродяга (или вообще выдуманный) чего-то сказал, кто-то не послушал, а у тебя бешеная радость от того. А? С Живым ведь воюешь, комиссар. И кой-какой, хошь и маленький кусочек души твоей чувствует неравноту сил-то. Оттого и страшно, оттого и дрожишь вон. Ты вот меня недавно храбрым назвал, а ить храбрый я. Потому как без Христа мне и жизнь не нужна, а со Христом и смерть не страшна. Не мои это слова. Как говорит наша учительша, цитата не будь помянута. Опять ить от повторюсь. Ну вот прошло 2000 лет, не поклоняются болваны Тому, Кого вы распяли. Да вам-то чего, чего стервенеете? Ну встретите вы своего энтого, всемогущего, не всё ли равно вам, есть ли Нашему поклоняющемуся отступники? Что вам до всего мира? До людишек? Всё вы тута подготовили, вся власть вроде у вас, деньги у вас… Чего тебе до последнего слова энтого вот, лежит вот проколотый. Ить вы ж посланника-то своего от Бога ить ждёте-та или как?! От Бога, что землю сотворил. Так?! И всё для того, что ты, убийца, выдавил из его вот перед смертью — «ненавижу!»! Что ж ты, иудей богоизбранный, на Бога-то своего так клепаешь, а?! И ещё тебе скажу. И вам вот! — простёр руку отца Ермолаич в сторону четырёх солдатиков. Те даже чуть головы отшатнули, а ближайший винтовку приподнял, — ты ить, небось, Евангелие-то наше читал. Читал, конечно. Они вот, кстати, могли и не читать по нынешним-то временам, а ты чи-та-ал! А знаешь, что страшнее всего там читать? Знаешь, какие личности Евангельские самые пропащие.
— Очень интересно, — злоусмешливо сказал Беленький и отстранил, наконец батюшкину руку.
— А больше всего это будет интересно вам, — повернул голову отец Ермолаич к сопровождающим. Те стояли столбами и молчали. — Так вот, не шайка синедриона с Каиафой, не Иуда даже, а — стражники! — и опять простёр руку к сопровождающим. Вот тогда те вздрогнули и даже слегка попятились, кроме ближайшего. Тот поднял винтовку выше, его пальцы так её сжимали, что, казалось, сейчас переломят, — да, стражники, которые у гроба стояли и камень отваленный видели, и ангела ить видели, а главное-то — Христа воскресшего видели. С Каиафы и взятки гладки, он ить не видел своими-то глазами, а те-то — видели! Ну ладно, ходил человек, мёртвых воскрешал, может ить колдовал как… Но себя-то мёртвого мог Он воскресить? Кто-нибудь из людей мог, при камне-то заваленном, да при стражниках? Кто же, кроме самого Бога? Ить представляю, как принеслись они к Каиафе-то, дрожмя дрожат, зуб на зуб не попадает, зёнки того и гляди из орбит повылазят, язык — что бревно дёргающееся, промямлили, небось, а ужас продирает — воскрес-де! Ну, нате вам по мешочку золота, молчите токо. Вот они, весы души человеческой, — отец Ермолаич смотрел теперь только на солдатиков. — На одной чаше — Христос воскресший с Царством Небесным, а на другой — золотца мешочек. Натя, выберайтя… Всё! Ваш выбор! Никто боля не подскажет. Чего ж ещё подсказывать, коли вот Он, Христос воскресший, из гроба вышел, и ангел пред Ним ниц распростёрт. Ить и выбрали! Выбрали на шею жернов золотой. Слышите вы, стражники, сами они себе и жернов золотой на шею петлю затянули и — в пучину, чтоб на дно. А что ить жисть-то с таким золотом — не пучина разве, не смерть от задыхания-потопления? Каиафа им петлю не затягивал. Он на стол золото выложил. А вы! Хапальными граблями своими — давай, давай! И забыт Христос воскресший из гроба выходящий.
Беленький уже успокоился и на шаг отступил, чтобы видеть (ни следа ухмылки на его сосредоточенном лице!) лица своих сопровождавших, и на всякий случай кобуру маузера отстегнул и руку свою там держал. А смотрел он на кунаков своих спокойным изучающим взглядом, хотя про троих из них всё уже было ясно. Обычно, правда, от такого его взгляда люди всегда на него оборачивались, но эти были словно прицеплены к глазам отца Ермолаича.
— А вы ить стражники-бражники, вы хуже тех стражников! Хуже той толпы, которая перед крестом Голгофским бесновалась: распни, распни Его, хуже тех, которые камнями Стефана-Первомученика побивали! Они за что в Стефана кидали-то? Да за то, что на небе он Христа нашего во славе увидал, — отец Ермолаич перекрестился. Один из солдатиков дёрнулся было рукой ко лбу, но одновременно зыркнул на товарища Беленького, и замерла рука. — Что дёргаисся?! — почти закричал он на солдатика. — Рука отсохла? А ить и правильно. Он, ить комиссар-то ваш, он ить и Каиафы того пошире, он ить и застрелит за крестное знамение. Так ить он всё одно застрелит вас, хошь когда, как энтого, Диоклитиана вашего. Он, ишь, ухмыляется. И не проканаете вы за малых сих, которых соблазнители соблазнили… Тоже мне, малые! Тыщу лет в этой земле Христос живёт, крест храмовый с каждой кочки — куда ни глянь — видать, вся земля святыми нашими истоптана, весь воздух ихним дыханием напоен, ихним дыханием дышим… Не заметили? Не учуяли? Аль креста на груди нет? Да ить и нет, поди!.. Ваш Каиафа-то крест и под землёй учует, за крест-то он и точно что сразу пристрелит. В какую помойку-то кресты-то побросали, православные? По первому зову вот его за винтовки-то хвать и пошли храмы ломать? И думаете, так и сойдёт? Ему-то вот скидка, можа, и будет, он ить зверь горячий. А вы? Вы ить даже и не теплохладные, а ить хрен знает что! Ить побиватели Стефана мученика диакона, они что? Они ить тоже горячи-то по-своему, их ить корёжило от одного имени Христова, как вот Каиафу вашего. И понятно — ждали мордоворота, завоевателя, чтоб ить к их иудейским ногам весь мир положить, а пришёл грехообличатель, простец и смиренец, покайтесь, говорит, Царство-то Небесное к ногам Я вашим принёс, а Оно им как комиссару вашему крест нательный. И они ить и оправдываться даже пытались, наверняка, когда предстали, ить и вправду, Господи, думали, что Ты — самозванец, затмило, мол, уж больно горячи! Уж больно горячо другого ждали. Да и сам Стефан за них молится. А когда ты вот, Антошка — нос картошкой, на меня вот винтовку свою сей час наведёшь, что скажешь, когда предстанешь, что мямлить будешь? Да ить и молитва моя по сравнению со Стефановой рази ж молитва? Сотрясение воздусей. И ой ить и вменится вам!! Ой, Господи, ну вот ей-ей не хочу сего, не вмени дуракам… Не милостивы они, но Ты — помилуй их… Не кротки они!.. И не давай им землю, но — помилуй. Не ищут они правды, но не изгони Ты их от Себя… Не чисты они сердцем, но яви Ты им Себя… Эх, ну что, Каиафа, пошли, что ли…
Отвернул глаза свои от солдатиков отец Ермолаич. Отвернулся от них и комиссар Беленький. С ними ему было всё ясно.
— Ступайте к яме, туда, где костёр, — крикнул он им, и когда вышли, громко сказал оставшемуся, намертво в винтовку вцепившемуся, — Иди, там скажешь этому Шуйцу, от меня, этих, — он кивнул на дверь, — в овраг и врасход. Сейчас же. Понял?
Четвёртый кивнул и, свирепо глянув на отец Ермолаича, выбежал, оставив дверь открытой. Запах гари сразу заполнил сарай.
— Сейчас, сейчас пойдём, отец иерей. Только не Антошка на тебя винтовку наведёт. А ведь и имя угадал, ха! Я с тобой разберусь, это долг мой, перед другом моим товарищем Будекиным, пожелать бы ему царство твоё несуществующее…
— Да не моё оно, иудей.
— Ну ладно, ладно… Да нет, твоё оно, — полоснул, в который раз уже, голосом и глазами Беленький отца Ермолаича, — твоё! Придумал ты его, да так придумал, что для всех, кого охмурял ты, оно и вправду живым, настоящим стало.
Самому себе на удивление вдруг очень спокойно почувствовал себя товарищ Беленький. И, почуяв спокойствие, расставив почти под прямым углом ноги, руки назад, уставился, скривив губы, на отец Ермолаича. Но не в глаза, а на бороду, на крест деревянный иерейский, на Распятого на кресте.
— А пуль у тебя хватит на всех, иудей? — спросил отец Ермолаич.
— Хватит, — спокойно ответил Беленький, чему-то своему усмехаясь. — А ить много-то ить их и не надо ить, ха-ха-ха! Ить их, пуль-то может всего и надо штук пять-шесть и, — глаза в глаза упёрся-таки Беленький в отец Ермолаича, — потому как, — сошёл на скрежущий шёпот, взялся за крест деревянный и сорвал его с отец Ермолаича, — потому как вас всего-то таких, экземпляров, пять-шесть, больше просто быть не может!.. — Уходить вдруг стало спокойствие товарища Беленького, растревожился вдруг чего-то.
«Быть не может» — прогудела, прогналась собою же сказанная фраза по уставшим извилинам и ткнулась вдруг о какую-то стену, взрывом мучительным рассыпалась — »а вдруг больше? А если и не больше? При чём здесь меньше-больше, когда вот эдакий-то экземпляр?!»
— Нет! — рявкнул товарищ Беленький. — Не может быть больше… Жаль, небось, закапывают ту яму, где Сёма со стариком, тебя б тоже туда… хотя не-е-ет…
— Ты чой-то, иудей, опьянел что ли вдруг, чтой-то кидает тебя: то ты Наполеона из себя корчишь, а то вдруг, как чесоточный дёргаисси.
— А так оно и есть, оно вполне совместимо, рядом с тобой-то. Ведь всю мою жизнь, считай, хотел хоть одного такого увидеть, естественно чтобы тут же ликвидировать, хотя всю жизнь думал, что всё это — теория, такие как ты… а то ведь всё пескарики попадались, всё пескариков вылавливал, да поджаривал, и вдруг эдакая щука… а может, ты кит? Один из трёх, или… сколько вас там? — расплылся в вымученном оскале. — Да нет, больше трёх и не нужно, больше трёх, видать, и невозможно. Да-а, кит, пожалуй, как на картинке, на которых держится вся эта сволочная ваша православная земля!
— Да ить какой там кит, вздохнул отец Ермолич, — и вправду чокнулся ты, иудей, перепил, верхоплавка я, тюлька бессильная…
— Тюлька? Ха-ха-ха… Ишь ты, тюлька… тюлек-то я без счёту сжирал. И сколько раз лопухался, дурак, это я про себя, вот он, ну хотя бы судачок! Один был, думский деятель, 16 языков знал, Антошка букв меньше знает, из себя весь — Цезарь, вроде,.. именно, что вроде, — тюлька! И горластые, и языкастые, и мозгастые, и тактики-стратеги, и помпезные-железные,.. а — тюльки! Ещё радовался, дурак, это я про себя… Да коль на этих тюльках стояло бы всё, так и думать-озадачиваться нечего — уже победили, только патронов не жалей. Ан не совсем ить так-то выходит. Чувствовал, что что-то не то, не так шатается то, подо что рублю, что выравниваю, выгребаю, высекаю, выжигаю!! Киты должны быть! И вот он, наткнулся! Оказывается, кит аж где-то в продырливой Знаменке обретается. Всё, что я до этого сделал — тьфу; вот оно настоящее — кита из под земли этой вырвать! Обидно, что никому не понять, и объяснить некому, что деяние это выше деяний всех завоевателей, всех этих Наполеонов и Батыев. А тут — одну из трёх опор вырубить!! Ну, да я не обидчивый! Ну, а теперь скажи-ка мне, по-своему ведь ненавидишь ты меня, а?
Широко улыбнулся тут отец Ермолаич и даже как-то растерянно ответил:
— Да ить нет же, конечно.
Аж почернел товарищ Беленький.
— Ну ведь врёшь, иерей, врёшь! Да ведь есть же за что тебе меня ненавидеть, ты ж служака Тому, Кого я ненавижу и ты знаешь — как! Я ж богохульник! А богохульнику — «сокруши уста»! Это ведь не кто-нибудь сказал, а Златоуст ваш!
— Начитанный.
— Начитанный! И державу твою я топчу! Растоптал уже!
— Да эк, хватил куда! Куда тебе, иудей, державу православную топтать, ты ж ить всего-то — провокатор, соблазнитель, ну да. Жернов-то ты уже себе примерил, жернова тебе не избежать, но ить топтал-то не ты. Державу православную растоптать невозможно, топтать её можно тогда, когда она перестала ей быть. И топчат-то ить подданные бывшие державы. Антошки — нос картошкой, да профессора с учительшами. Это они топтали. Свои! А ты о своей думай, каждому своё. Эх, вот бедолага-то, да это ить я про тебя, иудей. Да не вскидайся ты гляделами-то, да кто ж ты, как не бедолага, эх, крутит-то тебя, да ить и как не крутить. Наплёл — ненавижу,.. да ить вообще грош бы мне цена, если б к годам моим ещё б ненавидеть способен был. Оно и так, правда, цена-то, ить грош всего, да,.. меньше, однако хоть, Господи помилуй, могу сказать.
И тут призамолк о.Ермолаич, и Беленький увидел, что тот сосредоточенно будто думать стал о чём-то, будто искать в себе чего-то. И увидел товарищ Беленький, что поп действительно, вот сейчас, отстранится вообще от всего внешнего, от Беленького, от судьбы своей расстрельной, от рядом распростёртого тела черносотенца Большикова; не видит он сейчас ни сарая, ни Беленького, ни вообще ничего, весь он в себе, шарит он по своим душевным задворкам, ищет искренно то, что хочет найти в нём товарищ Беленький, и от морды его ненавистной бородатой и сосредоточенной ну так и несёт, — а может, и действительно есть, ну-ка поищу…
И совсем почернел товарищ Беленький. Да нет же (ох уж эта литература!), и не может никакое лицо человеческое хошь от чего почернеть, — оно всегда розовенькое, плюс-минус некоторое разноцветье сходное. Так что? — внутренне почернел? Да кто ж это внутреннее видеть может? Однако, хошь ты что — почернел товарищ Беленький. Всё ухмылистое спокойствие (ноги прямым углом, руки назад), только что переполнявшее его, окончательно сгинуло. Не кита теперь видел перед собой товарищ Беленький, а гораздо более страшное и худшее, чем он думал. Ещё когда изучал он с отвращением историю этого поганого народа на предмет выяснения, за какие струнки побыстрее его ухватить и побыстрее вырезать, поражался с сарказмом — как можно историю на мифах-выдумках строить, через всё ихнее тысячелетнее время проходят эти никогда не существовавшие, очищенные от всяких земных пут эти «святые», — слово это так и не смогло ни разу провернутся на языке Беленького, как только подкатывало оно, сглатывал слюну товарищ Беленький, заталкивал туда (а куда?), и в ярость его кидало, что вообще оно возникло в его чистом революционном нутре. И вот невозможная теория, миф-выдумок овеществленно предстоял перед ним…
— Нету у меня к тебе ненависти, комиссар.
— Зато у меня к тебе есть, иерей.
Видел перед собой Беленький оживлённую проповедь ту проклятую, которую никак он преодолеть не мог своими расстрелами и реквизициями. Мёртвые морды белых партизан (не перекрестились, и Имя не сползло!..) — и то невыносимы были, всё на мысль о проповеди сталкивали, а тут… стоит елейная образина, сучок полуграмотный итькающий, и будто не кости и мясо под рясой, а будто слова те невыносимые заместо скелета и тела, а смысл их, что сидит в них, вокруг него точно облако клубится, и каждая капелька облака иголкой в сердце впивается. Да что может быть тайного и осмысленного — «не судите, да не судимы будете» — чушь слюнтяйская, бред! а вот колет и радости революционной жить не даёт…
Через двадцать лет, когда оборвётся вдруг магистральная линия жизни товарища Беленького, когда вдруг рухнет всё, и из могучего магистральщика — направителя и расстреливателя он враз обернётся врагом трудящихся масс, агентом пятнадцати разведок и, главное (аж в обморок упал на беспыточном допросе) — проводником великодержавного русского шовинизма, когда будут тащить его под белые рученьки (а рученьки назад и мордой к полу!) родные соратники-чекисты, а он в бешеном отчаянии будет пытаться за сапог их укусить, а волокущие его будут рявкать: «Щас не кусать, щас целовать будешь падла!», когда последним гаснущим клеткам сотрясённого на допросах мозга ясно будет, что всё кончилось, ничто не вспомнится ему из своей жизни. Но встанет вдруг перед глазами вот это, вот сейчасная картина, когда пнул он отца Ермолаича сапогом в зад, чего-то проорав, как встал тот из грязи, кряхтя и ворча чего-то и руки друг о друга отирая, и вдруг вскинул их, грязные (с них капало чего-то чёрное) к небу, к небу!, что было за спиной, за затылком Беленького, и закричал вдруг радостно (и глаза полоумные):
— Вижу, Господи, вижу Тебя во славе на Небе стоящем! Иду к Тебе, Господи!
И пошёл, пошёл по грязи, с простёртыми руками и полоумными глазами, дурной своей старческой перевалочной походкой пошёл. Аж посторонился товарищ Беленький.
— И ведь видит, гад! — даже в спину нелепому попу не смел оборотиться товарищ Беленький, несколько секунд так и стоял, своей спиной слушая радостные крики отца Ермолаича, но, наконец, перевернулся прыжком и стал стрелять не глядя, но метко и — в голову, в голову. И уже лежащему, на спине его стоя, всё в голову, в голову до последнего патрона… И теперь — таки глянул туда, к тому небу, куда шёл, мёртвый уже, проклятый сгусток проклятой проповеди. Он увидел чёрное небо, жёлтую тусклую луну, чёрное движение полувидимых облаков и услышал дальнее уханье совы и близкую матерщину закапывающих яму.
Всепронзающий ветер хлестал водой и ещё чем-то колюче-холодным, а товарищ Беленький весь был в поту, и будто каждая капелька этого пота родилась от капельки-иголочки того клубящегося облака, что и сейчас чувствовалось, хотя носитель его затоптан в грязь, и товарищ Беленький стоит на нём ногами. И от чёрного неба и жёлтой луны давило будто невидимым, душу раздирающим, лучом, наводящим совсем невозможную смертную тоску. И пот на теле будто щёлочью стал. И туда, ввысь, направил маузер товарищ Беленький, забыв, что патроны кончились, и всё щёлкал и щёлкал впустую. Много икон пострелял товарищ Беленький (и обязательно, чтобы — в глаза и в лоб), но нужно было обязательно Живого расстрелять. Как тогда — распяли, так сейчас — расстрелять. И сейчас уверен он был вздыбленным своим сознанием, что там Он, Живой, действительно там, откуда давит на него тоской невидимой луч, и пули Беленького долетели бы сейчас туда, не силой пороха — ненавистью б долетели, никак нельзя Его больше живым оставлять! Недодумкам тогда… сжечь надо было, после распятия, может, и не воскрес бы тогда,.. эх, до чего ж давит оттуда луч невидимый, и патронов нет с собой. И не достать Его в той вышине. А ведь пока Он там, стоит Властелином над этими… вот такие вот, на спине которого стоит Беленький победно, они — всегда будут! Ох как вдруг почувствовал это товарищ Беленький!!! А пока есть они, пока ходят они, жива будет эта проклятая земля, и хоть тьма легионов товарищей Беленьких, Антошек-картошек, профессоров и учительш будут стрелять, жечь и топтать эту землю, ни пули её не возьмут, ни огонь не опалит, и, растоптанная — восстанет.
Примечания
[1] Элла — великая княгиня Елизавета Фёдоровна, сестра императрицы.
[2] Каляев — убийца великого князя Сергея Александровича.
[3] Эрнст — брат Александры Фёдоровны.
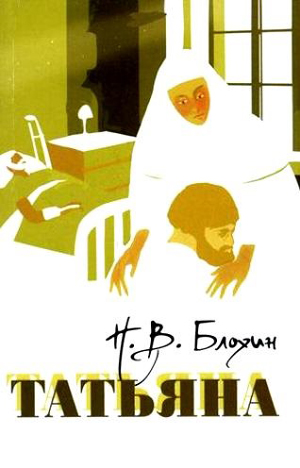
Комментировать