III. Метод изучения русской иконописи. – Источники иконописного предания
Из предыдущего обозрения явствует, что важное значение нашей иконописи в истории христианского искусства состоит не в художественном исполнении, а в иконописных сюжетах, данных церковным преданием и в большей или меньшей чистоте сбереженных историей Русской иконописи, и объясненных и определенных Иконописными Подлинниками. С точки зрения устарелых эстетических теорий, ограничивающих историю искусства развитием внешней формы, нашей иконописи отказали бы в историческом значении, и нашли бы немыслимым самое понятие об истории Русской иконописи. Но с той точки зрения жизненного отношения искусства к истории развития идей, с которой современные ученые западные открыли неистощимое богатство материалов в искусстве древнехристианском и даже в его варварской форме Романского стиля, и наша иконопись не только подучит право на должное к себе внимание, но и займет видное место между этими фактами в истории христианских идей, состоя с ними в тесной связи, и присовокупляя к общему развитию церковного искусства характеристические черты русской национальности.
Самым существом Русской иконописи – держаться церковного предания – определяется исходный пункт в методе ее изучения, то есть, приведение в ясность этого художественно-религиозного предания. Наши предки, как мы видели, очень сбивчиво говорят об этом предании: то указывают на каких-то древних мастеров, то на Греков, то на приделы Цареградского храма Св. Софии, то на какие-то греческие миниатюры и другие завозные образцы. Для древних иконописцев было достаточно этих неопределенных указаний; потому что на самой практике, по заведенной рутине, предание ими наблюдалось. Но в наше время, когда приведены в известность, изданы и оценены по достоинству важнейшие памятники древнехристианского искусства вообще и некоторые Византийского стиля, естественно представляется сам собой вопрос: многое-ли и что именно в предание Русской иконописи заимствовано из общего достояния древнехристианского искусства вообще и из Византийского в особенности? А для этого должно привести в известность самые источники искусства и объяснить их содержание и стиль. Но чтобы удержаться в пределах авторитета, принятого нашей иконописью, надобно это предание определить известным периодом времени, Подлинники нам указывают на последнюю эпоху этого периода, именно на разделение церкви на Восточную и Западную в IX в.; следовательно, по смыслу этого указания, все произведение церковного искусства, предшествующие разделению церкви, где бы они ни возникли, на Востоке или на Западе, в Византии или в Риме, Милане, Равенне, Арле, Ахене, равно могут дать содержание нашему иконописному преданию. Если это так, то история нашей иконописи, по сродству источников, должна составлять одно нераздельное целое с историей христианского искусства до IX в. включительно. Но мы уже не можем с такой наивной исключительностью, как наши предки, смотреть на само производство церковных вещей, и отвергать их потому только, что они были сделаны не православными. Мы знаем, что западное искусство, при многих отклонениях, многое и удерживало из общих церковных преданий, даже до XIII и XIV столетий. Следовательно и эти позднейшие данные в рассуждении Русского иконописного предания опущены быть не могут. Сверх того, мы знаем также, что на западе в течение трех столетий после разделения церкви много художественных произведений сделано было мастерами греческими; например, мозаики в Сицилии и в Венецианском соборе Св. Марка, XI и XII столетий. В Италии до XIII в. было так сильно влияние греческое, что по старинному преданию, всю живопись итальянскую до Чимабуэ привыкли называть Византийской. Следовательно, все что в западном искусстве соединено с названием Греческого или Византийского, имеет неоспоримое право быть также введено в область русского иконописного предания.
Такую же неопределенность представляет нам период времени русского иконописного предания и в отношении своего раннего предела, от которого он должен вести свое начало. Нашим древним иконописцам не могло придти в голову затруднять себя этим вопросом: для них готовое Византийское предание было тем данным, которое они полагали себе в основу; и, довольствуясь фактом, действительным на Руси в древности, от XI до XIII в., или более воображаемым и возведенным в идеал, в позднейшие столетия в школах Новгородской, Строгановской и Московской, они не имели ни нужды, ни научных средств определить себе составные элементы этого факта в их историческом развитии. Напротив того, теперь, когда мы знаем, сколько потерпело видоизменений церковное искусство от первых веков Христианства и до разделения церкви в IX в., вопрос о русском иконописном предании значительно усложняется. Основываясь на том, что наши Подлинники ссылаются на иконные украшения Софии Цареградской и называют самого строителя этого храма Юстиниана, мы имеем полное право расширить период иконописного предания на три столетия слишком, то есть, от VI до IX в. Но можем ли не присовокупить к этому периоду и V-го столетия, когда в противодействие учению Нестория, с особенным блеском выразилось чествование Богоматери, торжественно укрепленное постановлениями Ефесского собора («0 г.), и когда были во имя Богородицы сооружены и украшены мозаиками – в Цареграде храм Богородицы Влахернской и в Риме Базилика Либериева (Maria Maggiore)? Восходя в древность далее, мы не исключим из этого периода и знаменитый в истории христианского просвещения IV век, век великих Отцов Церкви и равноапостольного основателя Византии, послужившей для русского искусства живой связью с первыми веками Христианского предания. Наконец, дойдя таким образом до первоначальных источников христианского искусства времен Мучеников, имеем ли право мы, русские, возвести свое церковное искусство, столько древнее в своих основах, к этому общехристианскому преданию в иконописных и пластических украшениях великих кладбищ Св. Мучеников и первых христиан, или должны отказаться от этих сокровищ искусства и религии, предоставив их западу, потому только, что сквозь обаяние Византийского авторитета наши предки ничего не могли усмотреть дальше в глубине Христианской древности, и, по своему отчуждению от западной церкви и от всего западного, не знали и не догадывались о художественных источниках первобытной, гонимой церкви, сохранившихся в катакомбах и в других памятниках на западе, и преимущественно в Риме? Если история христианского искусства на западе, несмотря на свой принцип развития новых элементов, все же возводит свои ранние основы к этим первобытным источникам; то тем естественнее предъявить на них свои права искусству восточному, которое по своему принципу держится предания и его сохраняет, строго очищая его от всякой новизны.
Таким образом, источники иконописного предания в историческом их развитии делятся на три главные периода: период древнехристианский, в памятниках искусства первых веков церкви гонимой, в ее представителях, Св. Мучениках, до Константина Великого; потом период полного расцвета Христианского искусства в Церкви, заявляющей свое всемирное господство и торжество, от IV в. и до VIII-го, давшего новое направление церковному искусству, проверенному богословской критикой и очищенному в следствие распрей и прений иконоборческих; и наконец, последний период начинается со времени Седьмого Вселенского Собора Никейского, на котором, в 787 г., в опровержение иконоборцев, окончательно утверждено чествование икон живописных и отвергнуто употребление икон скульптурных в виде статуй. Впрочем иконоборческое движение не прекращалось около ста лет и потом, и не могло не оказывать своего действия на судьбу христианского искусства, вызывая иконопочитателей на богословские о нем рассуждения, имевшие задачею очистить его и подчинить церковному авторитету: так что эти два столетия, VIII и IX, ознаменованные борьбой за церковное искусство, составляют ту эпоху брожения, из которой выработался в иконописи стиль собственно Византийский, и тем своеобразнее он определился, что иконоборчество, имевшее своим поприщем Восток, мало оказало влияния на судьбу церковного искусства на Западе, Цветущее время для третьего периода продолжается до XII в., с которого начинается постепенное падение стиля Византийского под стеснительным и односторонним влиянием монастырским.
Все эти три периода, составляя одно нераздельное целое в художественно-религиозном предании, отличаются большим или меньшим преобладанием того или другого из двух составных элементов христианского искусства, то есть, элемента художественного, наследованного от античного искусства, и элемента религиозного, в своем развитии более и более подчинявшегося богословскому учению. Чем древнее христианское искусство, тем больше господствует в нем элемент художественный, и чем больше оно принимает характер стиля Византийского, тем больше подчиняется богословию. Чем искусство древнее, тем больше в нем свободы творчества и поэтического воодушевления, и чем позднее, тем больше сковано оно догматами учения. Потому период серединный, от Константина Великого до иконоборчества (от IV до VIII в.), надобно признать цветущим временем христианского искусства, когда оно, с одной стороны, еще не успело утратить изящество своей античной формы, а с другой, воодушевляемое творчеством в свободе верования торжествующей Церкви, оно еще не стеснялось условными правилами, наложенными на него потом, в следствие богословских прений, имевших целью оградить церковное искусство от еретических в него вторжений. Потому-то наши иконописные Подлинники и возводят иконописное предание к этому периоду, и именно к VI в., т. е. ко времени сооружения Св. Софии Юстинианом. Период третий, несмотря на перевес богословского элемента, все же на столько был связан в Греции исторической последовательностью явлений с предыдущим, что имел возможность по преданию сохранить первобытное изящество древнехристианского искусства в стиле Византийском, в ту варварскую эпоху, от IX до половины XII в., когда церковное искусство на западе дошло до крайнего безобразия. Ясно, следовательно, что Русь, будучи связана своей историей с Византией, была счастливее других современных ей средневековых народов, когда в X и XI в. могла она почерпнуть церковное искусство из самого лучшего в то время источника, в Византии. Потому не меньшего внимания заслуживает в наших Подлинниках расширение иконописного предания источниками этого периода, представителем которых назван Менологий императора Василия (989–1025).
Так как русское церковное искусство составляет отрасль собственно Византийского, от X или точнее от XI в., то, само собой разумеется, что оно состоит в ближайшей связи с источниками этого времени и позднейшего, нежели с источниками двух первых периодов, и сверх того ближе ко второму периоду, нежели к первому.
Историческое развитие христианского искусства всех трех периодов имеет своей целью точнейшее определение христианских типов и сюжетов. Чем далее в древность, тем меньше индивидуальности в святых личностях и меньше развития в изображении священных событий. В искусстве первых четырех веков, сохранившемся в живописи катакомб и в скульптуре саркофагов, еще не определились, ни типы Христа и Богоматери, ни подробности Евангельских событий: и притом из этих событий берутся только те, которые представляют идею искупления с стороны светлой, торжественной, в чудесах Христа, в поклонении Ему и в Ей спасительном учении, а не те, где искупление является в страданиях, неповинной смерти и в распятии. Все эти последние сцены развились уже в последствии. Искусство времен христианских Мучеников не знает мученичества и страданий, и не умеет их изображать. Все в этом искусстве ясно и торжественно, все направлено к любви и утешению, и в живописи подземных кладбищ и в начертаниях надгробных плит на могилах мучеников. Нет изображений ни костров, на которых сжигались мученики, ни орудий мучения, ни намеков на преследования. Только Иона, извергаемый из пасти кита, или Даниил, чудесно сохраняемый между львами – символически дают разуметь о торжестве мученичества, и, удаляя мысль от ненависти к преследователям, подают мученикам новую силу страдать и молиться. Потому самые мученики являются только в виде величавых фигур, торжественно простирающих руки для молитвы. – В древнейших памятниках Христос изображается юным и безбородым, редко с бородой; иногда, в виде Доброго Пастыря, несет на плечах агнца, или в пастушеской сцене, стоит между двумя овечками; иногда с жезлом в руке совершает чудеса: претворяет воду в вино, воскрешает Лазаря; обыкновенно один, без исторической обстановки целого события. Это только намеки на лица и события, а не точное и подробное изображение их. Это не художественные типы, а символы. Древнехристианский художник, хорошо владея техникой античного искусства, но не умея обнять во всей обширности и глубине идеи новой религии, разными символическими намеками хочет только навести мысль молящегося на предметы, не доступные изображению. То изобразит он Христа под античной формой Орфея, укрощающего зверей звуками своей музыки, то под символом агнца, который с жезлом в своей лапе совершает чудесное умножение хлебов или воскрешает Лазаря, то под символом рыбы и т. п. Сопоставление событий Ветхого и Нового Завета составляет для художника самое удобное средство для выражения сомкнутого в себе самом круга его понятий, не развитого анализом подробностей. Грехопадением первых человеков намекает он на искупление, Ноем в ковчеге – на крещение и на Церковь христианскую; Даниилом во рве между зверями, тремя отроками в пещи, или Иовом на гноище – на страсти Господни; Ионой в чреве кита – на воскресение Иисуса Христа; Ильей, возносящимся на небо в колеснице – на вознесение Спасителя и т. п. Не затрудняя себя ландшафтом, для краткости, изображает он предметы внешней природы олицетворенными, то есть, горы, реки, море, города, солнце, луну – в виде человеческих фигур, в которых нельзя не усмотреть ясных следов античных типов божеств; точно также как идеи и тайны христианского учения представляет в условно принятых формах, каковы: агнец (искупительная жертва), голубь (символ Духа Святого), рыба (Иисус Христос47) и душа (окрещенная крещением), павлин (воскресение), феникс (воскресение и бессмертие) и много др. Таким образом, главнейшая задача, выполненная искусством первых веков христианства, состоит в создании Христианской Символики, которая вошла в основание нового искусства всех времен, а в нашей иконописи сохранилась и доселе48.
Во втором периоде, воображение художника, не стесняемое боязнью преследования, освободившись от мрака и таинственных катакомб, являет себя во всем блеске мозаических изображений, выступающих иногда на золотом поле, в великолепных храмах торжествующей церкви. Оно уже не гадательно только намекает на священные лица и события, но в ярких образах запечатлевает их на стенах и сводах, на удивление и поклонение верующих. Типы Христа, Богородицы, Пророков, Апостолов, Мучеников, некоторых Отцов Церкви, определяются в их индивидуальных, характеристических чертах; события Ветхого и Нового Завета развиваются в подробных изображениях и разнообразятся по свободе творческого вдохновения, еще не сдержанного ни прениями еретиков, ни богословской цензурой. Наконец, в третьем периоде, иконописные сюжеты, очищенные богословской критикой, получают свой окончательную форму, несколько видоизменяемую впрочем в разных, так называемых, переводах, или редакциях. С этих пор точное сохранение в иконописи установленных типов – обязывает художника уже не творить вновь, не изобретать, и неуклонно следовать преданию в копировании прежних образцов, согласно с следующими предписаниями одного из актов, читанных на втором Никейском Соборе (787 г.), в защиту иконописи против иконоборцев: «не изобретение (ἐφεύρεσις) живописцев производит иконы, а ненарушимый закон и предание Православной Церкви (θεσμοθεσία καὶ παράδοσις) – не живописец, а святые отцы изобретают и предписывают: очевидно им принадлежит сочинение (διάταξις), живописцу же только исполнение (τέχνη)»49. Именно это самое правило положено в основу и русской иконописи и наших иконописных подлинников. Типы святых личностей и иконописные сюжеты даются преданием, и только внешнее исполнение принадлежит иконописцам, то есть, часть «техническая» (τέχνη), понимаемая в обширном значении слова, то есть, рисунок, колорит и т. п.
Возведение нашей иконописи к ее источникам в ясности обнаружится в кратком перечне их по разрядам, который, за отсутствием в нашей литературе художественнo-археологических руководств, мы почли необходимым здесь приложить.
I. Стенная живопись в Римских катакомбах. Она простирается до XI в., и даже позднее, но имеет свое собственное значение только до Константина Великого, то есть, в первые века церкви, и особенно во II и в III столетиях по Р. X., когда гонимые христиане спасались в этих подземных жилищах, в которых они собирались для молитвы и общения, и которые служили им и местом погребения около святочтимых останков Св. Мучеников. Так как в стенах катакомб устраивались места для покойников (loculi), или вдоль коридоров, или в нишах под аркой (arcosolium), в особых покоях, назначенных для погребения (cubiculum), и так как этот погребальный характер господствует во всех помещениях этих подземных переходов, то для живописи преимущественно назначались своды, архитектурному очертанию которых подчинялось распределение живописных изображений. Несколько разных сюжетов, сближенных между собой по символическому значению, обыкновенно составляют одно целое, размещенное в кругах, полукружиях и в других геометрических фигурах, на которые разбита поверхность свода с его спусками и верхние части стены, описываемые арками. В середине – круг или четырехугольник, в спусках, кругом его, полукружия. Например, в катакомбах Св. Маркеллина и Петра: в середине, в четырехугольнике Добрый Пастырь, юношеская фигура в короткой тунике, с агнцем на плечах; у ног по стоящей овечке. На спусках в полукружиях: Ной в ковчеге с голубицею, которая принесла ему масличную ветку, Христос у Силуамской купели, в которой стоит расслабленный. Даниил стоит между двумя львами. Авраам собирается принести в жертву Исаака. Или, в катакомбах Св. Каликста: в середине в кругу: Орфей игрой на арфе сзывает к себе зверей и птиц. На спусках плафона: Даниил между львами, Моисей источает из скалы воду, Давид с пращей и Христос воскрешает Лазаря. Иногда на спусках, вместо полукружий, четырехугольники. Например, в катакомбах Понтиана: посреди в кругу Добрый Пастырь; в четырех четырехугольниках на спусках – четыре времени года: весна под видом дитяти с лилиею в одной руке и с зайцем в другой. Лето под видом жнущего жатву. Осень под видом виноградаря, приставляющего к дереву лестницу. Зима под видом человека, греющегося у огня, с зажженным факелом в руке. Если живопись расположена в нише или в полукружии, описанном аркой, то это полукружие разделено линиями на отделы. Например, в катакомбах Св. Агнесы, в двух концентрических полукружиях: в нижнем посреди молящаяся фигура (orans), направо от зрителя пять мудрых дев с светильниками, налево трапеза (ἀγάπη). В верхнем полукружии: посреди, над молящеюся фигурой – Добрый Пастырь; на спусках: направо – Даниил между львами, налево – Адам и Ева по сторонам Древа Познания добра и зла. Или, в катакомбах Св. Маркеллина и Петра: в нижнем полукружии молящаяся женская фигура между деревьями и двумя мужчинами, к ней обращающимися. В верхнем полукружии: над моляющейся – в маленьком круге: Ной в ковчеге с летящей голубицей: на спусках полукружия: направо Адам с Евой по сторонам Древа Познания, налево – Моисей, источающий жезлом из скалы воду. Между линиями, отделяющими эти сюжеты, пустые пространства наполняются изображениями птиц, зверей, гениев, ваз, сосудов, гирлянд и других украшений в античном стиле. События, как замечено выше, изображаются кратко, одними намеками; например, ковчег Ноя, как в живописи катакомб, так и в древнейших рельефах, представляется в виде ящика, такого узкого, что может вместить только одного Ноя, который поднимается из него по пояс. Иногда этот ящик стоит на лодке. иона изображается обнаженным, даже в сцене, когда лежит или сидит под смоковницею. Тоже и Даниил во рву обнаженный, а не в фригийском костюме, как принято было в последствии, и как потом в нашей иконописи. Одежда с полосами, или источниками, или по обеим сторонам от плеч, или посреди, от груди, и до самого низа. Эти полосы приняты в древне-Византийском искусстве, и оттуда перешли к нам. Особенно характерны часто встречающиеся изображения молящихся, в длинных одеждах, с распростертыми руками: это или Св. Мученики и Мученицы, или изображения похороненных христиан над их могилами, иногда, может быть, олицетворение молитвы и гонимой Церкви времен мученичества. Молитвенная поза этих фигур с распростертыми руками, иногда горизонтально, иногда приподнятыми, как молятся наши священнослужители, встречается в Византийском искусстве, как в раннем, напр., на фресках в храме Св. Георгия IV в., в Солуне, так и в позднейшем, напр., в мозаическом изображении Богородицы в Киево-Софийском соборе на Нерушимой стене XI в., или в храме Чефалу в Сицилии XII в. Та же древняя молитвенная поза удержана в изображении Знамения Богородицы. Нет сомнения, что наши иконописцы для изображения Св. Мучеников могли бы многим воспользоваться в этих молящихся фигурах катакомб, так как эти поэтические, величавые фигуры, относясь ко времени самых Мучеников, передают нам современный им костюм и самое настроение духа. Относительно техники, живопись катакомб служит ближайшей связью искусства христианского с античным, от которого оно наследовало изящный вкус и натуральность. Очерк бойкий, колорит живой и яркий, как в живописи Геркуланума и Помпеи. – Для наглядного знакомства прилагается здесь в снимке часть стены с сводами из катакомб Св. Агнесы (рис. 7), из капеллы, так называемой Агапы, левая сторона. Внизу часть стены под полукружием с изображением ионы под смоковницею и Ноя в ковчеге с голубицею; выше часть свода, с изображениями на его спуске. – Моисея, источающего из скалы воду, и молящейся фигуры, которая стоит между двумя овцами. Здесь же приложены снимки Доброго Пастыря из катакомб Маркеллина и Петра (рис. 8), и Орфея из катакомб Св. Калликста (рис. 9)50.

Рис. 7. Живопись свода в катакомбах Св. Агнесы

Рис. 7. Добрый Пастырь (из катакомб Свв. Марцеллина и Петра)

Рис. 9. Орфей (из катакомб Св. Калликста)
II. Рельефы на саркофагах. Это четырехугольные ящики из камня, преимущественно из мрамора, для захоронения покойников, шире и выше нынешних гробов, и с отвесно спускающимися стенками, а не откосными. Хотя употребление их восходит до времен язычества, но от первых веков христианства сохранилось больше надгробных плит, нежели саркофагов: это плиты с надписями, любопытными по содержанию, и с немногими очерками символического характера, изображающими то павлина, голубя, петуха, пальмовую ветку, то олицетворение райской реки в виде человеческой фигуры, то молящуюся фигуру, с распростертыми руками, как в живописи катакомб. Что же касается до большей части лучших саркофагов, то они, относясь к IV в., предлагают уже дальнейшее развитие иконографии, сравнительно с древнейшею живописью катакомб. Саркофаги украшены рельефами, высокими или плоскими, иногда со всех четырех сторон, иногда с трех, по обыкновенно с одной передней. Рельефы на саркофаге, все вместе взятые, редко изображают одно общее им всем событие, но представляют целый ряд кратких эпизодов, из одной, двух или трех фигур. Эти эпизоды не состоят между собой в видимой связи, и часто помещаются рядом – один из Ветхого, другой из Нового Завета; но все они вместе стремятся к выражению одной общей идеи. Располагаются они в один или в два ряда. Иногда каждый эпизод отделяется колонкою, так что весь саркофаг представляется колоннадою, увенчанной архитравом; иногда эпизоды размещаются в полукруглых нишах, под арками, или под тупыми углами, и тогда все вместе взятые имеют вид храма с несколькими абсидами или конхами, которые на саркофагах и изображаются в виде раковин, с чем вполне согласуется употребляемый до селе архитектурный термин – конха (concha, κογχη). Когда рельефы, расположенные между колоннами в нишах или под фронтонами, идут в два ряда, один под другим; тогда саркофаг имеет вид как бы двухъярусного иконостаса. Кроме рельефов из Священного писания, иногда, в самой сeредине саркофага, помещаются, в большем размере изображения в нем погребенных, или других каких либо лиц, обыкновенно двух фигур, по пояс, в кругу в виде щита или раковины – в форме, заимствованной от портретов античного искусства (imagines clypeatae), и впоследствии, как увидим, принятой для изображений Христа по грудь. Иногда вверху по углам саркофага помещаются маски в античном стиле. В саркофагах господствует тот же параллелизм между Ветхим и Новым Заветом, как и в живописи катакомб;но объем сюжетов из Евангелия шире, особенно в сценах, предшествующих страстям Господним, к которым искусство уже приближается, но все еще не смеет и не умеет их изображать. Так очень часто встречаются изображения Христа, задерживаемого воинами в Гефсиманском саду, отрекающегося Петра с петухом, Пилата, умывающего руки. Господствующий тип Христа – юношеская, идеальная фигура, без бороды, с длинными волосами, изящно закинутыми назад, в тупике и тоге, перекинутой через одно плечо и подхваченной под другую руку.
Для ближайшего знакомства с этими важными памятниками для истории христианского искусства предлагается здесь описание некоторых из самых замечательных из них.
1) Саркофаг префекта Юния Басса (Junius Bassus) 359 г. Рельефы только с передней стороны; расположены в два ряда; верхние разделены колоннами, под горизонтальным архитравом: нижние тоже между колоннами, но частью под арками в виде раковины, частью под тупыми углами фронтона, вперемежку. По пяти отделов в каждом ряду. В верхнем ряду: в среднем рельефе Христос восседает на престоле с свитком в руке; в ногах у него обнаженная мужская фигура с бородой, по грудь, в руках держит покрывало, спускающееся с головы: это олицетворение небесной тверди, на которую Христос полагает свои ноги. По сторонам его стоят Апостолы Петр и Павел. Направо (от зрителя) в двух рельефах Христос перед Пилатом, умывающим руки. Налево в одном рельефе отречение Петра, и, наконец, в крайнем жертвоприношение Исаака. В нижнем ряду: в среднем рельефе, под Христом, восседающим на престоле: Христос, на осляти въезжающий в Иерусалим. Направо в двух рельефах: Даниил между львами, и Апостол Петр, ведомый в темницу; налево – тоже в двух: Адам и Ева по сторонам Древа Познания, с атрибутами труда, предопределенного им по изгнании из Рая для снискания пищи и одеяния: около Адама сноп жита, около Евы – ягненок, для обозначения прядения шерсти. Наконец, в последнем – Иов на гноище, юношеская фигура, без бороды; около еще две фигуры. Для христианской символики особенно важен этот саркофаг по украшениям, наполняющим пустые углы, образуемые арками нижнего ряда, над барельефами. В этих углах под видом агнцев изображены Христос и другие священные лица в некоторых сценах, обычных для искусства того времени; а именно: агнец жезлом извлекает из скалы воду (Моисей), и получает скрижали от десницы Господней (он же); агнец в пещи (намек на трех отроков в Вавилонской пещи); агнец возлагает свой лапку на другого агнца, на которого сходит с неба Дух Божий (Иоанн крестит Иисуса Христа); агнец с жезлом умножает хлебы, воскрешает Лазаря (Иисус Христос). Снимок со средней части саркофага см. на рис. 10.

Рис. 10. Саркофаг Юния Басса 359 г.
2) Саркофаг консула Аниция Проба, или саркофаг Проба и Пробы, 395 г. Рельефы со всех четырех сторон, в один ряд, разделенные колоннами, в нишах под сводами из раковин. На передней стороне, в среднем из пяти отделов, изображен Христос, стоящий на горе, из которой изливаются четыре Райские реки: Тигр, Евфрат, Фисон и Нил, в ознаменование источника жизни и спасения, исходящего от Христа. В левой руке держит Он свиток, а в правой крест, украшенный драгоценными каменьями, четырехконечный, в виде посоха, доходящего до земли, с коротким перекрестием в самом верху: изображение, в высокой степени важное для истории христианских древностей (снимок см. на рис. 11. Во всех прочих отделах всех трех сторон саркофага, изображены стоящие Апостолы и ученики Христа, попарно. На задней стороне три рельефа: в среднем – две стоящие фигуры, мужская и женская, вероятно, Проб и Проба; по сторонам пустые четырехугольники, наполненные извивающимися желобками в виде латинского S (strigiles), а по оконечностям, тоже между колоннами под арками, по одной стоящей фигуре.
Оба эти саркофага из Ватиканских катакомб.

Рис. 11. Саркофаг Аниция Проба 395 г.
3) Саркофаг под кафедрой Миланской базилики Св. Амвросия, по своему происхождению позднее обоих предыдущих. Барельефы со всех четырех сторон. На передней, разделенной на два ряда, в нижнем, который составляет главную и большую часть этой стороны, в середине, в полукруглой нише восседает на престоле Христос, с Писанием в руке; под его ногами две молитвенно склоняющиеся фигуры по сторонам агнца. По обеим сторонам Христа, его ученики, одни сидят, другие стоят; фон разделен на арки, поддерживающие здание. В верхнем ряду: над Христом щит с грудным изображением мужчины и женщины, поддерживаемый обнаженными крылатыми гениями, с хламидами на плечах. Налево три Еврейские отрока, отказывающиеся поклониться идолу – это первая половина события, которого и заключение также встречается на саркофагах, то есть, три отрока в пещи. – Направо – три волхва несут дары Христу младенцу, находящемуся на коленях сидящей Богородицы. Оба эти рельефа соответствуют друг другу и по мысли и по внешности: там три Еврейских отрока отрекаются поклониться идолу, а здесь три волхва, представители язычества, идут с усердными приношениями к Богу истинному. И те и другие в одинаковых восточных костюмах и в фригийских шапках (хотя в этом саркофаге головы волхвов посбиты, но их фригийские шапки известны из других памятников того же времени). По обеим узким сторонам оконечностей саркофага, тоже на фоне здания с арками, изображено: на олной Жертвоприношение Исаака и стоящие Апостолы, а наверху в фронтоне: в середине в венке известная монограмма Христа, состоящая из греческой буквы X, отвесно перечеркнутой буквой Р. По сторонам венка по голубю и по букве альфа и омега. Эта монограмма Христа в венке иногда полагается на верхней оконечности креста, изображаемого между рельефами в самой середине передней стороны саркофага. На другой узкой стороне Миланского памятника, на малом пространстве скучено четыре Ветхозаветных сюжета: Илья пророк возносится на небо на колеснице, запряженной четырьмя конями, покидая Елисею свой мантию. Рядом Ной в ковчеге, в виде ящика или купели, с голубицею, а около него Моисей, принимающий из Господней десницы скрижали. Под конями Илии: Адам и Ева по сторонам Древа Познания. Илия, Елисей, Ной и Моисей – все безбородые, юношеские фигуры; но Авраам, в вышеупомянутом рельефе с бородой. Над этими четырьмя ветхозаветными событиями, во фронтоне изображено Рождество Христово: в середине в яслях лежит спеленутый Христос младенец, а по сторонам вол и осел, и только. Богородица и Иосиф отсутствуют, или потому, что скульптор хотел наметить событие кратким намеком или потому, что он был последователем ереси, отказывавшей Деве Марии в чествовании ее Богоматерью – Снимок со всей этой стороны см. на рис. 12, а на рис. 13 соответствующий барельеф с саркофага Луврского51, о котором будет сказано ниже. – На задней стороне Миланского памятника, в середине изображен стоящий на горе Спаситель – тип замечательный потому, что с бородой. По сторонам стоящие Апостолы, по шести; в ногах Спасителя у горы две преклоняющиеся фигуры, мужчина и женщина. На нижней полосе, служащей пьедесталом, еще раз изображены Христос и Апостолы под видом агнцев: в середине стоит агнец больше других, а по сторонам по шести агнцев поменьше, справа и слева идут к среднему, направляясь от зданий, изображенных по обоим углам: это Вифлеем и Иерусалим.
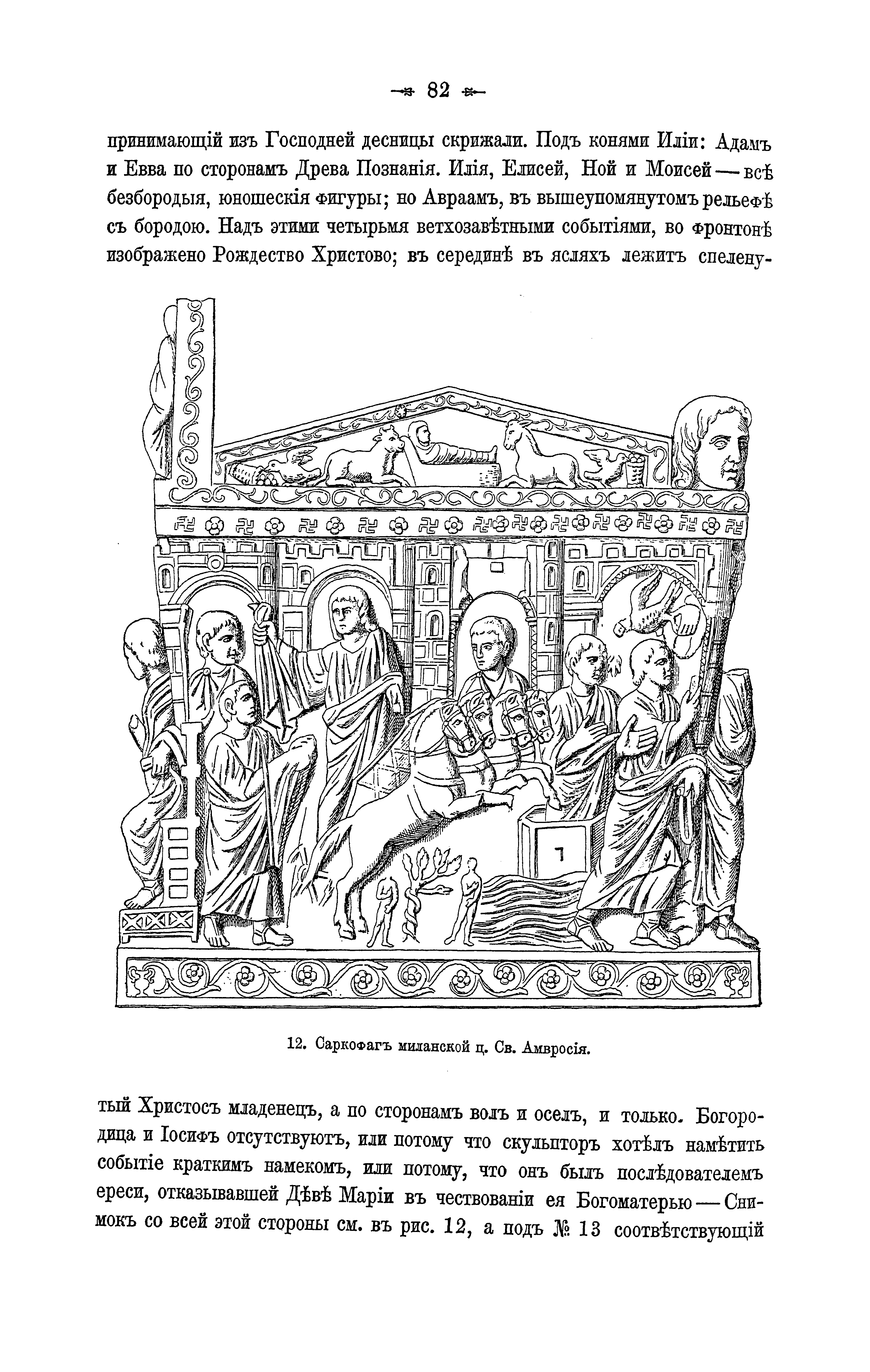
Рис. 12. Саркофаг Миланской ц. Св. Амвросия

Рис. 13. Вознесение Илии (барельеф Луврского саркофага)
4) Саркофаг из-под алтаря базилики Апостола Павла, в Латеранском музее. Рельефы на передней стороне, в два ряда, сплошные, то есть, не разделенные колонками. В верхнем ряду, в середине в щите поясные изображения двух фигур. Налево от зрителя сцены из Ветхого Завета: сотворение первых человеков и грехопадение; в сотворении Господь с бородой, сидит на престоле; в грехопадении – юношеская фигура, как обыкновенно изображается на саркофагах Христос, Адаму дает колосья, а Еве барашка или козленка; около Древо Познания с змием. Направо Новый Завет: Спаситель претворяет воду в вино – намек на чудо в Кане Галилейской; умножает хлебы и воскрешает Лазаря. – В нижнем ряду, в середине, под щитом с портретами, Даниил между львами, Аввакум приносит ему пищу. Налево Поклонение волхвов, и Христос исцеляет слепого; направо Отречение Петра с петухом, и Моисей жезлом извлекает из скалы воду.
5) В заключение, для составления понятия о художественном стиле саркофагов, предлагается здесь рисунок (рис. 14), точной фотографической копии с саркофага Либериевой Базилики (Maria Maggiore), в Риме, взятого туда из катакомб Лукины (Lucinae), В середине, в медальоне из раковины, две мужские фигуры, отлично исполненные, настоящие портреты по натуральности и по выражению характера; полагают, что это Апостолы Петр и Павел. По сторонам медальона, в верхнем ряду, налево от зрителя, Моисей принимает скрижали от десницы Господней, направо Авраам приносит в жертву Исаака. Далее – Христос перед Пилатом, умывающим руки. За Моисеем налево Отречение Петра, с петухом, и Христос воскрешает Лазаря (замечательна форма гроба в виде античного здания). В нижнем ряду, начиная с левой оконечности: Моисей источает из скалы воду; иудеи ведут Христа; Даниил между львами; Моисей сидит с скрижалями, объясняя народу закон; Закхей на смоковнице; Спаситель дает зрение слепому и чудесно умножает рыбы и хлебы.
Рис. 14. Саркофаг Базилики Maria Maggiore
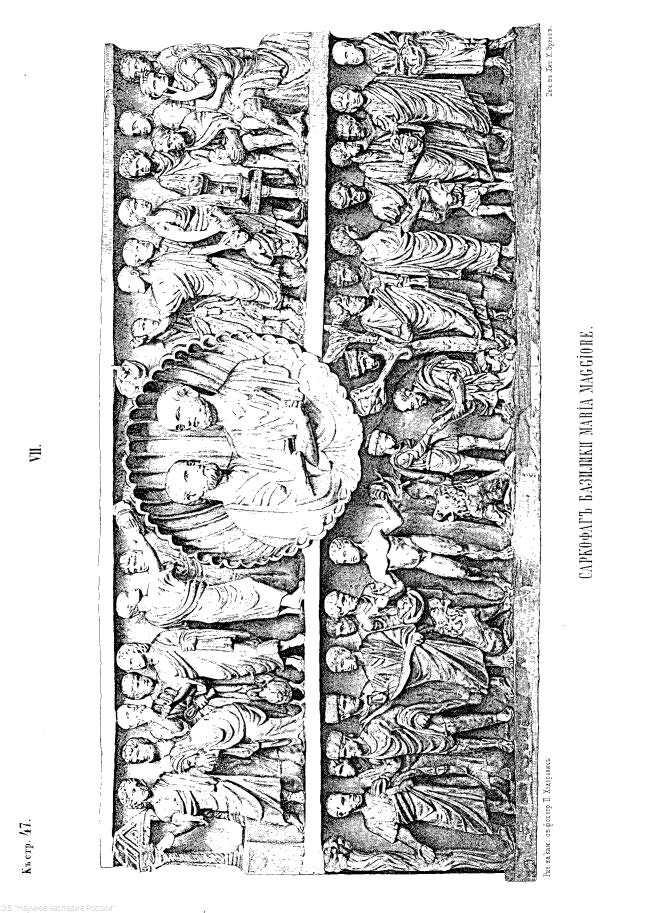
Так как по самому существу своему, скульптура более способна представлять события в малосложной группе, нежели в широком развитии, которое предоставляется более удобным к тому средствам живописи, и так как древнехристианские рельефы на малом пространстве стремятся выразить многое, вполне отражая обилие идей, которые в их неразвитых зародышах сомкнуты в верующем воображении художника; то рельефы саркофагов важны в истории христианского искусства тем, что приучили глаз схватывать целое событие по короткому намеку, выработав с этой целью типические формы для изображения разных сюжетов Ветхого и Нового Завета. Потому те же сюжеты повторяются на саркофагах почти в одном и том же виде, с малыми видоизменениями. Таковы, например, чудеса Иисуса Христа, Адам и Ева, Моисей, источающий из скалы воду. Иногда очевидно один рельеф служил образцом для другого. Так узкая сторона Миланского саркофага, с четырьмя ветхозаветными сюжетами, повторена на саркофаге Луврском (из Рима): Илия на колеснице с Елисеем и Моисей в тех же самых позах, на тех же местах и на том же фоне здания с арками, только все трое с бородами; и за отсутствием Адама и Евы и Ноя, их место занимает Иордан в виде лежащего в тростнике старца, облокотившегося на урну, из которой выливается вода. Снимок см. на рис. 13. 52.
III. Мозаики. Ни чем столько не характеризует искусство восторжествовавшую над гонениями и получившую подобающее ей господство Церковь, как блистательное убранство разноцветной и позлащенной мозаикой храмов, которые с небывалой дотоле роскошью и торжественностью стали воздвигаться и на востоке, и на западе. В этом блеске и яркости колорита, под глянцевитым стеклом Византийской мозаики, в этих торжественно выступающих на золотом фоне ликах Святых, вознесенных под светлый купол или в далекое углубление храма, за алтарем, в этом образе Иисуса Христа, в торжестве славы своей восседающего на престоле, между Апостолами и Святыми, будто и само искусство вместе с Церковью верующих торжествует свое освобождение от катакомб, где оно должно было скрываться от дневного света, озаряемое неровным мерцанием ламп. Торжествующая Церковь возносит до торжественной славы и Святые лики, окружая их нимбом, или сиянием венца, чего еще не наблюдало систематически искусство времен мученичества, не выделявшее святых сиянием из толпы обыкновенных людей, и особенно в изображениях скульптурных53. Те, которые старались придать всевозможный блеск храму мозаическими работами, хорошо понимали их ослепительный для молящихся эффект, и выражали о том свой мысль в надписях, помещаемых при мозаиках. Так под мозаикой абсиды в храме Космы и Дамиана в Риме, VI в., изображающей Христа между Апостолами Петром и Павлом, Космой и Дамианом и Св. Феодором и Папой Феликсом, с моделью храма в руках, в качестве его строителя (521–530), помещена из мозаики латинская надпись следующего содержания: «Прекрасный дом божий сияет блистательными металлами, и еще драгоценнее сияет в нем свет веры. Неложное упование в спасении народа исходит от Мучеников Врачей, и святынею возрастает слава места сего. Сей подобающий дар принес Господу Феликс, да сподобится небесного царствия». – Или, под мозаикой абсиды в храме Св. Агнесы в Риме, VII в., изображающей Св. Агнесу между двумя Папами, строителями этого храма, между Симмахом (498–514) и Гонорием I (626–638), читается мозаическая латинская надпись: «Золотая живопись исходите от раздробленного на части металла и содержит в себе дневной свет, будто утренняя заря, собирая облака с туманных источников, освещает поля, или радуга блистает между звездами» и т. п. В надписи на мозаике капеллы Св. Венанция, в баптистерии Иоанна Латеранского в Риме, VII в., металлический блеск мозаики сравнивается с прозрачностью Святого источника.
Мозаические изображения, будучи обеспечены от разрушительного времени прочным производством из цветного стекла, и составляя как бы нераздельное целое с стенами храма, которые ими украшены, предлагают нам полную картину истории древнехристианской живописи от IV до XII в., и не только до разделения церкви составляют общее достояние художественного предания Востока и Запада, но и по разделении, так как мозаика XI–XII в., в Италии, и именно в Венеции и Сицилии носит на себе Византийский характер. Киево-Софийские мозаики XI в. идут но прямой линии от древнейших греческих, в Цареграде и Солуне, а цареградские в соборе Св. Софии VI в., и по времени, и по стилю, соответствуют Равеннским в храме Св. Виталия, равномерно как Солунские VI в. современным им или ближайшим по времени итальянским. Чем мозаики древнее, тем ближе к технике античного искусства, а потому изящнее в рисунке и колорите, и свободнее в творчестве: так что самые ранние из них от IV до VI в. во многом схожи с живописью катакомб54. Чем позднее, тем больше в них ремесленной рутины, сквозь которую, только по преданию школы, кое-где проглядывают остатки древнего изящества. Как исторический результат предшествовавшего развития, мозаики удерживают древнехристианский символизм, например, в изображении Христа и Апостолов в виде агнцев, Иордана в виде человеческой фигуры, идеи воскресения в образе Феникса; по соответствуя развитию и уяснению предметов веры, они стремятся к точнейшему, как бы историческому воспроизведению священных личностей и событий. Потому в лучший период мозаических работ, до VI в, выработались и определились иконописные типы Христа, Богородицы, Пророков и Апостолов, Мучеников, некоторых Отцов церкви и других Святых, с их отличительными чертами лица и с индивидуальным характером и в определенном костюме, то есть, те самые иконописные типы, к сохранению которых стремилась впоследствии Русская иконопись; так что, для точнейшего определения верности предания наших иконописных Подлинников, надобно сличить их с священными типами мозаик.
В связи с установлением мозаических типов определялось и литературное о них предание. В эпоху символического искусства первых веков христианства, когда господствовал тип Христа символический, в идеальном образе юноши, Доброго Пастыря, агнца, и литературные мнения о внешнем виде Христа не были выяснены. Древнейшие отцы церкви, Иустин Мученик (89–167), Климент Александрийский († до 218), Тертуллиан († 220), основываясь на следующем тексте Пророчества Исаии: «несть вида ему, ниже славы: и видехом его, и не имяше вида, ни доброты: но вид его безчестен, умален паче всех сынов человеческих» (Ис.53:2–3) – полагали, что Спаситель по видимому подобию был мал возрастом и невзрачен. Напротив того Иоанн Златоуст († 407), уже знакомый с мозаическим типом Христа, основываясь на Пс.»:3: «красен добротой паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах твоих» – полагал, что Спаситель был прекрасен по внешнему подобию, и что сказанное свидетельство Пророка Исаии должно быть отнесено к страданиям и унижению, претерпенным от Искупителя. Также утверждает и преподобный Иероним († 420), что в очах и во всем подобии Христа проявилось небесное и божественное величие. По мнению Оригена († 253) Христос не имел определенного образа, но каждому казался по его личному расположению духа. Что в эпоху Константина Великого тип Спасителя еще неопределился в искусстве, можно заключить из того, что сестра его, Констанция, тщетно искала себе точной иконы Христа, за что укоряет ее Евсевий Кесарийский († 340), на том основании, что безжизненными очерками и красками не возможно изобразить истинное и бессмертное подобие Спасителя. Но от IV до половины VIII в. уже в такой ясности определился мозаический тип Христа, что Иоанн Дамаскин († около 760) описывает его с иконописными подробностями, очевидно, почерпнутыми из наглядного знакомства с художественными произведениями, и именно, что Христос был высок и строен, с прекрасными глазами, с большим или, вероятнее, с прямым носом (ἐπίῤῥινος), с вьющимися волосами, с черной бородой и с головою, наклоненной вперед; цветом тела желтоват, как пшеница (σιτόχρους), подобно своей Матери. К этому описанию Дамаскин присовокупляет одну подробность, очевидно, заимствованную из какого-нибудь местного видоизменения в художественном типе, именно, что у Христа были сросшиеся брови55.
Литературный результат художественного развития внешнего подобия Спасителя дошел до нас в двух редакциях, в восточной и западной.
Восточная редакция сохранилась в Византийском хронографе Пресвитера Никифора, первой половины XIV в., и в переложении Максима Грека, вместе с подобием Богородицы, вошла в наши Иконописные Подлинники. Так, по упомянутой уже не раз редакции Большаковской рукописи с Лицевыми святцами, под 6 августа, после описания Преображения следует: Описание плоти божественные Христовы и совершенного его возраста Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа сице бо бысть, сие написа Преподобный Максиме Грек, Святые Горы инок, обители Ватопедские архимандрит: Бяше же лицом красен зело; возрастом же бяше и высотою тело шести стоп; совершен русыми власы, не вельми густы, паче добре предивно56; брови имуще черны, не вельми наклонны57; очи же его русы и веселы, якоже образ сказуется праотца Давида58, глаголют чермен. Долги имея власы: николи же бо стрижение взыде, ни рука человечески на святую главу его, токмо рука матере его в младенчестве. Мало наклонней выи его: не вельми прост распростерт имея возраст телесный59. Не вельми рус60. Округло лице, якоже и матере его, мало сходящее61, добрыми очима. Ноздрат62. Брадою рус, на два конец космочки, раздвоилася63, елико являет, и что разумное нравом и кротостию, и по всему безгневен, и помалу того (?), приобщашеся подобию образа Святые Богородицы. Возраста бяше среднего, средне руса, желты власы, очима черпыма, благозрачна. Черны брови. Долги руне. Кругловатым лицем64. Долги персты ручные. Имея нос покляп, устне же пренепорочные чарвленною красотою побагренны». Эта же статья с именем Максима Грека помещена и в Подлиннике Ундольского (№ 130), только еще не в системе месяцеслова, а между статьями прибавочными, под заглавием: «Описание божественные плоти Христовы» и т. д.
Западная редакция излагается в апокрифическом письме Лентула к Римскому сенату, и хотя дошла до нас в источнике древнего Византийского хронографа, именно у Ансельма Кентерберийского († 1107), но на Руси была введена, по влиянию Польскому, уже в позднейшие Подлинники. По рукоп. гр. Уварова конца XVII в. или начала XVIII в. (№ 291) это письмо читается так: «В нынешния времена явился и еще есть человек великия силы, ему же имя Иисус Христос, иже наречен есть от людей Пророк Правды; ученики же его нарицают Сыном Божиим. Умерших воскрешает, немощных уздравляет. Человек есть возраста высокого, красного и учтивого, образ имеет должной чести: яко иже на него зрят, имеют его любити и боятися. Власы имеет цвета ореха лесного созрелого65, гладки, едва даже не до ушес, а от ушес на дол кудрявы, мало нечто желтейши и яснейши, в плечах рассыпаются, предел имеюще посреди главы, по обычаю Назореев. Чело гладкое, и светлое66. Лицо такожде не сморщенное67. Нос и уста весьма ни единого имеют укорения. Браду имать густу, изрядну, недолгу, цветом власам подобну, посреди же раздвоенну. Зрение имеет простое и постоянное, очи имеет честные, желтые (т. е. карие), различно же светлы бывающия. В наказании грозный, в увещании ласковый, любовный, приемный и веселый: сохраняющь поважность, его же никто же когда видя смеющася; плачущего же часто. Возрастом тела высокий, прямые руне и рамена имеет; к видению веселый, во глаголании учтивый.... между же сынами (человеческими) зело прекраснейший».
Сверх этих двух редакций, в наших Подлинниках, между статьями предисловия, помещается еще следующее описание типов Спасителя и Богородицы, приводимое здесь по моему краткому Подлиннику: «Якоже во многосложном свитце описует святейшими вселенскими патриархи к Феофилу греческие скиптры, о святых иконах и чести их написания, и в том подписавше пятьдесять и к тысящи четыреста и пять. Яко той Бог есть обема естествома знаем, единым же составом и лицем видим, и неописан и описан, бесплотен и плотен, безвеществен и веществен, неосязаем и осязаем, страстен и безстрастен, не создан и создан, непревратен и неизменен нам явися, якоже древнии списатели сказуют его боготелесный образ. Образ вознесен бровма, добрыма очима и маститама, долгим носом, рус власы, нагорб (наклонив выю?) смирения ради, черн брадою, смугл плотию; долги персты. Доброгласн, сладок словесы, зело кроток, молчалив, терпелив». Подобие Богородицы выдается в нашем Подлиннике за согласное с иконой Евангелиста Луки, который по средневековому преданию будто бы писал портрет с Богородицы: «Возраст средния меры имущи; благодатное же и святое лице ее мало окружено, и чело светолепно, продолгующ нос, направ (т. е. прямой), доброгладостне лежащ; очи же зело добро черни и благокрасни, зеницы такожде и брови; устне же всенепорочные червленой побагрене, и персты богоприятных рук тонкостию источени в умеренной долгости, и благосиятелыные главы власы русы, кротостны украшены».
По греческому Подлиннику Дионисия, у Христа брови срослись, лицо цвета пшеницы, волоса на голове золотистые, вьются; борода черная; у Богородицы тоже цвета пшеницы, большие брови, нос средний; любила носить одеяния натурального цвета того вещества, из которого были сделаны68.
В искусстве времен мученичества, как мы видели, ни личность Богородицы сама по себе, ни события из жития Богородицы, не входили в цикл священных изображений, сосредоточенных на главной идее о Божественном Искупителе, Только с V-го в. во всей торжественности является в Христианском искусстве лик Богородицы, окруженный изображениями ее деяний, в следствие борьбы с ересью Нестория, ниспровергнутой на Ефесском соборе («0 г.). Иконописный тип Богородицы развился в связи с типом ее Божественного Сына и был с ним сближен по родственному сходству. Литературные свидетельства об этом не могли иметь других оснований, кроме художественных изображений, на что указывают самые свидетельства эти, ссылаясь на икону нерукотворного Спаса в Едесе, будто бы исцелившую некогда царя Авгаря, на убрус Вероники, или на иконы Богородицы, приписываемые Евангелисту Луке. Некоторые различия в типах Христа и Богородицы, внесенные в литературные предания, объясняются видоизменениями в изображениях, на которых эти предания основывались.
Стремление к индивидуальности в отделке религиозных типов давало изображениям характер портретов, поддерживаемый верой в портретное происхождение некоторых из икон. Потому идеальность фигур раннего искусства катакомб и саркофагов заменяется в мозаике наклонностью к портрету и натурализму. Юные и безбородые фигуры Христа и Апостолов искусства времен мученичества, переходя в следующий период, будто стареют вместе с возмужалостью христианского искусства. Все больше и больше является фигур бородатых. Юность Олимпийских типов сменяется зрелой возмужалостью и старостью исторических деятелей Ветхого и Нового Завета. В мозаике предчувствуется уже резкая определительность типов Русских иконописных Подлинников. Из Апостолов раньше других определились типы Петра и Павла: первый с короткой седой бородой, второй с длинной черной.
С другой стороны, искусство мозаического периода создает целый мир юношеских существ, дотоле неведомых художнику, в чинах ангельских, изображения которых распространяются в мозаиках с V века, в связи с учением Дионисия Ареопагита о девяти ангельских чинах, составленном в конце этого столетия. Только тогда могло возникнуть изображение Троицы в виде трех Ангелов, явившихся Аврааму, которые впрочем сначала изображались без крыльев, и тогда же, хотя и на основе ранней символики, вошли в художественный цикл символы Евангелистов в виде крылатых животных, между которыми помещается и Ангел. Искусство времен мученичества знало только античных гениев, которых изображало в виде крылатых Амуров или Побед, и все прекрасное и возвышенное в таинствах веры представляло в вечно юных идеалах, предшественниках мозаическим ангелам. Период мозаический распределил это хаотическое брожение на отделы, извлекши из него нестареющую юность и сгруппировав ее в образах Ангельских чинов, а лицам историческим предоставив их действительное, историческое подобие.
Для ясности обозрения мозаических произведений предлагается краткий перечень важнейших из них в хронологическом порядке.
1) В храме Св. Констанции, в Риме, IV в., в двух нишах по изображению Христа с Апостолами: Христос, восседающий на земном шаре подает ключ Апостолу Петру, и Христос стоит между Апостолами Фомой и Филиппом; внизу четыре агнца. В сиянии только Христос, в голубом, с оттенками. Благословляет рукой распростертой, не слагая перстов. Апостолы без сияний, в белых одеждах.
2) В храме Св. Георгия, в Солуне, IV в., мозаики, украшающие купол, в восьми отделениях. Каждое представляет великолепные полаты в фантастическом стиле помпеянской живописи. Портики под колоннами, беседки с занавесами, аркады с фризами, украшенными разными орнаментами. На архитектурных выступах сидят голуби, павлины и другие птицы, как на заставках древних Византийских рукописей. Под арками спускаются лампады. В средине обыкновенно возвышается на колоннах восьмиугольное здание, под куполом, завешенное завесой или загражденное низенькой оградой. Это будто алтарь в храме. На этом архитектурном рисунке, расширяющем для воображения действительные пределы купола, выступают разные святые, в тогах и хламидах, молитвенно поднимающие свои руки на образец молящихся фигур в живописи катакомб.
4) В Баптистерии, или крестильнице, в Равенне (Giovanni in-fonte), V в., двенадцать Апостолов вокруг изображения Крещения Господня, представленного в кругу. Этот сюжет, соответствующий назначению самого здания, заслуживает внимания, как по своей древности, так и по способу представления. Обнаженный Христос стоит до половины в воде, сквозь которую виднеется его тело. Налево от зрителя на каменном берегу стоит Иоанн Креститель, поливая на голову Спасителя воду; Дух Святой спускается в виде голубя, головой вниз. Между Христом и Предтечею колоссальный четырехугольный крест, во всем сходный с изображенным на саркофаге Проба. Направо из волн показывается фигура Иордана в виде обнаженного старца, в руке держит полотно для отирания тела Спасителя. Ангелов еще нет (см. снимок под № 1 на Рис. 15). Наша иконопись до позднейшего времени удерживает в этом сюжете олицетворение Иордана.
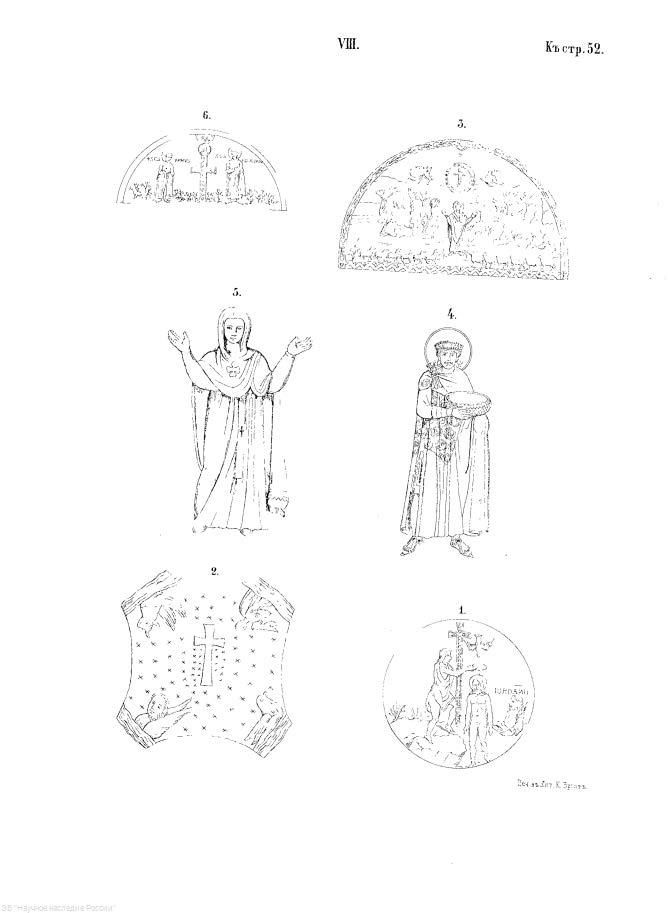
Рис. 15
5) В Либериевой базилике, в Риме (Maria Maggiore), мозаики 432–440 г., особенно важные в истории христианского искусства по подробному развитию сюжетов из Ветхого и Нового завета, и особенно по изображениям деяний Богоматери, в прославление которой эта базилика была основана, в противодействие ереси Несториевой. Здесь же встречаются изображения ангелов, древнейшие из известных в истории мозаики.
6) В Усыпальнице Галлы Плакидии, в Равенне (обыкновенно называется храмом San Nasaro e Celso), ранее 450 г., мозаики замечательны по воспоминаниям символических сюжетов предшествовавшего периода из которых особенно обращает на себя внимание изображение Доброго Пастыря на полукруглом ландшафте. Сидит юношеская фигура, лик в сиянии, – левой рукой опершись на четырехконечный крест (подобный изображенному на саркофаге Проба), а правую протянув к стоящему вблизи агнцу; кругом тоже овечки. Между орнаментами замечаются голуби, пьющие из чаш (сюжет первых веков христианства), олени, спешащие к источнику водному – символ, основанный на известном стих из Псалтыри: «имже образом желает елень на источники водныя: сице желает душа моя к тебе Боже» (Пс.41:2). Наконец, здесь же встречается одно из древнейших изображений Евангелистов в символических образах крылатых животных, кругом четырехконечного креста, на фоне небесной поверхности, усеянной звездами (см. снимок под № 2 на Рис. 15).
7) В базилике Св. Павла за городскими стенами (S. Paolo fuori le mura), в Риме, 440–461, на триумфальной арке, называемой «великою», мозаика, возобновленная после пожара 1823 г. В середине, в медальоне колоссальное изображение Христа по грудь. Вверху, по обеим сторонам по два Евангелиста в символических образах крылатых животных, между которыми замечателен символ Евангелиста Матфея в виде старца с бородой, с крыльями, по пояс. Это древнейший (впрочем реставрированный) образец бородатой фигуры с крыльями, от которого может вести свой историю усвоенный в нашей иконописи тип крылатого Предтечи. Внизу, под Спасителем в медальоне, по сторонам по Ангелу: они преклоняются, держа в руках по жезлу. Волосы повязаны лентами, развивающимися по сторонам: это «тороки» нашей иконописи. Внизу же по обеим сторонам стоят склоняющие головы 24 апокалипсических старца.
8) В капелле при баптистерии, или крестильнице Св. Иоанна Латеранского, 461–467 г., на своде по золотому полю, Христос в виде агнца, с головой в сиянии.
9) В капелле Св. Аквилина, в храме Св. Лаврентия, в Милане, V века, две мозаики в полукуполах абсид: одна изображает Жертвоприношение Исаака; на другой – Христос между Апостолами сидит на престоле: прекрасная фигура, без бороды – в стиле катакомб. Но Петр и Павел уже в своих установившихся типах: Петр – седой, с короткой бородой; Павел – с длинной черной.
10) В капелле Св. Сатира, при базилике Св. Амвросия, в Милане, V в. (?), мозаические изображения символов Евангелистов, Св. Виктора в медальоне, с четырехконечным крестом, и шести в полный рост стоящих Святых, в белых одеяниях. Между ними изображение Св. Амвросия, самое древнее в мозаической иконописи.
11) В храме Св. Аполлинария во Флоте в Равенне (до смерти Феодорика 526 г.), мозаика, изображающая Преображение, в его древнейшем, еще символическом переводе. Внизу полукруга стоит Св. Аполлинарий, молитвенно распростерши руки, по сторонам по шести Апостолов в виде агнцев. Преображение представлено в верхней части полукруга. Вместо Христа изображен только четырехконечный крест в медальоне, на фоне, усеянном звездами, а по сторонам креста – Моисей и Илия Пророк (см. снимок под № 3 на Рис. 15).
11) В храме Св. Космы и Дамиана, в Риме, 526–530 г., упомянутая выше мозаика, изображающая, между шестью Святыми, Спасителя, тип которого в этом изображении признается одним из лучших в мозаическом периоде искусства, почему и прилагается здесь в рисунке 16. Сияние вокруг головы еще без трех полос, соответствующих перекрестию, о чем подробнее будет сказано после. Для истории христианской символики любопытно изображение сидящего на пальме феникса, с лучами сияния кругом головы. На арке замечательно для истории христианского искусства изображение престола, на котором возлежит агнец, с возвышающимся над ним четырехконечным крестом; по сторонам семь апокалипсических свещников и по ангелу.
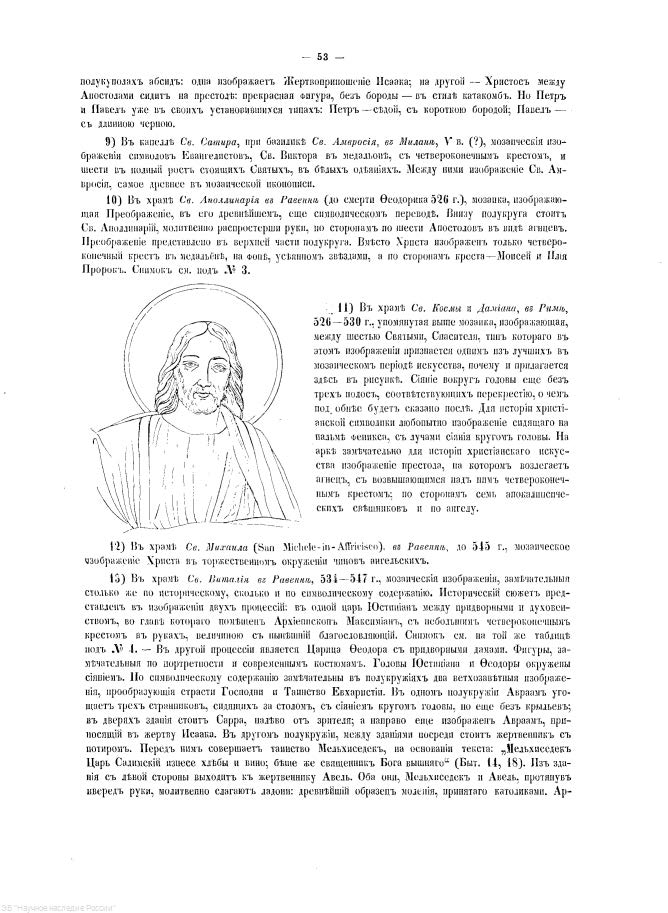
Рис. 16
12) В храме Св. Михаила (San Michelle-in-Affricisco), в Равенне, до 545 г., мозаическое изображение Христа в торжественном окружении чинов ангельских.
13) В храме Св. Виталия в Равенне, 534–547 г., мозаические изображения, замечательные столько же по историческому, сколько и по символическому содержанию. Исторический сюжет представлен в изображении двух процессий: в одной царь Юстиниан между придворными и духовенством, во главе которого помещен Архиепископ Максимиан, с небольшим четырехконечным крестом в руках, величиной с нынешний благословляющий (см. снимок под № 4 на Рис. 15). – В другой процессии является Царица Феодора с придворными дамами. Фигуры, замечательные по портретности и современным костюмам. Головы Юстиниана и Феодоры окружены сиянием. По символическому содержанию замечательны в полукружиях два ветхозаветные изображения, прообразующие страсти Господни и Таинство Евхаристии. В одном полукружии Авраам угощает трех странников, сидящих за столом, с сиянием кругом головы, по еще без крыльев; в дверях здания стоит Сарра, налево от зрителя; а направо еще изображен Авраам, приносящий в жертву Исаака. В другом полукружии, между зданиями посреди стоит жертвенник с потиром. Перед ним совершает таинство Мельхиседек, на основании текста: «Мельхиседек Царь Салимский изнесе хлебы и вино; беше же священник Бога вышняго» (Быт.14:18). Из здания с левой стороны выходит к жертвеннику Авель. Оба они, Мельхиседек и Авель, протянув вперед руки, молитвенно слагают ладони: древнейший образец моления, принятого католиками. Архитектурное убранство мозаики Св. Виталия напоминает древнейшие мозаики Солунского храма Св. Георгия. Между прочим встречаются и павлины, столь обыкновенные в орнаментах Византийских и древнерусских.
14) В храме Св. Софии в Цареграде, 536–563 г. Этот предмет особенной важности для истории русского иконописного предания требует подробного исследования. Здесь же достаточно упомянуть, что мозаические в этом храме изображения Пророков, Мучеников и Отцов Церкви должны быть приняты в основу иконописным типом Русских Подлинников. Сошествие Св. Духа, изображенное в одном из куполов, представляет превосходный образец распределения иконописи по требованию архитектонических очертаний. Образец Спасителя, восседающего на престоле, предлагается в полукруглой мозаике: в левой руке Он держит раскрытое Евангелие, оперев его на колено, правой благословляет именословно, т. е., соединив безыменный перст с большим; под ногами подножие. По обеим сторонам в медальонах грудные изображения Богородицы, в ее обычном типе греко-русской иконописи, и Михаила Архангела с крыльями и с жезлом; волосы повязаны тороками. Налево в царском одеянии повергается перед Спасителем Царь Юстиниан, с сиянием вокруг головы. Любопытное свидетельство для истории восточной иконописи тому, что это искусство в иконах не избегало и портретных изображений современных личностей.
15) В храме Св. Софии в Солуне, VII в., после Цареградской Софии, в куполе Вознесение Христово, расположенное также соответственно требованиям архитектурным. Вверху возносящийся Спаситель (теперь видны только ноги), на спусках 12 Апостолов и Богородица между двумя Ангелами, как принято в нашей иконописи.
16) В базилике Св. Лаврентия за городскими стенами в Риме, 577–590 г., замечательно изображение восседающего на земном шаре Спасителя, который благословляет – соединив большой перст с мизинцем и безыменным, и распростерши указательный и средний – один из древнейших образцов сложения перстов, принятого Русскими раскольниками. Так же сложены персты благословляющей десницы Спасителя на мозаике в храме Св. Феодора в Риме, 772–795 г.
17) В вышеупомянутой капелле Св. Венанция при баптистерии Иоанна Латеранского, 639– 642 г., для истории русских иконописных преданий заслуживает особенного внимания изображение стоящей Богородицы, с молитвенно подъятыми руками. С этим изображением представляет замечательное сходство по своей позе мозаическое изображение Богородицы в нашем Киево-Софийском соборе на Нерушимой стене; XI в. Древнейший перевод такого же изображения встречается на греческом барельефе VI в. в храме Богоматери в Равенне (Sta Maria-in-Porto) (см. снимок под № 5 на Рис. 15).
18) В храме Св. Стефана (S. Stefano Rotondo) в Риме, 642–649 г., мозаика, замечательная для истории креста, на своде алтаря, посвященного Св. Приму и Фелициану. В средине между этими святыми изображен водруженный в землю четырехконечный крест, украшенный драгоценными каменьями. а на верхней конечности его в медальоне изображение Спасителя по грудь (см. снимок под № 6 на Рис. 15).
19) В храме Св. Нерея и Ахилла в Риме, 795–816 г., мозаика представляет дальнейшее развитие в представлении Преображения против Равеннской начала VI-го в., в храме Св. Аполлинария, но все еще не достигшее установленной нормы, принятой нашей иконописью. Это изображение распределено по арке, отлогая округлость которой соответствует Фаворской горе. Посреди в ореоле Христос в полный рост, по сторонам Моисей и Илия, а трое Апостолов расположены позади Моисея и Илии, с одной стороны один, а с другой двое; они падают на колени, прикрывая лицо одеянием.
20) В храме Св. Марии-Ладьи (S-ta Maria-della-Navicella, иначе S-ta Maria-in-Domnica) в Риме, 817–824 г., одно из древнейших мозаических изображений торжественно восседающей на престоле Богородицы с Христом Младенцем, который сидит на коленях своей Матери, будто на престоле и благословляет десницей. По сторонам стоят чины ангельские. Папа Пасхалий, возобновивший, этот храм, преклонив колена, берет обеими руками правую ступню Богородицы.
21) В базилике Св. Амвросия в Милане, 832 г., относящаяся к XII веку, мозаика в абсиде изображает Спасителя, восседающего во славе своей на престоле, в левой руке держит открытое Евангелие, а правой благословляет. На воздух по сторонам по Ангелу, в белых ризах: по сторонам престола стоят Гервасий и Протасий. За ними направо и налево по зданию, в византийском стиле, с изображением двух сцен из одного эпизода в житии Св. Амвросия, как он однажды во время совершения литургии воздремал, и во сне присутствовал в Туре при погребении Турского епископа Св. Мартина. Над зданием направо от зрителя надписано Mediolanum, и внутри изображен в храме воздремавший Св. Амвросий между духовенством: налево над зданием надписано Toronica (Тур), и внутри изображено погребение Св. Мартина. Эта мозаика, замечательная по своему изяществу между современными ей, для нас особенно важна потому, что вместе с латинскими надписями предлагает и греческую, указывающую на непрекращающуюся еще в Милане связь искусства с Византией), тогда как в Риме с древнейших времен надписи на мозаиках по большей части латинские.
Веком Карла Великого и разделением Церкви на Восточную и Западную прерывается эта до тех пор непрерывная пить истории мозаических работ. Периоду темного брожения варварских элементов средневековой жизни, выразившемуся в чудовищной орнаментике стиля Романского, соответствует в Риме отсутствие мозаических произведений, от 868 г., к которому относится последняя из древнейших мозаик, в храме Св. Франчески Романы (прежде Sta Maria-Nova), и до 1130–1143 г., то есть, почти до половины XII в., когда фасад храма Св. Марии за Тибром (Sta Maria-in-Transtevere) был украшен мозаическим изображением Евангельской притчи о Десяти Девах с светильниками. В течение целых двух столетий источник древнехристианского художественного предания на Западе пришел в полное забвение, и кроме Византийской империи негде было найти следов древнего великолепия и изящества. Потому, когда в 1666 г. Дезидерий, аббат монастыря Монте-Кассинского задумал украсить мозаиками базилику этого монастыря, то выписал мастеров из Греции, потому что, как замечает при этом летописец Монте-Кассинского монастыря, Епископ Остийский Лев – «более пятисот лет гений этого искусства погас во всей Италии». Летописец превозносит мозаики Греческих мастеров за живость изображенных фигур, и свидетельствует, что эти мастера научили своему искусству Итальянских монахов. Почти около того же времени, в 1071 г., по усердию Дожа Доменико Сельво украшена была мозаиками базилика Св. Марка в Венеции. Наконец в XII в. Норманские властители Сицилии, покровительствуя торговле и промышленности и окружая свой двор великолепием и роскошью, не преминули озаботиться и о церковном изяществе, поручив греческим мастерам украсить мозаиками храм Св. Марии Адмиральской (Dell’Ammiraglio), Придворную капеллу (после 1140 г.), базилику в Чефалу и базилику в Монреале (после 1174 г.). Последующую историю мозаики, до XIII в. совмещает в себе Венецианская базилика Св. Марка.
Мозаики Сицилийские и Венецианские предлагают образцы во всем сходные по стилю с мозаиками русского Киево-Софийского собора, и по содержанию пользуются теми же переводами, которые в последствии были усвоены русской иконописью и русскими иконописными Подлинниками. Например, в изображении Ангелов и Святых, в типах Спасителя и Богородицы, в изображении Рождества Господня по переводу, принятому нашей иконописью, в представлении Воскресения в виде сошествия во ад, в обычном постановлении Богородицы между Ангелами в Вознесении Господнем, в восседании Апостолов полукругом в Сошествии Св. Духа и проч. Эти мозаики, изображающие весь библейский цикл ветхозаветных и евангельских событий, столь важны для истории русского иконописного предания, что требуют особого рассуждения.
Обозрение мозаических произведений следует заключить указанием на превосходные мозаики греческой работы на Руси, которые, без сомнения, со временем сделаются непременным достоянием истории европейского искусства, когда западные ученые познакомятся с сокровищами русского церковного искусства.
В Киево-Софийском соборе, до 1037 г.: изображение Богородицы с воздетыми руками, согласное по позе с находящимися на фресках капеллы Св. Венанция в Риме, как указано выше, и в базилике Чефалу в Сицилии. Тайная Вечеря в символическом виде Таинства Евхаристии, совершаемого самим Иисусом Христом, который, будучи дважды изображен стоящим у престола, преподает шести Апостолам хлеб и другим шести вино из чаши: перевод, господствующий в русской иконописи и ХVI и ХVII в., как например это можно судить по иконе миниатюрного письма над царскими вратами в соборе Саввина монастыря близ Звенигорода: согласно с предписанием Подлинника (по рукописи Удольского № 128): «А над царскими дверьми на сени пишется Вечеря Тайна. На одном месте в лице подает Христос Петру хлеб.... а на другой стране подает Христос Павлу (вино) из чаши, а не из кубышки». – Кроме изображений Апостолов, Евангелистов, Мучеников, Киевская мозаика предлагает образец Благовещения с веретеном.
В храме Златоверхо-Михайловского Монастыря в Киеве, 1108 г., подобное же символическое изображение Тайной Вечери в виде таинства, совершаемого Христом, дважды представленным.
В заключение о мозаиках должно сказать, что хотя они составляют главное и существенное украшение храмов в период полного расцвета христианского искусства, но, по своему техническому исполнению, более или менее носят на себе характер ремесленного производства, будучи лишены через копотливую работу мозаистов того художественного обаяния, которое может производить только оригинальное произведение, непосредственно вышедшее из рук творца. Потому влияние мозаики на русскую иконопись не следует считать во всех отношениях счастливым. Мозаика дала нашим предкам величавые тины, в ярком колорите, на золотом поле, усвоенном Византией, фигуры, стоящие отдельно, будто статуи, без наблюдения перспективы к задним планам и околичностям: и вместе с тем дала она резкие очерки и ту равнодушную ремесленность работы, которой она отличается. В художественном отношении выше мозаического производства живопись фресковая, которая открывает полную свободу к непосредственному выражению творчества. Восходя ко временам катакомб, она не прекращалась и в течение мозаического периода, но занимала второстепенное место, и только тогда стала господствовать, когда пришло в забвение мозаическое производство. Но по самой технике своей, подверженная большим случайностям уничтожения и порчи, стенная живопись мало сохранилась от древнейших времен, в целости, без возобновлений. Еще менее сохранилось от древности икон на дереве, из которых самые ранние, хотя и относятся по преданию даже к первым векам христианства, но едва ли восходят ранее XII в., и вообще иконы на дереве, если бы оказались и более древние, составляют самый малочисленный отдел в истории раннего иконописного предания, при том не приведенный в известность и не достаточно оцененный археологической критикой. Предания Афонской Горы называют лучшим из греческих иконописцев некоего Нанселина (XI в.), имени которого приписывают все лучшее в древней Византийской живописи. Впрочем, и стенная живопись, и иконы на дереве требуют особенного исследования69.
IV. Миниатюры в рукописях. Они имеют особенную важность в истории иконописного предания по следующим причинам: 1) Служа наглядным объяснением тексту Св. Писания и церковных книг, миниатюры представляют самый полный цикл священных изображений, согласный с текстами писания и с понятиями богословов и вообще людей образованных, для которых писались самые рукописи. 2) Предлагают историю христианского искусства в хронологическом порядке, который в точности определяется происхождением самых рукописей. 3) Как непосредственные произведение самих мастеров, в художественном отношении стоят выше мозаики и по рисунку, и по колориту. 4) Не будучи слиты в одно нераздельное целое с неподвижными стенами здания, как мозаики и фрески, и по малому своему размеру удобные для перенесения в рукописях, миниатюры оказали громадное влияние на повсеместное распространение иконописных сюжетов, и особенно в таких отдаленных странах, как наше отечество; и, наконец, 5) Миниатюры послужили непосредственными образцами для развития господствующего характера русской иконописи, состоящего в сокращении размеров изображений и в тщательной, миниатюрной отделке.
Начиная с IV или V в. миниатюры идут через все следующие столетия, представляя постепенное расширение объема иконописного цикла, в связи с историей искусства и религиозных идей. Миниатюры древнейшие приближаются к живописи катакомб, и потом чем позднее, тем более изящество техническое уступает в них место типичности лиц и установленной норме в изображениях церковных сюжетов. Впрочем иные миниатюры не только IX или X в., даже позднейшие отличаются высоким художественным достоинством, если были удачно скопированы с древнейших образцов: между тем как рядом с ними, даже в топ же рукописи встречаются рисунки, явно указывающие на упадок искусства, потому что впервые сочинены во время происхождения самой рукописи. Потому этот род живописи предлагает самое разнообразное содержание, смесь древнего изящества с неуклюжестью времен упадка искусств, смесь древних сюжетов с новыми, древнехристианской символики с Византийской типичностью, так что в миниатюрах в наибольшей полноте выражается весь цикл иконописного предания, и при том, значительно шире, нежели в древних мозаиках или в наших позднейших иконостасах и в лицевых святцах; потому что живопись церковная ограничена в выборе сюжетов по самому своему назначению, тогда как миниатюра желает воспроизвести в лицах все разнообразие писаний.
Предлагается перечень важнейших из греческих рукописей с миниатюрами.
1) Библия, в Императорской Библиотеке в Вене V в. На пурпурном пергаменте 48 миниатюр на 24 листиках. Из книги Бытия, начиная с истории Первых Человеков. Миниатюры не равного достоинства: иные отличаются античной красотою, другие напоминают уже испорченный стиль нашей иконописи ошибками в рисунке и недостатком выражения; в одних миниатюрах пропорции фигур правильны и изящны; в других – фигуры не пропорциональные, с большими головами и короткими туловищами. Для истории иконографии следует упомянуть об изображении десницы Господней, заменяющей в раннем периоде христианского искусства целую фигуру Бога Отца; об изображении Ангела с крыльями, напр., в сцене изгнания из Рая (№ 2). нимфа. Все сцены этой рукописи писаны не на золоте, а на фоне натурального ландшафта или на фиолетовом поле пурпурного пергамента. Относительно костюма заслуживают упоминания полосы на хитонах, идущие по плечам и спускающиеся по обеим сторонам до подола. Иногда у мужчин будто косой ворот, как на русских рубашках, с цветной оторочкой почти до пояса. Женщины (напр., дочери Лота) одеты так, как обыкновенно одевается в нашей иконописи Богородица. Внизу хитон одного цвета, а сверху гиматион, или широкий покров, другого цвета. Он покрывает голову с волосами и спускается сзади, а спереди, драпируясь на руках, приподнимается посреди, будто священническая риза. Отлично писаны Ангелы: в голубовато-белом платье и с такими же крыльями, что придает им необыкновенную воздушность, когда они между людьми, и гармонически сливает их фигуры с небесной лазурью, когда они парят по небу. По голубоватому одеянию идут полосы обыкновенно желтые, т. е. золотые. Волоса на голове убраны широкими прядями, будто у античного Аполлона, и завязаны тороками. На ногах сандалии.
2) Илиада, в Амброзианской Библиотеке, в Милане, того же времени. Эта и следующая за пей рукопись с миниатюрами не церковного и даже не христианского содержания, помещаются в перечне по сродству древнехристианского искусства с языческим не только по технике, по и по некоторым сюжетам, и особенно по аксессуарам, или околичностям70. Так на миниатюрах Илиады, как на древнехристианских мозаиках, и как потом в нашей иконописи – над фигурами помещаются подписи, означающие не только имя лица, но и что делает. Греческие боги иногда изображаются в сиянии, – в зеленом, синем, розовом. Зевс является иногда в облаках в медальоне по грудь (№ 47), как изображается Спаситель в мозаиках и в Византийских миниатюрах. Для олицетворений: ночь в виде женщины, по пояс (так же, как напр. в Парижской Псалтыри IX–X в.), широко драпированной в темнозеленый покров, закутывающий ей голову, и с серыми крыльями (№№ 34 и 35). Река Скамандр, как Иордан в древнехристианском искусстве, в виде старика, который или стоя льет из урны воду, струящуюся между кустарником (№ 52), или сидит на горе и тоже льет из урны воду (№ 53).
3) Диоскорида сочинение о врачебном искусстве, написанное в 1-м веке по Р. X., в Императорской библиотеке в Вене, VI в. Сверх множества рисунков растений и животных, предлагает портреты некоторых лиц, современных написанию рукописи, а также любопытную сцену, как автор и живописец изготовляют эту рукопись, о чем подробнее будет сказано в следующей главе. Для олицетворений в мифологических формах заслуживает внимание изображение Амфитриты, на море около морского произведения quercus marina. Она сидит, по пояс нагая, в браслетах около кистей рук и в серьгах; волосы и глаза голубые, на левом плече держит весло, как обычное олицетворение моря в церковных миниатюрах, не только Византийских, но и Русских. Эта рукопись Византийского происхождения служит неопровержимым доказательством свежести античных преданий и классического изящества в искусстве Византийском VI в. В последствии она находилась в руках Арабов и Евреев, что видно из позднейших арабских и еврейских подписей около рисунков растений.
4) Пророки, в Публичной библиотеке в Турине, на двух листах по шести фигур, по грудь в медальонах, VI в. С портретностью античного искусства эти лица соединяют в себе строгость и идеальность Византийских типов лучшей эпохи, почему и могут быть рекомендованы в образец нашим иконописцам. Иные из Пророков юные, без бороды, каковы: Аввакум, Аггей, Захария, другие с бородами, напр., Иона с седой бородой, лысый; Иоиль с черной бородой, благословляет именословно, а Михей – благословляет сложением перстов, принятым у наших старообрядцев. Иные из Пророков с длинными волосами, другие – с короткими.
5) Иисус Навин в Ватиканской библиотеке, хотя и VII или даже VIII в., но миниатюры этой рукописи, смелые и натуральные в рисунке и колорите, очевидно скопированы с значительно древнейшего оригинала; впрочем важны для истории христианского искусства и потому, что во всей свежести удерживают художественное предание даже в VII или VIII в. Война. – господствующий сюжет. Кони и всадники писаны в натуральных движеньях. Города, горы, реки, изображаются в олицетворенном виде античных божеств, иногда писанных с сиянием вокруг головы.
6) Между греческими рукописями следует здесь поместить одну писанную на сирийском языке, как потому что опа в истории иконописного предания определяет эпоху происхождения некоторых Евангельских изображений, так и потому что ее миниатюры особенно отличаются восточным характером Византийского стиля. Это Сирийское Евангелие в Лаврентианской библиотеке во Флоренции, конца VI в. В миниатюрах изображен целый цикл Евангельских событий от Рождества Иисуса Христа и до Его Страстей и Распятия, и потом Воскресение Господне и Сошествие Св. Духа. Связь Нового Завета с Ветхим выражена тем, что Евангельские события писаны под изображениями Пророков. Например, налево от зрителя сидит Царь Соломон, с маленькой бородой, на троне; направо Давид, юная, безбородая фигура, с лирой. Под Давидом Рождество Господне, под Соломоном – Крещение, в котором от десницы Бога Отца на Христа, стоящего по пояс в воде, спускается Дух Святой в виде голубя, головой вниз. Под Крещением, Ирод, сидя на троне, повелевает избить младенцев, а под Рождеством – самое избиение их. – Или, направо Иона спит под смоковницей, но уже одетый, а не голый, как в катакомбах и на саркофагах. Налево Пророк Михей. Под Ионой Христос исцеляет кровоточивую жену; под Михеем – стоит Самарянка у колодца, по другую сторону которого сидит Христос. Эта рукопись, относясь ко времени богословских состязаний о том, мог ли Иисус Христос, как Бог, пострадать плотью и умереть, как человек,–выражает идеи, сделавшиеся после Константинопольского Собора 553 г. господствующими в православных догматах. Потому-то особенно и важны в ней миниатюры, изображающие Страсти и Распятие Иисуса Христа, и следующие за тем события. На миниатюре – между зверями по обе стороны изображено по петуху. Направо Иуда – юношеская фигура – целует Иисуса Христа в руку, которого сзади уже схватывают двое воинов. Налево – Иуда, в сером хитоне – висит на суку: фигура, отлично нарисованная. Под Иудой сосуд в виде рога, с его внутренностями, которые клюет ворон. Под сценой целования иудина изображен цветок. – Христос, распятый на кресте между двумя разбойниками, одет в хитон, без рукавов (colobium) – костюм, принятый в древнейших Византийских миниатюрах. Христос еще с открытыми глазами, без короны и без тернового венца на голове, изображен в тот момент, когда один воин пронзает ему бок, а другой подносит ему губку с оцтом; внизу трое воинов мечут жребий об одежде Господней. Все три креста, и Спасителя и обоих разбойников – четырехконечные. По сторонам плачущие жены и ученики. В изображении Вознесения по сторонам Богородицы по Ангелу, как принято в Русской иконописи. В Сошествии Св. Духа Апостолы изображены стоящими, посреди их Богородица. – Христос и Апостолы писаны с короткими волосами. Христос с бородой, а многие из Апостолов безбородые; каковы Иоанн, Филипп, Матфей, Симон. Замечателен тип Андрея, с маленькой бородой и с растрепанными волосами, с чем вполне согласуется наш подлинник, в котором под 30 Ноября Апостол Андрей, между прочим характеризуется следующей подробностью: «власы растрепались».
7) Григорий Богослов, в Амброзианской библиотеке в Милане, VIII–IX в., в двух переплетах 49 и 50). Миниатюры писаны по полям, с боку, вверху и внизу страниц; но, к несчастью, до половины их вырезано; впрочем и то, чтб осталось, надобно признать драгоценностью для истории образования и установления Византийских типов, в изображении которых миниатюрист наблюдал единство принятой им теории, так что одно и тоже лицо, встречающееся в миниатюрах много раз, он писал одинаково. А именно: Адам – седой, с длинными по плечам волосами и с длинной бородой. Моисей – седой, с короткими курчавыми волосами и с короткой округлой бородой. Аарон – седой, с длинными волосами, борода длиннее Моисеевой, клином, в первосвященническом одеянии. Соломон и Давид – подобием сходны, оба в царском одеянии и в коронах, оба черноволосые, с волосами, спускающимися до ушей и с короткой бородой. Иоанн Предтеча – с длинными черными волосами по плечам, сверху взъерошены, и с длинной черной бородой. У Иисуса Христа – каштанового цвета длинные по плечам волосы и короткая борода. Ап. Петр – седой, с короткими курчавыми волосами и с короткой бородой, плешив. Ап. Павел – с короткими черными волосами и с длинной черной бородой. Иоанн Евангелист – безбородый юноша с короткими волосами. Ев. Лука – с короткой черной бородой и с короткими черными волосами. Ев. Марк – подобием как Лука, только будто его моложе. Фома и Иуда – безбородые. Ап. Андрей – седой, волосы на голове средней величины, висят клоками в разные стороны и взъерошены (как в Сирийском Евангелии), и с седой длинной бородой. Отцы Церкви несколько напоминают тины мозаик Софии Цареградской. Василий Великий – с черными волосами и черной бородой; Григорий Богослов и Иоанн Златоуст – седые: все трое с длинными бородами и короткими волосами. – Хотя эта рукопись была писана, когда уже значительно установились иконописные подобия, однако в ней сохранились еще и свежие следы античного предания, что можно видеть в миниатюре, изображающей языческих поэтов Орфея и Гомера: Орфей в фригийской шапке, играет на кифаре, без бороды; около него Гомер, тоже без бороды, протянул к Орфею руку; у обоих длинные черные волосы. В технике виден уже упадок, сравнительно с ранними миниатюрами; очерки фигур наведены уже чернилами, а не писаны широко, местными красками, как в древнейшей христианской живописи. Все священные фигуры писаны в золотых одеждах, что должно означать велелепие святости, потому что прочие, несвященные лица, писаны в одеждах цветных, как например, трое избивающих Архидиакона Стефана. Но Орфей и Гомер – в золотых ризах.
8) Евангелие в Публичной библиотеке в Петербурге, не позднее IX в. Рисунки представляют неровность в смешении остатков изящного стиля с позднейшими признаками упадка. Для иконописного предания важны: Брак в Кане Галилейской; Умовение ног; Тайная Вечеря с возлежащими Апостолами, а не сидящими, как стали изображать их в последствии. Иосиф и Никодим несут Христа погребать во гробе, спеленутого, согласно с изображением этого события в Лобковской Псалтыри. Воскресение – в виде сошествия во Ад: Христос стоит на Аде, олицетворенном по обычаю древнего искусства. Сошествие Св. Духа писано согласно с изображением в следующей за сим рукописи Григория Богослова (только без Евангелия и престола вверху).
9) Григорий Богослов, в Императорской библиотеке в Париже, IX в. Миниатюры писаны широкой кистью, очерки деланы красками, колорит цветущий. Некоторые рисунки замечательны по изяществу лучшего стиля ранней эпохи, другие свидетельствуют о падении изящного вкуса; даже часто в одной и той же миниатюре иные фигуры красоты античной, в стиле самом изящном, другие фигуры – неуклюжи и неверны в рисунке, как в русской иконописи. Многочисленные миниатюры этой знаменитой рукописи предлагают во многом отличные образцы для русской иконописи, в изображениях как Ветхого так и Нового Завета, в типах лиц Ветхозаветных, Апостолов, Отцов Церкви, царя Константина на коне и с видением четырехконечного креста и проч. – Иона, бросаемый в море и извергаемый китом, уже в одеянии, а не нагой, как в древнехристианском искусстве. Сампсон – безбородый юноша, три отрока в пещи и Пророк Даниил в одинаковых персидских костюмах; воскресающий Лазарь спеленут, стоит во дверях гроба, как на древних саркофагах. Для сравнения с русской иконописью беру в пример Сошествие Св. Духа, которое, в миниатюре изображено так: Апостолы восседают полукругом, в центре которого выемка в виде арки, служащая для них подножием. Над Апостолами выведена тоже арка с полусводом; в верхней части свода на престоле лежит Евангелие, от которого идут огненные языки, потом продолжаемые голубоватыми лучами; и уже не языки, а эти-то лучи сходят на Апостолов. По сторонам нижней арки изображены толпы народа. Этот перевод, в общем архитектоническом очерке согласный с принятым русской иконописью, отличается от последнего тем, что у нас, вместо толпы народу, в самой арке, что внизу – писан Мир в виде царственного старца. Из мифологических преданий в этой рукописи для примера можно указать, при переходе Израильтян через Чермное море, на изображение моря в виде обнаженной женщины, по чресло погруженной в воду, с веслом на плече.
10) Псалтырь, в библиотеке г. Лобкова, в Москве IX в. Эта рукопись по важному значению украшающих ее миниатюр, как в художественном, так и в археологическом и церковном отношении, едва ли не самая замечательная из всех, находящихся в нашем отечестве. Подробно описание ее71 помещено в этом же Сборнике; здесь же предлагается только несколько замечаний, определяющих ее значение в истории иконописного предания. Относясь ко времени Византийского искусства, очищенного прениями с икона борцами, Лобковская рукопись содержит в себе даже изображения самых иконоборцев, посягающих на иконы, и лжепатриарха Иоанна, низложенного в 842 г., попираемого Св. Никифором Патриархом Константинопольским (л. 51 обор.), который как защитник иконопочитания, держит в руке икону Спасителя в медальоне, а иконоборцы бесчинствуют в присутствии сидящего на престоле царя Льва Армянина: один пронзает копьем икону Спасителя, в медальоне же, другой помазывает ее варом из купели, стоящей подле (л. 23 об.). Сближение жидовствующих иконоборцев с Евреями, распявшими Христа, и самого иконоборчества со страстями Господними, изображено при Пс.68:22: «И дата в снедь мой желчь, и в жажду мой на пошла мя отца»: в верху, на поле страницы – Христос распят на кресте, без разбойников. Один воин уже пронзил его в бок копьем, другой подносит ему оцет; а внизу той же страницы сцена из иконоборчества: распятому Спасителю соответствует Его икона в медальоне, прободаемая копьем; под иконой чаша с варом соответствует оцту верхнего изображения (л. 67). Рисунок 17.

Рис. 17. Миниатюра Лобковской (ныне Хлудовской) Псалтыри на л. 67 к Пс.68:22
Христос постоянно изображается в типе, установившемся в период мозаический. Икона изображается в древнейшей форме медальона или щита времен древних саркофагов, и, как исключение, в виде четырехугольной доски. Как остаток древнейшего периода, надобно почесть юный, безбородый тип Христа в медальоне на обороте 1-го л. рукописи (прилагаемый здесь на рисунке 18), и потом в меньшем размере то же в медальоне над Пророком Аввакумом (л. 154 об.). Сияние Христа отличается тремя поперечниками креста, исходящими от головы. Это отличие еще не постоянно наблюдается в VI в,: так на Римской мозаике в храме Космы и Дамиана сияние Христа без перекладин, а в Софии Константинопольской – с перекладинами, также как в позднейших фресках катакомб, именно в изображении Христа в катакомбах Св. Понтиана, VII в. В этих перекладинах очевидно сближение с крестом, которое объясняется самой историей этого последнего.

Рис. 18. Из Хлудовской Псалтыри
Мы уже знаем, что первоначально распятия не изображали, а вместо того ставился простой крест; потом на самом верху крестного столба ставилась икона Спасителя в медальоне, как напр., на римской мозаике в храме Св. Стефана (Rotondo) VII в.; потом, а может быть, и одновременно с этим, ставили медальон с иконой Спасителя в центре самого перекрестия креста, которое, таким образом, соответствует сказанным перекладинам сияния. В Лобковской рукописи именно всегда и изображается крест, с медальоном на перекрестии, как предмет поклонения (л. 4, л. 86), в отличие от настоящего распятия, как события исторического, в котором Христос является распят иногда один, иногда между двумя разбойниками, обыкновенно в длинном синем хитоне, без рукавов (как в Сирийском Евангелии), напр., на л. 45 обор., и как исключение, обнажен до пояса, а от пояса до колен препоясан пурпурной тканью (л. 72). – Между установившимися Византийскими типами встречаются и ранние, как остаток древнего стиля. Например: Моисей вместе с Аароном: оба старческие типы (л. 98 об.), и Моисей, извлекающий жезлом из скалы воду, или переходящий через Чермное море – юная безбородая фигура катакомбного стиля (л. 76, л. 148 об.). Двоякий тип Пророка Давида, как царя, с бородой, в царской пурпуровой мантии сверх белой туники и в низенькой короне (л. 12), или в пурпуровой далматике, подпоясанной золотом (л. 55 об.), и как юного, безбородого пастуха и псалмопевца (л. 24, л. 147 об.),– объясняется двояким характером этого лица; но во всяком случае последний тип есть очевидное воспроизведение древнейшего образца в античном стиле. В символических фигурах и олицетворениях очевидно влияние ранних источников христианского искусства. Например: в восхождении Пророка Илии на небо – внизу, как в упомянутом выше барельефе Луврского саркофага, изображен Иордан в виде полуобнаженного старца, в синей шапке с ушами; из уст льется река (л. 41 об.). Как на Равеннской мозаике в Баптистерии, V в., в Крещении олицетворена река тоже в виде старца; так и на миниатюре Лобковской Псалтыри (л. 117) при Пс.113:5: «что ти есть море, яко побегло еси, и тебе Иордане, яко возвратился еси вспять» – изображен Спаситель почти по шею в воде, ниже на стороне отвернулась обнаженная фигура старца – это Иордан, а в самом низу стоят два бронзовые идола зеленоватого цвета. Как в Венской рукописи Диоскорида VI в. море изображено в мифологическом образе Амфитриты; так и в Лобковской Псалтыри при Пс.88:10: «ты владычествуеши державой морскою, возмущение же волн его ты укрошаеши» – изображен Христос в ладье с учениками во время бури, а внизу женщина, с распростертыми руками: это море, как значится в надписи: θάλασσα; на стороне же стоит в воде по щиколотки безбородый юноша, в правой руке держит трубу на плече, а левой закрывает рот: это ветер, как значится в подписи: ὁ ἄνεμος. Обе фигуры в розовом одеянии и в таких же шапочках (л. 88). Кроме того, еще несколько раз встречается в этой рукописи олицетворение ветров и вод; из отвлеченных понятий – олицетворение милостыни, в царском одеянии (л. 35). Но особенно важно для истории искусства олицетворение Ада в античных формах, только уже не бога Аида, или Гадеса, а толстого и мясистого Силена, обнаженного, лысого старика, с коротенькой бородой, как он, напр., сидя, с каким-то зверским сластолюбием хватает руками одну из грешных душ, изображенных в виде обнаженных детских фигурок (см. рис. 19), при Пс.9:18: «да возвратятся грешницы во ад, вси язы́цы забывающие Бога» (л. 8. об.).

Рис. 19. Из Хлудовской Псалтыри
Ад в виде того же античного типа упитанного Силена, изображен в Сошествии во ад, которым обозначается в восточной иконописи воскресение Господне (л. 63). Этот Силен представлен поверженным стремглав, ногами вверх; на его препоясанном чреве, в золотом ореоле, Иисус Христос правой рукой берет Адама, седого старика, в белом одеянии; позади Ева, молодая румяная женщина, в красном одеянии. Средневековой символ, в виде баснословного зверя единорога, которого, по учению физиологов, или Бестиариев, будто бы укрощает только непорочная дева – символ Богородицы, – изображен при Пс.91:11: «вознесется яко единорога рог мой»: сидит девица в синем одеянии, с распущенными волосами; к ней подбежал единорог и стал ей одной лапой на колени (л. 93 об.). – Указав на следы древних источников Лобковской рукописи, теперь следует упомянуть, что миниатюры ее, за немногими изменениями, одной редакции с миниатюрами греческой же Псалтыри, в Барберинской библиотеке в Риме, IX–X в.72 В обеих рукописях те же изображения Патриарха Никифора и иконоборцев, что указывает на общее их происхождение в следствие победы православия над иконоборчеством; те же изображения погребения Христа, которого спеленутым несут в дверь гроба Иосиф и Никодим (л. 87); тот же Ад в виде Силена, тот же Ап. Петр с петухом, приводящим его в ужас своим пением (л. 38 об.); те же дьяволы, уловляющие грешников тенетами (л. 140); те же лукавые люди с песьими головами (л. 19 об.), окружившие Христа, при Пс.21:17: «обыдоша мя, яко пси мнози»; те же Антиподы (л. 103), и многие другие подробности, свидетельствующие об общем происхождении обеих рукописей. – Наконец, для скрепления русского иконописного предания указанием на древнейший источник заслуживает внимания замечательное сходство миниатюр в Русских Псалтырях от XV до XVII в., с обоими этими греческими памятниками; как это можно видеть из сличения миниатюр в Углицкой Псалтыри 1485 г. (в Петербургской публичной библиотеке, № 210) и в Годуновской 1600 г. (в Академич. библ. в Троицкой Лавре) со следующими миниатюрами Лобковской рукописи: упомянутое изображение Христа между лукавыми с песьими головами (л. 19); грешники с рогами (л. 74); при Пс.72:9: «язык их преиде по земли» – грешники с длинными, почти до земли, языками и в масках; олицетворение рек в виде двух человеческих фигур, от которых идут потоки (л. 75 об.); солнце в виде античного божества на колеснице (48 об.); икона Знамения Богородицы в медальоне на горе, при Пс.67:16: «гора Божия, гора тучная» (л. 64). Это сличение с позднейшими русскими миниатюрами, свидетельствующее об историческом преемстве русского иконописного предания, можно бы расплодить множеством примеров; но в заключение приведу еще один, касающийся очень важного в истории нашей иконописи перевода: это символическое изображение Тайной Вечери под видом Таинства Евхаристия, совершаемого самим Христом. Так изображается этот сюжет в древних Киевских мозаиках XI и XII в.; так же в Углицкой Псалтыри 1485 г., как и в позднейшей русской иконописи. Лобковская Псалтырь одной из своих миниатюр (л. 115) свидетельствует нам, что этот перевод ведет свое начало от IX в., а может быть и ранее, от древнейшего источника, из которого этот перевод был заимствован в греческую Псалтырь IX в.
11) Псалтырь, в Императорской библиотеке в Париже, IX–X в., с изображениями ветхозаветными, и преимущественно из деяний Царя Давида. Миниатюры особенно замечательны по изяществу раннего стиля и по символике и олицетворениям. Ночь представляется в виде Дианы; Мелодия облокотившаяся на плечо юного Давида, играющего на гуслях – прекрасная девица в виде античной музы; Чермное море в виде обнаженной Амфитриты с веслом на плече. Олицетворения эти так сильно распространены, что иногда занимают в миниатюре больше места, нежели лица исторические, означая то принадлежности ландшафта, в олицетворении горы, пустыни и т. п., то расположение духа, напр. в олицетворении молитвы, раскаяния, то вообще отвлеченные понятия и идеи, напр. в олицетворении силы, премудрости, пророчества. Для примера укажу на следующие миниатюры: Давид, прекрасная юношеская фигура с благородным, идеально настроенным выражением лица, играет на арфе. Он сидит. Одет в белое короткое одеяние (penula) и в пурпуровой хламиде. На ногах сапоги. Рядом с ним, грациозно опершись на его плечо, сидит красивая женщина с обнаженными руками и грудью. Это, как гласит греческая надпись – Мелодия. Другая, столько же красивая женская фигура, выглядывает из-за памятника, но без надписи, вероятно, Поэзия. Кругом стадо овец и коз. В ногах у Давида сидит черная собака на задних лапах. Внизу прислонившись сидит в довольно наивном положении мужская фигура, едва прикрытая зеленым одеянием, с ветвью в руке. По надписи – это Гора Вифлеем. – Еще миниатюра: юный Давид, в таком же костюме, с палицею в руках стремительно поражает диких зверей. Ему помогает античная женская фигура, по надписи – это Сила. Другая фигура, высовываясь из расщелины скалы, движением руки выражает изумление, вероятно, божество Горы. В Лобковской миниатюре, снимок с которой приложен в следующей главе,– сюжеты обеих парижских миниатюр, соединены в одной картине, и олицетворения опущены. – Еще пример: миниатюра в два ряда: в верхнем посреди – Моисей, изящно драпированная юношеская фигура – выводит Израильтян из земли Египетской, означенной зданиями на заднем плане. Над зданиями парит в воздухе, только по пояс намеченная синею краскою, Диана – с развивающимся вокруг головы покрывалом. Это по надписи – Ночь, потому что бегство совершается ночью. Под этой богинею на земле сидит женская фигура, обращающаяся к небу: по надписи – Пустыня, потому что Израильтяне бегут в пустыню. В нижнем ряду фараон с войском тонут в море. Энергическая фигура, воспоминание древнего Тритона, стремительно хватает фараона за волосы: это по надписи – Бездна. Внизу олицетворение Чермного моря в виде обнаженной Амфитриты с веслом на плече. – Еще: Пророк Исаия молится, стоя между двух фигур: одна женская в виде Дианы – это Ночь, другая – маленький мальчик с факелом – это звезда Денница. Давид, с бородой, в царском одеянии стоит тоже между двух фигур: обе – красивые женщины: это Премудрость и Пророчество. Обе эти миниатюры см. в приложенных ниже рисунках 20 и 21. Некоторые олицетворения в сиянии, каковы: Молитва, Премудрость, Пророчество, Ночь; другие без сияния, например: Море, Пустыня, Бездна. – Для истории этой рукописи необходимо заметить, что миниатюры ее повторяются в других современных рукописях, как напр., Исаия с Ночью и Зарей в Ватиканском кодексе Пророка Исаия IX–X в. Олицетворения Моря и Пустыни встречаются в позднейших русских рукописях Апокалипсиса; что же касается до Премудрости, стоящей по одну сторону царя Давида, то этот сюжет в нашей иконописи получил особенное развитие в самостоятельной иконе, известной под именем Софии-Премудрости.

Рис 20. Пророк Исаия (миниатюра из Парижской Псалтыри IX-X века)
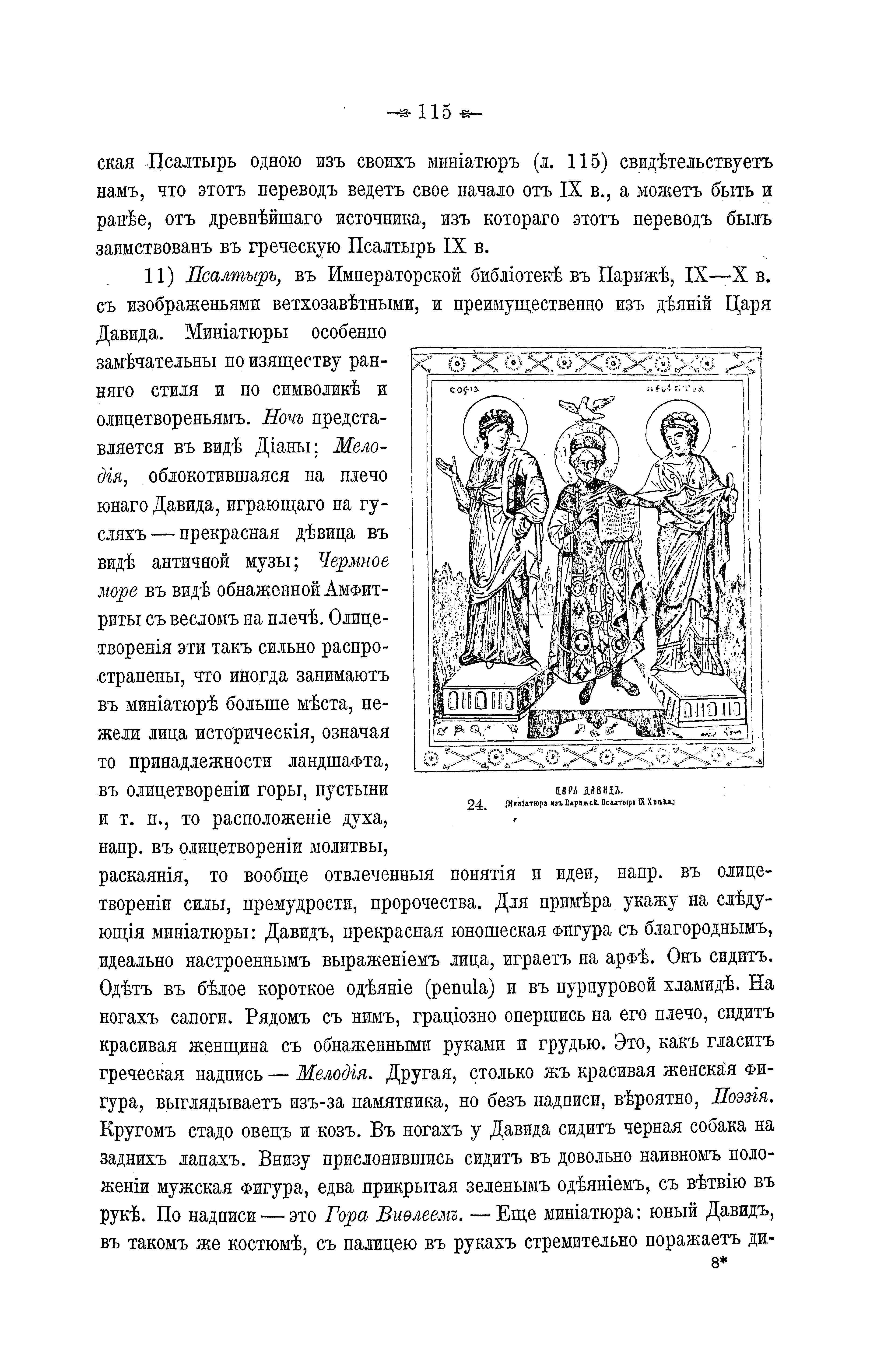
Рис. 21. Царь Давид (миниатюра из Парижской Псалтыри IX-X века)
12) Косма Индикоплов, по рукописям Ватиканской X в. и Лаврентианской, во Флоренции, столетием позднее. Миниатюры идут от одного древнейшего источника, что явствует столько же из античной красоты многих фигур, напр. Адама и Евы, Авеля, сколько и из остатков ранней символики. Так, в Ватиканской рукописи, восхождение Илии Пророка на небо, с олицетворением Иордана, изображено согласно с вышеупомянутым рельефом Луврского саркофага. В рукописи Лаврентианской замечательно олицетворение Смерти, в миниатюре следующего содержания: стоит Енох, молодая фигура, с короткими черными волосами и короткой черной бородой. Около, на синей каменной скамье сидит зеленоватая фигура, вся в один цвет светло-тенью писанная, будто бронзовая статуя; она обнажена, только препоясана темно-зеленой драпировкой. Это Смерть, как значится в греческой подписи; она отвратила свое лицо от Еноха и протягивает правую руку в противоположную от него сторону. Для русского иконописного предания Лаврентианская рукопись имеет особенное значение потому, что, содержа в себе явные следы древнехристианского искусства, предлагает несколько переводов, усвоенных русскими миниатюрами рукописного Индикоплова 1542 г., в Макарьевской Четии-Минеи, в Синод, библ. Так например, в Лаврентианской рукописи в том же самом виде писаны, только несравненно изящнее: Аарон, с кадилом – изображен дважды, в профиль и с лица, в иерейском облачении, с логионом на груди, украшенным драгоценными камнями (л. 130). Солнце – в красном кругу, красная же фигура по грудь, на голове корона; вниз от круга идут красные же лучи (л. 189). Изображение трех миров: Небесного, Земного и Подземного (οὐράνια, ἐπιγέια, καταχθόνια) (л. 228 об.) – превосходнейший оригинал уже испорченной русской копии в нашей рукописи 1542 г.
13) Миниатюры рукописей из монастырей Афонской Горы, в фотографических снимках г. Севастьянова, в Московском Публичном Музее, и в Петербурге в Христианском Музее при Академии художеств. Замечательнейшие из них по древности и изяществу: Псалтырь IX–X в. из монастыря Пандократора (№ 20), Евангелие из Иверского монастыря X–XI в. (№ 57), Жития Святых и Слова Иоанна Дамаскина о Рождестве Христове, XI в., из монастыря Есфигмена (№ 77), Библия из монастыря Ватопеда (№ 1), хотя уже и ХII в., но рисунки сняты, очевидно, с древнейших оригиналов, и мн. друг. Об этих рукописях будут особые исследования в изданиях Общества древнерусского Искусства. Здесь же следует заметить только, что все они отличаются тем же свойством, как и рассмотренные выше рукописи, и столько же важны, как в отношении античного изящества и символики, так и по типам и сюжетам, представляющим образцы для русской иконописи. Для примера укажу только на две из этих рукописей, на Псалтырь XI–X в. и на Жития Святых и Слова Иоанна Дамаскина XI в. Псалтырь Пандократора, отличаясь своей редакцией от Лобковской и Барберинской, представляет впрочем некоторые миниатюры очевидно одного, общего с ними происхождения, и сверх того, в более изящном виде, ближайшем к раннему оригиналу, от которого пошли рисунки рукописных Псалтырей. Так в Псалтыри Пандократора на полях, при Пс.37 и Пс.38, где говорится о раскаянии и смиренной преданности, изображен Апостол Петр, в ужасе спасающийся от красного петуха, который, будто обличая его, надменно кричит ему вслед. Сцена в высшей степени драматическая и наивная, и тем более, что обе эти фигуры, за недостатком перспективы и правильных размеров, кажутся одинаковой величины; и потому тем сильнее поражает ужасом гордая птица глубоко потрясенного раскаянием, которого мелкая фигура вызывает столько же сострадание, сколько и невольную улыбку. Псалтыри Лобкова и Барберини предлагают слабые копии этого же самого сюжета. В рукописи XI в. монастыря Есфигмена некоторые миниатюры, по общему впечатлению, приближаются к изящному стилю античной живописи Геркуланума и Помпеи, особенно в тех рисунках, где изображены языческие храмы в два и три яруса с рядами идолов, которые, будто бронзовые или золотые, выступают рельефно на темном или черном фоне. Яркость и свежесть колорита придает изящным фигурам необыкновенную жизненность, напр. в изображениях Рождества Христова и бегства в Египет. Тип Богоматери замечательно прекрасен: в нем столько же природы, сколько и идеальности.
14) Менологий царя Василия Македонянина, 989–1025 г., в Ватиканской библиотеке (с Сентября по февраль), и продолжение его (Февраль и Март), по рукописи Синодальной библ. в Москве XI в. Памятник этот, упоминаемый в предисловии к русским подлинникам, заслуживает особенного обстоятельного исследования, как один из ближайших источников русского иконописного предания. Здесь же ограничимся немногими замечаниями. В отношении художественном, эти рукописи представляют неровность смешанного стиля, в котором неуклюжесть фигур, сочиненных в XI в., берет уже перевес над слабеющими воспоминаниями об изяществе ранних времен. Праздники и вообще сюжеты, обработанные искусством древнейшим, писаны, по преданию, с древних оригиналов, лучше, нежели истязания мучеников, вошедшие в живопись и распространившиеся как раз во время составления этих рукописей, в которых они и занимают большую часть миниатюр. Относительно иконописных сюжетов, вообще сходных с русским иконописным преданием, я обращу здесь внимание только на отклонение этого последнего от древнего Менология. Так, под 14 Сентября, в этом древнем памятнике, изображено на миниатюре Воздвижение Креста не внутри храма, а снаружи на возвышенном крыльце, сделанном на манер древнейших церковных кафедр или амвонов, какие можно видеть в ранних базиликах Италии, как напр., в базилике Св. Лаврентия в Риме. Этот амвон примыкает к округленной стене храма. Наверху амвона стоит Святитель с крестом, который уже не имеет вида древа распятия: это в роде креста запрестольного, сделанного из тонкой полосы с двумя поперечниками, так что это крест шестиконечный. По сторонам Святителя на верху амвона по служителю, ниже на ступенях, с обеих сторон, еще по фигуре. В русском подлиннике этот праздник описывается так: «Церковь стоит о едином версе, осмь комàр. Святитель Сильвестр, аки Власий, середи церкви крест поднял на главу. Диакон млад, другой средний, брадою аки Косма, под руки держат Святителя, а стоят на амвоне. По правую руку за амвоном на престоле Царь Константин и Царица Елена, а по другую сторону епископы и попы и диаконы, а под амвоном князи и бояре, стары и русы, и средние, и младые, в шубах. Палата по сторонам – празелень, другая – бакан насветло. Столп; на столпе человек, киноварен весь сам, в руке держит кубец, а в другой саблю». – Противоречие между нашим преданием и древним его источником сглаживается следующим замечанием в Подлиннике позднейшем, исправленном в школе Ушаковской: «Мнится быти: Воздвижение Честного Креста Господня прежде было не в церкви, как то повествует в Минеи-Четьи Макарий: Патриарх тесноты ради народа ста на высоком месте и показа крест Господень всему народу, его же желаху видети».– Под 22 октября Семь Отроков, спавших в Ефесе, в Менологии X–XI в. изображены спящими в пещере: все они, прижавшись друг к другу туловищами, и склонившись головами в разные стороны, составляют вместе одну изящную группу. Напротив того, в русском подлиннике они изображаются уже проснувшимися: «Царь Феодосий, пришед в пещеру к ним, и пад поклонися пред ними на колену и зрит на них; отроцы же пред ним стоят» и проч. – Под 8 ноября, Собор Архистратига Михаила, по русскому подлиннику: «и прочих бесплотных сил: Архангел млад, кудреваты власы, за уши курчеваты»; между ними Архангел Гавриил, а также и херувимы. В Менологии же, на основании Апокалипсиса (Откр.12:7–11) взят момент низвержения сатаны и слуг его Архангелом Михаилом, который потому стоит с лабаром в руке над бездною, где низвержены уже два диавола, другие два низвергаются с гор по обе стороны. – Под 25 Декабря в Менологии помещены, как замечено выше, две отдельные миниатюры: на одной Рождество Иисуса Христа, на другой Поклонение волхвов, тогда как у нас оба эти события соединяются на одной иконе; на третьей миниатюре, тоже под 25 дек., в Менологии изображен спящий Иосиф, которому является Ангел; за тем, под 26 декабря, Бегство в Египет, тогда как по нашим подлинникам, под этим числом, описывается многоликая икона Собор Богородицы, с волхвами, с Иоанном Дамаскиным, Евфимием Великим и проч. – Кроме священных типов для живописи, Менологий предлагает много данных для истории древнехристианского искусства вообще. Например: храмы иногда изображаются сходно с Цареградским Софийским и с другими древнейшими, что важно для истории архитектуры. Иоанн Предтеча, под 7 января, пишется с большим четырехконечным крестом; тот же четырехконечный крест, с привесками вроде бахрамы, крест запрестольный, пишется в крестном ходу (под 26 января). Царица Феодосия держит в руках медальон с грудным изображением юного Христа, без бороды (под 11 февраля), которое сходствует с встречающимся в Лобковской Псалтыри и в других древнейших памятниках.
Этими краткими указаниями мы заключим обозрение рукописей, не потому чтобы исчерпали богатое содержание этого обширного предмета, по потому, что в предложенном перечне достаточно уясняется важность миниатюры в истории иконописного предания и последовательное развитие иконописных сюжетов. Многие из рукописей, от XI в. и позднее, здесь не упомянутые, например, из находящихся в Синодальной библиотеке в Москве и в монастырях Афонских, предлагают в своих миниатюрах замечательные воспроизведения живописи ранних времен и позднейшее развитие иконописных сюжетов; но общий характер этих памятников тот же, что объяснен в предложенном перечне. В заключение надобно упомянуть о миниатюрах в русских рукописях XI в., служащих звеном в истории перехода Византийского искусства на Русь, именно в Остромировом Евангелии 1056–1057 г. и в Изборнике Святославовом 1073 г., в котором современные портреты Великого Князя и его семейства свидетельствуют нам, что вместе с иконописью в эту раннюю эпоху перешел к нам и обычай, господствовавший тогда в Византийском искусстве, писать портреты царей и других знаменитостей, как напр. изображение Никифора Вотониата в рукописи Иоанна Златоуста 1080 г., в Императорской библиотеке в Париже73.
V. Диптихи, переплеты, или оклады и складни. Этот обширный предмет, обнимающий историю иконописного предания всех трех периодов, от древнейшей эпохи языческой и до позднейших времен, требует особенного обстоятельного исследования. Здесь же только будет показано его значение и важность. Диптихи (δίπτυχα) были переведены по-русски складнями. В древности они были деланы из слоновой кости, металла, дерева, из пергамена. Это складные дощечки, соответствовавшие нынешним карманным записным книжкам, или бумажникам. Внутренние стороны дощечек назначались для писания, а наружные украшались рельефами и рисунками. Они привешивались на руку или к поясу, и, будучи изящной работы, служили немаловажным украшением в костюме. Составляли обычный предмет поздравительных подарков; консулы и другие власти дарили ими народ на цирках, в ознаменование своего вступления в должность. Это были диптихи консульские. При переходе рукописи от древнейшей формы свитка к позднейшему виду книги, диптихи составляют посредствующее звено, послужив образцом для книги, и дав своими двумя сторонами первые дощечки для переплета; потому большая часть древних диптихов сохранились, как доски позднейших переплетов Наши книжные оклады с рельефами и особенно оклады Евангелий суть не что иное, как бессознательное, основанное на древнем предании, воспроизведение рельефов диптиха, который уже в очень ранние времена сделался предметом церковной утвари; потому что диптихи употреблялись в церковной службе для поминания лиц, имена которых в них записывались: это диптихи церковные, предание о которых доселе сохранилось у нас в синодиках и поминальных книжках, или поминаньях. Наконец, русские металлические, деревянные и каменные складни по самой форме своей родственны диптихам, только с рельефами не на внешней, а на внутренней стороне дощечек.
Рельефы диптихов, в стиле древнехристианских саркофагов, без соблюдения единства времени, места и действия, состоящие из сюжетов, без перспективы, нагроможденных друг на друга, служили образцом для распределения рисунка в многоликих миниатюрах средних веков, а равно и в нашей иконописи до позднейшего времени, что можно видеть из выше приведенного снимка Рождества Господня с Ватиканского диптиха IX–X в.
Диптихи и книжные оклады предлагают важные дополнения для истории иконописного предания в отношении символики, образования типов и вообще развития сюжетов, как это можно видеть из следующего краткого перечня изображений на этих памятниках.
1) Консул сидит на престоле, по сторонам которого стоят Рим и Константинополь, олицетворенные в виде двух женщин в шлемах. В Импер. Библ. в Париже.
2) Стоящий Ангел, с жезлом в одной руке и с державой в другой; вверху дощечки греческая надпись, свидетельствующая о византийском происхождении одного из самых ранних изображений этого предмета, V в., а может быть даже IV в., в эпоху перехода античных гениев в тип Ангела. В Британском музее.
3) Оклад Евангелия из слоновой кости в разнице Миланского собора, VI в. На одной стороне, приложенной здесь в снимке на рис. 22: в середине Агнец, с головой в сиянии. Вверху Рождество Господне. Налево от зрителя: Благовещение на источнике. Три волхва, идущие по указанию звезды. Крещение, без олицетворения Иордана и еще без Ангелов; голубь летит головой вниз. Направо: Ангел ведет мироносицу к гробу Господню, изображенному в древнейшей форме, принятой в саркофагах для изображения гроба Лазарева. Христос перед Пилатом (по другим – Христос поучает в синагоге). Въезд в Иерусалим. Внизу избиение младенцев. По углам символы и лики Евангелистов Матфея и Луки. – На другой стороне: в середине четырехконечный крест. Вверху – волхвы приносят дары младенцу Христу, находящемуся на коленях Богородицы, которая сидит на престоле; Иосифа нет. Налево: Христос исцеляет слепого и хромого. Исцеляет расслабленного, который несет уже свой одр. Воскрешает Лазаря: рисунок, во всем согласный с барельефами саркофагов. Направо: Спаситель между Апостолами Петром и Павлом. Тайная Вечеря с «возлежащими» по древнему обычаю. Прелюбодейная жена перед Спасителем. Внизу: Христос претворяет воду в вино на браке в Кане Галилейской, согласно с барельефами саркофага. Тип Христа юный, первых веков христианства. По углам символы и лики Евангелистов Марка и Иоанна. – Надобно заметить, что все четыре Евангелиста еще не определены своими отличительными типами. Все с длинными волосами и короткими бородами.

Рис. 22. Диптих с оклада Евангелия VI века (в ризнице Миланского Собора)
4) Богородица сидит на престоле с Христом Младенцем, которого она держит между коленями так, что обе головы, и ее и Его, находятся на одной отвесной линии. Богородица красивая, полная женщина. Христос в девой руке держит свернутый свиток, а правой благословляет. Позади трона по бокам стоят по Ангелу: красивые, полные фигуры; волосы перевязаны тороками. Вверху Солнце и Луна в античных образах Аполлона и Дианы. Вероятно, VI в., в Берлинск. Музее.
5) Металлический позолоченный рельеф, вероятно, с оклада книги, IX в., в Луврском Музее; с греческими надписями. Превосходное изображение посещения гроба Господня Мироносицами. Две женские фигуры, в античной драпировке, но без сосудов с миром, подходят к гробу, который в виде узкой двери примыкает к пещере. У этого отверстия, означающего гроб, сидит Ангел и показывает им внутрь гроба, где остался только повитый лентием саван, будто пеленки с свивальником, но так что пелены не тронуты и свиты лентием, однако заметно, что они пусты: самого Христа уже там нет. Дальнейшее развитие этого сюжета увидим на металлических церковных вратах XI в.
6) Диптих Тутила, в Сан-Гальском монастыре, конца IX в. В середине Спаситель, юная безбородая фигура, восседает в глории, внизу и вверху которой по два символа Евангелистов; по сторонам по шестикрылому серафиму. Вверху солнце и луна в виде античных божеств с факелами; внизу море и земля: море в виде полуобнаженного старца, с урной, из которой льется вода; земля – в виде полуобнаженной женщины, грудь которой сосет ребенок; в руке у нее рог изобилия. Обе фигуры сидят. По углам дощечки Евангелисты. Работа отличается изяществом еще лучшего стиля ранних времен.
7) Диптих Сполетской герцогини Агильтруды, принесенный ею в дар монастырю Рамбонскому в 880 г., ныне в Ватиканском Музее. Отличается от Тутилова диптиха варварской грубостью работы, но замечателен по сюжету, предлагая одно из самых ранних, дошедших до нас изображений распятия в рельефе. Христос распят на четырехконечном кресте, с бородой и длинными волосами; глаза открыты; обнажен, только препоясан до колен; руки вытянуты, голова держится прямо. По сторонам Богородица и безбородый Иоанн Богослов. Вверху солнце и луна, олицетворенные в человеческих фигурах, с факелами. Самая интересная подробность в этом диптих та, что под крестом изображена Римская волчица, которую сосут Ромул и Рем.
8) Распятие, окруженное разными соответствующими предмету сюжетами, тоже на четырехконечном кресте, водруженном на извивающемся змии. Ранее X в., в Ганнà.
Само собой разумеется, что все древнейшие распятия, и на западе до XII в., с четырьмя гвоздями, как принято у нас.
9) Древнейший оклад греческой работы в России, XII в., украшает Мстиславово Евангелие 1125–1132 г.74.
VI. Священные сосуды и другая церковная утварь. И в этом отделе, еще более обширном, следует ограничиться только общими замечаниями, и, для примера, указанием на некоторые из древнейших памятников. Мелкая церковная утварь, так же как диптихи и миниатюры в рукописях, по удобству перенесения, способствовала распространению иконописного предания и художественного стиля. Как рельефы диптихов и других изваянных произведений могли поддерживать в нашей иконописи рельефный стиль в расположении рисунка; так Византийская эмалевая работа, разделяющая колера золотым ободком рисунка – соответствует золотым бликам, которыми в иконописи отделяются складки платья и другие подробности; и вообще религиозное уважение, оказываемое церковной утвари, воспитывало вкус и самый глаз в стиле ее работы.
Перечень ограничивается только немногими из древнейших памятниках.
1) Лампы, в катакомбах, с рельефными символическими изображениями Доброго Пастыря, одной или двух рыб, монограммы Иисуса Христа и т. и.
2) Стеклянные сосуды, в катакомбах, употреблявшиеся для сохранения крови мучеников и для вина во время трапезы; особенно последние с рисованными и позолоченными изображениями священных сюжетов. Например, на дне чаши в самой середине в медальоне изображение юного безбородого Христа; а кругом стоящие ногами на ободке медальона 12 Апостолов. Вообще сюжеты на этих памятниках соответствуют живописи на стенах катакомб, в символическом представлении Авраама и Исаака, Моисея, Ионы и других ветхозаветных сюжетов. Изображение Христа в типе Доброго Пастыря господствует. Из святых чаще других встречаются изображения Петра и Павла, но еще не установившие в определенные типы: то оба молодые, безбородые по сторонам молящейся Агнесы или Богородицы, то с одинаковыми бородами; иногда Петр с круглой не большой бородой, а Павел лысый и с длинной раздвоенной бородой.
3) Цилиндрический сосуд, из слоновой кости, первых веков христианства, в Берлинском музее, украшенный превосходными рельефными изображениями: с одной стороны юного Христа, с другой, противоположной – в соответствие Христу – жертвоприношения Исаака, с Ангелом около, в виде античного гения: изображение, важное для истории ангелов в христианском искусстве. Пространство между Христом и жертвоприношением Исаака наполнено Апостолами.
4) Металлические кресты. Между ними по изяществу и древности занимает одно из первых мест крест Галлы Плацидии, 425г., который в последствии, может быть, реставрированный, был подарен Лонгобардским королем Дезидерием его дочери Айсберге, абатиссе монастыря Св. Юлии в Брешии. И доселе в Брешии, в Публичной библиотеке Квириниане. Согласно древнему обычаю, этот крест четырехконечный, и притом все четыре конца равной величины, только книзу протянута небольшая рукоятка, чтоб брать крест в руки для процессий, или вставлять в отверстие (как крест запрестольный). По серебру позолоченный; украшен драгоценными камнями и античными камеями с мифологическими сюжетами. С передней стороны на перекрестии в медальоне довольно грубое изваяние Христа, с бородой, сидящего на престоле (вероятно, позднейшее). Но самое лучшее и, можно сказать – бесценное украшение этого креста составляет стеклянный медальон, вставленный на передней же части у самой рукоятки, с изображениями в золоте и серебре трех фигур почти по пояс: это Галла Плацидия, Гонория и Валентиниан III, портреты, оживленные необыкновенной натуральностью и запечатленные индивидуальностью характеров; работа тщательная и с большим вкусом; техника не оставляет ничего лучшего желать, как в одеяниях, так и в лицах. Это замечательное произведение делал некоторый Грек, Вуннерий, лепщик или гончар, как свидетельствует подпись вверху этих портретов на самом медальоне: Βουννερι κεραμι. По одинаковости изображений этот медальон состоит в сродстве с двумя половинками диптиха, в соборе в Монце, на которых так же изящно изображены портреты Галлы Плацидии, Валентиниана III и Аэция или Бонифация. – Для истории креста необходимо упомянуть о кресте Ватиканском, который согласно с древними мозаиками, украшен в верхней оконечности грудным изображением Христа, а, сверх того – такое же изображение помещено и внизу, как три упомянутые портрета в кресте Брешианском. – Наперсные кресты и тельники были сначала так же четырехконечные и без изображения распятия, как свидетельствует один из самых древних, найденный в могиле в римской базилике Св. Лаврентия за городскими стенами. Кроме латинских надписей, на нем помещена и греческая: Εμμανουηλ (Еммануил).
5) Ковчежец для реликвий, в виде маленького саркофага, четверти в две длиной и в четверть вышиною, из слоновой кости, кругом украшенный отличными рельефами, V века. В Брешии, в Публичной библиотеке Квириниане. Эти рельефы в истории древнехристианского художественного предания важны потому, что отличаются замечательной верностью стилю ранней живописи катакомб. Тот же юный, безбородый тип Спасителя; тот же обнажённый Иона, покоящийся под смоковницей, бросаемый в пасть кита и извергаемый китом; тот же обнаженный Даниил между двумя львами; те же молящиеся фигуры с распростертыми руками и в тех же широких одеяниях. Добрый Пастырь представлен стоящим в дверях овчарни. Впрочем, Страсти Господни получили в этом памятнике уже большее развитие, но все же в стиле древнем, без намеков на страдания, в сценах предания Спасителя Иудой, в отречении Апостола Петра и в приведении Христа к Пилату на суд. По изяществу особенно замечателен рельеф с изображением Евангельского чуда о воскресающей девице. Христос, стоя возле великолепного ее одра, поднимает ее, взяв ее за правую руку. Позади одра стоят группой женщины, выражая своими движениями изумление. Одеяние с полосами, или источниками. Над мелкими рельефами помещено несколько более крупных изображений отдельных фигур, по грудь, в медальонах, на манер саркофагов.
6) Для истории иконописного предания особенную цену имеют стеклянные и металлические пузыри75, для освященного елея, и другая священная утварь, принесенная в дар папой Григорием I Великим Лонгобардской королеве Теуделинде, конца VI в., и поныне сохраняющаяся в ризнице собора в Монце. Греческие надписи на этой утвари свидетельствуют о ее греческом происхождении. Для истории развития иконописных сюжетов особенно важно обратить внимание на изображения распятия, составлявшие существенный вопрос для церковного искусства этого времени. На одном из этих пузырей изображено распятие еще без распятого Христа, а именно: между двумя разбойниками, распятыми на четырехконечных крестах, стоит ни кем не занятый тоже четырехконечный крест, а над ним, в небе между олицетворенными солнцем и лупой, изображен Христос, только по грудь, в сиянии. Перед порожним крестом по обе стороны по коленопреклоненной фигуре. Под крестом гроб Спасителя, в виде храма; по одну его сторону сидит Ангел, по другую – подходят две Мироносицы. На другом пузыре, вместо креста, между распятыми разбойниками, изображен стоящий Спаситель, с распростертыми руками, как молящаяся в катакомбах фигура, образуя таким образом крест посредством членов собственного тела. Так еще робко делало свои попытки церковное искусство на этом, еще новом для него поприще. Впрочем, основываясь на Сирийском Евангелии, мы знаем, что изображения настоящего распятия в иконописи уже существовали; потому неудивительно, что рядом с вышеприведенными намеками на распятие, в той же священной утвари Теуделинды мы встречаем и настоящее распятие, именно на панагии с мощами и на наперсном кресте.
Не имея намерения излагать историю церковной утвари, и касаясь этого важного предмета постольку, на сколько это нужно, чтоб определить его значение в истории иконописного предания, мы должны заметить, что из древних драгоценных изделий этого рода, серебряных и золотых с каменьями, очень мало дошло до наших времен, по причине грабежей и других невзгод и случайностей, которым так легко они подвергались в разные времена. Для нас, русских, особенно важно обстоятельное обозрение утвари в монастырях Афонской Горы, которого наука еще ожидает. Точно также доселе еще не разработаны исторически богатые материалы и по русской церковной утвари, предмет тем более трудный для исследования, что в нем оказываются самые разнообразные влияния. Уже с древнейших времен история указывает как, на восточное, греческое, так и на западное, норманское или немецкое и латинское происхождение изделий этого рода. О греческом происхождении свидетельствуется в летописном известии, что князь Владимир, по крещении, отправившись из Корсуня в Киев, взял с собой «сосуды церковные, иконы на благословенье себе» и «два медных капища». Предание о раннем влиянии Норманском сохранилось в Киево-Печерском Патерике в повествовании Варяга Шимона, или Симона Преподобному Антонию о том, как отец этого Варяга в своей Варяжской земле «содела крест велик зело яко десяти лактий, и на нем изобрази богомужное подобие Христово, и сему честь творя, возложи пояс о чреслех его, имущ пятьдесят гривен злата, и венец злат на главу его. Егда же изгпа мя Якун стрий мой (дядя) от области моея, аз взях пояс с Иисуса и венец с главы его, и слышах глас от образа, иже обратився ко мне и рече: никакоже, человече, венца сего возложи на главу свою, но неси на уготованное ему место, идеже созиждется церковь Матере моея» и проч. Известно, что по измерению этим поясом была определена величина храма Успения Киево-Печерского монастыря, а венец был повешен над жертвенником этой церкви. Еще важнее свидетельство о западном, римском влиянии на церковную утварь на Руси, в XII в., в Житии Антония Римлянина, который, будучи родом из Рима, оттуда же чудесным образом доставил в Новгород в бочке разную церковную утварь, о чем он сам выражается в Житии следующими словами: «сия бочка нашей худости, вдапа морстей воде в Риме сущим, от наших бо грешных рук, вложенное же в бочку: сосуди церковнии, златии и сребрянии и хрустальнии, потири и блюда, и ина многая от священных вещей церковных.... подписи же на сосудех римским языком написани".
Согласно древним свидетельствам, встречается между церковной утварью на Руси, как Византийская, так и Западная. Превосходный образец первой предлагает Византийский серебряный ковчежец, сделанный в XI в. по образцу кивория в храме Св. Мученика Димитрия в Солуне, с изображениями Св. Нестора и Лупа, и Царя Константина Дуки и супруги его Царицы Евдокии (в Ризнице Московского Успенского собора)76. Изделий западных с латинскими и даже с немецкими подписями особенно много было в храмах Новгородской области, где некоторые из них сохранились и доселе. Например: в Никитской церкви в Новгороде: серебряный потир с латинской надписью: Ihesus, а внизу: pro ecclesia S. N. In Luconi. В Антониевом монастыре: серебряная позолоченная лжица с обозначением на внешней стороне года арабскими цифрами: 1234, и с католическими изображениями Богородицы с двумя младенцами – Христом и Иоанном Предтечей, и распятия с тремя гвоздями. В Клопском монастыре: панагия, между прочим, с изображением основателя католического ордена монахов, Доминика, и с латинской над ним надписью: S. Domin. В Ильинской церкви в Новгороде: тоже панагия с изображением Апостола Петра и с латинской надписью: S. Petrus, и мн. др.77 Так как предки наши не приписывали особенного значения месту происхождения церковной утвари и оказывали в этом отношении терпимость, то в определении русского иконописного предания надобно весьма осторожно пользоваться изделиями этого рода церковных древностей, отличая Византийское и Русское от западного, а в русском заимствованное из Греции от подражаний западным изделиям78.
VII. Изображения на металлических церковных вратах, входных, Византийской работы особенного производства, состоявшего в инкрустации (gravé en creux) серебряных или медных полос в бронзовую поверхность врат, особенно господствовавшего в Византии в XI в., и перешедшего и к нам в Россию. Врата с выпуклыми рельефами уже позднее.
1) Врата на правой стороне от главного входа в соборе Св. Марка в Венеции, взятые Венецианцами в 1204 г. из Софийского храма в Константинополе, с изображениями Святых и с греческими надписями. Хотя эти врата и позднее эпохи Юстиниановой, но все же по древности своей занимают первое место и заслуживают особенного специального исследования по своей важности для русского иконописного предания.
2) Во второй половине XI в. для храмов южной Италии было сделано несколько врат в Цареграде, по заказу консула Панталеона. Таковы врата в соборах Амальфи (до 1066 г.) и Атрани (1087 г.), отличающиеся простотой украшений из четырехконечных крестов, стоящих на полукружиях из ветвей, и с немногими фигурами святых, а также Спасителя и Богородицы. Такие же украшения на Цареградских вратах собора в Салерно. На иждивение той же фамилии Панталеонов были сделаны церковные врата для Св. Павла в Риме, для Горы Св. Ангела, для Монте Кассино.
3) Врата базилики Св. Павла, в Риме (вне города), деланные тоже в Цареграде, литейщиком Ставракием в 1070 г., но во время пожара 1823 г. уничтожившиеся, так что мы можем судить об изображениях на них только по снимкам в Даженкуре (у Чиампини они изданы очень небрежно и ошибочно). Изображения эти, с греческими подписями, имеющие предметом Евангельские события и Апостолов и Пророков, согласны с русскими подлинниками. Например, Благовещение на колодце: Богородица стоит задом к водоему, обернувшись к благовествующему Ангелу. Рождество уже сближено с русскими преданиями (см. рис. 4–6). В Крещении с одной стороны Спасителя стоит Иоанн Предтеча, с другой два Ангела; внизу, в воде, какая-то маленькая человеческая фигура, вероятно, воспоминание об олицетворении Иордана, как и в наших лицевых подлинниках. Преображение: фигуры расположены, как принято у нас, и так же Спаситель в ореоле, с широкими полосами сияния, образующими будто четырехконечный крест, еще с двумя перекладинами, соединяющимися в центре перекрестия наискось, так что все эти широкие полосы света составляют как бы звезду из восьми радиусов в круге ореола. Распятие с четырьмя гвоздями, но уже на кресте осложненном вверху дощечкой с известной надписью и внизу подножием, но еще неперекошенным: это восьмиконечный крест в своем зародыше, форма, обязанная своим происхождением в искусстве, очевидно, уже тому позднему времени, когда усилилась потребность в изображении распятия. Распятый Спаситель, не в короне и не в терновом еще венце, а с открытой головою, окруженной сиянием. В снятии со креста Богородица держит Спасителя за руку, тогда как ниже Иосиф Аримафейский извлекает гвоздь из ноги Спасителя. Воскресение (с подписью ἡ ἀνάστασις) в виде сошествия во Ад; под ногами Спасителя верен Ада с ключами, замком и скобками; по одну сторону Адам с Евой, по другую Давид, Соломон и Предтеча. В Вознесении Спасителя Богородица стоит между двумя Ангелами. В Сошествии Св. Духа 12 Апостолов, без Богородицы, сидят кругом, под полукуполом, как в древних миниатюрах, внизу в арке, вместо царственной фигуры Мира, как у нас, – помещены три фигуры, означающие народ, с подписью φυλγλόσε.
4) Врата храма Архангела Михаила на так называемой Горе Св. Ангела (Monte S. Angelo), в Южной Италии, в Капитанате, деланные в Цареграде в 1076 г., с латинскими надписями. Все изображения из Ветхого и Нового Завета – первые на левой половине, а вторые на правой, – имеют предметом чудеса Ангелов, во главе которых чествуются Архангел Гавриил и в особенности Михаил, которому посвящен храм. Потому изображения начинаются сверху, на левой половине врат, Архангелом Михаилом, который, низвергнув Сатану в бездну, стоит над нею на горе в ореоле; по сторонам низвергающиеся демоны: изображение, согласное с миниатюрой в Менологии Императора Василия X–XI в., под 8-м ноября, и столько же, как это, отличное от описания Собора Архистратига Михаила в наших подлинниках, как показано ниже. Последнее изображение на этой половине внизу: Ангел изгоняет Адама и Еву из Рая. Прочие ветхозаветные сюжеты: Ангел Господень побивает 185 человек Ассириян (2Цар.19:35). – Авраам поклоняется троице в образе трех юношей, которые все изображены еще без крыльев, но в сиянии: передний, означающий Христа, отличен сиянием с крестообразным разделением. – Даниил в пещере между львами, в своем персидском костюме, принятом в византийских миниатюрах; Ангел приводит к нему Пророка Аввакума с пищей. – Иаков видит во сне Лествицу с восходящими Ангелами. – Царя Давида обличает Пророк Нафан, позади которого стоит Ангел с мечом. – Ангел повелевает Иисусу Навину изуть сапоги с ног своих. – Единоборство Иакова с ангелом. – Три отрока в пещи и над ними ангел – изящная группа: обычно повторяется и в древней византийской и в русской иконописи. – Ангел отвращает Авраама от принесения Исаака в жертву. – Наконец, как связь Ветхого Завета с Новым – Ангел предвозвещает Захарии о рождении Иоанна Предтечи. – На правой половине врат, события Новозаветные: Ангел возвещает пастырям о Рождестве Христовом. – Ангел повелевает ростбифу в сновидении взять Богородицу и Христа Младенца и бежать с Ними в Египет. – Ангел, сидя на гробе Спасителя, извещает пришедших жен Мироносиц о Его воскресении: прекрасный рисунок, от ранней эпохи сохраняемый и дошедший и до русской иконописи. – Ангел освобождает Апостола Петра из темницы. – Ангел приводит в движение воду в Овчей Купели для исцеления болящих. – Остальные изображения, взятые из легенд и житий святых, не имеют прямого отношения к нашей иконописи.
5) Врата собора в Беневенте, в Южной Италии, 1150–1151 г., хотя с воспоминаниями Византийскими, но и со значительными уже отклонениями. Например, Воскресение представлено по Византийски сошествием в ад и даже с олицетворением ада в виде человеческой фигуры, прикованной на цепи (что напоминает олицетворения Ада в древних греческих рукописях); но в Вознесении Спасителя, уже по позднейшей редакции, отклоняющейся от византийского предания, не достает двух ангелов по сторонам Богородицы.
6) Трое врат в соборах Трани, Равелло, в Южной Италии, и Монреале близ Палермо, последней четверти XII столетия (1174–1179), деланные Баризапом из Трани, под сильным влиянием Византийским; так что хотя вообще над изображениями помещены подписи латинские, но иногда встречаются и греческие. Так например, на вратах Трани, Воскресение Спасителя тоже в виде сошествия в ад, в самом чистом византийском вкусе, напоминающем русскую иконопись, и сверх того с греческой подписью: ἡ ἀνάστασις (воскресение). – Снятие с креста, причем голова Христа свисает направо от зрителя на грудь Богородицы, которая берет Его за руку, а Иосиф Аримафейский по другую сторону выдергивает из ноги Его гвоздь: на перекладине креста греческая надпись: ἡ ἀποκαθήλωσης (снятие).
7) Из памятников этого рода в России особенную важность имеют для истории иконописного предания двое врат храма Рождества Богородицы в Суздале, XIII–XIV (?) (41) в.. На одних изображения из Ветхого Завета, на других – из Нового. Подписи по-славянски, но, вместо святой и святая, по-гречески: агиос и агиа. Переводы рисунков, без сомнения, греческие, во многом удержавшие изящество лучшего древнейшего стиля. Изображения из Ветхого Завета представляют замечательное сходство с вратами храма Архангела Михаила на Горе Св. Ангела, а из Нового Завета – с вратами Св, Павла вне Римских стен, так что эти русские памятники в возможной чистоте сохраняют предания XI в. Замечательно между суздальскими и итальянскими вратами на Горе Св. Ангела то сходство, что на обоих в событиях Ветхого Завета является главным деятелем ангел, и именно Архистратиг Михаил. Но вот перечень самых сюжетов суздальских врат: Архангел Михаил, вспомоществуемый ангелами, низвергает с неба сатану и слуг его: превосходный рисунок, изящнее и полнее, чем на Горе Св. Ангела. – Господь Бог, с крестообразным сиянием Иисуса Христа – творит Адама. – Ангел изгоняет Адама и Еву из Рая. – Архистратиг Михаил научает Адама, рыльцем (т. е. заступом) копая землю, пóтом и трудом питаться: около Адама, копающего землю, сидит Ева с ребенком на руках. Адам и Ева одеты. – Адам, в одеянии, сидя на престоле и постановив ноги на подножие, нарицает имена зверям, благословляя их правой рукой. Позади Адама стоит Ева, одетая в широком одеянии, с покрытой головой. – Авель приносит дар Богу, держа в руках агнца. – Каин убивает Авеля. – Бог явился в троице Аврааму под дубом Мамврийским. Три путника с крыльями; Авраам пал ниц: позади стоит Сарра. – Те же три ангела сидят за столом: у среднего сияние крестообразное, для обозначения в его лице Иисуса Христа; Авраам подносит на блюде яству; Сарры нет. – Иаков в сновидении видит Лествицу с восходящими по ней Ангелами. – «Архангел Господень» (как значится в надписи) борется с Иаковом. – «Архангел» с двумя Ангелами является Лоту, который пал перед ними ниц. – Ангелы пришли поведать Лоту, чтоб бежал из Содома. Ангел потопляет Содом и Гомору. – «Архистратиг Михаил», явившись Иисусу Навину в Иерихоне укрепляет его на брань. – «Архангел Господень Михаил» запрещает Валааму волхву, да не проклинает сынов Израилевых. – Явился Ангел Господень Гедеону, повелевая ему победить Агарян. – Сойдя с небес, «Архангел Господень Михаил» побивает 185 человек Ассириян (слич. на вратах на Горе Св. Ангела). – Царь Давид поклоняется Троице. – Пророк Нафан обличает царя Давида. – Три отрока в пещи; над ними по обычаю Ангел: рисунок отличается от находящегося на вратах храма на Горе Св, Ангела, только тем, что внизу у пещи три фигуры: две по сторонам на коленях, а третья впереди пещи пала ниц. – Архангел восхитил Аввакума с пищей из Иерусалима в Вавилон, да препитает Даниила, находящегося во рву со львами: рисунок одного перевода с Итальянскими вратами, только на Данииле нет фригийской шапки. – «Архангел Господень Михаил» возмущает купель для исцеления болящих (слич. на Горе Св. Ангела). – Наконец, чудо Архистратига Михаила в Хонех. Около стоит Архип. – Из Нового Завета: Зачатие, по восточному догмату: Иоаким и Анна обнимаются. – Введение Богородицы во храм. – Благовещение: Богородица сидит на престоле, поставив ноги на подножие; без веретена и без книги. – Рождество Иисуса Христа (см. рис. 4–6). – Поклонение волхвов. – Крещение Иисуса Христа. – Преображение. – Воскрешение Лазаря. Он спеленут, стоит около гроба, сделанного в виде античного храма, как изображается этот сюжет на саркофагах. – Въезд в Иерусалим. – Распятие. – Мироносицы пришли ко гробу Господню, у которого сидит Ангел: гроб изображен в виде внутренности часовни, со входом под аркой, освященной лампадой, которая спускается с арки над саркофагом: перевод очень замечательный и по изяществу, и особенно по подробностям. – Сошествие в ад, которое в надписи названо, как следует «Воскресением Господним». У Христа в руке длинный жезл в виде шестиконечного креста. – Сошествие Св. Духа: сидят, по обычаю, полукругом 12 Апостолов, без Богородицы; внизу обычная арка, замещаемая то толпой народа, то царственной фигурой Мира, представляет вид затворенной двери, без всяких человеческих фигур. – Успение Богородицы, согласно с русскими подлинниками. – Св. тело Богородицы несут ко гробу. – Положение Св. Ризы. – Положение пояса Богородицы. – Покров Богородицы. – Сверх этих изображений помещены на вратах в медальонах поясные иконы Пророков, Отцов Церкви и других святых, важные для восстановления предания об иконописных типах; между ними же, в медальоне, и икона Спасителя, который левой рукой придерживает Евангелие, а правой благословляет именословно. Наконец, все эти изображения убраны замечательными по чистоте византийского стиля орнаментами. Здесь предлагаются в снимках по итальянским вратам Горы Св. Ангела, деланным в Цареграде в 1076 г. и по суздальским: Низвержение сатаны (рис. 23 и 24), Лестница Иакова (рис. 25 и 26), Даниил во рву (рис. 27 и 28) и Мироносицы у гроба Господня (рис. 29 и 30)79.
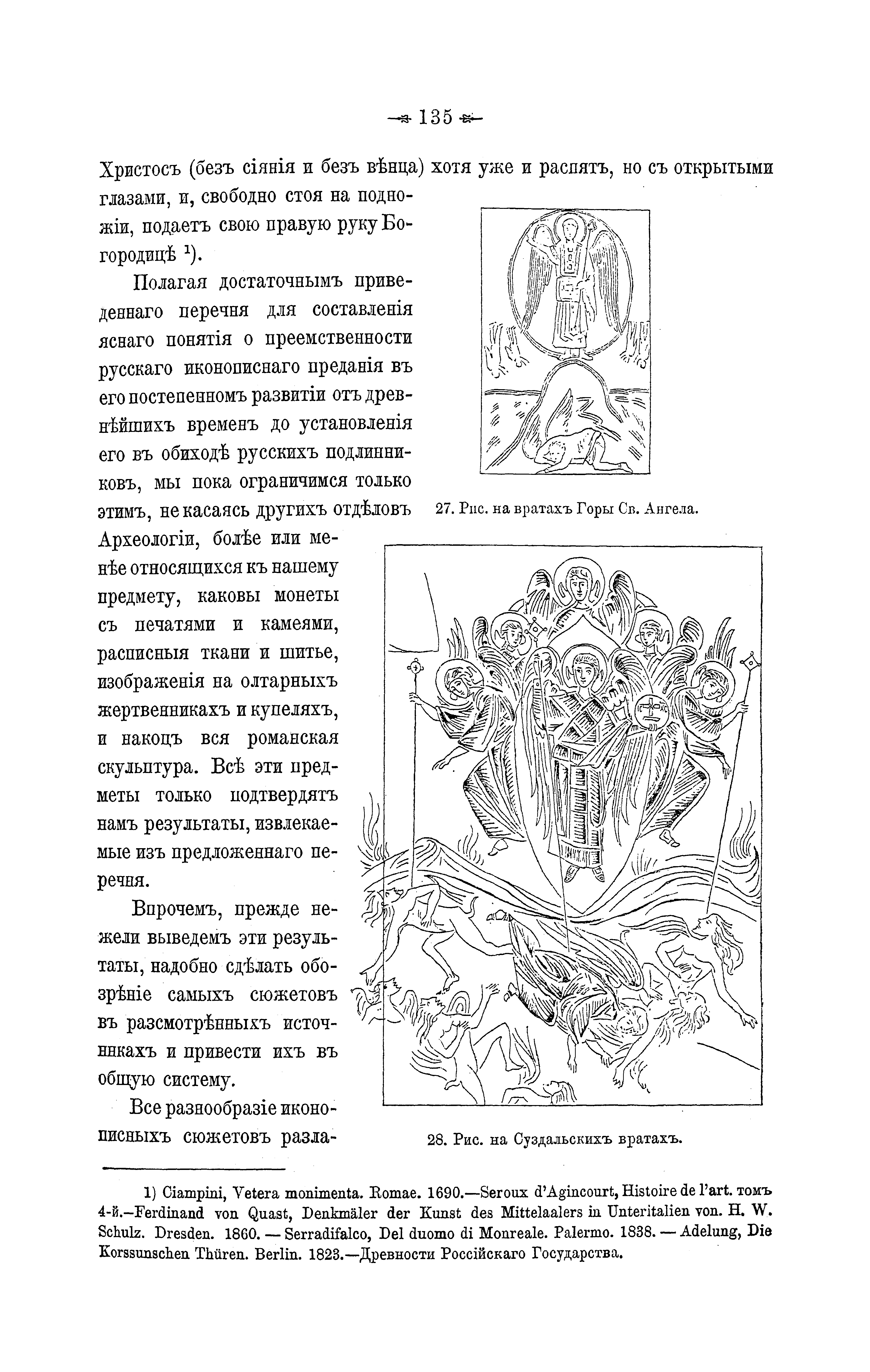
Рис. 23. На вратах Горы Св. Ангела
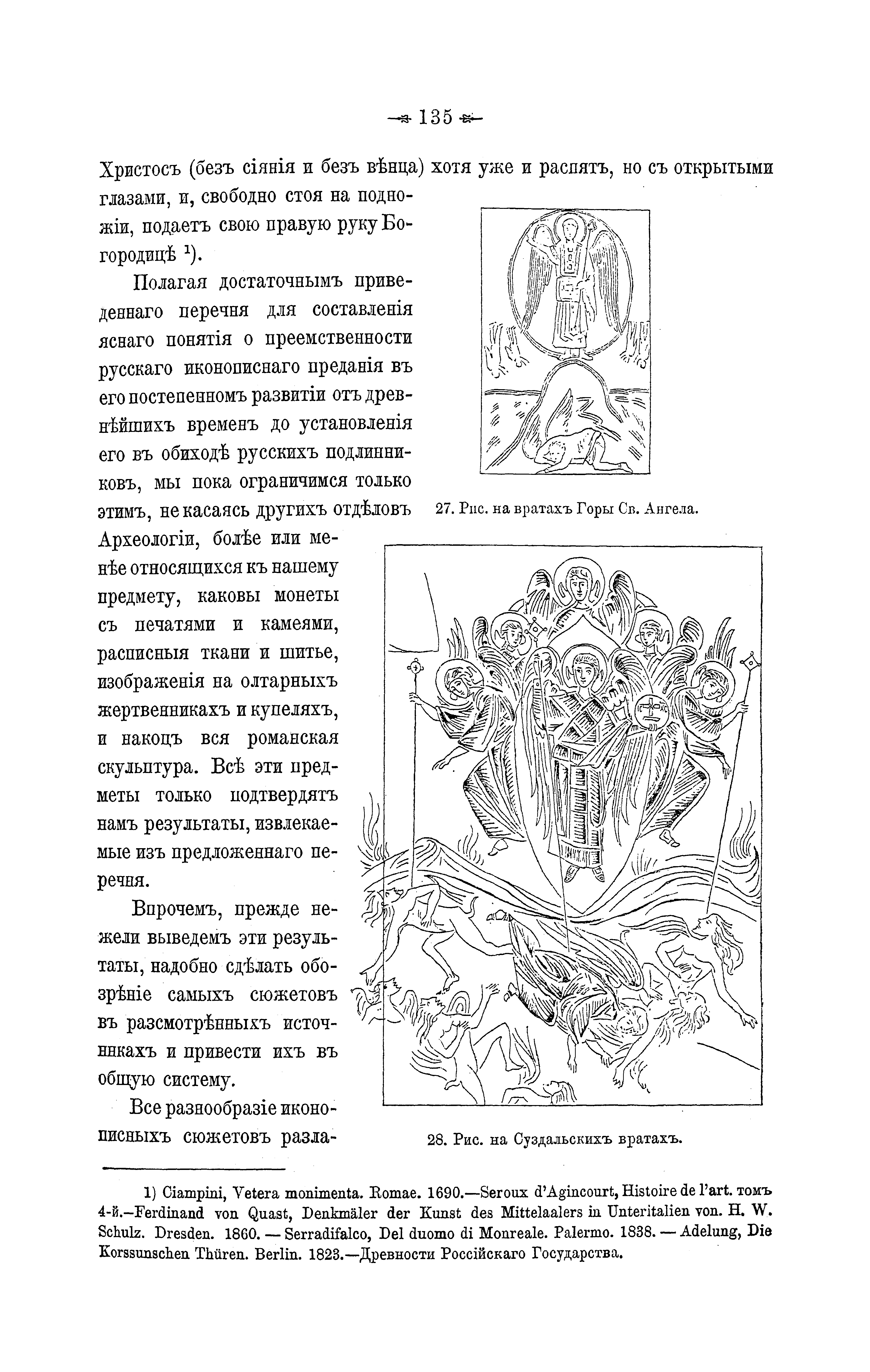
Рис. 24. На Суздальских вратах

Рис. 25. На вратах Горы Св. Ангела

Рис. 26. На Суздальских вратах

Рис. 27. На вратах Горы Св. Ангела

Рис. 28. На Суздальских вратах

Рис. 29. На вратах Горы Св. Ангела

Рис. 30. На Суздальских вратах
8) Решительную противоположность с этими вратами представляют так называемые Корсунские Софийского собора в Новгороде, деланные в Магдебурге во второй половине XII в., и потому отличающиеся столько же католическими отклонениями от иконописного предания, сколько и стилем, уже Романским, воспитанным средневековой скульптурой. Спаситель благословляет сложением перстов католическим. Ангел, благовествующий Богородице, и волхвы, идущие поклониться Христу полагают ноги на каких-то зверей и чудовищ, на образец романских статуй, поставляемых на Звериных фигурах. Ад, в сошествии Спасителя, изображен тоже согласно с романской скульптурой, в виде какой-то бочки (пасть Ада), из которой выглядывают три головки; но уже нет при этом ни Адама с Евой, ни Давида с Соломоном. В изображении Рождества Христова, совершающегося в каком-то здании с зубцами, Богородица лежит на кровати, которая сделана с ножками, а около ее сидит на стуле Иосиф. Замечательнее прочих изображение распятия (четырьмя гвоздями): крест убран ветвями, будто в ознаменование Древа жизни; Христос (без сияния и без венца) хотя уже и распят, но с открытыми глазами, и, свободно стоя на подножии, подает свой правую руку Богородице80.
Полагая достаточным приведенного перечня для составления ясного понятия о преемственности русского иконописного предания в его постепенном развитии от древнейших времен до установления его в обиходе русских подлинников, мы пока ограничимся только этим, не касаясь других отделов Археологии, более или менее относящихся к нашему предмету, каковы монеты с печатями и камеями, расписные ткани и шитье, изображения на алтарных жертвенниках и купелях, и, наконец, вся романская скульптура. Все эти предметы только подтвердят нам результаты, извлекаемые из предложенного перечня.
Впрочем, прежде нежели выведем эти результаты, надобно сделать обозрение самых сюжетов в рассмотренных источниках и привести их в общую систему.
Все разнообразие иконописных сюжетов разлагается на два главные отдела: на символический и исторический. Символическое содержание господствует в искусстве до Константина Великого, и потом более и более уступает свое место историческому, однако, как существенный элемент, навсегда остается в церковном искусстве, и на западе, и особенно у нас.
К формам символическим принадлежат:
1) Мифологические лица античного искусства81. Например, в христианском искусстве первых веков: Орфей, созывающий около себя своей музыкой зверей и птиц (живопись в катакомбах Каллиста), для означения Спасителя; Одиссей, на ладье привязанный к мачте, а около на волнах сирены (на саркофаге из катакомб Каллиста), для обозначения господства креста и страданий над соблазнами мира; похищение Прозерпины на колеснице, предшествуемой Меркурием (живопись в катакомбах Претекстата), для обозначения перехода из здешнего мира в вечность. Аполлон, Диана, Аид, Амфитрита, божества Ветров, Рек и проч., для обозначения солнца, луны, ада, моря, ветра, реки, на мозаиках, миниатюрах, диптихах второго и третьего периода иконописного предания. В русской иконописи: в миниатюрах Псалтырей и Апокалипсисов до XVIII в.; на иконах Богоявления Иордан в виде человеческой фигуры. Сюда же, как остаток мифических представлений античного искусства принадлежат две девицы между историческими личностями на Соборе Богородицы: «Ясли девица держит – значится в подлинниках: пол ее нага (т. е. полунагая), другая девица, пол ее нага, обвилася травою, цветки посторонь».
2) Олицетворения идей и отвлеченных понятий, а также и предметов видимого мира, по примеру античного же искусства, но в последствии и самостоятельно развитые в христианских памятниках. В искусстве первых веков, Добрый Пастырь. На диптихах и особенно на миниатюрах, олицетворение Молитвы, Раскаяния, Премудрости, Пророчества (в Греч. Псалтыри в Парижск. библ. IX–X в.), Пустыни (там же), Городов (в Греч. Иисусе Навине VII–VIII в.) и проч. Сюда принадлежит символический тип Св. Софии, усвоенный в нашей иконописи под видом огненного ангела.
3) Из сочетания линий и букв. Сюда относятся: сияние, или венец святости вокруг головы в отличие от ореола, или сияния вокруг всей фигуры. Крест. Монограмма Христа из сочетания букв X и Р. и т. п.
4) Растения, напр., пальмовая ветвь – символ мученичества, пальмовые деревья между фигурами – рай.
5) Животные. В древнехристианском искусстве; например: Сусанна с двумя стариками под видом лисицы между двумя волками (в катакомбах Св. Сикста, живопись); рыба – символ Христа (см. выше); петел – покаяния, бдения; олень – Крещения; павлин – бессмертия (на Солунской мозаике IV в., в русской рукоп. Изборника Святославова 1073 г.). Другие символы от древнейших времен сохранились в церковном искусстве и доселе; например, агнец – символ непорочной жертвы искупления, голубь – Духа Святого, орел – Евангелиста Иоанна, змий – дьявола.
6) Небывалые животные и вообще изображения фантастические. Например: единорог при девице – символ непорочности (в Греч. Псалтыри г. Лобкова IX в.); феникс – воскресения (на мозаике Космы и Дамиана VI в.). Сюда же относятся символы Евангелистов: именно, или двух из них, Луки и Марка – в виде крылатых Тельца и Льва (на мозаике в усыпальнице Галлы Плацидии V в.), или всех четверых – в так называемом Тетраморфе, в изображении, состоящем из одной фигуры с головами ангела, орла, тельца и льва (в греч. Псалтыри г. Лобкова IX в., на русской иконе Единородный Сын, см. рисунок 2).
Одни из таких символов основаны на Св. Писании, как, например, символы Евангелистов на видении Иезекиеля, символ оленя на Пс.42:1; символ петела на Евангелии об отречении Петра, Мф.26; Мф.74; Мф.75 и проч.; другие на средневековых понятиях о природе, частью заимствованных из классических авторов, частью же развитых впоследствии, согласно с символическими понятиями средних веков, в особенных руководствах, известных в восточной литературе под именем Физиологов, а в западной под именем Бестиариев, с присовокуплением Лапидариев и Травников. Так например, в Физиологе по русской рукописи «Дамаскина Архиерея Студита» и проч. об единороге, или инороге: «Инорог за жестоту и крепость от ловителей неудобь ятися может; аще же едина исходит к нему дева чистая, ту он за чистоту возлюбив, удобь прикосновен ею бывает и осязаем».
В противоположность символическим сюжетам мы называем историческими не только такие, которые заимствованы из Св. Писания и достоверной истории церкви, но и такие, которые, хотя обязаны своим происхождением источникам апокрифическим и поэзии, но имеют вид исторического события. Те и другие сюжеты заимствованы из следующих источников:
1) Из Ветхого Завета, сначала в искусстве первых веков христианства, как символы идей Нового Завета, о чем было сказано выше, но потом – самостоятельно, как исторические сюжеты, помещаемые наряду с сюжетами новозаветными в назидание верующим. Например, на мозаиках Либериевой базилики в Риме V в., соборов в Венеции и Монреале, XI и XII в. Освобождению сюжетов Ветхого Завета от исключительного значения символов, и их самостоятельному развитию особенно способствовали лицевые рукописи Ветхого Завета, каковы: Венская Книга Бытия V в., Ватиканский Иисус Навин VII–VIII в., Лобковская, Барберинская и Парижская Псалтыри IX–X в. и проч.
2) Из Нового Завета, в искусстве первых веков одни только намеки на события, как это объяснено выше; но потом, более и более развиваясь, сюжеты получают свое самостоятельное значение, однако долго не устанавливаются в определенной типической норме, как это можно видеть, например, в изображениях Крещения и Преображения на мозаиках от V до IX в. Разнообразию в развитии новозаветных сюжетов так же, как и ветхозаветных, много способствовали миниатюры.
3) Как скоро внимание сосредоточилось на подробностях в изображениях событий Ветхого и Нового Завета, независимо от символического соотношения между тем и другим, оказалась потребность эти события поэтизировать. Для этой цели особенно послужили искусству книги апокрифические Ветхого и Нового Завета. Уже в барельефах древнейших саркофагов встречаем отклонение от текста Моисеева в изображении Адама и Евы, которым Господь Бог дает сноп жита и ягненка; влияние новозаветных апокрифов видим, например, в VI в, в изображении Благовещения на колодце на Миланском диптихе; в IX в. в миниатюрах – сошествие в ад, при чем Спаситель извлекает оттуда Адама и Еву, Давида и Соломона и Иоанна Предтечу. К XII в., кажется, определился весь цикл сюжетов, принятых из апокрифов в иконопись. Лицевые апокрифы, т. е. рукописи с миниатюрами, способствовали распространению и укоренению в нашей иконописи этих сюжетов. Например: Палея, апокриф Ветхого Завета, с миниатюрами, писан в Новгороде, в 1477 г. (в Синодальной библ. № 210); Лицевая Библия, с апокрифическими сюжетами XVII в. (в библ. гр. Уварова, № 34); в конце XVII и в XVIII в. особенно распространены были у нас лицевые Страсти Господни, апокриф с миниатюрами, а потом с гравюрами, замечательными по своему изяществу, и очевидно составленными по образу западных.
Для общего обозрения апокрифических изображении предлагается здесь краткий перечень важнейших из новозаветных, вошедших в иконопись из так называемого «Евангелия о Рождестве Богородицы», из «Протоевангелия Иакова Младшего», из «Сказания о Рождестве Богородицы и о детстве Иисуса Христа», из «Евангелия Никодима» и т. п.82
– Из жития Иоакима и Анны, родителей Богородицы. Анна перед птичьим гнездом, скорбящая о своем неплодстве, получает благовестие от Ангела о рождении от нее Богородицы (на фреске в Киево-Софийском соборе).
– Иоаким и Анна, встретившись у златых врат Иерусалима, обнимаются. В русском подлиннике, согласно с древнейшими изображениями на западе.
– Ангел приносит из Рая пищу и питие Деве Марии в иерусалимском храме (на панагие XII в. на Афонской Горе, со славянскими подписями).
– Благовещение на колодце (на диптихе VI в, на вратах Св. Павла вне римских стен XI в.; на фреске Киево-Софийск. собора). В рус. подлиннике.
– При Рождестве Христове две женщины, омывающие предвечного Младенца в купели (на Ватиканск. диптихе IX в., на вратах Св. Павла вне Римских стен XI в., на вратах Суздальских). В рус. подлиннике.
– Спаситель, сойдя во ад, извлекает оттуда Адама с Евой и праведников Ветхозаветных (на миниатюрах IX и X в., на вратах Св. Павла XI в., на алтарном украшении в храме Св. Марка в Венеции, Pala d’oro XI–XII в., на вратах Равелло XII в. и проч.). Постоянно на русских иконах.
– Апостолы прилетают на облаках, чтобы присутствовать при Успении Богородицы. Перевод в русской иконописи, известный под именем «Успения на Облаках».
– Успение Богородицы. Между собравшимися Апостолами, позади одра Богородицы, стоит Спаситель, держа в руках ее душу. Впереди Архангел Михаил отсекает руки у неверующего иудейского жреца (на Миниатюрах IX–X в.) В рус. подлиннике.
Любопытное собрание апокрифических изображений помещено на клеймах вокруг иконы Успения Богородицы в главном иконостасе Софийского собора в Новгороде83.
4) Из Житий Святых, и притом сначала только отдельно самые личности священные: мучеников в живописи катакомб; мучеников, отцов церкви и других святых на мозаиках; потом самые деяния Святых и мучения Мучеников; напр., деяния царя Константина на миниатюрах греческой рукописи Григория Богослова IX в., равно как и деяния этого Отца Церкви (в Парижск. библ.); деяния Климента Папы Римского и Кирилла Первоучителя Славянского на фресках подземной церкви под базиликой Св. Климента в Риме X–XI в.; Мучения Св. Мучеников, начиная с X в., в Менологии Императора Василия и в рукописи Синодальной Библиотеки в Москве, X–XI в.
5) Из Хронографов, разных сказаний и назидательных сочинений. Например:
– Из Хронографов; напр., Семь Вселенских Соборов, описания которых помещаются в Подлинниках под 16 июля и 11 Октября. – Под царствованием Льва Исавра, описание события, вошедшего эпизодически в изображении Страшного Суда: «В то же время в Цареграде человек богат милостыню многу творя, а от прелюбодеяния до старости не преста. И внезапу умре. И распри бывши о сем: ови глаголаху: спасена того быти, ови же – ни. И открыся единому затворнику, виде на единой стране рай красен, а на другой стране родство огненное (т. е. ад), и мужа того стояща промежю рая и муки, и на рай взирающа и стенюща».
– Из «Лествицы Божественного восхода» Иоанна Лествичника, в наших подлинниках, под 30 Марта, так описывается изображение этой мистической Лествицы: «Лествица стоит на небо, а по ней лезут два старца, а ангелы их держат; един старт, аки Власий, а другий млад, а Христос им подает венцы, а правой рукой благословляет. А кой старец с Лествицы спал, и беси влекут крюками во ад» и т. д. Затем следуют имена 30 ступеням Лествицы: о отвержении мира, о беспристрастии, о странничестве, о послушании и т. п.
– Из сказания об Андрее Юродивом, его и Епифаново видение Покрова Пресвятой Богородицы во Влахернском храме (гл. 58). Потому в описании этого праздника под 1 числом Октября, в наших подлинниках встречаем: «По левой руке амвона стоит Андрей Юродивый, власы его аки Авраамовы; выплечася, правой рукой указывает Епифану Святую Богородицу. Епифан млад аки Георгий» и проч.
Дальнейшее осложнение иконописного содержания в Русских Подлинниках произошло из источников своеземных, то есть, из Русских летописей, житейников и церковных сказаний.
Теперь все многосложные исследования на обширном поприще русского иконописного предания надобно привести к общему итогу.
Из систематически проведенного сличения русского иконописного содержания с памятниками христианского искусства от времен Св. Мучеников и до XI и XII столетий, явствует, что оно, хотя и восходит своими преданиями до древнейших источников, но непосредственно ведет свое начало от той эпохи, когда, вследствие иконоборчества, окончательно установились типы и сюжеты иконописного цикла. Впрочем удержало оно в своем составе некоторые из древнехристианских символов, каковы, например, олицетворения моря, рек, земли и т. п., а также и отвлеченных понятий, и притом больше в миниатюрах, нежели в собственных иконах. Так в одной русской рукописи XVI в., в Троицко-Сергиевой Лавре (№ 177) между изображениями месяцев удержался древнехристианский тип Доброго Пастыря, с барашком на плечах (месяц Апрель)84. К символическим сюжетам на иконах принадлежат: Св. София, Крылатый Предтеча, Св. Христофор с песьей головой; на иконе Собор Пресвятой Богородицы, олицетворения Земли и Пустыни в виде девиц; на иконе Крещения Господня – древнехристианское представление Иордана в виде старца и нек. друг. Несмотря на эти остатки древнехристианской символики, Византийско-Русское искусство, рано усвоив себе направление историческое, старалось воздерживаться от дальнейшего развития символизма, предпочитая изображение божества по человеческому подобию – символическим знакам, в силу 82 правила VI Вселенского Собора: «На некоторых честных иконах изображается, перстом Предтечевым показуемый агнец, который принят во образ благодати, чрез закон показуя нам истинного агнца, Христа Бога нашего. Почитая древние образцы и сени, преданные Церкви, как знамения и предначертания истины, мы предпочитаем благодать и истину, приемля оную, яко исполнение закона. Сего ради дабы и искусством живописания очам всех представляемо было совершенное, повелеваем отныне образ агнца, вземлющего грехи мира, Христа Бога нашего, на иконах представляти по человеческому естеству, вместо ветхого агнца, да чрез то созерцая смирение Бога слова, приводимся к воспоминанию Жития Его во плоти, Его страдания, и спасительные смерти, и сим образом совершившегося искупления мира».
Таким образом, отвергнув символические на Божество намеки, наша иконопись должна была усвоить себе принцип об определенном типе Спасителя, принцип, распространенный потом и на прочие святые личности, а вместе с тем дать обширное развитие изображениям Евангельских событий, имеющих свое историческое значение, независимое от символических толкований.
Мы видели, что в течение столетий искусство пробовало свои силы, чтобы в наибольшей точности выразить иконописные сюжеты и долгое время их представляло не одинаково, с разными вариантами, как например, Преображение. Русская иконопись берет точкой отправления для своего предания тот момент, когда все эти разноречия приведены были в ясность и сгладились под общей нормой однажды навсегда установившихся иконописных сюжетов. Так, например, три неземные путника, прообразовавшие Аврааму Троицу, многие века писались без крыльев, но в нашу иконопись введены уже тогда, когда получили свой окончательный тип крылатых ангелов. Отвергнув предшествовавшие представления Преображения, как не согласные ни с историческим принципом, ни с свидетельством Евангелия, она остановилась на таком представлении, которое удовлетворяло и тому и другому.
Впрочем, и после периода иконоборчества, замечаются в Восточном искусстве разности в изображении одного и того же сюжета, как это мы видели из сличения наших подлинников с Менологием Императора Василия X–XI в.; так что установившуюся норму в одинаковом изображении иконописных сюжетов надобно признать не столько в действительности, сколько в идеальном стремлении Восточного искусства к этой норме. Следовательно, свидетельство наших подлинников о том, что русская иконопись основывается на иконах Софии Константинопольской VI в. и на миниатюрах Менологии Императора Василия, надобно ограничить значительными исключениями.
Потому следы разноречий, которые предшествовавшие века не успели сгладить, остались и в русских подлинниках. Например: троякое изображение Благовещения; Крещение Спасителя с Иорданом в виде человеческой фигуры и без нее, с четырьмя рыбами и без них. Точно так же, не оскорбляя иконописного предания, в наш подлинник можно бы ввести разноречия из греческого Менология и из других лучших византийских источников.
Равным образом и относительно костюма, при общем сходстве, замечаются в пашем иконописном цикле бесчисленные отклонения от источников. В этом деле исправление наших подлинников может быть совершено без всякого ущерба церковным преданиям, и тем более потому, что оно только восстановит забытое или поправит , испорченное, не внося никакой новизны85.
В рассуждении этого предмета не должно выпускать из виду того факта, что иконописные сюжеты развивались постепенно в течение многих веков; потому иконописные источники не передают в точности костюма, современного изображаемым событиям. Иконописный костюм есть более условный, составившийся из обычаев эпохи значительно позднейшей (около VI в.), с примесью ранних преданий.
Относительно изучения общего цикла сюжетов христианского искусства, наша иконопись имеет высокое значение в двояком смысле. Во первых, по своим подлинникам она предлагает ту норму, которой было заключено христианское искусство в своем первоначальном развитии, вполне соответствовавшем идее Церкви до разделения ее на Восточную и Западную. Во вторых, наша иконопись обогащает цикл христианского искусства многими сюжетами, которые должны быть введены в общие обозрения и учебники этого предмета, во множестве издаваемые в настоящее время на Западе. Чуждые произвольных нововведений и вымыслов фантазии, эти сюжеты состоят из общепринятых и давно установившихся элементов, но дают им новый вид, так сказать, в архитектоническом их сочетании, как это можно видеть из приложенных снимков с икон (рис. 1 и 2): «Единородный Сын» и «Почи Бог». Эти иконописные сюжеты – не иное что, как перевод церковных молитв и стихов на язык живописи: это лицевые молитвы, лицевая церковная служба. Например: Верую во единого Бога; Достойно есть яко во истину; О Тебе радуется Обрадованная; Хвалите Господа с небес; Величит душа моя Господа и т. п.
Некоторые из характеристических сюжетов нашей иконописи уже обратили на себя внимание западных ученых, например: Единородный Сына в известном сочинении Даженкура, Св. София Премудрость Божия в издании Мартена и Кайе86. В пример оригинального сюжета Восточной, греко-русской иконописи прилагается здесь снимок с иконописного рисунка XVII в., изображающего Иоанна Предтечу Крылатого (рис. 31). Дидрон в своей «Христианской Иконографии», хотя и поместил подобный же рисунок, с фрески греческого монастыря Кайсариани, но он отличается от помещенного здесь важной подробностью87. На греческой фреске Предтеча держит свой голову, на нашем рисунке – агнца во образе Предвечного Младенца, в чаше. В русской иконописи распространены одинаково оба эти перевода, как в древней живописи Новгородской88 и Московской, так и в позднейшей, сельской89. В основание крылатому типу Предтечи наша иконопись принимает Евангельский текст: «Яко же писано во пророцех: с аз посылаю Ангела моего пред лицем твоим, иже уготовит путь твой пред тобою» Мк.1:2. Так как в деяниях Предтечи, то есть, в Крещении и в других событиях его жизни, этот тип не употребляется, и пишется Предтеча обыкновенно без крыльев; и так как Крылатый Предтеча изображается, ни в символической иконе Софии Премудрости, или по одну сторону Спасителя, восседающего на престоле в небесной славе, и имеющего по другую сторону предстоящую Богородицу, в иконе «Предста Царица одесную», или наконец, является он крылатым, когда изображается отдельно в иконостасе или на металлических складнях; то этот крылатый тип должен означать Иоанна Предтечу, уже не как лицо историческое, а как священный идеал, вознесенный из здешнего жития в горний мир, существо небесное, ангельское. Потому, не подчиняясь законам природы, он имеет две головы: одна на нем, другую держит он в сосуде или на блюде в руке; или же, как лицо символическое, имеет в чаше агнца, в виде Предвечного Младенца.

Рис. 31. Св. Иоанн Предтеча (рисунок XVII века)
Христианское искусство давало крылья и другим библейским личностям. Так изображен Евангелист Матфей на мозаике Св. Павла вне Римских стен; так же писан в Чешской Лицевой библии (в библ. князя Лобковица, в Праге) ХII в. Енох в виде дряхлого старца с крыльями, в тот момент, когда Господь Бог берет его живым на небо. И доселе наши иконописцы пишут с крыльями Илию Пророка и некоторых святых Девственников, в ознаменование их девственности90. – Также встречается в искусстве изображение Мучеников и с двумя головами, то есть, с одной на плечах, в естественном положении, и с другой в руках; например, итальянский живописец Спинелло Аретино, XIV в., так представил Св. Мученицу Луциллу91.
В заключение о сравнительно-историческом методе изучения нашей иконописи надобно упомянуть, что этот метод удобнее всяких богословских состязаний может служить к соглашению между направлением старообрядческим и православным.
Мы видели, как просто и наглядно решаются вопросы о четырехконечном кресте и благословляющем сложении перстов.
Не подлежит ни малейшему сомнению, что четырехконечный крест многими столетиями предшествует в церковном искусстве кресту восьмиконечному. Четырехконечный встречается еще в памятниках, предшествующих времени Царя Константина (то есть, до IV в.), и затем господствует при Константине и в следующих столетиях. Что же касается до креста восьмиконечного, то он обязан своим происхождением в искусстве изображениям крестной смерти Спасителя, которые стали слагаться значительно позднее многих других Евангельских изображений. Но и Распятие сначала представлялось на четырехконечном кресте [даже до IX в.]. Сверх того, нижняя поперечина креста, означающая подножие Распятого, сначала не была такой длины, как стали ее делать впоследствии, и притом она полагалась прямо, горизонтально, а не наискось, как принято теперь в восьмиконечном кресте.
Итак, кто хочет предпочитать восьмиконечный крест четырехконечному, может иметь какие бы то ни было соображения, только не свидетельства христианской древности. Кто же признает одинаковый авторитет за обеими формами креста, тот будет согласоваться с историей иконописного предания.
Благословляющая десница в сложении перстов, как мы видели, представляет большее разнообразие. Распростертая длань, как кажется, предшествует сложению перстов. Затем является, в незначительном промежутке времени, сложение именословное, католическое и старообрядческое. Но не подлежит сомнению, что в VI в., во времена Юстиниана, в Греции уже господствует сложение именословное, что явствует из мозаики в Св. Софии Константинопольской; между тем как на Римской мозаике храма Космы и Дамиана, того же века, Христос благословляет распростертой дланью, не слагая перстов; а на греческих миниатюрах Пророков того же времени (в Турине) Иоиль благословляет именословно, Михей же – слагая персты по обычаю, впоследствии принятому на Руси старообрядцами.
* * *
Примечания
По гречески рыба – ἰχθύς – состоит по учению того времени из начальных букв текста: Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ ὑιὸς σωτὴρ – т. е Иисус Христос Бога сын Спаситель.
Münter, Sinnbilder und Kunstvorstellungen der alten Christen. Altona, 1825. – Piper, Mythologie u. Symbolik d. christ. kunst. Weimar, 1847–1851. – Piper, Ueber den christlichen Bilderkreis. Berlin, 1852. – Didron, Iconographie Chrétienne. Histoire de Dieu. Paris, 1843. – Twining, Symbols and emblems of early and med. christ. art. London, 1852. – Martigny, Dictionaire des Antiquités Chrétiennes. Paris, 1864.
Kugler Handbuch d. Geschichte d. Malerei. 1847. I, 64. – Conciliorum collectio regia maxima. Paris, 1714. Tom. IV. Col. 360.
Bosio, Roma sotteranea. Roma, 1632. Aringhi, Roma subterranea. Romae, 1651–1659. – Bottari, Sculture epitture sagre estratte dai cimiteri di Roma. Roma, 1733–1754. – Perret, Les catacombes de Rome. Paris, 1851. – Marchi, I monumenti delle arti primitive nella metropoli del Christianesimo. Roma, 18». – Mich. De Rossi, Roma sotterranea cristiana. Roma, 1863. – Bat. De Rossi, Bulletino di Archeologia christiana, Roma.
Издается здесь по снимку в атласе к сочинению Garrucci, Storia dell’arte V, tav. 324, 2, сравнительно более точному, чем гравюра, воспроизведенная по Боттари при этом сочинении Ф. И. Буслаева в «Сборнике Общ. др. рус. иск.». Прим. ред.
Кроме указанных изданий Бозио, Аринги, Боттари: Allegranza, Spiegazione e reflessioni sopra alcuni sacri monumenti antichi di Milano. Milano, 1757. – Ferrario, Monumenti sacri e profani dell’imperiale e reale basilica di Sant’Ambrogio di Milano. Milano, 1824. – Millin, Voyages dans les départements du midi de la France. Paris, 1807–1811.
Впрочем, сиянием обозначалось не одно святое, но и все важное, как то: цари и властители, олицетворения идей и ответственных понятий и т. п. В скульптуре же сияние отсутствует иногда и в значительно позднейших памятниках.
Как исключения, встречаются мозаики и в катакомбах. См. Снимки в издании Перре.
De imaginibus кн. I, в изд. Парижском 1712, т. I, стр. 631. – Glückseling, Christus Archäologie. Prag, 1862. Стр. 82 и след.
В подлиннике: «на концах вьющиеся».
В подлиннике: «не без перерыва», т. е. не сросшиеся, как значится у Иоанна Дамаскина.
О Давиде в подл. нет.
Темно переложено. В подл. «шея несколько нагнута, отчего он не совсем прямо держится». Согласно с Иоанном Дамаскиным.
В подл. «цвета пшеницы» как свидетельствует и Иоанн Дамаскин.
Переложено темно и текст испорчен. В подл. напротив того: «лицо не округло, но как у его Матери, продолговато, несколько спущено вниз (мало сходящее) и нежно румянящееся».
В подл. «с подъятым носом».
О раздвоенной бороде в подл. нет.
Продолговато, как значится в предыдущем примечании.
В подл. «capillos vero circinos et crispos aliquantum caeruliores et fulgentiores».
В рукоп. "тело светлое»; но в подл. «frontem planam et serenissimam».
Дурно переведено. В подл. «cum facie sine ruga ac macula aliqua».
Didron, Manuel d’Iconogr. chrét. Стр.452 и след. Последняя подробность о одежде Богородицы, заимствованная у Пресвитера Никифора, встречается и в русских подлинниках.
Сочинения о мозаиках: Giampini, Vetera monimenta, in quibus praecipue musiva opera, sacrarum profanarumque aedium structura, ac nonnulli antiqui ritus dissertationibus iconibusque illustrantur. Romae, 1690–1693. – Salzenberg, Altchrisliche Baudenkmale von Constantinopel. Berlin, 1854. – Texier, L’Architecture Byzantine. Londres, 1864. – Bunsen, Die Basiliken des christlichen Roms. München, 1842. – Quast, Die altchristliche Bauwerke von Ravenna. Berlin, 1842. – Ferrario, Monumenti sacri e profani dell’imperiale e reale basilica di Sant Ambrogio. Milano, 1824. – Duca di Serradifalco, Del Duomo di Monreale e di altre chiese siculo-normanne. Palermo, 1838. – Seroux d’Agincourt, Histoire de l’art, т. 5. – Прохорова, Христианские древности. – Сементовского, Киев. Киев, 1864.
В том же отношении заслуживает внимания и латинская рукопись Виргилия с миниатюрами IV или V в. В Ватиканской библиотеке.
См. статью покойного В. М. Ундольского.
По указаниям членов Общества Древнерусского Искусства, гг. Севастьянова и Виноградского.
Кроме описания самих библиотек, о миниатюрах смотр. Seroux d’Agincourt, Histoire de Part, т. 5. – Waagen, Kunstwerke und Künstler in England und Paris. 1839. – Annibalis tit. S. Clementis presbyteri card. Albani, Menologium Graecorum. Urbini, 1727. – Издания с рукописей Московской Синодальной библиотеки, предпринятые Московским Публичным Музеем. – Журнал г. Прохорова: Христианские Древности. – Для позднейших русских миниатюр мои Очерки.
Специальное сочинение о диптихах: Gori, Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum. Florentiae, 1759. – Описание слепков с диптихов в Арунделевом собрании, изданное Дидроном: Société d’Arundel. Prospectus. Paris. – На русском языке: об одном древнем диптихе, статья гр. Уварова в 1-м выпуске Древностей Московского Археологич. Общества. – Филимонова об окладе Мстиславова Евангелия в Чтениях Общества Истории и Древн. Рос.
Ныне называемые по-старому ампулы. Прим. ред.
Срезневского, Древний Византийский ковчежец, в журнале г. Прохорова: «Христианские Древности».
Макария Археологич. описание церковных древностей в Новгороде и пр. 1860, II, стр. 200, 218, 219 и проч.
Некоторые из пособий для этого оклада: кроме указанных сочинений о катакомбах: Filippo Buonarrotti, Osservazioni sopra alcuni frammenti di vasi antichi di vetro… ne’Cimiteri di Roma. Firenze, 1716. – Garicci, Vetri ornati di figure in oro trovati nei cimiteri dei Cristiani primitivi di Roma. Roma, 1858 и 1864. – Odorici, Antichità Cristiane di Brescia. Brescia, 1845. – Martigny, Dictionnaire des Antiquités chrétiennes. Paris, 1865. – Otte, Handbuch der Kirchlichen Kunst – Archäologie. 4-е изд. 1863. – Дидрона, Annales archéologiques. – Древности Российского государства. – Преосвященного Саввы, Патриаршая Ризница. Москва, 1864.
Итальянские рисунки из издания Шульца и Кваста, а Русские со снимков в Строгановской школе технического рисования. На наших рисунках латинские надписи Итальянских врат, как не нужные для нашей цели обозначены черточками.
Ciampini, Vetera monimenta. Romae, 1690. – Seroux d’Agincourt, Histoire de l’art. Том 4-й. – Ferdinand von Quast, Denkmäler der Kunst des Mittelaalers in Unteritalien von. H. W. Schulz. Dresden, 1860. – Serradifalco, Del duomo di Monreale. Palermo, 1838. – Adelung, Die Korssunschen Thüren. Berlin, 1823. – Древности Российского Государства.
Piper, Mythologie und Symbolik. d. Christlich. Kunst. Weimar, 1847–1851.
Fabricius, Codex apocryph. Novi Testamenti. Hamburgi, 1719. – Hofmann, Leben Jesu nach Apokryphen. Leipzig, 1851. – Kolloff, Der evangelische Sagenkreis, в Раумеровом Historisches Taschenbuch. 1860.
Архим. Макария, Археол. опис. церк. др. в Новг. II, 102.
Снимок см. у Тихомирова, Памятники отреченной русской литературы. II, стр. 415.
Weiss, Kostümkunde. Stuttgart, 1862–1864. Русский и вообще славянский отдел обработан слабо, неполно и ошибочно.
Martin et Cahier, Mélanges d’archéologie.
Histoire de Dieu. Paris, 1843, стр. 72. См. также: Paulli M. Paciaudii, De cultu S. Iohannis Baptistae antiquitatis christianae. Romae, 1755, стр. 192 и след.
Архим. Макария, там же. II, 113–118.
Член Сотрудник Общества Древнерусского Искусства г. Сафонов, иконописец из Палеха, уведомляет в своей корреспонденции в Общество, что Палеховские иконописцы доселе на том же основании пишут Крылатого Предтечу, ссылаясь при этом на какие-то греческие образцы.
Сообщено тем же Палеховским иконописцем А. Л. Сафоновым.
В Кельнском Музее, Итальянское собрание Рамбу, № 83.
