Глава 11. 1800–1804
1. Лжебрат Феодорит
...Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него...651
Апостол Павел
Годы яко сень преходят652, и убо образом ходит человек, обаче всуе мятется653. Святой Никодим был поглощен изданием своего «Пидалиона», который он доверил иеромонаху Феодориту. Феодорит был Лавриот654, и на некоторое время стал игуменом святогорской обители Эсфигмен, а затем проводил безмолвную жизнь в окрестностях Лавры. Он принадлежал к числу образованных людей своего времени и как преподобный Никодим, Христофор Продромит, Онуфрий Кондуроглу, Кирилл Кастанофиллис, Иосиф Ватопедский и другие составлял уникальную аристократию духа на Святой Горе.
В период споров Феодорит, хотя и был человеком благоговейным, выступил против консервативных взглядов преподобного Никодима, Макария Коринфского, Афанасия Паросского и других по вопросу о постоянном Божественном Причащении и поминовении усопших. Впрочем, как представляется, сам факт возложения на Феодорита обязанностей по надзору над изданием «Пидалиона» говорит о том, что, несмотря на различные противоречия, он оставался в братских отношениях с Никодимом Святогорцем. Тогда становится понятным определение Феодорита (данное ему Евфимием) как «лжебрата», то есть брата неискреннего, когда «Пидалион» был прислан из Лейпцига искаженным.
Во всяком случае, преподобный Никодим мог чувствовать себя в долгу перед Феодоритом в связи с подъятыми им заботами по напечатанию «Пидалиона». Феодорит признавал духовное превосходство и великую ученость Никодима, что подтверждается также одним письмом Хрисанфа Лавриота к Феодориту, в котором говорится следующее: «Во время болезни учителя Кирилла, я нашел ученых кир Никодима, кир Христофора и других. Я дал толкование на Апокалипсис Никодиму, который сказал: «Я в долгу у брата Феодорита, и, конечно, приложу все мои силы, чтобы рассмотреть все толкование, хоть я и недостоин» ...». Письмо помечено датой 15.9.1799, то есть годом ранее издания «Пидалиона». Между прочим отметим, что толкование на Апокалипсис, написанное Феодоритом, было признано Великой Христовой Церковью противным православному учению, а его распространение – запрещено. Поэтому очень сомнительно, чтобы преподобный Никодим мог поощрить это издание. Феодорит был человеком благоговейным, но имел слабость к видениям, снам, «откровениям» и рискованным аллегорическим и символическим толкованиям. Характерен рассказ о Феодорите, записанный Мануилом Гедеоном: «Но еще более известен в ту эпоху и своими знаниями, и свободным владением ими был архимандрит Феодорит, уроженец известного своею любовью к наукам града Янины. Трудолюбивый муж, но неспокойного нрава, обладавший основательным образованием во внешней премудрости и, как мне кажется, достойный многих похвал как человек, обошедший афонские обители и изучивший хранящиеся в них древние рукописи и исследовавший историю Святой Горы. Рассказывают, что однажды грабители, не найдя в его келье денег, унесли с собой многие рукописи Феодорита, и тот, разгневанный обрушившимся на него несчастьем, бросил в огонь и те, что остались...».
Во всяком случае, вне зависимости от того, думал ли Феодорит так или иначе, он не должен был решиться на внесение каких бы то ни было перемен в чужой труд, и тем более вносить те свои положения, которые долгие годы были объектом нападок, и противоречили суждениям преподобного Никодима. Между тем, Феодорит, занимавшийся изданием «Пидалиона», счел, что настало удобное время для того, чтобы внести туда свои заблуждения и тем самым сделать бесполезным громадный труд святого отца. Он, «явив свое коварство», самовольно внес в книгу такие добавления, которые позволяли поставить под сомнение состоятельность «Пидалиона» в качестве носителя подлинного учения Церкви. Потому и патриарх Неофит 7 два года спустя писал: «...эти добавления были закрашены с тем, чтобы не было смешано подлинное с подложным и не испортило эту благородную книгу, и вместо пользы не причинило читателям ее немалый вред – и телесный, и душевный».
Искажения Феодорита были указаны самим патриархом, который повелел скрыть их под краской, «чтобы они не испортили эту благородную книгу». Вот их перечисление: «1) (Феодорит) в добавлениях говорит, что Господь наш Иисус Христос воскрес в субботу; 2) что надобно преклонять колена в день воскресный и в самый главный день Пятидесятницы; 3) что суббота обладает теми же преимуществами, что и воскресенье, поскольку она также есть образ Воскресения; 4) (Феодорит) неким софистическим образом возобновляет старые смуты, бывшие на Святой Горе по поводу поминовений, которые благодатию Христовой сейчас утихли, в то время как Святая Христова Церковь, заботясь о мире между монахами, тремя Соборными посланиями под угрозою страшных клятв запретила кому бы то ни было писать об этом; 5) он обвиняет Типиконы Святой Горы, как несогласные и противные общему Типикону, которые на самом деле не противны Типикону, но скорее разъясняют и излагают пространнее то, что неясно и кратко изложено в общем Типиконе; 6) то, что содержится в этих добавлениях, попросту противоречит правилам святых Вселенских и Поместных Соборов и Преданиям Христовой Церкви; 7) и последнее, вседерзостный (Феодорит) решился написать в этой книге, там, где речь идет об антихристе, такое страшное и дерзостное слово, что мы боимся не только предать его писанию, но даже произнести его вслух, из-за опасности и великой нелепости оного; сами же эти добавления находятся в книге на следующих страницах: 96, 104, 141, 167, 183, 184, 203, 204, 212, 300, 383, 399, 449, 502, 504, 533, 548, 549. И если кто-то из купивших где-либо эту каноническую книгу желает удалить из нее названные подложные дополнения и исправить свою книгу, пусть найдет номера указанных выше страниц, на которых расположены эти добавления. Потому и было настоящее послание скреплено нашей патриаршей подписью, и ради исправности книги, и ради всеобщей пользы. Да будет благодать Божия со всеми искренними читателями ее.
1802 года, месяца августа.
Прежний Константинопольский
Патриарх НЕОФИТ»655.
Святой Никодим был борцом, опытным в терпении искушений, и он знал, что в мире будет иметь лишь одну скорбь, но также он знал и то, что особое предназначение избранников Божиих о Христе – не только в Него веровать, но и за Него страдать656, – и это исполняло его чистую душу великой радостью. Ведь вся жизнь святого отца была непрестанной войною против властей, тьмы657, и он претерпел от них немало скорбей и ран. Онуфрий пишет, что «многие искушения умных врагов и бесчисленные обвинения чувственных, то есть неученых и притворяющихся добродетельными, он перенес благородно». Столь же терпеливо перенес он и это великое искушение – искажение своего «Пидалиона». Однако, хотя «Пидалион» и был его собственным трудом, он более не принадлежал ему лично, поскольку был посвящен Церкви и христианскому православному народу. И такой труд, имевший столь великое предназначение, приобретал особое и выдающееся значение для жизни Церкви. Потому святой Никодим, увидев, что «Пидалион» изменен нелепыми прибавлениями Феодорита, испытал столь сильную боль из-за неисчислимого вреда, нанесенного Церкви, что с радостью предпочел бы сам претерпеть этот вред, лишь бы он не коснулся православного народа. Он принес бы в жертву ради этого и самую свою жизнь, о чем свидетельствуют слова преподобного Никодима, сохраненные Евфимием, что «лучше бы Феодорит ударил его в сердце ножом, чем прибавил бы или убавил что-то в этой книге»658.
С другой стороны, учитель скорбел и по поводу понесенных нищими святогорцами затрат на издание, состоявшееся «не от избытка, но от недостатка многих». «Ведь эти благословенные, хотя и много другого доброго творят, принимая странников и многообразно оделяя милостынею нищих братьев, услышав об этой книге, что она необходима и очень полезна для всего рода православных христиан, все с готовностью откликнулись и вложили каждый по силе своей и по произволению средства в напечатание этой книги...»659. Но и эту скорбь преподобный перенес мужественно, укрепляемый Христовой благодатью. И он с вдохновенной ревностью и тщанием принялся за новые писания, ибо чувствовал, что время его отшествия настало660.
2. «Авва Варсануфий»
...Владыко! или вместе со мною введи и чад моих в Царство Свое, или изгладь и меня из книги Твоей661.
Авва Варсануфий
Одной из самых благодатных и исполненных Святого Духа книг Отцов нашей святейшей Восточной Церкви, хотя и менее известной нашему православному народу662, без сомнения, является «Душеполезнейшая книга» иже во святых Отцев наших Варсануфия Великого Старца и Иоанна, называемого Пророком, содержащая 836 ответов663 этих святых.
Вплоть до 1803 года она ходила среди монахов в редких рукописях и была подлинным наслаждением души для тех, кто посвятил себя блаженной жизни во Христе, поскольку служила им безошибочным правилом монашеского совершенства.
И как пишет преподобный отец наш Никодим, «книга сия была столь редкой, что не только никогда не была издана и, следовательно, не была доступна для многих в печатном виде, но и, сохраняясь неизданной и рукописной, оставалась чрезвычайно редкой. Но да излиется многая благодать на великую, честную и царскую обитель святого великого и богоносного отца нашего Афанасия Афонского, ибо в этой богоугодной обители среди прочих достойных и редких книг, какими являются хранящиеся в богатой монастырской библиотеке рукописи, была найдена только одна весьма древняя рукопись этой книги, словно единородный феникс; именно с нее сделали копии те отцы, которые обладают этой книгой на Святой Горе...»664.
Нищие колливады Евфимиева братства и собратья665 нашего преподобного призвали его с тем, чтобы он взялся за исправление «Душеполезнейшей книги» и подготовку ее к изданию для пользы православных. «Кто же издатели этой книги? Преподобнейшие и всепреподобнейшие, и по божественной ангельской схиме, и по духу братья, вместе обитающие, и единонравные во Христе, и единодушные, преподобнейший во иноках кир Анания и всепреподобнейшие во иеромонахах и священниках отец Киприан и отец Евфимий, Святогорцы, резчики крестов и занимающиеся изготовлением енколпиев. Они, имея горячее благоговение к преподобным и богоносным Отцам, ко святому Варсануфию и святому Иоанну, и питая величайшую любовь к их священной книге, поскольку получили от нее великую пользу, обучившись различным боготворным добродетелям и особенно приводящему к совершенству послушанию, доблестному отсечению воли и высокотворному смирению... не только меня, своего брата по духу, подвигнули исправить ее и приложить жизнеописание Преподобных вкупе с оглавлением, но и отняли у себя последнее для ее издания...»666.
Святые Отцы наши Варсануфий и Иоанн принадлежат к лику подвижников пустыни, которые достигли, – особенно первый, – такой духовной меры, что стали подобны богам по благодати. Ибо, воистину, святой Варсануфий (он сам прикровенно говорит об этом) был одним из трех святых, которые в 6 в. своими огненными молитвами воздействовали на веления Божии о судьбах мира. «Посему, – пишет преподобный Никодим, – когда во времена того божественного Отца великий гнев Божий постиг весь мир и безмолвствовавшие в том общежитии Отцы просили святого сотворить молитву к Богу, дабы прекратился гнев Его, он сказал: «...многие молят человеколюбие Божие о том, чтобы прекратился сей гнев Божий на мир, и нет никого человеколюбивее Бога, но Он не хочет помиловать, ибо этому противостоит множество совершаемых в мире грехов. Но есть три мужа, совершенных пред Богом, которые превзошли меру человечества и получили власть решить, вязать, отпускать грехи и удерживать. Они встали на пути погибели, дабы не истребил Господь внезапно весь мир, и, по их молитвам, Он наказует милостиво. И сказано им, что гнев пребудет на малое время. Итак, молитесь с ними. Молитвы сих трех мужей встречаются при входе в горний жертвенник Отца светов, и они сорадуются и совеселятся друг с другом в небесах. Когда же взирают на землю, то вместе плачут, и рыдают, и проливают слезы, из-за происходящих зол, которые вызывают гнев (Божий). Это – Иоанн в Риме, Илия в Коринфе, и некто в епархии Иерусалимской (то есть сам Варсануфий, который говорит это, ибо он безмолвствовал около Газы Иерусалимской епархии), и я верую, что они оказывают миру великую милость: да, оказывают. Аминь»»667. О диво! Как непостижима сила молитвы праведного! А к духовным чадам у него была такая любовь и такое дерзновение к Богу, что нам кажутся почти невероятными слова Великого Варсануфия: «Поверь мне, брат, что дух мой усердствует сказать моему Владыке, Который радуется о прошении рабов Своих: «Владыко! или вместе со мною введи и чад моих в Царство Свое, или изгладь и меня из книги Твоей»»668.
Достойно восхищения то, что в предисловии к книге преподобный Никодим говорит по поводу любви преподобного Варсануфия к Богу и ближнему (эти свидетельства он выбрал из ответов святого): «Кто же в состоянии изобразить преизбыточествующую любовь сего блаженного к Богу? Ибо он носил в сердце своем любовь ко Христу, горящую, подобно сильнейшему огненному пламени, как и сам он свидетельствует (отв. 109). Потому ничто и не могло привести ее к падению, ибо любовь, по изречению Апостола, николиже отпадает (1Кор.13:8), и, по словам божественного Варсануфия, «совершенная любовь никогда не падает, и приобретший ее пребывает в горячности, возгораясь вместе любовию к Богу и ближнему»669. Кто же изъяснит и любовь к ближнему, горевшую в нем? Сердобольный отец не переставал день и ночь умолять Бога о том, чтобы Он всех братий со делал богоносными: «Я и прежде прошения вашего, ради горящей во мне (подобно сильнейшему огненному пламени) любви ко Христу, сказавшему: «Возлюби ближнего твоего как самого себя» (Мф.22:39), от воспламенения, и от того, что горю духом, не престаю день и ночь молить Бога, чтобы Он сотворил вас богоносными, чтобы вселился в вас и походил, и ниспослал вам Духа Святого... я был для вас как отец, который старается включить детей своих в светлые полки Царя, без их собственной заботы о сем» (отв. 109)»670.
Преподобный Никодим, основываясь на ответах святых, смог составить житие Великого Старца Варсануфия, и таким образом его божественное учение и честная жизнь стали известны тем, кто был неискушен в агиологии. В наше время, когда всюду веет антиправославный дух, мы имеем великую нужду в таком учении, – учении, «укрепляющем сердце благодатью», спасительном, истинно православном, чтобы и мы стали «всецело умом, всецело оком, всецело светлы, всецело совершенны, всецело боги. <...> Итак, возжелаем и мы состояния их; потечем путем их; поревнуем вере их; приобретем их смирение и терпение, дабы получить достояние их. – Будем держаться их непадающей любви, дабы удостоиться неизглаголанных благ, которых не видел глаз, не слышало ухо, и на сердце человеку не приходило (1Кор.2:9)»671, – пишет Никодим Святогорец.
«Душеполезнейшая книга» была издана лишь один раз672. Хочется надеяться, что будет возможным и второе ее издание, чтобы стала достоянием православных божественная премудрость затворника Варсануфия, премудрость, именуемая в современной терминологии «православной духовностью», которую невозможно помыслить без святости.
3. «Псалтирь Евфимия Зигабена»
Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое:
воспою и пою во славе моей673.
Священная Псалтирь
«Толкование на 150 псалмов пророка и царя Давида, написанное некогда на древнегреческом языке преподобнейшим в монахах и пречестным философом господином Евфимием Зигабеном, переведенное же на простой язык малейшим из монахов господином Никодимом Святогорцем и снабженное обширными дополнениями в виде примечаний...» было издано в двух томах, с полным указателем, и составило 1200 страниц малого формата. Комментарии и примечания преподобного Никодима занимают почти половину этого труда.
Все экзегеты «написали свои толкования на древнем языке наших предков, на том языке, высокий слог и красноречивость которого столько лет великолепно гремели с трибуны Афин и столько веков украшали священные амвоны Церкви; на том языке, который и воспет, и ныне воспевается всеми народами как язык божественный и единственный по своей приспособленности к поклонению Богу, – и этот язык пребывал и пребывает в пренебрежении... И коль скоро оказывался в пренебрежении прародительский язык, упомянутые толкования псалмов, написанные на наречии, непонятном для большинства, стали едва ли не бесполезными...».
«Наконец, в наше время преподобнейший и ученейший господин Никодим с Наксоса, проводящий уединенную и подвижническую жизнь на святоименной Горе Афонской, муж крайне трудолюбивый и любящий народ свой, и обладающий достаточными познаниями и навыком в Божественных Писаниях, приобретенными вследствие частого и внимательного их чтения и чистоты ума, вняв просьбам многих других людей, питающих любовь к народу и всему прекрасному, взялся за перевод толкования на священные псалмы господина Евфимия Зигабена... Но господин Никодим, подъявший этот труд, не остановился на простом и безыскусном переводе, но обратился к древним толкованиям первых экзегетов и восполнил недостававшие свидетельства Писания, а также во многих местах объяснил то, что было неясным, и повсюду добавил имена священных толкователей, у которых автор позаимствовал свои толкования; и не только это, но и, подъяв утомительные труды, украсил и улучшил сию священную книгу многочисленными примечаниями многих неизвестных комментаторов, и многими своими собственными необходимыми и полезными комментариями, и, наконец, полностью завершил труд, достойный теперь типографского издания...»674.
Как в этой Книге псалмов, так и в других творениях преподобного Никодима многое указывает на то, что он знал еврейский язык. В некоторых примечаниях он приводит возражения относительно значения некоторых еврейских 25 текстов или же вносит свои исправления675.
Мануил Гедеон сообщает, что Константинопольский патриарх Анфим, пребывавший на Святой Горе как раз тогда, когда святой завершил свой удивительный труд над Псалтирью, взялся своими руками переписать из рукописи начисто для типографии все толкование преподобного, и впоследствии, будучи уже на патриаршем престоле, гордился этим, говоря: «Освятились руки мои Псалтирью блаженного Никодима».
Замечателен рассказ о том, что претерпел преподобный Никодим от демонов во время трудов над толкованием Псалтири (его передает Евфимий, слышавший эту историю, несомненно, от самого преподобного). Однажды ночью, «когда он писал толкование на тридцать четвертый псалом, на стих «Да будет путъ их тьма и ползок, и ангел Господень погоняли их»676, они сотворили такой грохот, – пишет Евфимий, – что ему показалось, будто мимо его каливы с великой поспешностью прошло огромное воинство и обрушилась каменная скамья, находившаяся поблизости»677. Ночью в пустыне, в совершенном безмолвии, с душою, вознесенною к Богу, преподобный записывал направленные против бесов слова, и это разозлило «демонские полки». То был не единственный случай, когда силы тьмы ополчились против святого. Как мы уже видели в другой главе этой книги, нечистые духи, встревоженные огненными молитвами преподобного Никодима и его духоносными писаниями, многократно учиняли оглушительный шум, чтобы устрашить его. Но преподобный отец «смеялся над их потугами»678.
В предисловии к толкованию на Псалтирь мы среди прочего читаем и следующие слова, поясняющие особое место, которое занимает эта богодухновенная книга в богослужении нашей Восточной Церкви, равно как и непреходящее значение нравственного учения псалмов и даже научное достоинство Псалтири.
«...Что иное разумели те, кто поистине любомудренно исследовал начало всего сущего, как не то, что столь ясно возвещает пророческий глас Давида: «Той рече, и быша: Той повеле, и создашася»679? И снова, в другом месте: «Твоя суть небеса, и Твоя есть земля: вселенную и исполнение ея Ты основал еси. Север и море Ты создал еси»680? Что иное дерзнули утверждать те, кто наблюдал в бездонной пучине Вселенной безмерное множество тел, непрестанно движущихся и друг вокруг друга, и по своему собственному пути, и никогда не соскальзывающих и не отклоняющихся от своих орбит уже безмерное число лет? Что же иное означают шумливые и хвастливые голоса философов, вещающие об «апоцентре» и «эпицентре», как не то же, о чем возвестил прежде них вдохновленный Богом философ: «Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся сила их»681, и в другом месте: «Утвердившему землю на водах»682? Что иное могут сказать они, наблюдая мощные вздымания и подъемы океанских вод, грозящие ужасными наводнениями и внезапно видя, как эти страшные воды сдерживаются мелким песком и, как будто стыдясь соседней земли, ластятся к ней и возвращаются восвояси, – что они могут сказать, кроме как исповедать вместе с Давидом, что причина этого спокойствия и согласия двух стихий – Тот, Кто собирает «яко мех воды морския, полагаяй в сокровищах бездны»683? Что иное увидели и открыли те, что взошли на высоты и вооружились зоркими очами и совершеннейшими телескопами и, как они решили, с точностью определили форму, положение и движения неподвижных и блуждающих звезд, как не то, что божественными очами своей души более, чем очами телесными, познал наученный Богом астроном Израиля: «В солнце положи селение Свое: и Той, яко Жених исходяй от чертога Своего, возрадуется яко исполин тещи путь. От края небесе исход Его, и сретение Его до края небесе: и несть, иже укрыется теплоты Его684. Что другое лучше доказывает и шарообразную форму небесных тел, и циклическое их движение, коль скоро здесь открыто сказано, что солнце начинает и оканчивает свой путь в одной и той же точке? И если Богоотец Давид таков в созерцании сущих, неужели же он в нравственном любомудрии меньше или незначительней тех философов, что посредством пестрой цепи метафизических и естественных доказательств пытаются утверждать, что добро, что праведно, что право, что полезно, что следует избирать и от чего отвращаться, и таким образом облагораживают и украшают человеческие нравы? А Давидова нравственность проста, лишена пестроты, непричастна диалектическим ухищрениям, но в то же время легко доказуема, истинна и крепка. Что же проще и нравственнее таких наставлений: «Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотяй живот, любяй дни видети благи? Удержи язык свой от зла, и устне твои, еже не глаголати льсти. Уклонися от зла, и сотвори благо: взыщи мира, и пожени и»685, а в ином месте говорит: «Неповинен рукама и чист сердцем, иже не прият всуе душу свою, и не клятся лестию искреннему своему: сей приимет благословение от Господа, и милостыню от Бога Спаса своего»686. Что иное убедительнее призывает к добродетели, чем такие выразительные слова священного Пророка: «Юнейший бых, ибо состарехся, и не видех праведника оставлена, ниже Семене его просяща хлебы687? Одним словом, – продолжает преподобный Никодим свое предисловие, – нет такого вида знания или научения, о котором не упоминалось бы в книге Псалмов, и точные положения которого и истинные пути не излагались бы там в сокращении. История не только Израиля, но и почти всех дотоле известных народов обозревается в этой священной книге. Пусть каждый внимательно прочтет семьдесят седьмой псалом – и он увидит в нем одном точнейшим и кратчайшим образом изложенные: всю книгу Исход, книги Царств, Паралипоменон, Ездры, Пророков; все наиболее высокие и необходимые мысли Пятикнижия повсюду вплелись в ткань Псалмов.
Ради этих многообразных достоинств священная книга сия была признана необходимейшей и более других полезной для нашей Святой Церкви. Нам заповедано молиться седмерицею днем688, и семь раз в день непременно бывает чтение священной Псалтири. Во всех священных последованиях, во всех божественных таинствах началом, срединою и концом бывает священная Псалтирь. Чествуются ли ангелы, или пророки, или апостолы, или мученики, или иерархи, или преподобные, – от духовной кифары Псалмов заимствуем мы подобающие напевы и в вечноцветущем саду Давидовом собираем цветы для венков. Мы всегда входим в священные храмы наши и исходим из них, ведомые псалмом. Радуемся ли мы – радуется с нами и Давид, печалимся – и он с нами печалится, поем – поет и он с нами, плачем – и он соединяет свои рыдания с нашими, молимся – и он молится вместе с нами. Почему и Великий Василий во вступлении к первому псалму говорит: «Всяко Писание богодухновенно и полезно есть (2Тим.3:16), для того написано оно Духом Святым, чтобы в нем, как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачевство – каждый от собственного своего недуга. <...> Книга же псалмов объемлет в себе полезное из всех книг»689».
«И такая священная книга, Псалтирь, содержащая столько высоких и созерцательных мыслей и всеми признанная божественною и богодухновенною, пребывала повсюду неудобопонятной, и грубый и прилепившийся к земле ум не мог с легкостью постичь и вникнуть в записанные в ней неизреченные глаголы Духа. Поэтому возникла потребность в умах более высоких, очищенных всякою добродетелью и сроднившихся со Святым Духом, дабы они смогли понять через Него то, что Святой Дух изрек, и рассеять объявшую эти словеса тьму, и сделать ясной сокрытую в Псалмах повсюду божественную истину. Благодарение Самому Божественному и Тайносовершительному Духу, Который взыскал и обрел достойных Его и вселился в них, очистил, просветил и явил способными постичь высоту божественных мыслей и изложить их смысл, сообразуясь с людскою немощью. Таковы священные и нерукотворенные храмы Всесвятого Духа, богоглаголивые толкователи и изъяснители божественных Писаний, богоносные и богогласные Отцы Церкви. Эти богомудрые мужи, приближением к Богу взойдя к высочайшему созерцанию, осиянные просвещающей благодатью дарующего совершенство Духа, вступили во мрак Божественных Писаний, и все вместе стали созерцателями и истолкователями заключенного в этих Писаниях истинного познания таинств Божиих...».
Православная Церковь Христова должна сугубо благодарить святого Никодима за прекраснейший труд по толкованию священной Псалтири, осуществленный в те годы, когда, как сказано во введении к этой книге, не было ни одного подобного издания, тем более на простом греческом языке. Преподобный отец, «подъяв утомительные труды, украсил и улучшил сию священную книгу многочисленными примечаниями многих неизвестных комментаторов, и многими своими собственными необходимыми и полезными комментариями, и, наконец, полностью завершил труд», даровав духовное назидание целым поколениям в сладостных звуках Давидовой кифары, струн которой касается Сам Святой Дух.
4. «Сад благодатный»
Да снидет брат мой в вертоград свой, и да яст плод овошцй своих. Внидох в вертоград мой, сестро моя невесто690.
Песнь Песней
Преподобный Никодим, сердце которого было наполнено священной заботой о назидании братий во Христе, не мог не заметить отсутствия еще одного совершенно необходимого Церкви толкования. Христиане не могли почерпнуть надлежащей пользы из богозданного и духовного стихословия девяти песней, поемых на утрени в святых храмах, потому что еще не нашелся подобающий толкователь, способный изъяснить божественные мысли и глубочайший смысл этих песней. Неотложная нужда в толковании девяти песней усугублялась тем обстоятельством, что как монахи, так и мирские христиане, проводящие благочестивую жизнь и пребывающие на утрени в церквах, были по большей части людьми простыми и малограмотными и не понимали того, что поется. Это обстоятельство возлагало на преподобного Никодима обязанность из любви к братьям позаботиться, чтобы, подобно другим богослужебным и духовным книгам, стихословие стало достоянием всех – и священников, и монахов, и мирян, поэтому святой взялся за составление толкования на простом греческом языке.
И как говорит он сам, «случалось так, что они читали и стихословили ежедневно песни, а какие мысли в них содержатся, не знали, и исполнялось на них слово, сказанное Филиппом евнуху: «Разумеешь ли, что читаешь?»691. Посему моя немощь, укрепляемая благодатью Всесильного Бога, собрала из разных мест и истолковала стихословие на простом языке искусно и полно, дабы все православные не только стихословили его, но и понимали смысл того, что они стихословят, и к тому же понимали и те мысли, что содержатся в ирмосах каждой песни всех канонов и заимствованы творцами канонов из девяти песней стихословия...»692.
Преподобный Никодим включил в свое толкование стихословия некоторые главы693, весьма полезные для Христоименитой полноты Церкви, и в результате книга составила 300 страниц малого формата. Святой назвал ее «из-за многообразных и многоразличных благодатных даров, в ней заключенных, «Садом благодатным»694 и советовал всем читателям собирать в этом саду «сегодня различные цветы, а завтра – разнообразные плоды, полезные для души и тела...»695.
Никодим Святогорец, в течение всей своей преподобнической жизни питавший глубочайшее благоговение и сыновнюю любовь к Богородице Марии, при каждом случае, буквально охваченный божественным вдохновением, слагал в честь Матери Божией дивные гимны и похвальные слова, как мы уже писали ранее. В стихословии девятой песни, которое, как известно, посвящено Пресвятой Деве, преподобный с великим благоговением и восхищением приносит Ей в дар прекраснейшие цветы своего сердца и духа из своего мысленного САДА. Приведем здесь из толкования стиха «Величит душа Моя Господа» полные любви размышления святого, во славу и похвалу Госпожи Богородицы.
«...Дева Мария возвеличила Господа... мыслями великими, высокими и достойными Божьего величия. Ибо Она всю Свою жизнь и особенно те двенадцать лет, в течение которых Она находилась во Святая Святых, ничем другим не занималась и не усердствовала ни в чем, кроме созерцания, или лучше сказать Боговидения. Ибо, будучи выше всякого мелочного разглядывания земных вещей мира, превосходя все и чувственное, и умное, а также все силы души, то есть чувство, воображение и мнение, и различные помышления, единым умом безвидно и безобразно пребывала в созерцании Бога, подобно бестелесному Ангелу. Одна, созерцающая Одного Бога, и одна Единым Богом созерцаемая; одна и Одного Господа величающая, и одна Единым Господом величаемая; одна и Одного Господа любящая, и одна Единым Господом возлюбленная.
И если богоносный великий философ Максим, толкуя слова «во Израили велие Имя Его»696, сказал, что «созерцатель, постигая величия Божии, достойно Его величает», кто же другой созерцательнее Богоматери в высоких видениях Божиих? Или кто другой, будь то Ангел или человек, более Нее постиг величия Божии? Конечно никто. Из этого следует, что и никто другой, как из ангелов, так и из людей, не смог так достойно возвеличить Бога, как возвеличила Его Богородица. Ибо Она, живя во Святая Святых равноангельною и богообразною жизнью, постигла умное делание, которое намного выше созерцаний древних мудрецов, и удостоилась созерцания, настолько превышающего и превосходящего созерцание древнее, насколько истина выше выдумки. Ибо посредством обращения ума в себя, и внимания, и божественной непрестанной молитвы, Она вся обрела целокупное единство с Самой Собою и вознеслась выше всякого вида и образа, и так уготовала новый путь к небесам, то есть умное молчание. Ибо прилепившись умом Своим к сему молчанию, Она восходит превыше всех творений и видит славу Божию совершеннее, чем было дано Моисею, и зрит божественную благодать, которая не постигается совершенно чувством, но составляет священное и прекрасное видение лишь чистых душ и ангелов. И это умное делание и созерцание Богородица обрела Сама, и творила его, и передала его последующим поколениям...»697.
Преподобный Никодим, следуя нашим Отцам, возводит к Госпоже Богородице начало открытой божественным просвещением умной молитвы, которую творили в пустынях преподобные мистические Отцы и учители, из которых самым выдающимся во времена после падения Византии был, без сомнения, сам Святогорец.
Комментируя стих «Яко призре на смирение рабы Своея»698, помимо остальных своих высокодуховных богословских размышлений, святой пустынник Капсалы пишет о Богородице следующее: «Поистине, недоумевает всякий ум и исступает из себя всякая мысль, когда видит крайнее смирение Богородицы. Ведь Она, хотя и носила в Своей девственной утробе носящего всяческая Бога Слова, хотя и была истинной Матерью Божией и Царицею всех тварей, видимых же и невидимых, при всем том именует Себя рабою Божией... Ибо чем выше и величественней Она была, тем больше смиряла Себя... имея укорененным в глубине Своей души и сердца смирение, как дар Святого Духа...»699.
«Госпожа Богородица, – продолжает святой отец, – по внешнему характеру и нраву была скромна и почтенна во всем и говорила немного и лишь необходимое. Она была скора на послушание и любезна; всех почитала и уважала; росту была среднего и соразмерного, или, как говорят другие, выше среднего; не была дерзка ни с кем; удалялась от смеха и от всякого возмущения и ярости; цвет богоприемного Ее тела был подобен цвету пшеницы, волосы Ее были светло-русыми, глаза – весьма прекрасные, окрашенные божественной скромностью и украшенные быстрыми зрачками, подобными маслинам, были окружены лучезарными ресницами; брови Ее были черны и дугообразны; нос – прямой и ровный; непорочные уста Ее были цветущими, алыми и исполненными сладких речей; священнолепное лицо Ее было не круглым, но немного продолговатым; Ее богоприемные руки были длинны, подобно и персты рук длинны и тонки; Она была не горда, не выставляла Себя напоказ, но не проявляла и никакой глупости или недостатков; обладала преизбыточествующим смирением; носила и любила одежды естественного цвета, как это видно по святому и священному Ее мафорию. В общем, Госпожа Богородица была и по внешним членам Своего пренепорочного Тела исполнена такой божественной благодати и почтенности, что всякий, кто видел Ее, чувствовал в душе своей некий страх и благоговение, смешанное с сокровенною радостью, и, не зная о ней ничего заранее, познавал по одному ее внешнему облику, что Она – воистину Матерь Божия...»700.
В толковании на тропарь 9-й песни канона на Успение Богородицы «Приими от нас песнь исходную...»701, святой отец среди прочего пишет следующее: «Слышали вы, братие, из этого канона, какую славу, какое величие, какие подобающие Богоматери почести приняла Госпожа Богородица от Своего Сына, когда почила по закону человеческого естества, и воскресла, и перенеслась паче естества на Небеса? Однако знайте, что не было это дано Ее богоматеринству просто и как бы случайно: ведь Она, после неизреченного Рождества по плоти Сына Божия, не дерзнула на многие величия, которых удостоилась, не стала проводить жизнь в нерадении, но вместо этого с особенным усердием подъяла многообразное и тягчайшее подвижническое житие, помогая Своими всемощными молитвами всему миру и содействуя проповеди святых Апостолов Своими наставлениями и убеждениями; и так Она прожила жизнь столь многотрудную и подвижническую, что выше всякого ума и слова, как свидетельствует божественный Григорий Фессалоникийский702...
То же самое подтверждает и святитель Андрей Критский уже одним тем рассказом о Богородице, в котором столь величественно явлен подвиг Девы, что заставляет изумиться всякий ум и повергает в немоту всякий язык. Ибо он говорит, что Богородица совершала столь многочисленные и частые коленопреклонения, молясь на Святом Сионе, что на плитах пола образовались углубления, и эти углубления еще сохранялись во времена святого и даже позднее. Вот что он говорит дословно: «На оном Сионе о преклонениях священных колен пресвятого тела велегласно вопиют покрывающие пол плиты» (Слово, начало коего: «Настоящий праздник таинство»)»703.
То, что приведено выше – всего лишь малое отображение вдохновенной любви, глубочайшего почитания и благодарности, которые чувствовали святые Отцы Церкви по отношению к Пречистой Матери Христа Бога, словно в некоем священном состязании сплетая высочайшие песни и боголепнейшие словесные похвалы Ее славе, Ее СВЯТОСТИ и Ее высочайшему положению, ибо Она стала «после Бога Богом»704 – в Боге. К несчастью, и в этой области богословия нашей Православной Церкви наблюдаются протестантствующие тенденции приуменьшения Богоматеринского достоинства Пресвятой Богородицы, о чем мы уже писали в ином месте. Тут уж нужно или упразднить священную гимнографию, или, коль скоро мы признаем, что она обладает силою авторитета, надлежит и мудрствовать сообразно с нею.
5. Ловец инославных
Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!705
Апостол Павел
Есть такие стороны разнообразной деятельности преподобного Никодима, которые еще не освещены в исследованиях о нем. Кто бы мог ожидать, что пустынник из смиренной Капсалы, погруженный в свои труды, в писания и аскезу, прострет свою любовь – свое непреходящее беспокойство – к отступившим от веры христианам и при помощи подобающих поучений обратит их к сообразному покаянию, к миропомазанию706 или даже к самому мученичеству, омывающему всякий грех?
Григорий 5 пребывал в монастыре Ивирон, а преподобный Никодим, как известно, – по соседству, в Капсале, столетиями внимавшей воздыханиям святых подвижников. Как явствует из их соработничества в деле издания книг преподобного, они регулярно встречались. Патриарх, изгнанный со своего престола, безмолвствовал в монастыре. Возможно, из своих средств он оказывал помощь нищему аскету Никодиму, изнуряемому всяческой бедностью. Все вероотступники, которые, покаявшись, бежали из беспредельных мусульманских владений на Святую Гору, чтобы оплакать здесь свое страшное падение, первым делом останавливались
у отца нации – патриарха707, где исповедовались, и затем, по повелению патриарха, обращались к преподобному Никодиму за оглашением, сокрушением и приуготовлением к миропомазанию. Кажется, Евфимий хорошо знал, какое дело совершает «его сладчайший собрат», когда писал, что «почти все уязвленные грехами оставили архиереев и духовников и прибегали к убогому Никодиму, чтобы обрести исцеление и утешение в своих скорбях, и не только из монастырей, и скитов, и келлий, но приходили и многие христиане из разных мест...»708
Достоверно известно, что новомученик Константин Идрский, который пребывал в гостинице обители Ивирон пять месяцев, получил оглашение и наставление к мученичеству от преподобного Никодима. Узнав об его святой мученической кончине, его наставник почувствовал великую духовную радость, которую он излил, написав житие мученика и составив замечательнейшую службу, помещенную в церковные Минеи под 14 ноября. Никодим Святогорец не случайно пребывал в Капсале, ведь простор для подвига он мог найти и в других частях Афона. Он находился здесь еще и ради Григория 5, который мечтал о воскресении греческого народа, в то время как преподобный – о нравственном и духовном воспитании нации. Возможно, что была и другая причина: бескрайнее благоговение преподобного, питаемое им к Пресвятой Вратарнице обители Ивирон, в честь Которой он составил четыре канона. Привлекала его также и богатейшая библиотека этой обители, которая была в его распоряжении. А из приведенного ниже письма Никодима, дата написания которого нам неизвестна, явствует, что к «убогому» стекались не только отрекшиеся от веры христиане и разные согрешившие братия, но к нему приходили, как к прославившемуся своею мудростью и святостью монаху, также и католические клирики из дальних стран – и он помогал им обратиться в православие. Это письмо адресовано Григорию, безмолвствовавшему недалеко от Иверской обители. Он должен был уехать в Константинополь на свое второе патриаршество.
«Всесвятейший, божественнейший и почитаемый мой Повелитель, Владыко и Вселенский Патриарх! Податель сего, родом из Венгрии и крещеный, лучше же сказать, окропленный и оскверненный латинскою скверною, прибегает по моему ходатайству к Вашей Всесвятой Главе, горячо взыскуя православного крещения в нашей Восточной Христовой Церкви. Итак, просим и он, и я Ваше Христоподражательное и апостольское сердце, дабы Вы своим кратким повелением послали названного непосвященного монаха к духовнику обители Пантократора – валаху отцу Григорию, чтобы тот, как единоплеменный и говорящий с ним на одном языке, наставил его и возродил нашим крещением. Он и я усердно молим Бога, чтобы, со всеми прочими спасительными дарованиями, Вы сподобились благоприятного плавания и достигли своего Вселенского престола, и творили благое на общую пользу Христоименитого народа. Испрашиваю Ваших молитв.
Ваш малейший раб Никодим».
Это письмо найдено нами в архивах священной обители Ивирон. Его опубликовал в богословском журнале «Григорий Палама»709 один ученый монах. Прочтя его, католик В. Грюмель в своей статье о преподобном Никодиме в «Католическом богословском словаре»710 с горечью заметил, что нет нужды в иных доказательствах антилатинских убеждений Никодима после этого письма, и особенно фразы «окропленный и оскверненный латинскою скверною». Преподобный никогда не был безрассудным ненавистником инославных. Глубокий канонист и защитник авторитета Предания и Отцов, он не принимал святости латинского крещения, как из-за еретических учений латинян, так и потому, что оно совершалось через окропление, вместо троекратного погружения, как говорится во многих его трудах.
Среди дошедших историй, связанных с подвигами преподобного как борца с инославными и их «ловца», есть и такая: как-то раз Священный Кинот Святой Горы призвал святого для прений по догматическим вопросам с пришедшими на Афон папистами. Он явился одетый, как обычно, в лохмотья, в грубой обуви, так что паписты приняли это за оскорбление со стороны Кинота. После того, как были даны объяснения, начался спор. Каждое слово Никодима было ударом грома и молнией, попалившей папистский хворост, и полностью заграждало им уста. Обращенные в бегство вороны каркали, вопрошая: «Есть ли еще на Афоне и другие, подобные нашему собеседнику?» Вопрос обращен к Священному Киноту, но его опережает и дает ответ «изверг»711, как постоянно себя называл сам преподобный Никодим: «Есть множество, и я – самый последний».
6. Друг патриархов и митрополитов
Преподобие отче, во всю землю
изыде вещание исправлении твоих...712.
Церковная гимнография
Слава преподобного Никодима как святого подвижника и великого писателя вскоре вышла за пределы Святой Горы. Каподистрия поддерживает его издания, князья интересуются его трудами, патриархи Гавриил, Прокопий, Григорий 5 и Неофит 7713 с радостью берут на себя расходы по изданию многих его книг и испрашивают его мнения по разным церковным проблемам. Мы видели, как еще молодым он предпринял попытку путешествия в Румынию к Паисию Величковскому, который переводит «Добротолюбие». С патриархами он состоит в переписке, как явствует из посланий, предпосланных его трудам, а те, в свою очередь, обращаются к нему за советами.
Священный Кинот многократно призывает его для ответа на богословские проблемы, выдвигаемые инославными, стремившимися испытать веру монахов Святой Горы, – и он, как мы уже видели, посрамляет этих искусителей. А монастыри, находящиеся в тяжелых экономических обстоятельствах, просят «убогого» Никодима, чтобы тот походатайствовал о них перед своими могущественными друзьями за границей. Ниже мы цитируем его собственноручное неизданное письмо митрополиту Молдавскому Вениамину, которое не только демонстрирует, каким авторитетом пользовался преподобный Никодим у православных других стран, но и являет образец стиля послания, направленного иерарху, благоговейного чада Церкви.
Митрополит Вениамин Костаки714 известен нам по хвалебному упоминанию его имени братьями Скуртеями, оценившими заинтересованность, которую тот проявил в отношении издания оставшихся в рукописях творений преподобного Никодима, и его частые пожертвования. Он был знатоком греческого языка и позаботился о переводе на румынский «Невидимой брани» и исправленного отцом Никодимом «Евхология». О том, что эти два мужа состояли в переписке, можно предположить на основании взаимного почтения, выказываемого ими, и того интереса, который митрополит проявлял в отношении писательского труда святогорского учителя. Помещенное ниже письмо служит выражением их дружеских отношений и признания преподобным авторитета митрополита Молдавского, которого он почтительно называет «своим мудрейшим учителем». Отметим, что в общежительной обители Симонопетра жили некоторые румынские монахи или греческие иноки из Румынии, прежде обучившиеся монашескому житию в великой киновии Паисия (Величковского)715 и после его кончины пришедшие на Святую Гору, как можно заключить из этого письма.
«Вашей честнейшей и благодетельнейшей священной и мудрой учености сыновне кланяясь, с невыразимым словами благоговением целую Ваши архиерейские руки.
Простираю к Вашей преподобной главе рабское перо, но как? – С превеликой смелостью и сыновним дерзновением, которое в достатке дарует мне мой честнейший о Христе Отец и учитель. Ибо я дерзаю просить сим письмом, дабы он понес некоторое беспокойство в связи со следующим делом. Честной игумен новой киновии священной обители Симонопетра, господин Иакинф, священнолепный и украшенный прекрасными нравами, благоухающий подобно тезоименному ему гиацинту716 (я полагаю, Вам известен сей муж) вкупе со своими братиями, ведая то отеческое благорасположение, которое питает ко мне по добродетельности своей Ваше священное совершенство, и имея великую нужду во многом, умолял мою худость, дабы я написал Вам рекомендательное письмо о посланном за милостынею всепреподобнейшем во иеромонахах отце Дионисии. Я же медлил с этим и откладывал, опасаясь беспокойства, пока, наконец, не был убежден. Ради долга братской любви, ради великой нужды братий во многом, о чем я уже упоминал, и ради того, что я не могу высказать. С этими братьями меня связывают особые отношения, ибо я вижу в них многие черты, подобающие монахам, и благоухание Христово717, по Павлу, воспринятое ими от того великого Паисия, которому наградой стали, я думаю, вожделенные недра Авраамовы. Самым же главным доводом, убедившим меня, стало апостольское сердце мудрейшего моего учителя, по природе своей устремленное к братолюбию и радующееся о подобных боголюбезных благах. Потому, честнейший и почтеннейший мой учитель, я осмеливаюсь рекомендовать доброго иеромонаха господина Дионисия Вашей отеческой Главе и молю, и притом горячо молю о том, чтобы была оказана каким бы то ни было образом достаточная помощь этой новообразованной и беднейшей киновии. Да будет сказано в слух высочайших властителей и христолюбивых князей Угро-Влахии и Молдо-Влахии, чтобы они внесли некий весомый вклад во облегчение тяжкого долга этой обители, во обеспечение и предоставление всего необходимого для братий этой киновии. Ибо я знаю и уверен, что, если только захочет мой братолюбивейший и монахолюбивый учитель, он может восставить преклонившую колена киновию действенною силою своих мудрейших словес и выстроить и восстановить в наилучшем виде, чтобы эта киновия стала подражанием древних святых киновий, которые божественный Иоанн Лествичник назвал земным небом718. И Симонопетра да будет камнем719 прибежища для прибегающих туда зайцев, согласно написанному720. Однако я не простираюсь далее необходимого, зная, кому и к какому человеку пишу, – к тому, кто обладает врожденным и природным стремлением к братолюбию, не менее, чем орел к полету или дельфин к плаванию. Честнейшая и отеческая Ваша Милость, прощающая дерзость и беспокойство, причиненные ей ее рабом, да будет здрава и душою, и телом, своими убедительными речами возводя Христоименитую полноту от нечестивой и вещественной жизни к священной и богообразной.
(25 января 1804 г.)
Всечестнейшего и благодетельнейшего Вашего Отцовства сын по духу малейший и раб негодный, НИКОДИМ».
Современники-святогорцы, наслышанные о славе преподобного Никодима и его знакомствах с сильными мира сего, ценя его прекрасное богословское образование, божественную мудрость и добродетели, не раз дружески говорили ему: «Брат Никодим, что ты не идешь в мир просвещать братьев наших христиан?» А тот смиренномудро отвечал: «Как бы мой собственный светильник не погас...» Он говорил о дивном светоносном светильнике, рассеивавшем мрачную тьму долгой и безлунной ночи, в которой пребывал злополучный греческий народ... И он верил в то, что говорил? Конечно, ибо он был смиренен и считал себя «немудрым».
Красноречивым свидетельством добровольной нищеты и крайней простоты его святой жизни является тот факт, что он носил грубую обувь из шкуры дикого кабана (эту деталь благоговейно сохранила память святогорцев). А монашеские одежды были такими ветхими, что биограф Евфимий к чести преподобного именует его «одетым в ветхую одежду». Среди историй из жизни преподобного отца есть и такая. Священную обитель Ивирон посетил один иерарх, имевший огромное желание познакомиться с преподобным, о котором он столько слышал и читал. Итак, он попросил одного из монастырских монахов сообщить в каливу святого в Капсале, что он хочет его видеть. Тогда преподобный Никодим пребывал в подчинении у старца. Он испросил позволения старца, и вот послушник со всей своей непритворной и естественной простотой идет, в чем был, в монастырь и предстает пред очи иерарха – скромный, молчаливый, погруженный в свои мысли и умную молитву. Он благоговейно поприветствовал владыку, читавшего какую-то книгу, и ждал, что ему скажут, для чего его позвали. Архиерей, совершенно не подозревая, что перед ним знаменитый мудрец пустынник Никодим, и думая, что этот оборванец – какой-то безвестный аскет, продолжил чтение. Тогда святой Никодим, прождав довольно долго и сочтя, что произошла какая-то ошибка, вернулся в свою каливу. Через какое-то время иерарх снова позвал монаха и спросил, почему не пришел тот, кого он хотел видеть. Монах возразил, сказав: «Владыко, да ведь он только что предстал пред Вами!» «Так это был он? Позовите его, да поживее!» – повелел владыка. Напрасно монах упрашивал старца преподобного Никодима, чтобы он снова послал того в обитель. Старец сказал: «Раз этот епископ решил, что недостойны мудрого и преподобного пустынника ветхие одежды моего духовного чада, стало быть он сам недостоин видеть Никодима». И монах удалился в недоумении...
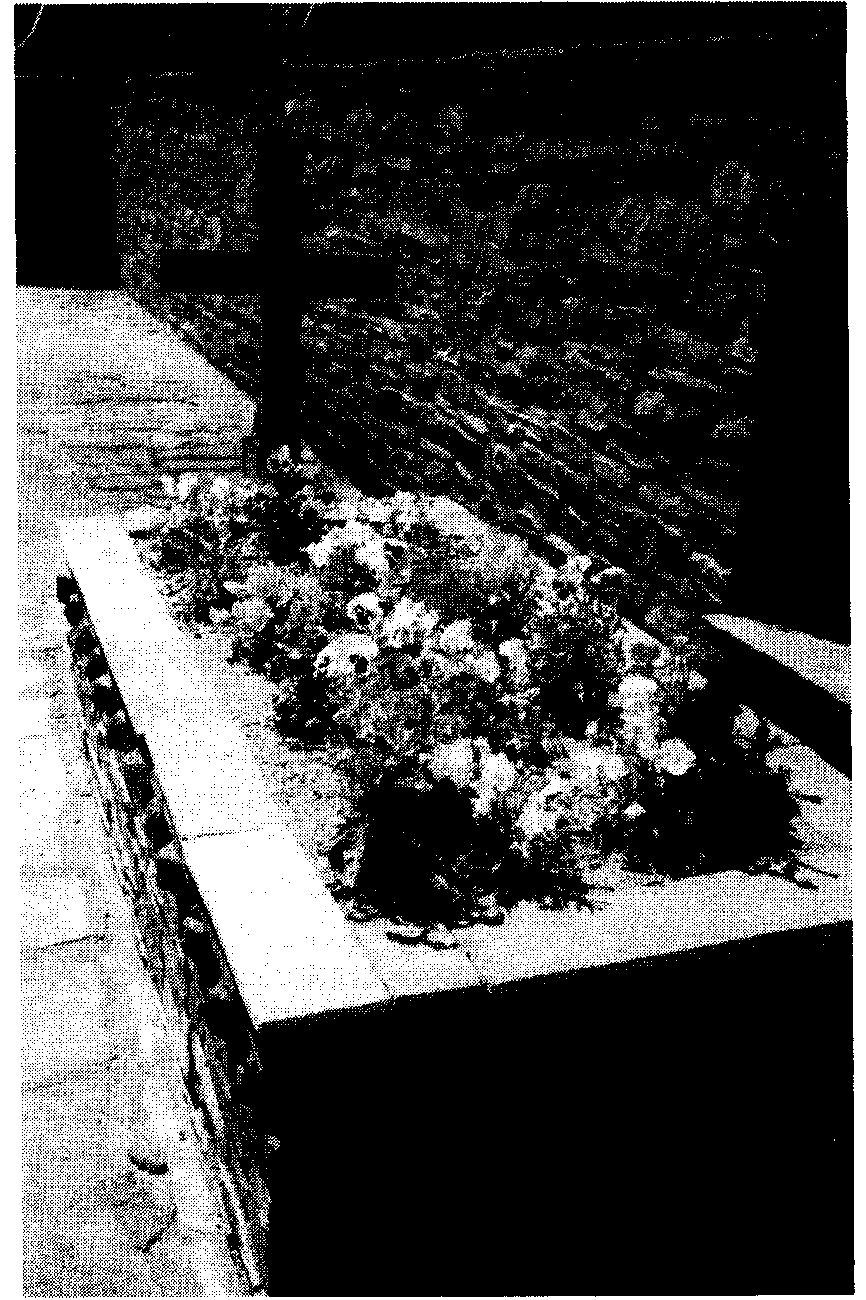
Место погребения преподобного в келлии Скуртеев
* * *
Феодорит Афанасиу принял постриг в Великой Лавре прп. Афанасия на Афоне, отчего нередко именовался «Лавриотом». В Лавре он был проигуменом. В 1804 г., по решению патриарха и Синода, стал игуменом монастыря Эсфигмен на Афоне. Здесь он заложил основы киновии с прекрасным богослужением, занялся обновлением построек и осуществил закладку нового соборного храма. Лишенный игуменства, он безмолвствовал в келлии в окрестностях Великой Лавры.
Письмо Неофита 7 помещено в начале «Пидалиона», см.: Πηδάλιον. Σ. ιʹ.
Евф.15.
Πηδάλιον. Σ. ιζ΄.
Преподобных Отцев Варсануфия Великого и Иоанна Руководство к духовной жизни. С. 77–78.
Память прп. Варсануфия Великого (в современной традиции: Варсонофия) и прп. Иоанна Пророка празднуется 6 февраля (ст. ст.). Прп. Варсануфий был родом из Египта, скончался в середине 7 в. в своей келье в затворе в монастыре около Газы, откуда его мощи в 9 в. были перенесены в г. Ория (на юге Италии), здесь в кафедральном соборе хранится частица его мощей. – Примеч. ред.
В Греции вплоть до 1960 г. эта книга действительно была малоизвестна (как Добротолюбие и многие другие святоотеческие творения). Теперь появились ее переводы на новогреческий язык и новые издания в оригинале.
В первом издании, подготовленном Никодимом Святогорцем, были ошибки в нумерации: из 849 ответов пронумерованы 836, при этом семь номеров дублировались, а после номера 543 следовал номер 554. Не сохранилось ни одной полной рукописи, и число ответов и их порядок в разных рукописях не совпадают. Поэтому в греческих изданиях (в том числе серии «Греческие Отцы Церкви») число ответов – 841, в русском переводе их 850. – Примеч. ред.
Βίβλος ψυχωφελεστάτη... Βαϱσανουφίου καὶ Ἰωάννου. Θεσσαλονίκη, 1997. Σ. 27–28. Здесь цитируется пролог, который в русском издании был переведен в сокращенном виде.
Собратья (παϱάδελφοι), т.е. постриженики того же старца, что и прп. Никодим.
Βίβλος ψυχωφελεστάτη... Βαϱσανουφίου καὶ Ἰωάννου. Σ. 28.
Βίβλος ψυχωφελεστάτη... Βαϱσανουφίου καὶ Ἰωάννου. Σ. 20. (Полный перевод выполнен с учетом перевода свт. Феофана Затворника, см.: Краткое сказание о жизни преподобных отцев Варсануфия и Иоанна, составленное Никодимом, монахом Св. Афонской горы // Преподобных Отцев Варсануфия Великого и Иоанна Руководство к духовной жизни. С. 15–16. – Примеч. ред.)
Преподобных Отцев Варсануфия Великого и Иоанна Руководство к духовной жизни. С. 77–78.
См.: Ответ 17 // Преподобных Отцев Варсануфия Великого и Иоанна Руководство к духовной жизни. С. 14.
Там же. С. X.
Там же. С. 24. в данном месте предисловия прп. Никодим цитирует Ответ 120. Русский перевод дается с небольшими изменениями.
Первое издание вышло в Венеции в 1816 г., после 1960 г. были осуществлены другие издания, в том числе с новогреческим переводом.
Предисловие к Псалтири Евфимия Зигабена (на греч. яз.). Существует мнение, что предисловие прп. Никодима было несколько изменено редакторами первого издания этой книги, т.к. преподобный никогда не говорил о себе в таких хвалебных выражениях.
Прямых свидетельств тому, что прп. Никодим Святогорец знал еврейский язык, не существует. Указанные факты могут быть объяснены великолепным знанием византийской экзегетической и лексикографической традиции. В «Новой Лествице» преподобный, приводя значения еврейских слов, обычно ссылается на других экзегетов и богословов, напр., на Георгия Корессия.
Евф.18.
Евф.18.
Свт. Василий Великий. Беседа на первый псалом // Первый псалом. М., 2003. С. 9.
Νικόδημος Ἁγιοϱείτης. Κῆπος χαϱίτων. Θεσσαλονίκη, 1992. Σ. 12.
А именно: четыре главы о помыслах, собственного сочинения; главу патриарха Каллиста (ее славянский перевод см.: Добротолюбие на церковно-слав. яз.: В 2 т. М.: Сретенский монастырь, 2001. Т. 2. Л. 158–159); отрывок из книги Иосифа Калофета; Евангельский закон в сокращении патриарха Геннадия Схолария; Господню молитву в переложении гекзаметром; образцы писем (на древнегреческом и новогреческом языке).
Дословно: «Сад благодатей», «Сад даров», т. к. греч. означает «благодать, дар, красота, милость» и т.д.
Κῆπος χαϱίτων. Σ. 13–14.
Κῆπος χαϱίτων. Σ. 195–196. Здесь прп. Никодим Святогорец излагает святоотеческое учение о Богоматери как «начальнице умного делания», при этом он цитирует отрывок из беседы свт. Григория Паламы на Введение во Святая Святых Пречистыя Владычицы нашея Богородицы, ср.: «...Она проложила новый и неизреченный путь на небеса, который я назову – умозрительное молчание» (Беседы (Омилии) святителя Григория Паламы. Ч. 3. С. 134). – Примеч. ред.
Κῆπος χαϱίτων. Σ. 204.
Κῆπος χαϱίτων. Σ. 203–204. Σημ. 1 Приведенное здесь описание воспроизводит подобные описания, сохранившиеся в различных святоотеческих и исторических книгах Византии, напр., у церковного историка 14 в. Никифора Каллиста Ксанфопула. Помещались такие описания и в иконописных подлинниках, особенно на Руси.
3-й тропарь 9-й песни 2-го канона на утрени Успения (творение прп. Иоанна Дамаскина): «Приими от нас песнь исходную, Мати Живаго Бога, и светоносною Твоею и божественною силою осени благодатию, царю победительныя, христолюбным людем мир, оставление поющим, и душам спасение подающи».
Свт. Григорий Палама говорит об этом в Беседе на Успение Богоматери.
Ἑοϱτοδϱόμιον. Т. 3. Σ. 405–406.
Κῆπος χαϱίτων. Σ. 216.
Отрекшиеся от Православной веры принимались назад в Церковь через миропомазание.
Патриарх по законам Османской империи считался предводителем «народа христиан» и носил титул «Миллет-баши».
Евф.20. Здесь и далее греч. слово, означающее «одетый в ветхое (т. е. в лоскутную, нищенскую одежду, рубище)», переведено словом «убогий». – Примеч. ред.
Γϱηγόϱιος ὁ Παλαμᾶς. 1918. 2. Σ. 435–436.
Grumel V. Nicodeme Ι’Agiorite // Dictionnaire de Theologie Catholique. 1931. 11. P. 486. Грюмель, известный ученый-богослов и византинист.
В данном случае прп. Никодим употребляет по отношению к себе слово, взятое из Священного Писания. Так называл себя апостол Павел, говоря, что Христос «после всех явился и мне, как некоему извергу» (1Кор.15:8). Греч. «ἔκτϱωμα» дословно означает «выкидыш; младенец, родившийся прежде времени», отсюда в русском языке калька – «изверг». Другие значения этого слова: «урод, чудовище».
Стихира после псалма 50 на утрени из общей службы преподобному единому или, напр., прп. Иоанну Дамаскину (4 декабря) и др. – Примеч. ред.
Гавриил 4, Константинопольский патриарх в 1780–1784/1785 гг.; Прокопий, Константинопольский патриарх в 1784/1785–1789 гг.; сщмч. Григорий 5, Константинопольский патриарх в 1797–1798/1799, 1806–1808 и 1819–1821 гг.; Неофит 7, Константинопольский патриарх в 1789–1794 и 1798/1799–1801 гг.
В 1941 г. Димитрий Икономидис опубликовал в журнале «Biserica Ortodoxa Romana» исследование о святом Никодиме, в котором упомянут перевод на румынский язык «Невидимой брани», «Увещательного руководства», «Евхология» и «Благонравия», сделанный тщанием и по благословению друга преподобного, митрополита Молдавии Вениамина Костаки. – Примеч. м. Феоклита. См.: Economidis D. Nicodim Aghioritul (1748–1809) // Biserica Ortodoxa Romana. 59. Bucarest, 1941. P. 51–69.
Вениамин Костаки (1768–1846), митрополит Молдавский (1803–1842), много сделал для издания духовной и богослужебной литературы (в 1807 г. открыл в Нямецком монастыре типографию), способствовал духовному и светскому образованию в Молдавском княжестве, помогал монастырям. – Примеч. ред.
Вероятно, имеются в виду обширные и многолюдные монастыри Секул и Нямец, которыми прп. Паисий руководил в последние годы своей жизни.
Имя «Иакинф» (так оно звучит в византийском и новогреческом произношении) означает «гиацинт» (что отражает латинское произношение).
Прп. Иоанн. Лествица 4. 87 (по греч. тексту – 4. 82): «Общежи-тие (киновия) есть земное небо».
Греч. «πέτϱα» означает «скала, камень».
