Глава IV. Четырнадцатый век. «Новая встреча с Византией»
Образы русской живописи XIV в. отличаются исключительной эмоциональностью, действенностью, духовной приподнятостью, они наполнены вдохновением и впечатляют внутренней активностью. Этот период характеризуется двумя важнейшими явлениями: возобновлением интенсивных художественных контактов с византийским миром, что наиболее заметно в первой половине столетия, и своеобразным русским откликом на великие идеи византийской духовности, особенно на концепции, распространившиеся в результате победы учения святителя Григория Паламы в процессе богословских споров середины века.
Периодизация
Хронологические рамки периода приблизительно совпадают с границами столетия. Он начинается деянием митрополита Максима, перенесшего в 1299 г. свое местопребывание из разоренного Киева на оживающий северо-восток, во Владимир, и тем самым создавшего условия для дальнейшего оживления духовной жизни этого края, а заканчивается не каким-либо историческим событием, а новым художественным явлением, возникновение которого можно отнести ко времени приблизительно около 1400 г. именно в это время на Руси появляются первые произведения нового стиля и с новой образностью, с особой поэтикой спокойной сосредоточенности и углубленной молитвенной созерцательности.
Сложение нового искусства, самым ярким представителем которого стал несколько позже Андрей Рублев, было подготовлено на Руси всем ходом ее духовной жизни на протяжении XIV в., в которой особо важную роль играл преподобный Сергий Радонежский.
Совокупность обстоятельств истории Руси и византийско-русских взаимоотношений позволяют разделить историю русской живописи XIV в. на два этапа: приблизительно на первую и вторую половины века. Первый период охватывает завершающие годы правления митрополита Максима, после его переезда во Владимир в 1299 г. и до кончины в 1305 г., а также время правления его преемников – митрополитов Петра (1308–1326) и Феогноста (1328–1353). Внутри этого периода есть, в свою очередь, градации. Второй период начинается приблизительно со времени митрополита Алексея (1354–1378), при котором не только еще более активизировались связи с Византией, но и приобрела новые качества русская религиозная жизнь, а также начался подъем национального самосознания в борьбе с игом татарской Золотой орды.
Особенности византийской живописи XIV в.
Напомним, что в XIV в. в стиле византийской живописи так называемого палеологовского периода, где незадолго до этого получили новую жизнь эллинистические традиции, происходят дальнейшие изменения: пропорции фигур и построек становятся более легкими, композиции – относительно разреженными, торжественная статичность сменяется подвижностью форм, разнообразием ракурсов, в колорите применяются цветные рефлексы и смешанные оттенки. Это искусство, хотя и опиралось на античную традицию, оказалось ближе к сфере человека, чем византийская живопись комниновского периода и чем искусство XIII в. В живописи XIV в. характеристика душевных движений становится более сложной, появляется богатство эмоциональных оттенков. В рамках византийской, глубоко религиозной культуры это означало более тонкий отклик на проблемы православия, переживание религиозной драмы, появление индивидуальных оттенков, затрагивание вопросов этики, нравственного совершенства. В искусстве первой трети XIV в. центральными памятниками, воплотившими названные новшества, являются мозаичные комплексы монастыря хора и храма Богородицы Паммакаристос в Константинополе (современные турецкие названия Кахрие-джами и Фетие-джами), мозаики и фрески церкви Св. Апостолов в Салониках. Выдающиеся фресковые ансамбли XIV в. сохранились в южнославянских странах: в Сербии и Македонии (например, в церквах Успения в Грачанице, Христа Пантократора в Дечанах, Св. Андрея на Треске), в Болгарии (например, в пещерной церкви с. Иваново), а также в Греции (например, в церкви монастыря Бронтохион, она же Афендико, и Богородицы Перивлепты в Мистре).
В первой трети ХIV в. в культуре Византии, особенно Константинополя, была сильна гуманистическая струя. Именно эта культура получила в византинистике название Палеологовского Ренессанса, по имени правящей династии Палеологов. Самые яркие представители этой культуры, крупные интеллектуалы и придворные, философы и историки, поэты и церковные деятели Никифор Григора, Феодор Метохит, Мануил Фил, Георгий Пахимер и другие были увлечены красотой эллинистической традиции, и именно это было доминантой духовной жизни того времени. В результате интенсивных богословских споров 1330–1350-х годов и победы учения святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, акценты теологической проблематики меняются. Во главу угла становятся проблемы благодатного Фаворского света, обожения плоти, а также вопросы «умной» молитвы, нравственного очищения, аскезы, сосредоточенного безмолвия («исихии»), приготовления ко второму Пришествию. Эти перемены не могли не отражаться и в сфере искусств, хотя, разумеется, лишь опосредованно.
Художественные центры Руси в XIV в.
Основные культурные ареалы Руси располагаются в этот период лишь на севере прежней территории Киевского государства. Выделяются три основные области: Северо-Восточная Русь, включающая в себя в свою очередь, несколько художественных центров, как старых (Владимир и Ростов), так и новых (Тверь и Москва), а также Новгород и Псков. В разных областях Руси художественный процесс имеет свои общие признаки и свои локальные особенности.
В Северо-Восточной Руси в первой трети XIV в. Важнейшую роль в художественной жизни продолжал играть Ростов, с его крупной иконописной мастерской, обслуживавшей огромную территорию Ростовской епархии, влияние которой распространялось и на обширные северные владения. Рядом с ним уже с конца XIII в. Выступает мощное, набиравшее силу Тверское княжество. Но уже в 1320-х гг. стало ясно, что среди всех центров Северо-Восточной Руси на первое место выходит Москва, чему причиной была мудрая и дальновидная политика московских князей, сумевших оттеснить на второй план крупнейшего соперника – Тверь. Именно эта политика привела к сближению Москвы с митрополичьей кафедрой, когда сменивший Максима митрополит Петр стал много времени проводить в Москве, а не во Владимире или Ростове, и не в Твери. Это развивало духовную жизнь Москвы и, кроме того, обогащало ее знакомством с иными культурными традициями. Митрополит Петр (ум. 1326) был родом с Волыни, то есть с территории, которая в домонгольское время составляла Юго-Западную Русь, с ее яркой собственной культурой и тесными контактами с Киевом. В этой земле Петр принял монашеский постриг, стал игуменом, начал заниматься иконописью. Вполне возможно, что через его личные контакты уже в первой четверти XIV в. Москва могла получить представление о древних культурных и художественных богатствах этих областей. Исключительно важно было то обстоятельство, что через митрополичью кафедру осуществлялись связи Руси, и прежде всего Москвы, с Константинопольским патриархатом и художественными кругами византийской столицы. Роль Москвы в политике и духовной жизни Руси стала с XIV в. настолько значительной, что русскую средневековую историю, начиная с XIV в., называют «московским периодом». Именно под руководством московского великого князя Димитрия Донского в 1380 г. русские победили татар в сражении на Куликовом поле, чем приблизили освобождение страны от татарского ига.
Новгород, по сравнению с Москвой, имел то преимущество, что он обладал собственным огромным культурным наследием и, в отличие от всей Северо-Восточной Руси, не был разорен татарами. Он находился в более благоприятной ситуации и с точки зрения сохранности его памятников: в эпоху позднего Средневековья, а также в Новое время Новгород развивался не столь интенсивно, как Москва, меньше перестраивался, поэтому его древние храмы, вместе с росписями и иконостасами, лучше сохранились. Новгород, в отличие от Москвы и других городов Северо-Восточной Руси, был избавлен и от продолжавшихся набегов татар, когда враги сжигали храмы и их убранство. О многих явлениях русской культуры и искусства XIV в. мы имеем возможность судить лишь по памятникам Новгорода. Более того, некоторые новгородские произведения XIV в. восполняют лакуны и в истории культуры всего византийского круга.
Культура Пскова, этого совсем особого художественного центра, была в XIV в. своеобразнее, чем когда-либо. Среди произведений псковской живописи преобладали сумрачные, трагические и архаичные образы невероятной эмоциональной силы, ориентированные, как кажется на первый взгляд, на более ранние образцы. В середине – второй половине века Псков создавал произведения, вполне адекватные времени, но с особым отпечатком, отразившим специфический подход к сюжету, его мистическую трактовку.
В Северо-Восточной Руси в первой трети XIV в. Важнейшую роль в художественной жизни продолжал играть Ростов, с его крупной иконописной мастерской, обслуживавшей огромную территорию Ростовской епархии, влияние которой распространялось и на обширные северные владения. Именно, это время наступает второй по счету расцвет искусства Ростова, после блестящего этапа его художественной истории в домонгольский период, что выразилось особенно ярко в первой трети XIII в. Примечательно, что во второй половине XIV в., в связи с политическим и культурным подъемом Москвы, значение Ростова отодвигается на второй план, хотя и в это время его традиции остаются важными для окружающих земель, в частности, Ярославля, Костромы, а, возможно, и для лежащих к югу, на Оке, Коломны и Рязани. Рядом с Северо-Восточными землями уже с конца XIII в. Выступает мощное, набиравшее силу Тверское княжество.
Первая половина – середина XIV в.
Живопись первой трети XIV – «тяжелый стиль» и другие варианты
Относительно недавно стало ясно, что на рубеже столетий и особенно в первой трети XIV в. В русскую живопись приходит мощная стилистическая волна, отражающая совсем особое освоение и осмысление антикизирующего «тяжелого стиля» византийской живописи предшествующего периода, середины – второй половины XIII в., которое представлено в Византии фресками Сопочан и Бояны, храма Святых Апостолов в Пече и Богородицы Перивлепты в Охриде. Могучие образы, рожденные заново пробудившимся интересом византийской живописи к античному наследию, выразительность скульптурных, массивных форм, цельность духовной жизни изображенных персонажей, масштабность эмоциональной характеристики привлекли русских художников. В этом искусстве они не могли не увидеть общности с их собственным художественным наследием, с героическими образами русской живописи XIII в., и вместе с тем не могли не увлечься новой для них пластикой объема, живостью цветовых рефлексов. Это искусство, захватывающее своей энергией, широтой звучания, было ближе русской культуре, нежели утонченная живопись представителей Палеологовского ренессанса, и потому именно оно получило популярность в различных русских центрах в первой трети XIV в. При этом на каждом из сохранившихся русских произведений нового типа можно увидеть своеобразный национальный отпечаток – в структуре композиции и рисунка, ярком цвете, более открытом выражении лика.
Памятники Владимира и Ростова
Первые проблески интереса к относительно связной и рельефной форме, к использованию классических реминисценций мы констатировали уже в таких произведениях рубежа XIII–XIV в. как «Архангел Михаил» из церкви Архангела Михаила в Ярославле (ГТГ) и «Спас Нерукотворный» из Введенской церкви в Ростове (ГТГ) (илл.236:237). Более последовательно, хотя еще и очень сдержанно, проявляются новые стилистические особенности в иконе «Богоматерь Максимовская», Владимиро-Суздальский музей (илл. 250). Она находилась в Успенском соборе во Владимире, при гробнице митрополита Максима, и, согласно легенде, написана в память о переезде Максима из Киева во Владимир в 1299 г. и о переносе им митрополичьей кафедры, в связи с разорением Киева. Не исключено, что она появилась чуть позже, ближе ко времени кончины митрополита в 1305 г. Отличие иконы от остальных русских произведений XIII в. состоит в объемности фигуры Богоматери, тяжести крупных драпировок Ее одежд, в пространственности композиции, особенно сказавшейся в расположении фигуры Младенца Христа. Благодаря узкой доске объемность и крупность форм становится особенно заметной, но удлиненная и тонкая фигура Богоматери вызывает ассоциации с гораздо более ранними произведениями, например, с «Богоматерью Боголюбской».

250. Богоматерь Максимовская. Около 1299–1305 гг. Из Успенского собора во Владимире. Владимиро-Суздальский музей-заповедник
Иконография «Богоматери Максимовской» уникальна. Справа внизу, на желтой башне представлен митрополит Максим, облаченный в белую фелонь с черными крестами. Христос, поворачиваясь к нему, дарует митрополиту Свое благословение, а Богоматерь передает ему белый с черными крестами епископский омофор. В данной композиции проглядывает намек на иконографию св. Николая Мирликийского, который иногда изображался с фигурами Спасителя и Богоматери, вручающими ему знаки епископского сана – Евангелие и омофор (позднее предание объясняло эту сцену как иллюстрацию чуда на Никейском соборе, когда св. Николай был лишен епископского достоинства, а затем в нем восстановлен благодаря явлению Христа и Богоматери). Иконографическая программа, уподобляющая русского митрополита самому св. Николаю, великому Христианскому епископу, создана бесспорно во Владимире, при заново организованной там митрополичьей кафедре.
Значительно теснее связана с новым стилем икона «Спас» с оплечным изображением, находящаяся в Успенском соборе Московского Кремля (илл. 251). Поскольку собор, горевший и перестраивавшийся, не сохранил своего первоначального убранства, следует предположить, что икона привезена туда из какого-то крупного центра, скорее всего, в XVI в. Образ выделяется монументальностью композиции и обобщенным, укрупненным характером рельефа. Широкий размах плеч подчеркнут срезом боковых полей и асимметрией драпировок. Величественная осанка, широкая шея, крупные формы создают впечатление, что икона воспроизводит часть композиции с фигурой Христа на троне. Наследие византийского искусства конца XIII в. сказывается в массивности форм, в их повышенной значительности, своего рода «напоре». Однако стиль иконы «Спас» отчасти отражает и константинопольскую культуру палеологовского периода, т.е. раннего XIV в., что сказывается в скользящих высветлениях, плавных светотеневых переходах и тонких линиях золотого ассиста на одеждах. Печать местного русского творчества заметна в необычной трактовке рельефа лика. Он особым образом упорядочен, в отдельных элементах даже схематичен, выглядит граненым или точеным. Русское наследие очевидно и в широком, хотя и в значительной мере утраченном перекрестии нимба, с крупным орнаментом. Самое важное отличие иконы – сочетание сосредоточенной отрешенности с открытостью образа. В иконе присутствует идея обращения к миру, служения ему. Эти качества скажутся в русском искусстве и впоследствии, в XV в., во времена Андрея Рублева.

251. Спас. Первая треть XIV в. Успенский собор Московского Кремля
Новым величавым искусством были захвачены многие русские центры, от ведущих до провинциальных. Наиболее ярко и последовательно он воплощен в иконе «Вознесение пророка Ильи» (Москва, собрание В.А. Логвиненко) (илл. 252). О ее происхождении нет документальных свидетельств, но по колористическим признакам можно предположить, что икона создана в Ростове. С первого взгляда это произведение поражает исключительной связностью действия, красотой ракурсов, пластикой фигур и выразительностью жестов. В композиции выявлены разные смысловые линии. Пророк, в огненном облаке, поднимается на небеса, и это событие венчает его земную жизнь, награждая бессмертием. Кони движутся в сторону Господней десницы, на нее указывает крупная рука пророка, к ней движутся горки, изображенные в виде двух пирамидальны групп. Три ступени, три этапа восхождения воплощены в фигурах пророка Елисея – остающегося на земле ученика Ильи, самого Ильи, уже поднявшегося над землей, и архангела, посланца Господа. В композиции присутствует и другая направленность, указывающая на обратное движение, на нисхождение благодати с небес, через посредство пророка Ильи, к земле. Пророк Елисей, глядящий на учителя с надеждой и преданностью, готов принять милоть Ильи, которую он, по преданию, оставил своему ученику. Архангел, полускрытый от нас огненным облаком, смотрит на происходящее с задумчивым, созерцательным выражением.

252. Вознесение пророка Ильи. Конец XIII – первая треть XIV в. Москва, собрание в.А. Логвиненко
В «Вознесении Ильи» содержится много аллюзий на образы античности, а также на произведения византийской живописи второй половины – конца XIII в. Однако новые художественные впечатления, использованные иконописцем, аккумулированы им в рамках русской традиции. Это сказывается прежде всего в лаконизме и геометрической структурности композиции, с ее круглым как солнце огненным облаком, в выявленных диагоналях и акцентированных угловых изображениях, в сохраняющемся значении крупных, локально окрашенных плоскостей – киноварное круглое облако на ярко-голубом фоне неба, а также в ликах, наполненных глубоким чувством. Эту икону отделяет от самого раннего русского памятника с этим сюжетом – иконы из собрания банка «Интеза» в Виченце (илл. 243) примерно около полувека, но различие между ними чрезвычайно существенно, как в сфере иконографии (в иконе из собрания В.А. Логвиненко появляется огненный ореол вокруг фигуры пророка Ильи и колесницы, который впоследствии станет отличительным признаком русской иконографической версии этого сюжета), так и в стиле и образном содержании.
Муром и Рязань
По-своему, более сдержанно было воспринято новое искусство в двух центрах приокского края, к югу от Ростова – в Муроме и Рязани. Возможно, происходящие оттуда иконы исполнены ростовскими художниками или под их влиянием. Мастер иконы «Св. Николаи из Николо-Набережной церкви в Муроме (Муромский музей) (илл. 253) использует новые возможности стиля иначе, он сохраняет строгую фронтальность и симметрию композиции и даже подчеркивает эти признаки, располагая кисть благословляющей руки строго по центральной оси иконы и фиксируя верхние углы крупными и яркими медальонами с надписями. Он едва ли не копирует лик из какой-то иконы XIII в., повторяя его крупные черты, широко раскрытые темные глаза, характерные завитки седых волос надо лбом, будто высеченные из камня (ср. новгородские иконы из Духова монастыря и из церкви Св. Николы на Липне, илл.220:238). Но лик приобретает в Муромской иконе немыслимую для более раннего времени скульптурность, выпуклость, почти бугристость, а его выражение – оттенок скорби и сострадания.

253. Св. Никола. Конец XIII – первая половина XIV в. Из Николо-Набережной церкви в Муроме. Муромский музей
«Богоматерь Одигитрия» (Рязанский музей) (илл. 254) исполнена мягче, в трактовке скорбного лика Богоматери есть деликатная сдержанность. Индивидуальные особенности иконы из Рязани – тонкая и плавная моделировка округлого лика Богоматери, необычный рисунок Ее печальных глаз с чуть опущенными наружными углами, взрослый – юношеский, а не детский облик Христа, спрямленные контуры Его фигуры (прием, появляющийся в XIV в.). Об иконе из Рязани существует предание, что она привезена с Афона. Скорее всего, оно недостоверно, так как стиль иконы – русский.

254. Богоматерь Одигитрия. Конец XIII – первая треть XIV в. Рязанский музей
Иконы из северных областей Ростовской епархии
Новый стиль, с подчеркнуто объемной трактовкой тяжелых форм, распространяется, через посредство Ростова, в северных владениях Ростовской епархии. «Богоматерь Подкубенская», (Вологодский музей, илл. 255), происходящая из древнего Спасо-Каменного монастыря в Белозерском крае и сохранившая лишь центральную часть композиции, варьирует иконографию «Богоматери Толгской» (илл.231:232): Христос не только прижимается щечкой к щеке Богоматери, как во всех иконах Богоматери Умиление, но и привстает у Нее на руках – особенность «Толгских». Мастер вносит и свои штрихи в композицию: Христос одет в светлую рубашечку с мелким узором и, главное, Он не обнимает шею Богоматери, а обеими руками держится за края Ее одежды. Самые выразительные особенности этой монументальной иконы – необычайно светлый, сероватый, почти белый лик Богоматери, его крупные черты и запоминающиеся изогнутые очертания глаз, скорбное выражение которых подчеркнуто широкими и темными подглазными тенями.

255. Богоматерь Умиление Подкубенская. Первая треть XIV в. Из Воскресенской «Подкубенской» церкви на Кубенском озере. Вологодский музей
Отголоски «тяжелого стиля» достигают даже самых далеких северных провинций, самых низовых народных слоев русской иконописи. Такова икона «Сошествие во ад» из погоста Чухченема на Северной Двине, начала XIV в. (ГТГ, илл. 256). Тяжелые фигуры, массивные черты ликов, округленность очертаний, смешанные оттенки красок напоминают аналогичные приемы в «Вознесении пророка Ильи» из собрания В.А. Логвиненко, но лишь отдаленно, поскольку характер местной культуры дает о себе знать с большой силой. Вместо тонких ритмов, использовавшихся в живописи больших русских центров, композиция северной иконы строится на сопоставлении крупных масс и их симметрии. Фигура Христа помещена на центральной оси, три фигуры левой группы расположены треугольником, три фигуры правой группы – «лесенкой». Изображения Иоанна Предтечи и Авеля (вверху в каждой группе) симметричны друг другу благодаря сходству молитвенных жестов, и одинаковым атрибутам – посохам (у Предтечи это посох пустынника, у Авеля – пастуха). Симметричны и горки, обрамляющие каждую группу. Выразительность иконы создается внимательными взглядами участников и глубоко растроганных очевидцев чуда и, что самое важное, диалогом Христа и Адама, перекличкой их взглядов. Лик Адама, словно просыпающегося, постепенно оживляющегося, полон надежды, а лик Христа, аскетически исхудалый и страдальческий, выражает такую участливость, сердечность, сочувствие, которые делают эту провинциальную икону видным явлением в истории русской культуры. Цветовая гамма – сочетание голубого и розового, ярко-желтого и киновари – характерна для художественной традиции Ростова. Но очень светлая, почти белая карнация для ростовской живописи необычна, хотя встречается в его провинции (ср. «Богоматерь Подкубенскую», илл. 255), а также в Твери (ср. лики в миниатюрах Хроники Георгия Амартола, илл. 259).

256. Сошествие во ад. Первая треть XIV в. Из погоста Чухченема на Северной Двине. ГТГ
Книжная миниатюра. Ростов и Тверь
На новые пути выходит и книжная иллюстрация, о чем свидетельствуют обе лучшие рукописи Северо-Восточной Руси. Две первоначальные миниатюры Федоровского Евангелия (Ярославский музей-заповедник), с их гибкими, уподобленными античным статуям фигурами, разнообразием ракурсов, имеют мало общего с застывшими персонажами русских рукописей второй половины XIII в. От прежнего в их художественном языке сохраняется лишь повышенная яркость цвета и, что еще более важно, особая значительность образа, его героическое начало и внутренний напор. Эти качества ощутимы, невзирая на то, что мастер пользовался приемами именно миниатюры, погрузив каждую композицию в орнаментальное окружение, будто в кружево. Сведений о времени и месте создания Федоровского Евангелия не сохранилось. Предполагается, что первая миниатюра на л. 1 об., являющаяся фронтисписом всего кодекса, с изображением св. Феодора Стратилата (илл. 257), исполнена по заказу какого-то князя, носившего Христианское имя Феодор, либо в память этого князя, но, возможно, и в знак предназначения рукописи для церкви, посвященной этому святому. Вероятно, миниатюра исполнена в память князя Федора Ростиславича (1240–1299), широко известного на Руси в XIII в., княжившего в Ярославле и Смоленске, пострадавшего от татар и причисленного к лику святых вместе со своими сыновьями Давидом и Константином. Св. Воин представлен в доспехах, с оружием, в церемониальной позе, с классическим «хиазмом» фигуры, благодаря чему он напоминает изображение из византийской мозаики или фрески, и даже римскую статую. Под его ногами – зеленые листики травы, а по сторонам – симметричные деревья с павлинами на верхушках. Св. Феодор изображен во славе, во всей красоте своего воинского достоинства, он пребывает в райских кущах, в небесном блаженстве.

257. Св. Феодор Стратилат. Миниатюра Федоровского Евангелия. Первая треть XIV в. (1320–е гг.?). Ярославский музей-заповедник
Не менее замечательна миниатюра с изображением евангелиста Иоанна Богослова и Прохора, помещенная в начале Евангельских чтений годового круга, перед Пасхальными чтениями (илл. 258). Многое в популярной иконографии трактовано необычно. Даже в русских миниатюрах XIV–XV вв., часто имеющих пространные пояснительные надписи и цитаты из текстов, не удастся найти композицию, где начало Евангелия от Иоанна («искони бе слово...») было бы повторено три раза роскошными золотыми буквами. Этот текст сначала написан диагонально расположенными строчками слева вверху около фигуры Христа в небесах; затем в круге на фоне, для разъяснения, какие именно слова диктует Иоанн Прохору; наконец, в книге, где пишет Прохор. Фигуре Прохора, едва ли не более крупной, чем у Иоанна, отведена наибольшая часть композиции. Прохор привлекает внимание и яркой красной одеждой. Мастер этой миниатюры словно возвращается к античным первоисточникам данной иконографии, то есть к схеме античных композиций где изображался поэт (в миниатюре в позе пишущего поэта представлен Прохор) и вдохновляющая его муза (этому образу уподоблен Иоанн). Евангелист, стоя в сложном развороте, с молитвенно поднятыми руками, словно принимает небесное откровение, диктуя его Прохору, тогда как последний исполняет свое высокое предназначение, записывая божественный текст в красивую книгу с золотой заставкой. В другую книгу, лежащую на пюпитре, вписана пояснительная надпись, еще раз акцентирующая роль Прохора: «Святой Иоанн возглашает Прохору святое Евангелие писати», подчеркивая, что Евангелие пишет именно Прохор.

258. Евангелист Иоанн Богослов и Прохор. Миниатюра Федоровского Евангелия. Первая треть XIV в. (1320-е гг.?). Ярославский музей-заповедник
Выделение образа Прохора не случайно, он был, скорее всего, святым патроном заказчика. Среди деятелей русской истории XIV в. есть лишь один, которого можно рассматривать как заказчика роскошной рукописи Федоровского Евангелия: Прохор, епископ Ростовский (1311–1328), игравший видную роль в Русской Церкви и даже замещавший митрополита после кончины митрополита Петра в 1326 г. именно Прохор освящал в 1327 г. московский Успенский собор, поскольку следующий митрополит, Феогност, еще не успел прибыть на Русь. Вероятно, епископ Прохор заказал эту рукопись в 1320-х годах ростовским (менее вероятно – московским) мастерам, и миниатюристы воспроизвели местную художественную традицию: крупную форму, румяность щек, яркость цвета и узорность. Правда, они изменили цветовую доминанту палитры, в обеих миниатюрах господствует не ростовский синий, а оттенки зеленого – бирюзовый и малахитовый.
Изысканность манускрипта усиливается благодаря орнаменту заставок и инициалов, где плетеные узоры сочетаются с изображениями сказочных животных, а также благодаря обрамлению миниатюры с Иоанном и Прохором. Оно имеет форму купольного храма, известную русскому искусству с XI в. (илл. 72, 72, 73, 77), но заполненную своеобразным абстрактным орнаментом, который получит более широкое распространение в позднем XIV и XV вв.
Орнамент на вертикальных полосах обрамления миниатюры с Иоанном и Прохором живо напоминает фресковый орнамент 1232–1233 гг. на пилястрах диаконника в соборе Рождества Богородицы в Суздале (илл. 202). Оплечное изображение Христа в люнете храма-обрамления, с иконографией, распространенной в русском искусстве, возможно, указывает на наименование храма, для которого заказана рукопись. Это мог быть Спасо-Преображенский монастырь в Ярославле, в библиотеке которого и сохранился этот манускрипт. Именно в Ярославле был центр почитания князя Федора, патрональный святой которого изображен на фронтисписе кодекса.
Вторым важнейшим памятником русской рукописной иллюстрации, в котором русская традиция впитала приемы византийской живописи второй половины – конца XIII в., является комплекс иллюстраций к списку Хроники Георгия Амартола (РГБ). Это византийское сочинение, излагающее историю человечества с библейских времен, было составлено в IX в., а в XI в. в Киеве, как предполагается, переведено на славянский язык. Перевод лег в основу русских копий, одна из которых была исполнена в Твери. В тексте помещены многочисленные миниатюры в прямоугольных рамочках, изображающие различные события библейской истории, а близко к началу, на развороте друг против друга помещены две большие миниатюры-фронтисписы. На левой (илл. 259) изображен Христос на престоле, с раскрытым Евангелием (текст о Христе-свете, Ин.8:12), а по сторонам – тверской князь Михаил Ярославич (ум. В 1319 г.) и его мать Ксения (Оксиния, ум. В 1313 г.). Оба они обращают молитвенные жесты ко Христу. На соседней миниатюре (илл. 260) представлен автор сочинения, византийский монах Георгий, занятый составлением своего текста.
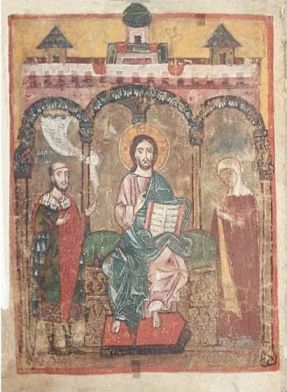
259. Спас на престоле, с предстоящими тверским князем Михаилом Ярославичем и его матерью княгиней Оксинией. Миниатюра Хроники Георгия Амартола. Первая треть XIV в. РГБ

260. Монах Георгий, составляющий Хронику. Миниатюра Хроники Георгия Амартола. Первая треть XIV в. РГБ
Обе миниатюры содержат многочисленные приметы сходства с византийским, а отчасти и с русским искусством конца XIII в. В первой миниатюре это внушительные фигуры, массивные закругленные драпировка одежд Спасителя (местами они словно пытаются образовать стилизованные спирали, как в искусстве «позднекомниновского маньеризма»). Округлый, объемно вылепленный лик Христа, с крупными чертами (он чем-то напоминает лик Спаса в «Преображении» из росписи 1290-х годов в церкви Св. Николы на Липне близ Новгорода) имеет спокойное, чуть скорбное выражение. Архитектурный фон с куполком и башенками по сторонам – еще плоскостный, но уже отличающийся от фонов в комниновском искусстве непринужденностью очертаний и композиции. Он напоминает архитектурные фоны в сценах жития св. Димитрия в храме Метрополии в Мистре, Греция, 1270-х – 1280-х гг. Во второй миниатюре – это спокойная, объемно трактованная фигура монаха Георгия, его пространственно переданная поза. Особенность этой миниатюры – преобладание антуража, а не господство фигуры: обильные, хотя и плоскостно трактованные архитектурные сооружения и занавеси, массивная трехлопастная арка, обрамляющая сцену. Обе композиции, монументальные, импозантные и спокойные, органично сочетают наследие русского искусства XIII в., торжественного и величавого, с мотивами византийской живописи позднего XIII в. Исходя из стиля и на основании исторических соображений, миниатюры тверской Хроники Георгия Амартола можно было бы датировать временем перед 1294 г., то есть до того как князь Михаил женился и мог бы быть изображен уже не с матерью, а с женой. И лишь отмечаемые палеографами особенности почерка заставляют отнести манускрипт к XIV в. Очевидно, в тверской культуре достаточно долго сохранялась та художественная концепция, которая успела сложиться там уже в период строительства и украшения Спасо-Преображенского собора 1285–1290 гг.
Памятники Новгорода
Новгород, в сравнении с регионами Северо-Восточной Руси, имел более прочный и ненарушенный запас культурной традиции. Энергичные новгородские архиепископы возглавляют быстро возродившуюся строительную деятельность. Одни храмы ремонтируются, другие возводятся заново, как и монастыри – внутригородские и пригородные. Ведутся работы и в новгородском Детинце: в 1302–1305 гг. обновляется большая Борисоглебская церковь неподалеку от Св. Софии, а в 1290–1310-х гг. на воротах Детинца строятся четыре надвратные церкви – своеобразная разновидность русских храмов. Новгородцы совершают паломничества в Константинополь, укрепляют связи с монастырями горы Афон. Их интересует не только обустройство самого Новгорода, но и культурная деятельность на территории северных владений, в районе Ладожского и Онежского озер, Беломорского побережья. В этих отдаленных местах, с разбросанными на большом расстоянии друг от друга деревянными церквами, с деревенскими часовнями, теперь основываются значительные монастырские обители, несущие духовное просвещение в эти края.
Большую активность в организации духовной и культурной жизни Новгорода и его земель проявляли архиепископы Давид (1309–1325), а чуть позже – Моисей (1325–1330, 1352–1359) и Василий (1331–1352). Заслуги архиепископа Моисея описаны в его Житии, а об архиепископе Василии известно даже, что он сам был иконописцем.
Развитие новгородской живописи в первой половине XIV в. совпадало по общей схеме с той картиной, которую мы наблюдали в Москве и в Северо-Восточной Руси. Сначала появляются единичные произведения, свидетельствующие о возобновлении русско-византийских контактов (возможно, путем использования новых образцов или благодаря приезду отдельных мастеров). Затем приглашаются и целые группы византийских живописцев. Вырисовывается своеобразный художественный слой, где переплетается местное и византийское, где палеологовские мотивы получают совсем особую локальную интерпретацию. Одновременно существует искусство архаического, народного плана.
Однако по общему характеру и по деталям развития новгородская живопись оказывается глубоко своеобразной. В ней сохраняется героический тон, высокий накал эмоций, сила и активность воздействия. Живопись Северо-Восточной Руси имеет больше полутонов, поэтичности, задумчивости и размышления. Между тем, новгородская живопись наделена ошеломляющей стремительностью впечатления и несокрушимой твердостью формы.
Среди новгородских произведений первой трети XIV в. есть яркие, хотя и разрозненные примеры нового, византинизирующего искусства. Один из них – лик св. Георгия в большой иконе XII в. из Юрьева монастыря, поновлявшейся в XIV в. (ГТГ, илл. 261). Сохранив рисунок фигуры, мастер XIV в. переписал лик. Он использовал слои первоначальной живописи лишь в качестве нижнего, основного тона, поверх которого он так положил яркую розоватую карнацию и белильные световые блики, что лик юного святого приобрел небывалую ранее в новгородской живописи объемность, словно ожил под скользящими лучами света и получил выражение сосредоточенной, волевой решимости. Вероятно, в первой трети XIV в. были написаны и две иконы «народного» художественного пласта, с фигурами на одной из них – апостола Петра или богоотца Иоакима, а на другой – неизвестной преподобной (или Анны?) (Национальный музей в Стокгольме, илл. 262), обе на красном фоне. Вероятно, они служили створками какого-то складня-триптиха, средник которого до нас не дошел. Неподвижные фигуры написаны в традициях русской живописи XIII в., тогда как лики, с их выражением задумчивости и скользящими пятнами света, обнаруживают воздействие новой, складывающейся на Руси культуры.

261. Св. Георгий. Деталь иконы. Живопись первой трети XIV в. на иконе XII в. из новгородского Юрьева монастыря. ГТГ

262. Апостол Петр (?) и неизвестная преподобная. Створки складня-триптиха. Первая треть XIV в. Стокгольм, Национальный музей
Такая же «инкрустация» нового стиля в традиционную структуру содержится в одной из миниатюр Псалтири собрания Хлудова, ГИМ, Хлуд.3. Эта роскошная рукопись, заказанная неким новгородцем Симоном, во второй четверти XIV в., украшена многочисленными миниатюрами в тексте, иллюстрирующими тот или иной псалом, и двумя более или менее обычными выходными миниатюрами. Одна изображает царя Давида, играющего на музыкальном инструменте в окружении других музыкантов (илл. 263), а другая – его же, но в образе автора, пишущего сидя, у столика (илл. 264). В первой миниатюре пояснительная надпись гласит, что «Давид царь составляет Псалтирь» (то есть сочиняет ее текст), а в другой – что он «пишет» Псалтирь, то есть записывает текст. И текстовые, и выходные миниатюры построены плоскостно и симметрично, с яркой раскраской, и отличаются от произведений XIII в. лишь подвижностью поз, сухостью бесплотных фигур, игрой стилизованных линий и остротой контуров.

263. «Давид царь составляет Псалтирь». Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири. Вторая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3

264. «Давид царь пишет Псалтирь». Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири. Вторая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3
Перед двумя обычными выходными миниатюрами находится еще одна – «Явление Христа женам-мироносицам» (илл. 265), заслуживающая специального внимания. Она могла быть помещена перед кодексом Псалтири как напоминание о воскресении Христа, либо как намек на ктиторскую композицию: обозначены имена припавших к ногам Спасителя жен: «Марфа и Мария, сестры Лазоревы», и одна из сестер могла быть святой покровительницей знатной женщины из семьи заказчика. Эту миниатюру писал другой мастер, не тот, что исполнил остальные выходные миниатюры. Если симметричная, плоскостная композиция, застывшие фигуры мироносиц, яркие цветовые плоскости роднят ее с другими иллюстрациями кодекса, то фигура Христа дана в более свободной и гармоничной позе. Главное же новшество – в трактовке лика Спасителя, с тонко градуированным рельефом, некрупными чертами, скользящим светом и богатством оттенков жизни.

265. Явление Христа женам-мироносицам. Миниатюра новгородской Хлудовской Псалтири. Вторая четверть XIV в. ГИМ, Хлуд. 3
Свое особое место в общей картине русской живописи первой трети XIV в. занимают псковские росписи собора Снетогорского монастыря (ок. 1313 г.) (см. ниже), которые со всей наглядностью показывают, как в рамках наступившего нового столетия продолжают жить традиции монументального и величественного искусства XIII в., давая художникам мощные творческие импульсы.
Живопись 1330–1350-х гг.
В византийской живописи после Палеологовского Ренессанса первой трети XIV в., как показала О.С. Попова, наступил этап, когда ренессансные идеалы утрачивают свое значение, композиции теряют гармонию, образы приобретают остроту и напряженность. Русская живопись, как мы видели, не была затронута палеологовским ренессансом, в первой трети века русские художники осваивали и по-своему интерпретировали традиции XIII в. Однако и на Руси 1330–1350-е гг. оказались особым этапом. Знакомство с византийским искусством приобретает более последовательный характер, в крупнейшие русские центры относительно регулярно приглашаются византийские мастера. Тем не менее, русская живопись сохраняет собственное лицо. Ее особенности сказываются в большей массивности форм, повышенной яркости цвета, схематизации структуры и традиционной для русской живописи большей душевной открытости. Присущее русским произведениям первой трети века эпическое начало начинает ослабевать, уступая место нарастающему внутреннему напряжению.
Ведущими центрами в политической и культурной жизни Руси стали в это время Москва, вытеснившая с первых ролей древний город северо-востока – Ростов, а на северо-западе – Новгород. Именно в этих городах с наибольшим размахом разворачивается строительство каменных зданий.
Москва
В Москве после каменного Успенского собора 1326–1327 гг., явившегося осуществлением замысла митрополита Петра и князя Ивана Даниловича Калиты, князь продолжает начатую программу при полной поддержке митрополита Феогноста (1328–1353). В 1329 г. строится церковь Св. Иоанна Лествичника (предшественница храма с колокольней «Иван Великий»), в 1330 г. – церковь Спаса Преображения на княжеском дворе, в самой старой части Московского Кремля, у Боровицких ворот, то есть близ впадения реки Неглинки в Москву, в 1333 г. возводится церковь Архангела Михаила (впоследствии ее сменил ныне существующий Архангельский собор), а в 1340 г. строится храм Богоявленского монастыря на посаде, за пределами кремлевских стен.
В 1340-х гг., судя по известиям письменных источников, над росписью этих храмов с невероятной интенсивностью работают художники-монументалисты. Формулировки московских летописей очень точно отражают ситуацию: одни мастера – это приезжие греки, другие – русские ученики греческих мастеров, а третьи – независимые русские. В 1344 г. греческие мастера, приглашенные митрополитом Феогностом, расписали Успенский собор. В том же году приступили к работе русские мастера Захария, Иосиф и Николай с помощниками, нанятые князем Семеном Ивановичем для росписи храма Архангела Михаила (окончена в 1346 г.). В 1345–1346 гг. другие русские мастера, «русские родом, но ученики греков», приглашенные княгиней Анастасией, женой князя Семена Ивановича, расписали придворную церковь Спаса Преображения. В 1346 г. окончена и роспись церкви Иоанна Лествичника. Летопись не сообщает, когда и кто начал эту роспись. Поскольку две артели в 1346 г. уже были заняты росписью других храмов, то третья, работавшая в церкви Иоанна Лествичника, могла быть той греческой группой, которая после окончания работы в Успенском соборе осталась свободной.
От этой строительной и художественной эпопеи не осталось ни росписей, ни самих зданий. Лишь единичные, разрозненные иконы и миниатюры позволяют составить представление об искусстве Москвы и окружающих ее земель 1330–1350-х гг.
Важнейшим памятником московского искусства этого времени является Сийское Евангелие апракос 1340 г. (ГРМ, БАН), написанное и украшенное в Москве по заказу князя Ивана Калиты для одной из церквей на далеком Севере, на Двине. Северные края, где до тех пор имели влияние лишь Ростов и отчасти Новгород, осваивались Москвой весьма энергично, в том числе и путем богатых вкладов. все в миниатюрах Сийского Евангелия необычно, начиная с выбора сюжетов. Представлены не четыре евангелиста и не нарративный евангельский цикл, а только две сцены, которым придано, тем самым, ключевое значение. В начале, перед Чтениями на Пасху, был помещен лист с «Поклонением волхвов» (он был вырезан и попал в ГРМ, илл. 266), а ближе к концу, перед началом Чтений Страстной недели, располагается миниатюра «Прощание Христа с учениками» (БАН, илл. 267). Тем самым, начало и конец земной жизни Христа обозначены в виде мини-цикла, своего рода диптиха, где акцент сделан на темах встречи Христа с человеческим родом и прощания с ним. Сходно построение обеих миниатюр: справа на фоне здания – Христос, слева – приближающаяся и поклоняющаяся группа людей. В первой миниатюре представлена встреча воплотившегося Логоса; развитая архитектура и яркие узорные одежды придают композиции праздничный облик. Во второй миниатюре изображено прощание, скорбь, приятие благодатного завета. Отсюда – иные позы и другой колорит, прижатые к груди и простертые вперед руки апостолов, их скорбные лики и напряженно скошенные глаза. Здание, на фоне которого стоит Спаситель, имеет не только символический смысл (это храм, где черный проем напоминает о теме Христа – двери), но и композиционный, поскольку он обрамляет фигуру Христа, отделяя Его от мира апостолов.

266. Поклонение волхвов. Миниатюра Сийского Евангелия. 1340 г. ГРМ, Др. гр. 8
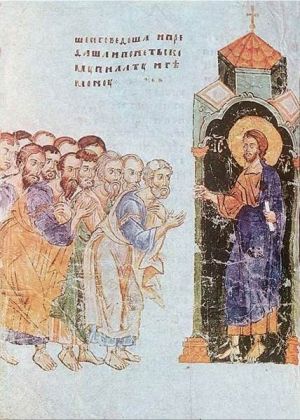
267. Прощание Христа с учениками. Миниатюра Сийского Евангелия. 1340 г. БАН, Археогр. комиссия, № 189
В обеих миниатюрах очевидны приемы палеологовского искусства – в объемности форм, очертаниях построек, обилии цветных рефлексов на одеждах. Но в них еще очень сильны реминисценции монументального стиля предшествующего столетия: формы массивны, фигуры малоподвижны. Цвет в миниатюрах Сийского Евангелия ярок, положен местами в виде широких ровных плоскостей, а это, наряду с крупными формами, вместе с общим впечатлением монументальности, является наследием живописи Ростова, без которого Москва не могла обойтись.
Миниатюры Сийского Евангелия показывают, какой была живопись Москвы до приезда «греков митрополита Феогноста»: ее уже коснулись палеологовские новации, но общая стилистическая окраска зависела от местного наследия, от искусства Ростова и его живописной школы, питавшей Москву.
Другие произведения могут быть отнесены к искусству Москвы лишь условно. Это две иконы в Успенском соборе Московского Кремля, привезенные туда из неизвестных нам храмов и не имеющие между собой конкретного стилистического сходства. Первая из них – «Троица Ветхозаветная» (илл. 268–270). Вероятно, она попала в Успенский собор Московского Кремля из какого-либо храма Ростовской земли, а может быть и из монастыря московского круга: почитание Св. Троицы на Руси во второй четверти – середине XIV в. было активным, в это время разворачивалась деятельность преподобного Сергия Радонежского. Между тем, схематичная аналогия своеобразной иконографии кремлевской иконы обнаруживается в Новгороде (на «Четырехчастной» иконе начала XV в. из Георгиевской церкви в ГРМ). Поздняя живопись, к сожалению, сохраняющаяся на большей части иконной поверхности кремлевской «Троицы», повторяет первоначальную композиционную схему, что хорошо видно по двум раскрытым «окнами – голове правого ангела и фигуре Сарры (справа внизу).

268. Троица Ветхозаветная. Вторая четверть XIV в. Под записью Тихона Филатьева 1700 г., с частичными раскрытиями. Успенский собор Московского Кремля


269. Праведная Сарра. Деталь иконы «Троица Ветхозаветная». Вторая четверть XIV в. Успенский собор Московского Кремля
270. Ангел. Деталь иконы «Троица Ветхозаветная». Вторая четверть XIV в. Успенский собор Московского Кремля
Внушительность композиции создается крупными фигурами ангелов, редкой формой круглого стола-«трапезы», который как бы раздвигает фигуры и придает композиции нагруженность, заполненность, а также роскошными золотыми креслами ангелов и яркими ангельскими одеждами с крупными золотыми рефлексами. Тема торжества, триумфа, красоты и великолепия небесного мира была ведущей темой русского искусства еще в предшествующем столетии. Теперь, в новых исторических условиях, эта тема получает более тонкое, эмоционально нюансированное воплощение. Нежный лик правого ангела кажется светящимся.
Поднятые крылья ангелов, напоминающие изображения античной Ники, дополнительно акцентируют тему триумфа, а колонны кресел, возможно, напоминают о семи столпах Божественной Премудрости (изображено восемь колонн, но одна из них наполовину срезается иконной рамой). Примечательно и соотношение небесного мира ангелов и земного, людского, который представлен Авраамом и Саррой. Оба мира композиционно не разделены, но даны в контрасте масштабов.
В XIV в. В русское искусство начинают возвращаться, через посредство византийских образцов, античные реминисценции. В «Троице» это сказывается и в скульптурной весомости фигур, и в пространственном рисунке фигуры Сарры, в ракурсе мебели, и в замечательной фигурке слуги, закалывающего тельца. Эта сценка в нижней части иконы напоминает изображения Геракла или Самсона, побеждающих льва.
При всей масштабности и величии, нарядной красочности и блеске живописи «Троицы», опирающейся на традиции русского искусства XIII и раннего XIV в., в иконе обнаруживаются и легко уловимые новые качества. Сияющий лик правого ангела строится при помощи геометризированных, упорядоченных контуров и схематически выточенных объемов, а скорбный лик Сарры еще дальше ушел от классических образцов из-за маленького, скошенного подбородка (в лике ангела эта особенность не столь заметна).
Драматическое начало выражено несравненно сильнее в иконе «Спас Ярое око» (Успенский собор Московского Кремля) (илл. 271), получившей свое индивидуальное название в XVIII в. Это произведение по своей иконографии идентично «Спасу» с оплечным изображением, первой трети XIV в., хранящемуся в том же храме. Очевидно, обе иконы являются репликами одного и того же оригинала (возможно, домонгольского), который до нас не дошел. Композиция иконы «Спас Яpoe око» проще, более раннего памятника с той же иконографией, изображение слегка уменьшено в сравнении с иконным полем, рисунок плеч симметричен, в построении лика большая роль отведена «струящимся» линиям и силуэту. Скорбность выражения лика увеличивается благодаря утрированному рельефу, морщинистому лбу, тревожащему контрасту зеленых и коричневых теней с ярко-красными губами. Внимательная участливость в выражении лика ассоциируется с одной из важнейших граней русской иконной традиции. Своим драматизмом икона родственна образам новгородского искусства.
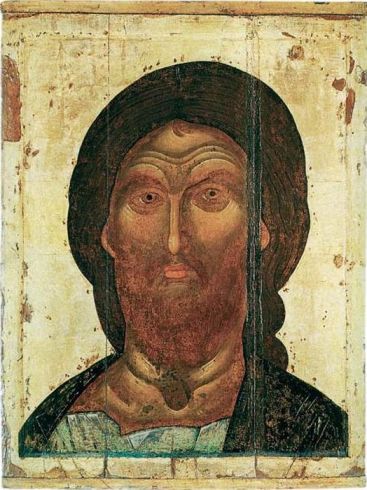
271. «Спас Ярое око». Середина – третья четверть XIV в. Успенской собор Московского Кремля
Ростов
Живопись Ростова, несмотря на утрату этим городом ведущей культурной роли в Северо-Восточной Руси, продолжала рождать яркие и незаурядные произведения, в которых усилившаяся провинциальность формы искупалась искренностью и действенностью образа. «Богоматерь Толгская» (так называемая «Толгская Третья») (ГРМ, илл. 272) отличается по иконографии от двух предшествующих икон из того же монастыря: Младенец не привстает на руках Богоматери. Редкая особенность этой иконы – розовый гиматий Христа, который образует крупные вьющиеся складки и, главное, проложен между соприкасающимися щеками Богоматери и Христа, благодаря чему подчеркивается символика гиматия, напоминающего своим цветом об искупительной жертве Спасителя. Истоки стиля иконы ГРМ поддаются четкому определению: это иконопись Ростова, с ее плотной фактурой, розоватой карнацией, яркими румянами на щеках. Утрированно широкий силуэт Богоматери, скорбные лики, сочетание темно-синего и кораллово-розового с серебряным фоном – все это создает эффект тревожной напряженности.

272. Богоматерь Умиление Толгская («Толгская Третья»). Первая половина – середина XIV в. ГРМ
В Ростове, как можно предположить, продолжали украшать рукописи миниатюрами, что, ввиду элитарности этого вида искусства, свидетельствует о сохраняющейся значительности этого художественного центра. Так называемое Оршанское Евангелие (Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского, институт рукописей, инв. ДА 555 п) было написано и украшено орнаментом в ростовской книгописной мастерской еще во второй половине XIII в., а на листах для миниатюр, остававшихся свободными (видимо, из-за нехватки художников в те тяжелые времена) изображения были исполнены позднее – судя по стилю, лишь приблизительно во второй четверти XIV в. Могучие фигуры евангелистов (илл. 273) сохраняют родство с образами XIII в., но детализированные контуры, размашистые игольчатые пробела, острые и напряженные взгляды ясно указывают на более позднее, «палеологовское» время создания этих композиций.

273. Евангелист Лука. Миниатюра Оршанского Евангелия. Вторая четверть XIV в. Киев, Национальная Библиотека Украины имени В.И. Вернадского, институт рукописей, инв. ДА 555 п
Иконы Ростовского Севера
В живописи Северо-Восточной Руси существовал еще один слой, наиболее своеобразный и даже экзотический. Это иконы из далеких северных деревень и небольших монастырей, расположенных на землях, которые находились под церковным и культурным влиянием Ростова, а отчасти и Москвы. Произведения из северных земель и раньше отличались от памятников крупных центров, в частности, из самого Ростова, но разница не была столь контрастной. Между тем, в искусстве приблизительно второй четверти – середины XIV в. происходит поляризация художественных признаков, оформляется принципиальное различие между искусством центра и живописью периферии, что зависит, вероятно, от развития провинций и, может быть, от появления там собственных иконописцев.
В стиле северных икон видна не только зависимость от традиций крупных центров, но и совсем особая их интерпретация, необычайная искренность, непосредственность, трогательность – качества, искупающие упрощение художественных приемов. В этом отношении произведения из северных областей Ростовской епархии родственны памятникам из северных провинций Новгорода, но слегка отличаются своим колоритом, с относительно частым использованием голубых оттенков, а также смягченностью образа.
Северные художники любили четкие, геометрические композиции, в которых контуры приобретают строгость геральдики. Таковы иконы «Спас Нерукотворный; Христос во гробе» из погоста Княжостров на Северной Двине (Архангельский музей изобразительных искусств, илл. 274) «Спас Нерукотворный» из села Новленское (по дороге из Яpoславля на Вологду), ГТГ (илл. 275), середины – второй половины XIV в. Не только св. Мандилион, с его узелками и острыми концами, но и сам лик Христа и пряди Его волос прорисованы и моделированы с идеальной симметрией. Это придает образу силу и твердость, не мешая его сиянию, свечению, почти ласковости взгляда, который заставляет вспомнить знаменитую византийскую икону «Христос Пантократор», 1363 г., в Эрмитаже.


274. Спас Нерукотворный; Христос во гробе. Первая половина XIV в. из погоста Княжостров на Северной Двине. Архангельский музей изобразительных искусств
275. Спас Нерукотворный. Середина – третья четверть (вторая половина?) XIV в. Из села Новое (Новленское) на реке Ухтоме, Ярославской области. ГТГ
Примитивная икона северной ростовской традиции «Богоматерь на престоле, с предстоящими свв. Николой и Климентом» (Вологодский музей, илл. 276), с ангелами в верхних углах, с точки зрения иконографии восходит к византийским изображениям Богоматери на престоле, часто создававшимся в XIII в. Фигура Богоматери в вологодской иконе –узкоплечая, большеголовая, архаичная, напоминающая деревянные фигуры из крестьянского дохристианского искусства. Концептуальная насыщенность возникает благодаря трактовке фигуры Христа. Это не младенец, а юноша, величественный Логос. Его значительность подчеркнута фронтальной позой, как у тронного Пантократора, и алым гиматием. Он является смысловым центром композиции, Ему поклоняется Богоматерь, фигура Которой служит престолом для Христа (в соответствии с одним из гимнографических уподоблений). К Нему обращены и молитвенные жесты обоих святителей, почитание которых, широко распространенное по всей Руси, на Севере получало дополнительные импульсы, поскольку оба рассматривались как покровители плавающих по рекам и морям, а это было исключительно важно для северных крестьян, рыболовов и путешественников. Обе последние иконы показывают, что вологодские мастера восприняли многие приемы ростовских художников и утрировали их. Художники придали геометрическую твердость ликам, которые стали напоминать маски, и подчеркнули три основных элемента цветовой гаммы – ярко-желтый, синий и красный.

276. Богоматерь с Младенцем на престоле, с предстоящими свв. Николой и Климентом. XIV в. Из церкви Архангела Гавриила в Вологде. Вологодский музей
В иконах из северных областей Ростовской епархии, как это часто бывает в провинциальном искусстве, встречаются редкие иконографические варианты, не сохранившиеся в больших центрах. Такова икона «Сошествие во ад» из селения Пёлтасы в районе реки Ваги (собрание В.А. Логвиненко, Москва, илл. 277), в которой, помимо традиционных для этого сюжета персонажей, внизу изображена сцена борьбы ангелов с Сатаной (его фигура была на срезанной части доски), Вельзевул и персонификация Смерти (все три эти фигуры с соответствующими надписями хорошо сохранились на реплике этой иконы, исполненной чуть позже в XIV в.). В основной части композиции помещена уникальная группа из шести ветхозаветных праматерей, во главе с Евой. Эта иконографическая особенность, основанная на ряде текстов, в том числе на чтениях в Неделю св. отец и Неделю св. праотец перед Рождеством Христовым, была в разных вариантах известна в Москве (икона конца XIV в. из Коломны в ГТГ, илл. 363) и получила распространение в иконах русского Севера, подчеркивая особую жизненную силу женских образов, популярных в народной культуре.

277. Сошествие во ад. Вторая четверть – середина XIV в. Из села Пёлтасы, Вологодской области. Москва, собрание В.А. Логвиненко
Живопись Новгорода
Еще в первой трети XIV в. в Новгород, вероятно, заезжали ненадолго отдельные византийские художники. Они могли быть приглашены, в частности, архиепископом Василием, который в 1320-х годах, до своего поставления на владычество, совершил паломничество в Константинополь.
С конца 1330-х годов процесс впитывания новшеств палеологовского стиля идет более активно. В 1338–1339 гг. работу византийского мастера фиксирует новгородская летопись: грек Исайя с артелью расписывает надвратную церковь Входа в Иерусалим. Заметим, что византийские фрескисты появились в Новгороде на несколько лет раньше, чем в Москве (1344). Не сохранилось ни этих новгородских росписей, ни самого храма. Но, к счастью, до нас дошли другие произведения, созданные этой артелью или их русскими последователями. Таковы, прежде всего, изображения двунадесятых праздников, исполненные около 1341 г. на трех длинных горизонтальных досках для иконостаса Св. Софии, где они находились над архитравом, между двумя центральными столбами. Многое в этих двенадцати сценах (илл. 278) определено палеологовским стилем: разнообразие композиционных ритмов, вариации силуэтов, пространственность композиций, ракурсы фигур и построек, богатая цветовая гамма с обилием рефлексов и переходных оттенков. Однако этим новгородским иконам присуща необычная для византийских произведений плотность и жесткость формы, возникающая благодаря густым малопрозрачным краскам, длинным контурам теней и высветлений на одеждах и другим приемам. Особенность Софийских праздников – и в акценте на общее впечатление от композиции, при незначительной роли ликов. Греческие надписи при каждой сцене заставляют предположить, что двенадцать праздников исполнены приезжими художниками. Мастера были, скорее всего, выходцами не из Константинополя, а из византийской провинции, например, с Балкан. В своем новгородском творчестве они испытали воздействие русской среды, воспроизведя особенности новгородской живописи, присущий ей пафос напряженной, напористой формы.

278. Сошествие во ад, Вознесение, Сошествие Св. Духа на апостолов, Успение Богоматери. Икона из праздничного ряда иконостаса Софийского собора в Новгороде. Около 1341 г. Новгородский музей
Новые приемы, усвоенные новгородскими мастерами и обеспечившие их композициям богатство ракурсов, пространственность, разнообразие решений, получили в Новгороде популярность. Именно они легко опознаются в миниатюрах новгородского Евангелия ГИМ, Хлуд. 30 (илл. 279), где форма охарактеризована так активно, что каждая фигура, постройка, мебель выглядит словно сгусток массы, наполненный внутренним напряжением и окруженный незримым сиянием, излучением энергии. Композиции этих миниатюр с точностью до малейшей детали воспроизведены на медных, с «золотой наводкой» Царских вратах с изображением «Благовещения» и четырех евангелистов, из собрания Н.П. Лихачева (ГРМ, илл. 280).

279. Евангелист Лука. Миниатюра новгородского Хлудовского Евангелия. 1330-е–1340-е гг. ГИМ, Хлуд. 30
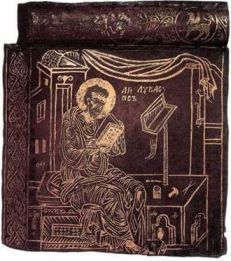
280. Евангелист Лука. Деталь Царских врат с изображением Благовещения и четырех евангелистов. Золотая наводка на меди. 1330-е – 1340-е гг. Из собрания Н.П. Лихачева. ГРМ
Изделия в технике «золотой наводки», подобные графике или гравюре Нового времени, стали чрезвычайно популярны в Новгороде во второй четверти XIV в., при архиепископе Василии, который воскресил этот вид искусства, достигший на Руси исключительной утонченности уже в конце XII в., когда были созданы две пары храмовых врат в соборе Рождества Богородицы в Суздале (илл. 187–190). В Новгороде в этой технике также исполнялись преимущественно врата, как иконостасные (упомянутые Царские врата в ГРМ), так и храмовые. Традиция была в XVI в. подхвачена Москвой (врата Успенского и Благовещенского соборов, Троицкого собора Ипатьевского монастыря в Костроме по заказу боярина Дмитрия Ивановича Годунова). Из нескольких, судя по поздним описям, медных врат новгородского Софийского собора сохранились лишь одни, заказанные архиепископом Василием в 1336 г. Это драгоценное изделие так понравилось в XVI в. царю Ивану Грозному, что он приказал увезти двери из Новгорода и поставить в Покровской церкви Александровой слободы, заменив некоторые утраченные пластины. Из новгородских мастеров, работавших над Васильевскими вратами, один был явным приверженцем старины, поэтому его композиции оказываются плоскостными и странно экспрессивными (например, «Крещение»). Другой же мастер умело сочетает палеологовский художественный язык с силой чувств, присущей новгородской культуре (ср., например, «Преображение», илл. 281).

281. Преображение. Пластина Васильевских врат. 1336 г. Из Софийского собора в Новгороде. Покровская церковь в Александровой слободе
На фоне разнообразных опытов новгородского искусства, которое, осваивая новые византийские традиции, с особой любовью подчеркивало плотность и массивность форм, радостно увлекаясь их рельефностью, ракурсами, их обилием и даже нагроможденностью, одиноко выглядит фреска Успенской церкви в Волотове, исполненная в самом конце интересующего нас периода, в 1352 г. Небольшая композиция в алтарной апсиде изображает «Службу святых отцов» (илл. 282). У престола, на котором находятся потир и воздух, стоят два ангела в диаконских облачениях, с рипидами, которые они бережно придерживают кончиками пальцев. За ангелами – святители Иоанн Златоуст и Василий Великий, которые держат развернутые свитки с текстами из литургических служб. Образцом для мастера служило, вероятно, византийское произведение первой трети XIV в. Об этом говорят стройные фигуры, красивые и сосредоточенные лики ангелов, отдаленно напоминающие типы Палеологовского ренессанса. Но художник был, видимо, стар, а может быть и провинциален, его кисть двигалась робко, а почерк был слишком графичен. Когда у заказчиков Волотовской церкви нашлось больше денег, они, призвали в 1363 г. другого художника (вероятно, с помощниками), расписавшего все остальные стены храма. Разрушенный во время Второй мировой войны, памятник сейчас начинает возрождаться, и возникает возможность не только судить о росписи Волотова по старым фотографиям и копиям, но и увидеть, хотя бы частично, сами фрески, включая остатки первоначальной аспидной композиции.

282. Служба святых отцов. Фреска апсиды Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1352 г.
В силу особенностей социальной структуры Новгорода, там, как нигде более, был силен низовой, народный культурный слой. На протяжении всего XIV в., а более всего в первой его половине, в Новгороде создавались иконы, совершенно не затронутые новыми веяниями. Мастера таких икон были свято преданы художественным нормам XIII в.: они любили простые геометризованные формы, ярко раскрашенные плоскости, выразительные жесты угловатых фигур, недвусмысленно передававшие простую и ясную идею. Это архаическое искусство не имеет никаких следов античной традиции, всегда ощущавшейся в искусстве византийской ориентации. Но оно подкупает пафосом, почти космическим размахом, выразительной силой сверкающих взглядов. Неподвижные фигуры в иконах такого типа иногда напоминают деревянную скульптуру, восходящую к традиции дохристианского периода.
Культура простонародного плана не случайно проявила себя именно в иконах: фрески и книжные миниатюры принадлежали к искусству относительно элитарному, тогда как иконопись существовала как при архиепископском дворе, так и в провинции, в отдаленных монастырях Севера, где монахи были выходцами из простых крестьян. Среди икон «народного» слоя наиболее часто встречаются изображения отдельных святых или их групп, иногда в окружении сцен их жития и деяний. В иконе из села Озерёво, ГРМ (илл. 283), св. Никола представлен вместе с Христом и Богоматерью, вручающими ему епископские инсигнии, а также со св. врачами-бессребрениками Козьмой и Дамианом. В житийных сценах, исполненных яркими красками, с контрастами красного, синего и белого, обращают на себя внимание жесты: у св. Николы – повелительные, благословляющие, а у других людей – жесты послушания и молитвы. Иконописцы, работавшие в народном ключе, варьировали свои художественные средства: так, мастер иконы «Чудо Георгия о змие, с житием», ГРМ (илл. 284) довольствуется простым рисунком с раскраской. Симметричные, статичные композиции его иконы внушают мысль о вечности подвигов св. Георгия и героизме его мучений, которые оставляли его неуязвимым благодаря небесному покровительству. Характерная особенность этого искусства – пространные надписи; им уделяется больше внимания, чем обычно в православном искусстве, которое всегда считало необходимым при помощи надписи подчеркнуть истинность и святость изображения. В иконе св. Георгия не только описано действие в каждой сцене, не только обозначены имена Георгия и спасенной принцессы («Елисава»), но даже около башни указано название города («Ракли», то есть Гераклея), а также назван дракон («змия»).

283. Св. Никола, с житием. Первая половина XIV в. из погоста Озерёво, Ленинградской области. ГРМ

284. Чудо Георгия о змие, с житием. Первая половина XIV в. Из собрания М.П. Погодина. ГРМ
Искусство народного типа не определяло в XIV в. лица новгородской культуры. Но оно занимало прочные позиции и стало как бы носителем традиции, именно оно сохранило всю силу живого и красочного новгородского творчества, столь ярко себя проявившего в предшествующем столетии. Дожив до XV в., оно слилось там с палеологовской традицией, соединив свою прямолинейную убедительность с ее гибкостью и утонченностью.
Псковские фрески и иконы первой половины – середины XIV в.
Псков уже в конце XIII в. и особенно в первой половине XIV в. в культурном отношении оказался обособленным от Новгорода, поскольку именно на долю Пскова выпала тяжелая ноша борьбы с литовцами и немцами. Псков оказывается своеобразным городом-крепостью, достаточно замкнутым не только в военном и политическом, но и в культурном отношении. Этот фактор во многом предопределил самобытность псковской культуры, развитие которой имело свою логику и не всегда совпадало с последовательностью общевизантийских художественных процессов. В то же время, этот же фактор существенно затрудняет датировку многих псковских икон, в интерпретации которых в науке существует много различных точек зрения. Возводящиеся в первой половине XIV в. церкви ориентированы на местные образцы, а живопись развивается исключительно своеобразно. Обнаруживая несомненное сходство с некоторыми произведениями византийского круга XIII–XIV вв., псковская живопись этого периода демонстрирует стихийную силу и своеобразие псковской культуры, подпитываемой местными художественными традициями, которые энергично формируются уже с конца XIII столетия.
Первым памятником русской монументальной живописи, созданным в XIV в., оказываются росписи собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря во Пскове. Снетогорский монастырь, основанный псковским князем Довмонтом в излучине реки Великой в середине XIII в., к началу XIV в. был главным монастырским центром Псковской земли, поэтому неудивительно, что одна из первых каменных церквей Пскова появляется именно здесь. В 1310 г. возводится собор, а в 1313 г. он украшается фресками. Росписи сохранились фрагментарно, поскольку на протяжении своего существования собор неоднократно горел, перестраивался, а фрески забеливались. Тем не менее, до наших дней дошло более половины всего декора, что позволяет составить отчетливое представление и о системе декорации, и об иконографии фресок, и об их художественных особенностях.
При первом ознакомлении с этими фресками создается впечатление архаичности и даже копийности программы, ориентированной на систему декорации XII в., и в первую очередь собора Мирожского монастыря. Однако пристальный анализ позволяет увидеть в иконографии этих росписей злободневность и созвучие общим тенденциям эпохи. Составители программы, используя многие традиционные сюжеты, дополняют их новыми иконографическими мотивами, которые разрабатываются в византийском искусстве именно в эпоху Палеологов. Такое соединение традиционности и свежести мышления, знания древних образцов и использования нововведений эпохи создает тот неповторимый иконографический язык, который во многом определит своеобразие псковской иконописи последующих столетий. Не случайно в XVI в. псковские мастера не раз выступали в роли законодателей русской иконографии.
Ключевые элементы росписи демонстрируют обращение к образцам XII в., когда в декоративный программах преобладали сложные догматико-повествовательные сюжеты. Таково, прежде всего, купольное «Вознесение» (илл. 285), в котором доминирует огромная фигура Христа, восседающего на радуге и несомого шестью ангелами (остальная часть композиции не сохранилась). Основная часть алтаря отведена под двухъярусный фронтальный чин святителей епископов, в чем также видна дань новгородско-псковской традиции домонгольского периода. Однако верхняя зона росписи алтарного пространства дает нам совершенно неожиданный вариант декорации, сюжет которой, несмотря на фрагментарную сохранность, все же поддается реконструкции. В конхе представлена тронная Богоматерь с Младенцем и двумя поклоняющимися архангелами (илл. 286). Уникальна поза Богородицы: левой рукой Она придерживает юного Христа, сидящего на Ее колене, а правую руку отвела вверх в сторону в указующем жесте, который направлен на свод алтаря, где был изображен Христос во славе, в том облике, в котором Он являлся ветхозаветным пророкам – в белых одеждах, восседающим на троне херувимском, в окружении четырех существ – символов евангелистов. Таким образом, Богоматерь, указывая на Него рукой, со свойственной псковскому искусству чуть прямолинейной простотой, как будто говорит: Бог ветхозаветных теофаний, являвшийся пророкам в облике грозного Судии, ныне воплотился в образе Младенца, грядущего спасти человечество.

285. Вознесение Господне. Фреска купола собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

286. Богоматерь с Младенцем. Фреска алтарной конхи собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.
Верхняя зона подкупольного креста отведена под традиционные сюжеты. Паруса занимают фигуры евангелистов с их символами, на подпружных арках расположены фигуры первосвященников, а композиции сводов и люнетов посвящены событиям евангельской истории. Повествование, начинаясь на восточном склоне южного свода, охватывает события «Сретения», «Крещения», «Воскрешения Лазаря» (илл. 287), «Сошествия во ад» и «Распятия». Однако главная тема росписей основного объема – это прославление Богоматери, Которой посвящен храм. изображение храмового праздника – «Рождества Богородицы» расположено в среднем регистре южного рукава креста, на своем традиционном месте, справа от алтарной арки, открывая распространенный цикл сцен, посвященных Богородице. Рядом с «Рождеством» находится «Введение во храм», живо напоминающее сложные композиционные построения палеологовской эпохи (илл. 288). Далее повествование распространяется на южную и западную стены, где разворачиваются события «Рождества Христова», начиная с «Переезда в Вифлеем» и вплоть до «Поклонения волхвов», которое является частью сюжета, иллюстрирующего рождественскую стихиру «Что Ти принесем, Христе» («Собор Богоматери»). В северной части собора расположен подробный протоевангельский цикл, в который включены сцены Акафиста Богоматери, а также «Покров» – один из древнейших примеров этой композиции. Завершается богородичный цикл огромным облачным «Успением», которое своей иконографией, расположением и размерами – а оно занимает всю северную стену – повторяет несохранившуюся фреску конца XI в. из Успенского собора Киево-Печерской Лавры.

287. Воскрешение Лазаря. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

288. Введение во храм. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря 6лиз Пскова. 1313 г.
Чрезвычайно показательным для характеристики памятника оказывается цикл сцен «Страшного Суда» в западной части собора. Эта композиция, выходя за рамки чисто византийской традиции, во многом опережает свою эпоху и предопределяет своеобразие русской иконографии «Страшного Суда» позднего средневековья. Здесь присутствуют и уникальные для своего времени сюжеты. Это – фигура Моисея, обличающего иудеев (илл. 289) (изображение основано на тексте Жития Василия Нового – одного из главных литературных источников для Страшного суда); подробная иллюстрация видения пророка Даниила, куда включены изображения Ветхого деньми в окружении престолов и ангелов, вознесение Христа, сопровождаемого Богоматерью, Иоанном Предтечей и ангелами с орудиями страстей, и явление четырех апокалипсических зверей – символов земных царств (илл. 290). Эти сюжеты неизвестны византийской иконографии Страшного Суда, однако многочисленные аналогии снетогорской фреске мы найдем в русской иконографии XVI в., когда тема Второго Пришествия, обретя мощный импульс в эсхатологических настроениях эпохи, станет одной из самых распространении тем русской живописи. Возможно, именно псковская традиция, представленная фреской собора Снетогорского монастыря, оказалась прямым источником для ряда памятников XVI в.

289. Моисей, обличающий иудеев. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.

290. Апокалиптические звери из «Видения пророка Даниила». Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.
Для характеристики псковского искусства, насыщенного литературными аллюзиями и прямыми обращениями к тексту, весьма типична сцена ада. Огнедышащая геенна здесь заполнена грешниками, которые поименованы многочисленными надписями, некогда буквально испещрявшими все изображение. В точном соответствии с текстом Жития Василия Нового, здесь представлены Арий, Несторий, Македоний, Ориген, Север, Апполинарий и император Диоклетиан. К этому перечню псковские художники добавили Ирода, Иродиаду, Саломею, а также известных им по более близкому историческому контексту Богомила – основателя ереси, распространенной в южнославянских землях, и Святополка Окаянного – старшего сына Владимира Святого, который убил своих братьев Бориса и Глеба, ставших первыми русскими святыми.
Акцентированная иллюстративность живописи, ее программная повествовательность и литературность, проявившаяся в росписях Снетогорского монастыря, отныне станет неотъемлемой чертой псковской художественной культуры. В Снетогорских росписях впервые отчетливо проявилось своеобразие художественного языка Пскова, который, однажды сформулированный, сохранится без принципиальных изменений вплоть до конца XVI в.
В Снетогорском монастыре работала артель, которую возглавлял ведущий мастер, определивший художественный облик ансамбля, тогда как другие фрескисты проявили свой почерк лишь в маргинальных зонах. Главный художник – своего рода самородок-виртуоз, который работает решительно и легко. Он смело, не боясь ошибок, осваивает различные художественные приемы, где-то увиденные им. Его живопись импульсивна и быстра в исполнении, а художественный язык экспрессивен и достаточно прост. Мастер отказывается от сложных цветовых решений или тщательных пластических проработок, свойственных живописи палеологовской эпохи. Однако перед нами отнюдь не упрощенность примитива. В снетогорских фресках парадоксальным образом сочетаются известная наивность и повышенная эмоциональность, виртуозность исполнения и умышленное ограничение художественных приемов, свободное обращение с архитектоническими принципами фресковой декорации и монументальность мышления, литературная повествовательность и догматическая глубина создаваемых образов (илл. 292).
Манера исполнения мастером стандартных деталей постоянно меняется. Так, на «Успении» он использует четыре различных приема письма ликов. Здесь можно увидеть лица, своими зелеными тенями и крупными формами напоминающие образы раннего XII в., и рядом – лики, как бы сотканные многочисленными тонкими лучами, которые расходятся от освещенных участков и своей манерой исполнения более напоминают живопись второй половины XIV в. Мастер свободно компонует фигуры, не страшась ни величественно однообразных статичных изображений («Сошествие Св. Духа») (илл. 291), ни излишне динамичны» постановок («Ангел, свивающий небо»).

291. Сошествие Св. Духа. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.
С поразительной легкостью он может поместить рядом крупномасштабные фигуры из «Успения» и почти иконного размера сцены богородичного цикла. И, тем не менее, все это не создает ощущения разностильности или эклектичности, поскольку вся роспись объединена единым духом и темпераментом, отодвигающим на второй план различия в приемах и манерах письма.
Индивидуальность мастера снетогорских росписей в значительной степени воспитана уже на местной художественной традиции. В его рисунке узнается плавность очертаний, отказ от детализации, масштабная значимость крупных форм, свойственные для псковских икон конца XIII в. («Илья пророк» из Выбут, илл. 292), хотя в основе этого явления конечно же лежит провозглашенный палеологовским искусством возврат к скульптурности антикизирующих образцов. За округлостью очертаний в Снетогорских фресках угадывается небывалая внутренняя мощь.

292. Ангел из «Вознесения». Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.
Едва ли не главной особенностью снетогорских росписей является их колорит, построенный на сочетании темных сближенных тонов – темно-лиловых и фиолетовых, красной и коричневой охр, оливковой зелени, на фоне которых яркими пятнами смотрятся светло-желтые нимбы, небольшие вкрапления киновари, обильные белые жемчуга, высветления складок и как правило многочисленные сопроводительные надписи. именно эта система колорита, строгого и аскетичного по своей природе, позволяющего создавать эмоционально возвышенную атмосферу напряженной молитвенной сосредоточенности, найдет наиболее полное выражение в памятниках второй половины XIV в., которые будут вдохновлены идеями исихазма. Примечательно, что в византийском искусстве эти тенденции проявились лишь в немногих памятниках конца XIII – начала XIV в., то есть еще до того, как исихазм стал связываться с именем Григория Паламы и получил широкое распространение по всему восточнохристианскому миру. В этом отношении росписи собора Снетогорского монастыря приобретают особое значение, поскольку именно они стоят у истоков художественной традиции, связываемой исследователями с влиянием паламизма и получившей широкое распространение в русском искусстве конца XIV и XV вв.

293. Рай. Фреска собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря близ Пскова. 1313 г.
Иконный фонд Пскова первой половины – середины XIV в. немногочислен, и, кроме того, среди исследователей о нем нет единодушного мнения. Открывает иконопись Пскова «Богоматерь Одигитрия» (ПГОИАХМЗ, ныне на реставрации в ВХНРЦ) – икона, созданная еще в конце XIII столетия (илл. 294), но обнаруживающая несомненные параллели с искусством Снетогорских фресок. В образах «Богоматери Одигитрии», как и «Ильи пророка» из Выбут, чрезвычайно трудно уловить местные настроения. Художник мыслит общими категориями, в равной степени характерными для искусства различных регионов. И все же можно отметить усиление конструктивного начала и в написании складок одежд, и особенно в живописи ликов Богородицы и Младенца, которые находят отчетливые параллели во фресках собора Снетогорского монастыря (илл. 292: ангел из «Вознесения»). Эта конструктивная определенность в построении образа останется неотъемлемой чертой псковской живописи последующих столетий.

294. Богоматерь Одигитрия. Деталь. Начало XIV в. Псковский музей-заповедник
Среди нескольких псковских икон первой половины – середины XIV в., стилистически близкой к росписям Снетогорского собора оказывается «Крещение» из церкви Успения с Пароменья (илл. 295). Икона выполнена в характерном сдержанном коричневатом колорите, где фоном служит не традиционное золото или охра, а серебро, придающее живописи серый оттенок. Как и во фресках, фигуры ангелов сочетают в себе поры, движения и монументальную статичность, что подчеркнуто их повторяющимися позами. Их лики обладают крупными, пластически выразительными и даже чуть утяжеленными чертами, тогда как обнаженная фигура Христа написана в подчеркнуто сухой манере, где в лепке формы преобладает линия и пастозный мазок. В то же время, по сравнению со снетогорскими фресками, здесь ощущается больше тщательности и постепенности в проработке форм, особенно складок ангельских одежд. Если во фресках Снетогорского собора перед нами открывается процесс художественного поиска, то икона «Крещение» представляет собой следующий, более стабильный этап развития псковской живописи, когда формы экспрессивного языка приобретают устойчивые рамки. В этом отношении она созвучна памятникам круга фресок Волотова поля, и наиболее предпочтительной датой ее создания можно считать середину XIV столетия.
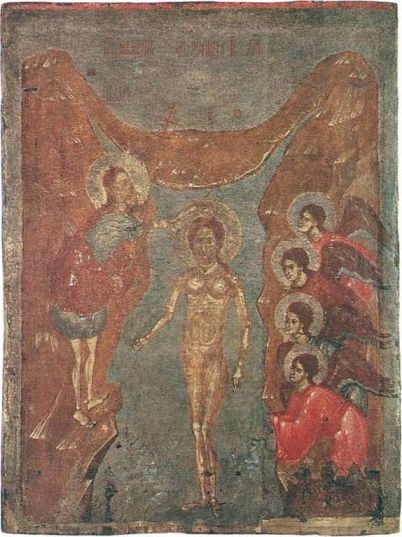
295. Крещение. Вторая четверть – середина XIV в. из церкви Успения с Пароменья во Пскове. Гос. Эрмитаж
Две другие иконы – «Деисус» (ГРМ) и «Св. Николай Чудотворец» (ГТГ), созданные, видимо, в середине XIV в. или несколько позднее (илл.296:297), происходят из псковской церкви Св. Николы «от Кож» и представляют собой иную сторону псковской иконописи. Они часто объединяются в единую стилистическую группу, хотя в образе св. Николая Чудотворца можно увидеть приметы искусства второй половины XIV столетия, тогда как «Деисус» в большей степени обращен к образцам прошлого. Обе иконы проникнуты духом ретроспективизма и в них явственно просматриваются приметы древних образов. Так, лик Николы с аристократически правильными чертами лица и большими глазами, самоуглубленный взгляд которых направлен чуть в сторону от зрителя, больше напоминает образ этого святого из ладожской Георгиевской церкви (илл. 137), чем памятники своей эпохи. использование обильного и крупного золотого ассиста, формирующего мощный рельеф фигур, также более характерно для живописи рубежа XII–XIII в. Святые на обеих иконах отличаются особым модулем пропорций с широкоплечими вытянутыми фигурами, в сравнении с которыми маргинальные фигуры – Христа и Богоматери на «Св. Николае» и два ангела на «Деисусе» – оказываются слишком мелкими. Примечательно, что именно такие масштабные соотношения в построении иконных изображений были характерны для ряда русских памятников позднего XII и XIII вв., связанных с княжеской средой. Ориентация на образцы аристократического искусства прошлой эпохи являлась, вне сомнения, программной установкой художников, исполнявших весьма специфический, вероятно, княжеский заказ. Примечательно, что подобный ретроспективизм с легким налетом консерватизма останется характерной чертой псковского искусства последующих веков.
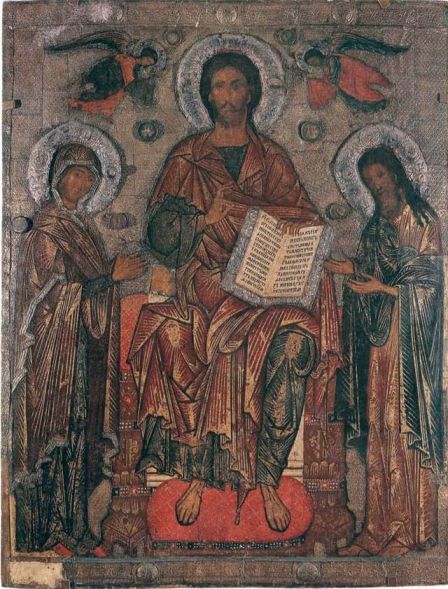
296. Деисус. Середина XIV в. из церкви Николы от Кож во Пскове. ГРМ
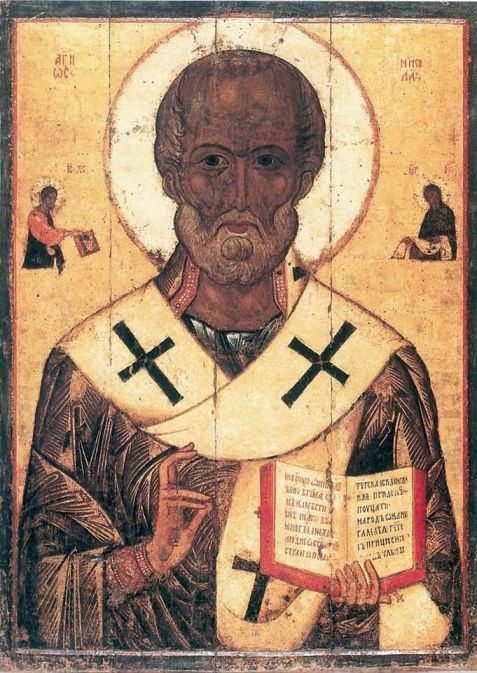
297. Св. Николай Чудотворец. XIV в. из церкви Николы от Кож во Пскове. ГТГ
Сохранившиеся псковские произведения первой половины – середины XIV в. свидетельствуют о богатстве оттенков в местном искусстве, среди которых присутствует и стихийная сила Снетогорских фресок, и утонченный византинизм некоторых икон.
Произведения русской живописи первой половины XIV в. образуют пеструю картину. Это впечатление зависит не только от недостаточной сохранности памятников, но отражает историческую реальность. Если в конце XIII в. русская культура лишь начинала приходить в себя после глубокого шока, причиненного татарским нашествием, то в первой половине XIV в. она просыпается, оживает.
Значение рассмотренного периода не ограничивается лишь самим фактом возрождения художественной деятельности на Руси. Восстановление Византийской империи в 1261 г., со столицей в Константинополе, коснулось жизни балканских народов, в том числе южнославянских стран, но не затронуло Русь. Выброшенная в XIII в. из контекста византийского культурного круга, с трудом и лишь частично сохранявшая свои давние, исторически сложившиеся связи с византийским миром, Русь долго оставалась на обочине общего движения, на далекой окраине православной общности, византийского содружества. И только в XIV в. она полностью возвращается в семью православных народов, получая в ней исключительно важную роль во второй половине столетия.
Вторая половина столетия
Фрески Новгорода
Вторая половина XIV столетия оказывается временем интенсивной художественной жизни, что выразилось в четкости стилистических формулировок и ясности эстетических приоритетов. Несомненно, определяющую роль в такой концентрированности художественного облика эпохи сыграла духовно-религиозная атмосфера, порожденная идеями исихазма.
Исихазм как одно из ведущих движений византийской религиозной мысли XIV столетия, опирался на многовековой опыт монашеской аскезы и, постепенно вызревая в монастырской среде Афона, стал завоевывать умы византийцев уже в начале XIV в., став, после череды драматических событий середины столетия, практически основой официальной идеологии Византийской империи эпохи ее заката. В основе воззрений исихастов лежало учение Православной Церкви, что человек может достичь личного и непосредственного общения с Божеством. Это общение основывается не на философских допущениях, а на личном церковном молитвенном опыте. Вырабатывается даже особая техника исихастской молитвы, усиливающая внутреннюю сосредоточенность молящегося, которая фокусирует все его внимание, всю его природу на молитвенном общении с Богом. В то же время, исихастская молитва отнюдь не была направлена на полное иссушение плоти, ее дематериализацию, но призывала тело, наряду с душой, участвовать в приобщении к воплощенному Слову. Эта форма душевно-телесной молитвы, известная уже со времен Макария Египетского и получившая на Руси наименование «умного [то есть внутреннего] делания», приобретает в эпоху исихазма особое распространение. Монахам-исихастам была свойственна особая внутренняя собранность и самоуглубленность, которая находит отражение и в определенных направлениях живописи, вдохновленных идеями исихазма. Так, образам святых, возникающих, например, в новгородских фресках этого периода, присуща особая внутренняя сосредоточенность, которая заметно выделяется на фоне рафинированного искусства позднепалеологовского периода.
Один из главных учителей исихазма – архиепископ Фессалоник святитель Григорий Палама – указывает, что, подобно тому, как различаются солнце и его лучи, есть недоступная сущность Бога, которая не может быть сообщена человеку, но есть и Его сообщимая людям «деятельность» (или «энергия»), одним из проявлений которой является нетварный Фаворский свет, снисходящий на созерцателей-исихастов. Эта энергия через молитву преображает человека, его душу и тело, поэтому идея преображения становится принципиально важной темой исихастского богословия и искусства. Таким образом, главным предметом исихастского мировоззрения становится личность и индивидуальность человека на его пути постижения Бога и спасения в Боге. Идея соборности, характерная для эклессиологии средневизантийского периода, чужда исихазму, однако это религиозное направление отвергает и крайний индивидуализм. Так, ближайший соратник Григория Паламы константинопольский патриарх Филофей Коккин в одном из посланий против Никифора Григоры пишет, что возможность личного общения с Богом следует не замалчивать, а проповедовать и побуждать всех становиться причастниками божественного света.
Исихазм в последней трети XIV в. становится религиозной практикой массового масштаба, распространяясь по всем уголкам восточнохристианского мира. опыт индивидуальной молитвы и личностного приближения к Богу, обретения Его энергий, преобразующих плоть и очищающих душу человека, теперь пронизывает всю жизнь византийского мира, проявляясь и в культуре, и в политике, и в быту. На Руси идеи паламизма получают своих новых приверженцев в лице таких выдающихся деятелей русской истории, как преп. Сергий Радонежский и его племянник Федор Симоновский, московский митрополит Киприан и суздальский архиепископ Дионисий. Эти идеи нашли яркое выражение в живописи, но, поскольку памятники Константинополя этого периода не сохранились, мы можем судить об этом явлении по живописи византийской провинции и, прежде всего, по фрескам Новгорода.
Сохранившиеся памятники монументальной живописи Новгорода имеют довольно пестрый состав, свидетельствующий о многосложности художественной жизни города, в которой выявляются различные направления и влияния. Практически все известные фрески Новгорода относятся к последней трети XIV столетия, причем они довольно сильно отличаются от магистральной линии развития византийской живописи того времени, в которой преобладали классицизирующие настроения позднепалеологовского стиля. В это время в Новгороде работало много приезжих мастеров, которые обладали яркими творческими индивидуальностями и демонстрировали своим искусством широкий спектр стилистических течений позднего XIV столетия. Новгородские фрески этого времени, скорее всего, отражали общее состояние русской монументальной живописи, когда в разных городах Руси работали мастера из Византии и с Балкан, обогащая своим творчеством нарождавшиеся местные школы. Однако в памятниках Новгорода, несмотря на очевидное участие византийских мастеров, сохранился общий дух этого художественного центра с его эмоционально ярким, порой даже страстным выражением эстетических идеалов, в которых ясно проявлялись религиозные настроения эпохи. Создается впечатление, что заказчики росписей в выборе приглашаемых фрескистов руководствовались в первую очередь их художественными устремлениями, которые должны были соответствовать вкусам этого темпераментного города, и, более конкретно, личным пожеланиям заказчиков. В этом отношении новгородские росписи позднего XIV в., несмотря на различия стилистических ориентиров и разную степень эмоциональной выразительности, составляют достаточно целостную художественную картину, монолитность которой предопределена устойчивостью местных вкусов и приоритетов. Так, благодаря отбору мастеров определенных стилистических направлений, кристаллизуется художественный облик новгородской культуры.
Бесспорно, центральным памятником новгородской монументальной живописи середины XIV в. являются росписи церкви Успения на Волотовом поле, располагавшейся на окраине Новгорода. Летопись сообщает, что храм был расписан в 1363 г. по инициативе новгородского архиепископа Алексия – одного из самых ярких деятелей Русской Церкви этого периода. Храм был полностью разрушен в 1941 г., но, к счастью, фрески были подробно сфотографированы, частично скопированы, тщательно описаны, благодаря чему мы имеем возможность составить общее представление об этом выдающемся памятнике (илл. 298). До разрушения храма росписи сохранялись практически в полном объеме, покрывая стены и своды небольшой Успенской церкви, которая отличалась очень скромными размерами (7х9 м). Благодаря небольшим объемам храма его интерьер создавал ощущение камерности и уюта, а живопись, выполненная в масштабах, соразмерных человеческой фигуре, была легко обозрима практически из всех точек церкви. В выборе и расположении сюжетов здесь в известной степени прослеживается повторение некоторых узловых элементов системы декорации Новгородской Софии, что, впрочем, показательно и для других новгородских памятников этой эпохи. В то же время, в волотовских фресках, несомненно, проявилось влияние новых идей и тем, распространившихся в палеологовскую эпоху. Так, лейтмотивом росписи оказывается тема Софии Премудрости Божией, которая раскрывается и через сопоставление Христологических и богородичных сюжетов, и через ветхозаветные прообразы и гимнографические иллюстрации, среди которых центральное место занимают образы Богородицы как храма Премудрости.

298. Успенская церковь на Волотовом поле близ Новгорода. Разрез по оси запад-восток
Верхние регистры росписи были отведены под традиционные сюжеты. Так, купол занимала фигура Пантократора в окружении небесных сил и пророков, расположенных в простенках окон барабана (илл.299:300). Евангелисты в парусах (илл. 301) и пророки на сводах арок дополняли эту традиционную часть программы. Однако уже в композициях парусов появляются изображения персонификации Премудрости – ангела с ромбовидным (так называемым «софийным») нимбом, который диктует евангелистам откровение благой вести (илл. 302). Своды и люнеты заняты сценами евангельской истории, тогда как средняя зона отведена под сюжеты Протоевангельского цикла, где раскрывается история Богородицы. Сопоставление этих двух циклов призвано показать, как, в образе Богородицы, в истории Ее чудесного рождения, воплощаются ветхозаветные пророчества о пришествии в мир Бога-Логоса, Христа-Ангела Премудрости, воплотившегося через Богородицу. Сама Богоматерь, в иносказательных или буквальных сюжетах, предстает перед зрителем как зримый образ храма Премудрости, вместившего в Себе высшее Божество. Одним из центральных образов храма, раскрывающих основную идею иконографической программы, оказывается медальон с Богоматерью Знамение в зените западного свода, где Богородицу и воплотившегося в Ее лоне Младенца-Христа окружает текст гимна Косьмы Маюмского, где Мария прямо называется храмом Премудрости (илл. 303).

299. Пророки Даниил и Аввакум. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

300. Пророк Исайя. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

301. Евангелист Иоанн с Прохором. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

302. Евангелист Лука и София Премудрость Божия. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

303. Богоматерь Знамение с Младенцем. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.
Поэтические аллюзии Ветхого Завета и гимнографические образы богослужебных текстов буквально пронизывают всю роспись Успенской церкви, сосредотачиваясь в изображениях самих гимнографов – Косьмы Маюмского и Иоанна Дамаскина (илл.304:305), которые, с широко развевающимися свитками, поклоняются Богоматери, восседающей на троне в конхе алтарной апсиды. Уникальный по своему составу подбор ветхозаветных прообразов Богоматери представлен в притворе церкви, предваряя вход в основной объем храма. Здесь акцент вновь сделан на софийной тематике: Богоматерь как храм Премудрости предстает перед нами в ветхозаветных пророческих видениях, которые дополнены образами, почерпнутыми из Христианской гимнографии. Главными в росписях притвора, таким образом, оказываются иллюстрации на темы знаменитой притчи Соломона «Премудрость созда себе дом», истории Иакова («Единоборство Иакова с ангелом» и «Лествица Иакова») и Моисея («Моисей получает скрижали», «Моисей в Скинии завета»).

304. Св. гимнограф Иоанн Дамаскин. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

305. Св. гимнограф Косма Маиумский. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.
Волотовские росписи принадлежат кисти выдающегося византийского художника – философа и виртуоза, мистика и учителя, собравшего вокруг себя артель мастеров, которые прониклись его художественными концепциями и работали с ним на одном дыхании и в едином стилистическом направлении. Манера этого художника кажется, на первый взгляд, абсолютно неповторимой и глубоко личностной, и лишь пристальный анализ позволяет выявить работу его учеников, фрески которых расположены в маргинальных зонах декорации храма. Индивидуальность главного мастера выражена чрезвычайно ярко и определенно, и изображения, написанные его подмастерьями, скорее пытаются воспроизвести его искусство, чем характеризуют их собственную манеру. Тем не менее, участие нескольких художников в декорации Успенской церкви говорит о том, что перед нами не просто неповторимое творчество гениального художника-одиночки, но выражение определенного стилистического направления, в своеобразии которого исследователи справедливо видят прямое влияние идей исихазма.
Мир волотовских фресок в определенной степени напоминает росписи Снетогорского монастыря. Здесь также преобладает личность художника, трепетного и чувствительного, эмоционально открытого, и в то же время глубоко осознающего философский смысл изображаемых им событий (илл. 306). В чем-то схожа и манера исполнения, где главенствует быстрый, экспрессивный и в то же время предельно обобщенный рисунок, а живописная структура фрески сведена до простого и лапидарно выразительного минимума (илл. 307). Как и в псковском памятнике, здесь преобладают сдержанные красно-коричневые, палевые, желтые и оливковые цвета, краска положена как бы в растирку, тонким прозрачным слоем, а в построении формы полностью отсутствуют сложные и плотные цветовые проработки, которые в других памятниках этой эпохи собственно и облекают изображения материей (илл. 308). Но, вне сомнения, в волотовских росписях все эти категории, проявившиеся уже во фресках Снетогорского монастыря, обретают куда более отточенное и изысканное выражение, что определяется не только яркой индивидуальностью ведущего мастера и четкостью его стилистических приоритетов, но и его несомненной греческой выучкой, знанием и использованием всей системы приемов искусства Палеологовской эпохи.

306. Симеон с Младенцем из «Сретения». Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

307. Адам из «Сошествия во ад». Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

308. Архангел. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.
Одна из главных созидательных функций в волотовских фресках принадлежит белильной проработке формы, которая несет в себе всю полноту выразительности. Очень свободный рисунок, мастерски отточенный, изысканный и виртуозный в исполнении, определяет прихотливые контуры изображений, а белильные оживки, положенные либо импрессионистически сочными мазками, либо энергичными линиями и штрихами, либо прозрачными рефлексами, преображают форму и оживляют плоскость раскраски, придавая ей фактурность и пластичность (илл. 309). Наиболее отчетливо гениальная простота художника волотовских фресок проявляется в его динамичных композициях и расстановке фигур. Он абсолютно свободно располагает персонажи своих фресок, невзирая на сложности архитектурных форм храма («Вознесение», илл. 310; «Сретение», илл. 311), заставляя их двигаться столь энергично, что, казалось бы, сбалансированность композиции неизбежно должна нарушиться. Тем не менее, ему никогда не отказывает чувство уравновешенности и композиционной гармонии, за которыми явственно ощущается византийская выучка, воспитанная на античных образцах. истинный архитектурно-художественный синтез, присущий античной культуре, явственно проявлялся в этих росписях, создавая необычайно гармоничное ощущение сосуществования стенописи и архитектурных форм.

309. Неизвестный пророк Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

310. Вознесение. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.

311. Сретение. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.
Искусство волотовского мастера буквально источает античные реминисценции, однако вспоминаются здесь не классические произведения Фидия, а исполненные порывистого движения скульптуры Скопаса или – более всего – импрессионистические фрески Помпей. Если же обратиться к античной традиции в памятниках средневековой живописи, то живейшим образом вспоминаются фрески IX в. В Кастельсеприо близ Варезе, в Ломбардии. Рисунок волотовского мастера поражает своей подвижностью, свободной как дыхание, и в то же время абсолютной безупречностью и точностью. Форма, ограниченная контурами рисунка, едва сдерживает импульсивность его персонажей, однако динамика фигур никогда не случайна, а всегда обусловлена содержанием образа, эмоциональным переживанием сюжета, будь то до предела напряженные фигуры Иоакима и Анны из «Сретения» (илл. 311), или согбенная спина уходящего в храм первосвященника в «Отвержении даров» (илл. 312), которая лучше любого скорбного лика выражает трагизм и кажущуюся безысходность события.

312. Отвержение даров. Фреска Успенской церкви на Волотовом поле близ Новгорода. 1363 г.
В динамичных позах волотовских святых практически нет стандартных положений, а их лики, хотя и имеют повторяющийся и даже отчасти условный набор физиогномических черт, обладают своей живой индивидуальностью. За всем этим, конечно же, стоит необычайно яркая фигура мастера, его неповторимая художественная личность. Однако чрезвычайно важно и то, что именно в волотовских фресках индивидуальное вживание в образ, глубоко личностное и эмоциональное его переживание становится одной из определяющих категорий. Художник открывает перед нами трепетный и хрупкий внутренний мир своих персонажей, пронизанный духом поэтической образности, которая не только расширяет иконографическую наполненность волотовских фресок, но и формирует художественный язык этих росписей.
Принципы, сформулированные во фресках Успенской церкви Волотова поля, очень точно выражали основную религиозную формулу исихазма, в котором идея личного, индивидуального приближения к Богу и преображения человека являлась доминантной. Божественные энергии в виде отблесков неземного света, написанных очень быстрыми и легкими мазками белил, оживляют аморфную материю, придают ей новый динамический импульс. Эта же энергия, изменяющая косную природу человека или события, находит выражение в особой подвижности фигур, динамичности композиционных построений. Сама материя показана в наиболее аскетичной форме – как бы иссушенная, лишенная природной цветовой наполненности, она своей палитрой скорее напоминает пустыню, и поэтому ее преображение, происходящее на наших глазах, смотрится как истинное обретение новой жизни. В то же время образы становятся полностью обращенными в себя, взгляды их маленьких, подобных бусинкам глаз направлены внутрь, сосредотачивая свою молитву в собственной душе. В этом искусстве отсутствует пафос соборности и социального служения, или религиозной стойкости перед лицом реальной опасности, которыми исполнены героические образы XII или XIII столетий. Напротив, молитвенная сосредоточенность волотовских святых глубоко индивидуальна, личностна и отрешена от мирских проблем, но чем глубже переданы религиозные ощущения образа, тем весомее становится художественное звучание всего ансамбля.
Формула Волотовских фресок вряд ли явилась результатом только лишь гениального озарения неизвестного нам художника. Подобная художественная концепция, столь адекватно выражавшая сущность новых религиозных идей, захвативших все слои византийского общества, конечно же, была сформулирована в недрах византийской, более того – придворной константинопольской культуры. Однако собственно в византийской живописи эта стилистическая формула не получила отчетливого и лапидарного выражения, если только не предположить, что все памятники подобного направления погибли. Во многих византийских росписях такое искусство присутствует как фон, весьма существенный, создающий определенное религиозное настроение и духовное напряжение, но все же как фон маргинальный, лишь обогащающий своей тональностью общее звучание памятника. Тем более примечателен тот факт, что в Новгороде эта художественная культура нашла для себя самую благодатную почву. Об этом свидетельствуют не только росписи церкви Успения на Волотовом поле, но и созданные вслед за ними, в последней четверти XIV столетия, ансамбли церквей Спаса Преображения на Ильине улице и Федора Стратилата на Ручью.
Долгое время было принято рассматривать три новгородских ансамбля как последовательные явления одной цепи, генетически связанные между собой и отражающие поступательное развитие данного художественного направления или стиля. В этой цепочке главенствующее положение, естественно, отводилось Феофану Греку и созданным им в 1378 г. росписям церкви Спаса Преображения. Само имя Феофана, его известность, пиетет и преклонение, которые испытывали перед ним даже современники, – все это делало его присутствие в данном художественном процессе определяющим, а участие доминантным, тогда как авторы других названных росписей оказывались лишь последователями его искусства, своего рода дополнениями в гениальном творчестве прославленного грека. Несмотря на то, что росписи Волотовской церкви созданы на 15 лет раньше новгородских фресок Феофана, именно последнему приписывалось создание того индивидуального стиля, который, при всех различиях, несомненно объединяет фрески этих новгородских храмов. иными словами, индивидуализированность художественного языка, которая в равной степени свойственна всем трем ансамблям и по существу является приоритетным качеством этого стилистического направления, была понята как отражение индивидуальности Феофана Грека, чьи художественные откровения были повторены и развиты его талантливыми учениками и последователями, в том числе и художниками, расписавшими церкви Успения на Волотовом поле и Федора Стратилата на Ручью. Так, базовый признак данного стилистического направления был понят как проявление художественного гения Феофана Грека.
Такому пониманию и оценке личности Феофана Грека, естественно, способствовал и тот ореол славы и легендарного преклонения, который окружал имя этого художника уже на рубеже XIV–XV столетий. известное свидетельство Епифания Премудрого о личности Феофана, содержащееся в его письме к Кириллу Тверскому, отмечает характерные особенности его творчества, которые как нельзя лучше соответствуют простой и свободной, могучей и в то же время артистически утонченной манере фресок церкви Спаса Преображения на Ильине улице. Епифаний пишет: «Когда я жил в Москве, был там и преславный мудрец, искуснейший философ Феофан, родом грек, известный книжный художник и лучший живописец среди иконописцев, который расписал много разных каменных церквей – более сорока: несколько в Константинополе и в Халкидоне, а также в Галате, в Кафе, в Великом Новгороде и в Нижнем. И в Москве расписаны им три церкви: Благовещения Пресвятыя Богородицы, Св. Михаила Архангела и еще одна. ... Он же, казалось, писал сам по себе (то есть без образцов – В.С.) и беспрестанно двигался, беседовал с приходящими, но, обсуждая все нездешнее и духовное, внешними очами видел земную красоту».
Деятельность Феофана Грека на Руси, благодаря различным историческим свидетельствам, вырисовывается достаточно полно, хотя его биографам приходится делать и существенные допущения. Его судьба прочно связана с главными событиями русской истории этого периода – борьбой с татарским игом, укреплением власти московских князей, событиями церковной жизни Руси, которые были направлены на централизацию церковной власти под эгидой Москвы, широким распространением в русской, преимущественно монашеской среде идеалов исихазма. Весьма вероятно, что в византийский период своего творчества Феофан уже был связан с Киприаном, будущим митрополитом Руси, убежденным исихастом и последователем Григория Паламы и Филофея Коккина, и его активная художественная деятельность в Новгороде, Нижнем Новгороде и Москве вдохновлялась именно главой Русской Церкви. Однако нестабильность во взаимоотношениях великого князя Дмитрия Донского и Киприана привела к тому, что начало русского периода в творчестве Феофана пришлось не на Москву, а на Новгород, где он в 1378 году расписывает церковь Спаса Преображения на Ильине улице. Известно, что затем Феофан несколько лет работал в Нижнем Новгороде, куда он был приглашен, видимо, по инициативе Дионисия Суздальского, также одного из самых активных проповедников исихазма на Руси, бывшего тогда игуменом нижегородского Благовещенского монастыря. По смерти Дмитрия Донского, после многих лет изгнания, Киприан в 1390 г. занимает митрополичий престол в Москве, и сюда же переезжает Феофан Грек который вплоть до своей кончины будет выполнять многочисленные заказы митрополичьего и великокняжеского дворов. Так, в 1392 г. он, вероятнее всего, руководит работами в Успенском соборе Коломны, который приобрел особое значение как храм-мемориал, возведенный Дмитрием Донским и связанный с Куликовской битвой 1380 г. Далее Феофан работает в Московском Кремле – его артель в 1395 г. расписывает церковь Рождества Богоматери Московского Кремля, в 1399 г. – Архангельский собор, наконец, в 1405 г. В Благовещенский собор, являвшийся домовой церковью московских князей, что свидетельствует о высочайшем статусе Феофана Грека как главного придворного живописца. К сожалению, все перечисленные работы Феофана погибли, и лишь в Новгороде сохранилось единственное его достоверное произведение – фрески Спасо-Преображенской церкви. Весьма примечательно, что роспись, согласно сообщению III Новгородской летописи, была создана по заказу некоего боярина Василия Даниловича и жителей Ильиной улицы, на которой и по сей день стоит Преображенский храм.
Фрески Спасо-Преображенской церкви, пострадавшие от многочисленных пожаров и ремонтов, дошли до нас лишь во фрагментах, однако и эти участки позволяют составить отчетливое представление о стиле и методе работы Феофана, о его темпераменте и идеалах. Сохранные участки росписи показывают, что система декорации Спасо-Преображенской церкви в целом следовала принятым стандартам, хотя отдельные детали характеризуют Феофана, пользуясь словами Епифания, как «преславного мудреца и искуснейшего философа». Так, в куполе расположен величественный образ Вседержителя, окруженный небесными силами и ветхозаветными святыми (илл. 313). Однако в простенках барабана представлены не традиционные пророки, а ветхозаветные праведники и праотцы, олицетворяющие собой весь человеческий род: Адам, Авель (илл. 315), Сиф, Енох (илл. 314), Ной, Мельхиседек (илл. 317), пророк Илья (илл. 316) и Иоанн Предтеча (илл. 318). и как будто в их уста вложена молитва, возносимая за все человечество, текст которой, взятый из 101-го псалма, окружает медальон со Вседержителем: «Господи, из небеси на землю призри, услышати воздыханья окованных и разрешити сыны умерщвенных, да проповедает имя Господне в Сионеи (Пс.101:20–22).
Алтарную апсиду занимают традиционные сюжеты – «Причащение апостолов» и «Служба св. отцов», которая распространяется и в объемы жертвенника и дьяконника. На северной и южной стенах сохранились небольшие, но выразительные участки «Рождества Христова»

313. Феофан Грек. Христос Пантократор. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.

314. Феофан Грек Праотец Енох. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.


315. Феофан Грек. Праотец Авель. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.
316. Феофан Грек. Пророк Илья. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.


317. Феофан Грек. Праотец Мельхиседек. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.
318. Феофан Грек. Иоанн Предтеча. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.
«Крещения» и «Успения», взаимное расположение которых показывает, что евангельское повествование следовало наиболее традиционной фонологической последовательности и включало лишь основные сюжеты. Но, судя по разрозненным фрагментам, предпочтительное место в системе декорации было отведено отдельным фигурам святых, которые располагались по всему объему храма. Наиболее сохранными среди них оказываются изображения святых жен, занимавшие склоны арок в западной части храма под хорами.
Наиболее полный цикл фресок сохранился в небольшом приделе, который находится в северном объеме на хорах и посвящен Святой Троице. Троицкий придел, вероятнее всего, предназначался для совершения богослужений во время Великого поста, когда, согласно церковному уставу, совершается Литургия Преждеосвященных даров, составителем которой является Григорий Двоеслов папа Римский, а именно он представлен в сокращенном варианте композиции «Служба св. отцов», расположенной в восточной зоне небольшого придельного помещения. Впрочем, согласно иной интерпретации здесь изображен св. Петр Александрийский перед престолом (илл. 319). Всю плоскость стены над «Службой» полностью занимает «Троица» (илл. 320), изображение Которой осеняет пространство придела, в то же время, олицетворяя буквально и символически небесный престол, у которого совершается представленная ниже литургия.

319. Феофан Грек. Служба святых отцов. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.

320. Феофан Грек. Св. Троица. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.
Состав изображений, занимающих остальные участки стен Троицкого придела, даже в нынешней фрагментарной сохранности, показывает, насколько тщательно и точно Феофан выбирает святых для реализации задуманной им программы. Троицкий придел, находящийся на втором этаже церкви, осмысляется как зона реального приближения к Божеству, одна из ступеней молитвенного восхождения. Это восхождение осуществляется по духовной «Лествице», образ которой, созданный Иоанном Лествичником в его знаменитой книге, был олицетворением Христианской аскезы и на протяжении многих веков вдохновлял монахов-аскетов, в уединенных молитвах стремившихся к стяжанию Св. Духа. Именно поэтому главное место в декорации придела уделено образам преподобных отцов, которые буквально олицетворяют ступени духовного совершенствования. Среди них выделяется медальон с изображением св. Иоанна Лествичника, автора «Лествицы», помещенный Феофаном на северной стене у самой восточной части придела, чем он иерархически выделяется среди других монашеских изображений (илл. 321). На западной стене располагаются фигуры пустынников и анахоретов, и среди них представлен св. Акакий – чрезвычайно редко изображаемый святой, чьи подвиги смирения и исповедания веры описаны в той же «Лествице». Рядом, в верхней зоне южной стены придела, помещены фигуры пяти столпников, которые буквально держат на себе примыкающий свод, в полном смысле слова олицетворяя собой столпы веры (илл. 322). В то же время эти святые достигли верхней ступени восхождения по духовной «Лествице», вознеслись на башню или столп, который мыслится здесь как вершина земного пути к Богу.

321. Феофан Грек. Преп. Иоанн Лествичник. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.

322. Феофан Грек. Столпники. Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.
Троицкий придел представляет собой маленькое, но сильно вытянутое вверх помещение, в котором чрезвычайно трудно соблюсти принципы фресковой декорации, требующие обозримости изображений, их художественной выразительности, и в то же время ясности смысловой программы. Тем не менее, синтез монументальной живописи и архитектуры, найденный Феофаном Греком, обретает здесь свою индивидуально яркую и одновременно четкую реализацию. Замечание Епифания Премудрого о том, что Феофан Грек «писал сам по себе», не пользуясь какими-либо иконографическими образцами, находит подтверждение в росписях Троицкого придела, где живопись, идеально вписываясь в сложные архитектурные формы, сохраняет композиционную целостность и структурность во взаимоотношении различных элементов декорации. Так, фигура центрального ангела в «Троице», с широко раскинутыми крыльями, как будто обнимающими все пространство композиции, идеально вписана в сложную криволинейную плоскость под сводом и уравновешена изображением дуба Мамврийского, заполняющего пустующий участок вверху сцены (илл.320:323). Чуть склоненной фигуре Сарры (а, вероятно, и утраченного Авраама) вторят святители в расположенной ниже «Службе св. отцов», чем подчеркивается тождественность смысла обеих сцен. Обе композиции построены по принципу симметрии, но с незначительными сдвигами фигур и поз, что нейтрализует кривизну плоскости стены и вносит во фреску тот элемент подвижности, который и отличает живую и свободно исполненную живопись от «письма по образцам».

323. Феофан Грек. Центральный ангел из композиции «Троица Ветхозаветная». Фреска Спасо-Преображенского собора на Ильине улице в Новгороде. 1378 г.
Рисунок Феофана достигает во фресках Спасо-Преображенской церкви предельной обобщенности, в нем отсутствует детализация, а контуры форм обретают плавность и перетекают друг в друга волнообразными линиями, не создавая ни одного резкого или заостренного соединения. Палитра Феофана сведена до такого минимума, что на первый взгляд она кажется поврежденной или изменившейся под воздействием каких-то внешних сил. Собственно, все изображения написаны различными тональностями коричневых, охристых, темно-лиловых и красно-коричневых тонов, среди которых лишь изредка появляются светло-желтые тона золотистой охры или оливковая зелень. В качестве фона служат серо-синие или серо-фиолетовые покраски, и лишь энергичные белильные высветления оживляют эту казалось бы однообразную живописную материю. Между тем, там, где живопись сохранила свою изначальную плотность, колорит при всей своей внешней скупости обретает ту полноту и жизненную наполненность, которая наиболее ярко может быть показана именно через сочетание максимально сближенных тонов, сохраняющих при этом разнообразие и изысканность. Так, например, изображение «Троицы» отличается редкой гармоничностью цветовых сочетаний и самодостаточностью всех художественных средств, в которых нет ничего лишнего, и, более того, невозможно представить ничего дополнительного – деталей сюжета, ярких цветовых пятен, сложных композиционных построений, то есть всего того, что, с точки зрения стандартов позднепалеологовского искусства, должно было бы оживлять или обогащать выразительность живописи.
В своем творчестве Феофан мыслит глобальными художественными категориями. Цвет в его понимании становится знаком материи, очищенной от всего наносного и лишнего, от яркости и пестроты. Эта материя, теплая по тону, мягкая и податливая по контуру, на наших глазах преображается небесным светом, который ложится на изображения белильными бликами в форме линий, оживок, мазков и легких прикосновений кисти. Высветления имеют очень четкие и иногда даже жесткие контуры, а их белый цвет обладает холодным звучанием, порой достигающим звонкости стального отблеска за счет тончайшей синеватой подкладки, положенной под белила.
Однако сочетание этих художественных категорий не несет в себе контраста, поскольку именно в этом сочетании и содержится весь созидательный пафос искусства Феофана. Так из земли (которую олицетворяет преобладающая в росписи красно-коричневая охра) Бог создает человека, вдыхая в него Дух, так материя очищается небесным светом, так человеческая плоть преображается божественными энергиями, создавая новую реальность и новую жизнь, к постижению которой и устремлены все помыслы Феофана и его единомышленников-исихастов. И именно в отображении этой новой реальности – сущность живописи Феофана Грека, художника и творца.
Феофан Грек работает в крупном масштабе, лишь незначительно варьируя его в зависимости от содержания и местоположения изображения. Фигуры святых полны той идеально выверенной скульптурности, за которой сразу угадывается основа античной классики с ее идеальной сбалансированностью фигур и гармоничным соединением изящества и точного пропорционирования человеческого тела. Феофан избегает облегчения и утоньшения пропорций фигур ради создания более хрупкого и выразительного образа, что можно видеть, например, во фресках Успенской церкви на Волотовом поле. Напротив, его новгородские образы обладают крупными и обобщенными формами, за которыми ощущается небывалая мощь, монументальность помыслов, несгибаемая воля и почти осязаемая физическая сила. Судя по росписи Троицкого придела, фигуры располагались в пространстве храма достаточно свободно, при этом архитектоническая выразительность декорации сохранялась за счет общего для всех изображений крупного масштаба. Это впечатление усиливается тем, что все персонажи, будь то композиции или отдельно стоящие фигуры, расположены в чрезвычайно разреженном пространстве, из которого выведены все вспомогательные детали, а фон занимает значительную часть декоративной плоскости. В Спасо-Преображенской церкви найдено очень точное соотношение площади изображения и фоновой части росписи, так что фигуры ощущают себя абсолютно свободно, что акцентировано минимальным использованием разгранок, которые обычно, во множестве других средневековых росписей, делят плоскость стен храма на множество изобразительных ячеек. Во фресках Феофана, напротив, все направлено на создание предельно целостного внутреннего пространства церкви. Единый крупный масштаб изображений, сближенный неяркий колорит росписей, отсутствие частых вертикалей и горизонталей, членящих стену – все это было призвано создать картину нового мистического космоса, в котором буквально парят фигуры святых и где царят законы Горнего мира и божественного бытия.
В отличие от фресок Успенской церкви на Волотовом поле, где все персонажи подчинены единому эмоциональному порыву, святые Феофана имеют более разнообразные психологические характеристики, причем часто они активно обращены к зрителю, словно источая духовную энергию. индивидуализация образов святых, несмотря на унифицированность приемов письма ликов, становится одной из главных особенностей фресок Феофана. Полная отрешенность от мира и самоуглубленность анахоретов и столпников Троицкого придела, божественное спокойствие ангелов из «Троицы», скорбное смирение св. Акакия, волевая целеустремленность в постижении Бога, написанная на лицах пророков барабана, наконец, поистине космическая глубина в лике Вседержителя – вот грани, характеризующие образность искусства Феофана. Его могучие святые во многом продолжают линию новгородских фресок раннего XII столетия, на которых, собственно, и формировался вкус многих поколений новгородцев. Таким образом, искусство Феофана, возросшее на византийских традициях, обретает в Новгороде свою вторую родину.
Во фресках Спасо-Преображенской церкви Феофан Грек предстает как врожденный монументалист, творящий легко и свободно, и при этом в совершенстве владеющий всеми тонкостями и премудростями фресковой декорации. Ремесло в его руках приобретает высшую осмысленность, когда каждое движение кисти, каждый слой краски содержит в себе не только традицию технических приемов, но обусловлен, прежде всего, художественной структурой произведения. именно поэтому искусство Феофана необычайно современно по своему звучанию и восприятию, так как в нем, что редко встретишь в средневековой живописи, отточенное умение художника-ремесленника и свобода художника-творца находят свое гармоничное соединение.
Росписи церкви Федора Стратилата на Ручью созданы в русле тех же стилистических идей и художественных концепций, что и рассмотренные фрески Феофана Грека и церкви Успения на Волотовом поле. Сама церковь была построена в 1360–1361 гг., однако время создания фресок остается неизвестным и ориентировочно их можно датировать последней четвертью XIV в. В системе росписей храма прослеживается влияние уже рассмотренных нами ансамблей Успенской и Преображенской церквей, но в то же время здесь много и своего. Так, роспись барабана явно тяготеет к образцу Феофана. Здесь в куполе расположен медальон с Пантократором, который окружен тем же текстом, что и в росписи Феофана. Точно так же медальон окружен архангелами и херувимами, но в простенках барабана изображены не праотцы, а пророки, причем некоторые – например, пророк Моисей, повторяют схему и позу росписи Волотова поля. В декорации алтарной апсиды, помимо традиционных сюжетов – Богоматери на престоле, «Причащения апостолов» и «Службы св. отцов» – значительное место отведено циклу страстей Христовых, которые занимают среднюю зону апсиды и выходят на стены вимы и плоскости пилонов, обращенных внутрь алтарного пространства. Эти сцены, имеющие относительно хорошую сохранность, – поистине одно из лучших произведений новгородской живописи позднего XIV столетия. Своды и боковые стены храма отведены под сцены Христологического цикла, среди которых выделяется своей сохранностью и монументальностью «Сошествие во ад» на северной стене. Среднюю зону стен занимают фигуры св. Воинов, здесь же находятся изображения св. Константина и Елены, а также русских святых князей Владимира, Бориса и Глеба. Судя по сохранившимся фрагментам, западная стена была отведена под житийный цикл св. Федора Тирона, а на хорах располагался Богородичный цикл, включая «Покров Богоматери», которому был посвящен находившийся здесь придел.
Федоровские фрески не создают такой абсолютно целостной картины, опирающейся на волю одного ведущего мастера, как это выявлено нами в рассмотренных выше новгородских ансамблях. Здесь ощущается участие нескольких ведущих художников, и хотя они пишут в едином экспрессивно-лапидарном стиле, характерном также и для Феофана, и для художника Волотова поля, их мастерство различно. Вероятно, участие нескольких самостоятельных художников явилось результатом условий выполнения данного заказа, детали которого мы, впрочем, вряд ли когда-либо узнаем. Не раз высказывалось мнение, что один из мастеров Федоровской церкви имел опыт совместной работы с Феофаном на создании фресок Спасо-Преображенской церкви, или же с создателем Волотовских фресок, что представляется вполне вероятным. Но в целом ансамбль церкви Федора Стратилата, обладая своей неповторимой индивидуальностью, создает совершенно иное впечатление и настроение, чем фрески Волотова поля или Феофана Грека. Иными словами, Федоровские фрески обладают своей абсолютной самоценностью и художественной самостоятельностью, и с предшествующими памятниками их не роднит ни ученическая преемственность, ни эволюционное изменение стиля. В то же время, принципиально общей для них оказывается принадлежность и художника фресок Волотова поля, и Феофана Грека, и мастеров Федоровской церкви – к широкому художественному потоку, источник которого, к сожалению, остающийся нам неизвестным, исходил из самых рафинированных кругов исихастской художественной элиты Византии.
В росписи Федоровской церкви преобладают две основные манеры исполнения, за которыми, очевидно, стоят два ведущих мастера ансамбля. Первый из них работает в достаточно стандартной манере, и хотя ему нельзя отказать в известном артистизме, его изображения строятся по отработанной и часто повторяющейся схеме. Он специализируется на отдельных фигурах святых, и его руке принадлежат, прежде всего, пророки из купола, где исповедуемые им художественные принципы проявились наиболее отчетливо (илл.324:325). В его манере преобладает обобщенность контуров и рисунка, укрупненность форм, однообразная выразительность линий и пробелов, которые подчиняются не столько законам пластики, сколько ритмике движения кисти. Стандартизация этих приемов иногда скрадывается разнообразием обликов святых, вариациями их поз и постановок фигур, но зачастую его святые лишь незначительно отличаются друг от друга. Судя по росписям барабана, этот художник явно следует схеме декорации купола Спасо-Преображенской церкви, повторяя позы и жесты отдельных святых (например, Иоанна Предтечи, присутствующего в обоих памятниках), размещая фигуры в таком же ирреальном пространстве разреженного фона. Между тем, он спокойно делает приземистыми фигуры пророков и особенно ангелов, искажая их пропорции ради того, чтобы вместить в пространство купола трехрегистровую роспись и сохранить крупный масштаб изображений. Его пророки обладают мощью фресок Феофана, но в них нет скульптурной точности и изысканности, из-за чего неизбежно утрачивается монументальность образа. В то же время здесь отчетливо проявляется почвенность этого художника, освоившего основные принципы стиля, но так и не научившегося создавать выверенные и выразительные пространственные построения.

324. Пророк Иезекииль. Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.

325. Иоанн Предтеча. Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.
В основном объеме храма преобладает иная художественная стихия, связанная с творчеством второго мастера. Ему принадлежит подавляющее число сюжетных сцен, где он проявляет себя как блестящий мастер композиции, ритма и иллюзорного пространства. Второй художник работает в более мелком масштабе и на первый взгляд его главной задачей является повествование, рассказ, раскрытие сюжета во всех его подробностях. Между тем, в каждой отдельной сцене он предстает как непревзойденный мастер композиционного построения (илл. 326). Его композиционный язык достаточно лапидарен, но не аскетичен. Он использует сложные, но ясные по формам архитектурные кулисы, которые безукоризненно вписываются в сцены, акцентируют динамику композиции и расширяют ее пространство (илл. 327). Схожую роль играет и пейзаж, лаконичный по форме, но созвучный основным динамическим композиционным векторам, и, таким образом, акцентирующий смысл и настроение сюжета. Так, например, в «Поругании Христа» горки буквально вопиют к небу (илл. 328), а в «Сошествии во ад» их изломанные формы многократно усиливают динамику изображенных здесь фигур. Обладая иллюзорностью, архитектурный или пейзажный фон сохраняет свою абстрактность и, отодвинутый на второй план, заполняет композицию воздухом, раскрывает перед нами глубину этого условного пространства, в котором парят фигуры представленных персонажей. Эффект парения фигур достигается и другими художественными приемами. Так, второй мастер блестяще использует «негативный» метод написания складок, когда по белому левкасу кладутся широкие фиолетовые тени, графика которых сглажена тонкой растушевкой. Благодаря этому приему фигуры приобретают прозрачность и воздушность. Акцентируя этим приемом несколько фигур, отчетливо выделяющихся на фоне других персонажей, художник создает динамический каркас композиций, в которых он использует самые неожиданные и смелые пространственные построения («Сошествие во ад») (илл. 330). Завершающим аккордом в компоновке сюжета служит жест, который, в отличие от фресок Феофана, и даже от росписей Успенской церкви, в системе художественной выразительности декорации Федоровской церкви приобретает поистине решающее значение. Расположение руки, ее изгиб и поворот, в сценах основного объема, особенно в композициях страстей, оказывается значительно выразительнее ликов, буквально концентрируя в себе квинтэссенцию смысла изображаемого события. Все это наполняет небольшие композиции второго мастера поистине драматургическим пафосом и роднит его сюжеты с театральными мизансценами, где персонажи фресок уподоблены действующим лицам, несущим на себе образы добра и зла.

326. Отречения Петра и повесившийся Иуда. Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.

327. Несение Креста. Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.

328. Поругание Христа. Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.

329. Апостол из «Евхаристии». Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.

330. Царь Соломон из «Сошествия во ад». Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.
Второму мастеру, расписавшему основной объем Федоровской церкви, присуща лаконичность художественного языка, которая осознается им как определяющая черта всего художественного образа. Художник работает в особом колорите, когда традиционные для данного направления цвета – желтая и коричневая охры, красно-коричневая, лиловая и фиолетовая – используются в разнообразных, часто разбеленных вариациях, создающих удивительную жемчужную тональность всей палитры. Его обобщающе-утонченный рисунок обладает какой-то неуловимой мимолетностью и эскизностью, за которой ощущается небывалая уверенность мастера и в то же время трепетность его художественной натуры (илл. 329).
В написании ликов он использует уже хорошо знакомый нам типаж овального лица с крупным каплеобразным носом, маленькими чуть поджатыми губами, небольшим, иногда как будто провалившимся подбородком, и маленькими глазами, зрачки которых, написанные не темной, а светлой краской, часто вовсе не смотрят вовне, а буквально обращены внутрь себя. Этот физиогномический тип и создаваемый им образ, известный по фрескам Волотова поля или Феофана Грека, приобретает здесь какую-то особую интимность, ранимость и камерность. При этом выражение лиц святых вовсе не безучастное; они самоуглубленны скорее потому, что отвернулись от мира, его греховности и несовершенства (илл. 331). В них абсолютно отсутствует экспрессия волотовских фресок, или мужественная решительность и целеустремленность образов Феофана Грека. Напротив, лики святых Федоровской церкви обладают очень хрупкой и трепетной, порой даже женственной красотой, и их образы источают смирение, кротость и чистоту души (илл. 332).

331. Преп. Евфросин. Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.

332. Иоанн Богослов из «Распятия». Фреска церкви Федора Стратилата «на Ручью» в Новгороде. Последняя четверть XIV в.
Обладая тонко организованной ритмикой как внутри каждого отдельного сюжета, так и всего ансамбля в целом, фрески Федоровской церкви очень музыкальны по своей природе. Однако здесь не услышать мощных аккордов в виде особенно выделяющихся, ярких образов Феофана, вырывающихся из общей могучей симфонии его фресок; нет здесь и торжественного и довольно громкого гимна, который ощущается в росписях Успенской церкви на Волотовом поле. Камерность и хрупкая красота ансамбля Федоровских фресок рождает и соответствующие музыкальные ассоциации, в ряду которых слышится скорее тихое соло, исполняемое для малого числа зрителей. Степень индивидуализации художественного языка второго мастера уместно сравнить здесь с сугубо личной молитвой, с диалогом между художником и Богом. В этом отношении фрески основного объема Федоровской церкви, являясь своего рода вершиной живописи, вдохновленной идеями исихазма, в то же время открывают перед нами хрупкость и ранимость этого искусства, которое находило опору не столько в традиции, сколько в персональной одаренности и твердости духа его творцов и создателей.
Направление, представленное фресками Успенской церкви на Волотовом поле, росписями Феофана Грека или мастеров Федоровской церкви, несомненно, было главным художественным явлением в новгородской жизни последней трети XIV в. О широком распространении этого стиля в северо-западной Руси свидетельствуют и разнообразные новгородские иконы и миниатюры, несомненно, созвучные настроениям названных росписей, и небольшие фрагменты схожих фресок в других церквах Новгорода (например, церковь Бориса и Глеба в Плотниках построенная в 1377 г.). Весьма примечателен и тот факт, что схожие художественные явления полностью преобладают в искусстве Пскова второй половины XIV и всего XV столетия, где они представлены ансамблями фресок Снетогорского монастыря (1313) и церкви Успения в Мелетово (1463). Тем не менее, художественная жизнь Новгорода и его окрестностей была куда более разнообразной, и в ней нашли отражение и другие грани позднепалеологовского искусства. Возникают росписи, где, взамен экспрессивной и очень индивидуализированной манеры, появляется более строгий и отчасти даже академичный стиль, тяготеющий к широкой общевизантийской традиции с ее устойчивостью фигур, стабильностью ритмов и линий, размеренностью композиционных построений и стандартно богатым колоритом. Трудно сказать, было ли это явление связано с местной традицией, или же здесь, как и в первой группе памятников, преобладали приезжие мастера, вносившие в новгородское искусство, в соответствии со своими вкусами и требованиями заказчиков, те или иные стилистические ориентиры. Летописи второй половины XIV в. почти каждый год сообщают о строительстве церквей, а зачастую и об их росписи, но многочисленные факты, свидетельствующие о декорации церквей через 10–20 лет после завершения их строительства, не позволяют с определенностью говорить о существовании стабильной новгородской школы фрескистов.
Пример именно такого рода представляют фрески церкви Спаса Преображения на Ковалеве близ Новгорода, которые по праву можно считать центральным памятником второй группы. Церковь была построена в 1345 г., а расписана лишь 35 лет спустя, в 1380 г., по заказу новгородского боярина Афанасия Степановича и его жены, о чем свидетельствовала надпись над входом в храм. Полностью разрушенная во время Второй Мировой войны, церковь теперь восстановлена, а фрески кропотливо собираются из осколков реставраторами, благодаря чему мы можем составить представление о художественном мире этого ансамбля.
Система росписи Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве в целом развивает тенденции, которые становятся уже общими для новгородской стенописи позднего XIV в. Небольшая церковь обладала статичным и мало расчлененным, а потому хорошо обозримым интерьером, в котором все изображения читались четко и ясно, чему способствовал достаточно крупный и почти не дифференцированный масштаб фресок. Купол занимала фигура Пантократора в окружении архангелов с лабарумами и жезлами, а также херувимов и серафимов. Один из них, в соответствии с пророчеством Иезекииля, представлен в облике тетраморфа, то есть с четырьмя ликами, что истолковывалось Церковью как прообраз четырех евангелистов (илл. 333). В простенках барабана размещены фигуры пророков, включая и Иоанна Предтечу, что становится обычаем для новгородских росписей этого времени. В алтарной апсиде сохранялись изображения «Службы св. отцов» и «Причащения апостолов», а в нише жертвенника, как и в росписях Волотова поля, находилась композиция «Христос во гробе» (илл. 334). Своды и стены были отведены под Христологический цикл, который иллюстрировал основные евангельские события. Значительное место в росписи занимали также отдельные фигуры святых, расположенные на столбах, арках, а также включенные в декорацию стен. Здесь, помимо традиционных святых – преподобных, мучеников, св. жен, встречаются и фигуры пророков, что является нововведением в системе декорации новгородских храмов. Особое место здесь было отведено регистру св. воинов, что, вероятно, отражало общее настроение времени Куликовской битвы (илл. 335).

333. Тетраморф. Фреска Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве близ Новгорода. 1380 г.

334. Христос во гробе. Фреска Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве близ Новгорода. 1380 г.

335. Св. Воин (Нестор ?). Фреска Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве близ Новгорода. 1380 г.
Одной из особенностей системы росписи Спасской церкви является ослабление связи соседствующих изображений, их станковый характер, замкнутость каждого сюжета в себе. Кроме того, в общем потоке повествования наблюдаются явные нарушения хронологии событий, связь которых с соседствующими сюжетами выявляется лишь на уровне аллюзий и сложных ассоциативных восприятий. Так, например, на северной стене возле «Снятия с Креста» и «Оплакивания» размещались «Преображение» (илл. 336) – событие, которому посвящен храм, а также редкая для русского искусства композиция «Предста Царица», где Богоматерь в образе царицы молитвенно предстоит перед восседающим на троне Христом Великим Архиереем. Эти сюжеты не имеют прямой связи с расположенными рядом сценами страстей Христовых, но ассоциативно истолковываются исследователями как образ «будущего века», который открывается человечеству через смертные страдания Христа. Так, «Преображение», согласно многочисленным литургическим и святоотеческим текстам, издавна понималось как прообраз крестных мук и Второго Пришествия Христа, а «Предста Царица», по существу, является эсхатологическим изображением предстояния Богородицы за род человеческий перед престолом Всевышнего (илл. 337).

336. Преображение. Фреска Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве близ Новгорода. 1380 г.

337. Спасо-Преображенская церковь на Ковалеве близ Новгорода. Общий вид росписей северной стены 1380 г.
В создании фресок Спасской церкви принимало участие несколько художников, среди которых исследователи выявляют три основные манеры, различия которых имеют скорее второстепенный характер, тогда как на первый план выходит целостность ансамбля, его стилистическая однородность. искусство Ковалевских фресок статично и упорядоченно, в нем нет того артистически виртуозного и порой небрежного рисунка, который мы видим во фресках Волотова поля, а колорит, вместо пульсирующих и светящихся полутонов Федоровской церкви, обретает красочную насыщенность, яркость и плотность. Мастера Ковалевских росписей как будто пользуются открытыми цветами, не смешивая их, а накладывая друг на друга, из-за чего эта живопись обретает небывалую плотность и почти осязаемую пластическую выразительность. Краски различной тональности, не сливаясь, послойно и в строгой последовательности наращиваются друг на друга, благодаря чему цвет постепенно наполняется световой интенсивностью. Движение от тени к свету идет импульсами, через которые форма постепенно обретает рельефную выразительность. Построение формы завершается чисто белильными бликами, которые отмечают самые высветленные участки ликов и фигур, внося финальные акценты в пластическом осмыслении образов, но не создавая того ощущения мистического озарения, которое мы найдем во фресках Феофана или мастеров Федоровской церкви.
Плотность живописи, в сочетании с тщательной проработкой подробных и порой многочисленных деталей изображения (например, в доспехах св. воинов), создает очень настойчивое впечатление иконности этих росписей, что усиливается их композиционной замкнутостью, станковостью каждого отдельного сюжета, каждой фигуры, и высокой степенью индивидуализации образов (илл. 338). Каждое изображение святого представляет сосредоточенную в себе, монолитную и целостную форму с обобщенным контуром, правильными пропорциями и очень устойчивой постановкой фигуры. В отличие от росписей Волотова поля или Федоровской церкви, в Ковалевских фресках абсолютно отсутствует динамика, порывистость, экспрессия. Напротив, сохраняя красоту и изысканность, все фигуры уравновешенны, порой даже статичны, а их движение, подчеркнутое складками драпировок, оказывается остановившимся и застывшим в каком-то вневременном пространстве.

338. Преп. Антоний. Фреска Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве близ Новгорода. 1380 г.
В живописи ликов художники демонстрируют нам разнообразие методов. Они могут использовать традиционную фресковую технику проработки формы жидкими тенями и высветлениями, которые создают очень тонкие и почти иконные, но все же неслитные переходы красок, как, например, на лике Христа из композиции «Христос во гробе» (илл. 339). В то же время они пишут отдельные лики в иконной технике, накладывая желтые высветления по сплошному санкирю, цвет которого варьируется от темно-оливкового до красно-коричневого. Эти вариации достаточно спонтанны и не находят объяснения ни в значимости образа, ни в его принадлежности кисти разных мастеров. Тем не менее, образный строй Ковалевских святых остается единым для всего ансамбля. Как и фигуры, их лики, отстраненные и самоуглубленные, обладают эмоциональной устойчивостью и определенностью, что, в масштабах ансамбля, должно было создавать ощущение статичной величественности. Каждый отдельный образ, каждая фигура святого обладает своими индивидуальными и очень выразительными качествами, и различными психологическими характеристиками (илл. 341). Так, воины-мученики, являя собой твердость духа и непреклонность веры, представлены в изысканных и репрезентативны позах, и несут в себе дух воинской чести и рыцарского достоинства. Напротив, очищенные молитвой и аскезой старческие образы пророков и монахов олицетворяют собой духовную строгость, незыблемость своих убеждений. В их аскетичных обликах с резко подчеркнутыми скулами, впавшими щеками и взлохмаченными волосами подчеркивается пренебрежение к плоти и горение духа (илл. 340). Именно в этих образах мастера Ковалевских фресок достигают наибольшей духовной напряженности, и не случайно именно эти изображения обнаруживают созвучность искусству Феофана. Но здесь же определяется и принципиальное отличие этих двух ансамблей-современников. Многоплановость, интеллектуализм и утонченность образа, свойственные фрескам Феофана Грека, в Ковалевских росписях заменяется фиксированной определенностью его психологической характеристики, и каждый святой оказывается носителем и выразителем именно этого качества. Именно эта особенность образной характеристики станет неотъемлемым признаком новгородской живописи XV столетия.

339. Христос во гробе. Фреска Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве близ Новгорода. 1380 г.

340. Пророк Илья. Фреска Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве близ Новгорода. 1380 г.

341. Неизвестная преподобная. Фреска Спасо-Преображенской церкви на Ковалеве 6лёз Новгорода. 1380 г.
Проявившийся во фресках Ковалева дух монументализма был созвучен общим настроениям эпохи позднего XIV столетия, когда в некоторых регионах византийского мира, в том числе в Сербии, художники стали обращаться к образцам раннепалеологовского искусства конца XIII – первой половины XIV в. Эти особенности дали основание некоторым исследователям увидеть здесь не только влияние сербской живописи, но и говорить о непосредственном участии в росписи Ковалевской церкви приглашенных из Сербии мастеров. Не отрицая возможности такого влияния, все же следует отметить, что фрески Спасской церкви в первую очередь созвучны собственно новгородской традиции и культуре. Духовная сосредоточенность и весомость образов, их созерцательность и отказ от многоплановой психологической характеристики, сочетание устойчивости фигуры и ее изысканности, скульптурной материальности и обобщенности рисунка, неслитность красочных слоев в светотеневой проработке формы, наконец, сгущенная красочность и насыщенность колорита, – вот те черты, которые во многом определят новгородское искусство надвигающегося XV столетия.
Работа художников-фрескистов в Новгороде позднего XIV в., вероятно, имела особенно активный характер, сравнимый по своей масштабности, разве что со временем конца XII – первых десятилетий XIII столетия. Начиная с 80-х гг. XIV в. и по 20-е гг. XV столетия в Новгороде возводится около 50 каменных храмов, большинство которых, вне сомнения, имели фресковую декорацию. Грандиозные масштабы художественных работ позволяют предположить, что в Новгороде в это время работало несколько артелей фрескистов, среди которых, несомненно, были многочисленные приезжие мастера. Такая обстановка неизбежно порождала смешение стиля и мастерства, исполнение второстепенных заказов «ускоренным» методом, массовость и стандартизацию монументальной живописи. Однако эти условия не привели к примитивизации художественного языка и падению качества живописи, которая в целом остается на достаточно высоком уровне. Характерным примером подобного массового художественного производства являются фрески церкви Рождества Христова на Красном поле, создание которых относится к последнему десятилетию XIV в. В Синодике церкви в качестве ктиторов перечислены многие видные фамилии новгородских бояр, а также названо имя великого князя Дмитрия Васильевича Донского, что говорит о высоком статусе основателей этого храма.
Небольшая церковь Рождества была возведена в 1382 г. как монастырский храм при кладбище, что отчасти наложило отпечаток на состав росписей. В целом мастера следуют стандартной схеме, но из-за малых размеров храма существенно сокращают ее, расставляя лишь главные смысловые акценты в выборе сюжетов. Так, в куполе помещается полуфигура Пантократора, окруженного ангелами и небесными силами, ниже которых, в простенках окон барабанов попарно представлены восемь пророков. В парусах сохранились изображения евангелистов, подпружные арки отведены под фигуры пророков, а алтарную конху занимает тронная Богоматерь с Младенцем. Плоскости северной и южной стен отведены под огромные сцены «Успение Богоматери» (илл. 342) и «Рождество Христово», которые занимают традиционное место в системе храмовой декорации. Своды и люнеты заполнены сценами Христологического цикла, в котором акцентированы темы, божественной природы Христа («Сретение» и «Крещение» в южном своде), Его искупительной жертвы («Распятие» и «Снятие со Креста» в северном своде, илл. 343), и Его проповеднической миссии («Проповедь юного Христа во храме» и «Беседа Христа с самаритянкой» в восточном своде). Эти сцены сохраняют крупный и хорошо читаемый масштаб, из-за чего композиции переходят и на плоскость люнетов, как бы срезая углы и нарушая тем самым архитектоническую ясность стенописи. Это решение нельзя назвать удачным, и в западном объеме художники отказываются от него, располагая сюжеты уже в строгом соответствии с архитектурными плоскостями. Здесь расположено несколько сцен, содержание которых имеет и более конкретное наполнение, связанное с назначением храма. Так, на своде сохранилось монументальное «Воскрешение Лазаря», раскрывающее тему воскресения мертвых. В люнете расположена композиция «Вручение монастырского устава ангелом Пахомию» – один из классических монашеских сюжетов, повествующий о божественном утверждении монашеского образа жизни (илл. 344). Эта тема подкреплена двумя фигурами столпов монашества – преподобных Ефрема Сирина и Саввы Освященного (илл. 345), образы которых находятся ниже подпружной арки.

342. Успение. Фреска церкви Рождества христова на Красном поле 6лиз Новгорода. 1390-е гг.

343. Снятие со Креста. Фреска церкви Рождества Христова на Красном поле близ Новгорода. 1390-е гг.

344. Ангел вручает монастырский устав Пахомию. Фреска церкви Рождества Христова на Красном поле близ Новгорода. 1390-е гг.

345. Преп. Савва Освященный. Фреска церкви Рождества Христова на Красном поле близ Новгорода. 1390-е гг.
Как и система росписи Рождественской церкви, несущая на себе известный отпечаток спонтанности, так и художественный строй фресок не отличается стабильностью и безупречностью. Так, в фигурах пророков барабана и подпружных арок, при всем их тяготении к классичности, явно присутствует диспропорция, возникшая из-за криволинейности данных архитектурных форм. В некоторых композиционных построениях узких сводов (например, в «Снятии с Креста») ощущается некоторая неуверенность в расположении персонажей. Однако, взятые в отдельности, крупным планом, фрески создают ощущение свежего дыхания и легкого движения, за которыми стоит живая и непосредственная натура работавших здесь художников (илл. 346). Мастера Рождественской церкви пишут в непринужденной манере, где нет жесткой упорядоченности фресок Ковалева, повышенной эмоциональности росписей Волотова, или величественности каждого отдельного образа Феофана Грека. Очарование этих фресок скорее в живой интерпретации традиции, следование которой, между тем, не превращается в догму. По совокупности формальных признаков эта живопись близка фрескам Ковалева. Художники используют здесь довольно насыщенную палитру, их манера письма одежд и ликов строится по той же системе постепенного напластования высветляющихся слое, краски, за счет чего и лепится форма, пластичная и рельефная в своей скульптурной выразительности. Однако колорит оказывается светлее, освещеннее, в нем много света, рефлексов, благодаря чему живопись обретает иллюзорность и пространственность. Лики оказываются более сплавленными, по тщательности проработки гранича с иконными образами. Движение кисти порой становится удивительно артистичным и свободным, а образы обретают духовную глубину, и в то же время проникновенность и приближенность к миру человека с его болью и радостью, ошибками и просветлениями. В целом ансамбль фресок церкви Рождества создает впечатление той тишины и камерности, которые, несмотря на принципиальное отличие большинства стилистических норм, роднят его с фресками Федоровской церкви. Не исключено, что оба ансамбля были инспирированы одним коротким периодом в истории новгородской монументальной живописи, и ансамбль Рождественской церкви является младшим современником росписей церкви Федора Стратилата.
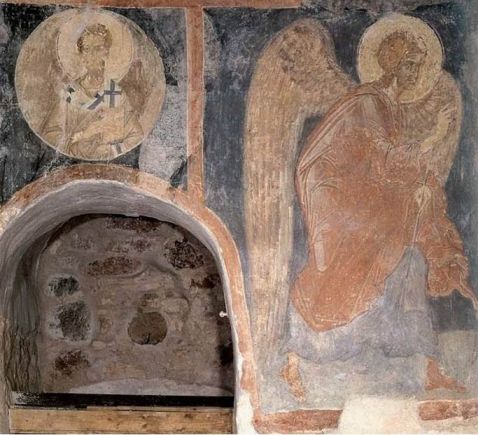
346. Ангел из «Благовещения». Фреска церкви Рождества Христова на Красном поле близ Новгорода. 1390-е гг.
Иконопись и книжная иллюстрация в русских центрах. Москва и Новгород. Фрески и иконы Пскова
Иконопись. Общая характеристика
Было время, когда о существовании русской иконописи второй половины XIV в. не знали, затем, после реставрационных открытий 1920–1930-х гг. в ней видели только произведения Пскова и Новгорода. Искусство Москвы воспринималось как сумма разрозненных памятников, не идущих в сравнение с творчеством Андрея Рублева, с которого и было принято начинать историю московской живописи. В последние десятилетия стало понятно глубокое значение русской иконописи этого времени, которая является своеобразным откликом на великие духовные и художественные течения византийского мира. Важнейшей особенностью русской иконописи второй половины XIV в. является ее своеобразие внутри искусства православного круга, ее задушевность, сердечность, сосредоточенное спокойствие образов.
Иконы второй половины XIV в., в сравнении с монументальными росписями, в целом производят впечатление гораздо менее экспрессивных и динамичных. Их художественный язык обычно – сдержанный, форма организована тоньше, колорит – многоцветный. Эти особенности объясняются не только самой природой иконописи. Преобладающая часть икон, сохранившихся от второй половины XIV в., происходит из Москвы или окружающих ее городов, то есть из региона, где сбалансированность художественных приемов была традиционной приметой стиля. Некоторые иконы Пскова, в которых прорывается необычайная динамичность живописи и повышенная экспрессия эмоционального наполнения, занимают периферийную позицию в общей картине.
Развитие иконостаса
Во второй половине XIV в. алтарные преграды, прежде относительно невысокие, превращаются в многоярусные структуры, которые закрывают от присутствующих в наосе богослужебные действия, совершаемые в алтарной части. Высокий иконостас постепенно становится отличительной особенностью русского храмового интерьера. Поверх нижнего, «местного» ряда, облик которого в XIV в. не совсем ясен, ставится деисусный ряд, изображающий моление перед Спасителем за человеческий род, с фигурами Богоматери, Предтечи, архангелов, апостолов, святителей (св. иерархов, епископов, отцов Христианской Церкви), мучеников, преподобных и столпников. Над деисусным появляется праздничный ряд, с изображением евангельских событий (в основном соответствующих церковным праздникам). Вскоре, уже в начале XV в., над праздничным рядом возникнет пророческий, а в XVI в. – праотеческий. Тем самым, в русском иконостасе перед молящимися предстает не только новозаветная история, но и персонажи Ветхого Завета, провозвещающие явление в мир Спасителя. Центром ансамбля иконостаса является средняя икона деисусного ряда, с изображением Христа на троне в окружении небесных сил («Спас в силах», или «Спас во славе») – иконография, известная уже в ранневизантийский период (мозаика в монастыре Христа Латома в Салониках), но получившая исключительное развитие именно в русском искусстве начиная с позднего XIV в. и содержавшая ветхозаветные ассоциации (с видением пророка Иезекииля) и опиравшаяся на учение о Втором Пришествии Христа.
Для иконостасов больших церквей иконы делались очень крупными. Особенно это касается деисусного яруса. Находящиеся в нем иконы бывают сравнимы по масштабам с гигантскими памятниками домонгольского периода, некоторые из них превышают 3 метра в высоту. В древности это были лишь отдельные, изолированные произведения, тогда как теперь, в XIV в., это большие, многочастные ансамбли.
Как и в других видах живописи, в сфере иконописи во второй половине XIV в. на Руси, наряду с местными мастерами, зачастую работали приезжие художники из разных областей византийского ареала, которые, из-за натиска турок на православные земли, вынуждены были эмигрировать. Однако их работы, выполненные на Руси, зачастую приобретают особый отпечаток, сродняясь некоторыми качествами с произведениями местных художников. Многие приезжие мастера принимали участие в создании крупны иконостасных ансамблей, которым в конце XIV в. уделялось на Руси большое внимание.
Иконопись Москвы
Наиболее значительным среди памятников второй половины XIV в. является деисусный чин, находящийся в иконостасе Благовещенского собора Московского Кремля и созданный, по всей вероятности, в 1380–1390-х гг. (илл. 347). Сейчас в иконостасе стоят девять икон: кроме Спаса, Богоматери, Иоанна Предтечи и двух архангелов, это апостолы Петр и Павел, а также святители Василий Великий и Иоанн Златоуст. Кроме того, крайние иконы, с фигурами великомучеников Георгия и Димитрия, хранятся в соборе отдельно. Громадные фигуры располагаются на широких досках, так что по сторонам каждой остается много свободного пространства. Разнообразные ракурсы, варьирующиеся жесты, крупные формы, использование диагональных линий и асимметричных композиционных построений помогают подчеркнуть глубину переживаний, внутренней работы, размышлений каждого из персонажей, предстоящих перед Спасителем в ожидании Второго пришествия. Семь центральных икон исполнены, вероятно, главным мастером. Поражают виртуозность его рисунка, безукоризненное чувство пластики, богатство колорита и такой особый прием как тончайшие голубые лессировки на одеждах большинства фигур. Голубые блики и тонкие слои голубого тона не только сообщают единство цветовому решению всего ансамбля, но и символизируют неземную природу небесного света, наряду с золотом фонов и нимбов.

347. Благовещенский собор Московского Кремля. Иконостас с деисусным чином 1380–1390-х гг.
Обращает на себя внимание искусное сопоставление парных фигур: Богоматери (илл. 349), Ее сияющего лика, напоминающего о знаменитом образе Пантократора в иконе 1363 г. с Афона (Гос. Эрмитаж), Ее приподнятых ладоней, и Предтечи (илл. 350) – изможденного и скорбно склоненного; обоих архангелов, где Михаил выделен киноварным цветом плаща (его фигура, сильно пострадавшая при неудачной реставрации, имела больше сходства с симметричной фигурой Гавриила, чем сейчас) (илл. 351); тишины и душевной мягкости апостола Петра (илл. 348) и внутренней напряженности Павла.


348. Апостол Петр. Из деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля. 1380–1390-е гг.
349. Богоматерь. Из деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля. 1380–1390-е гг.


350. Иоанн Предтеча. Из деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля. 1380–1390-е гг.
351. Архангел Гавриил. Из деисусного чина Благовещенского собора Московского Кремля. 1380–1390-е гг.
Изображения обоих святителей исполнены в том же ключе сопоставлений, но чуть проще: их рисунок несколько геометричен, письмо ликов более плоскостное, поэтому не исключено, что их написал помощник главного мастера. Наконец, фигуры мучеников созданы мастером совсем другого круга, акцентировавшим закругленность линий, силуэт, яркие локальные плоскости, меланхолическую чувствительность. Относительно последнего художника нет никаких сомнений, что это был русский, московский иконописец, в творчестве которого отразился нарождающийся стиль XV в.
Главного мастера Благовещенского деисусного чина часто отождествляют с Феофаном Греком, тем более что еще не так давно считалось, что летописное известие 1405 г. о работе Феофана Грека, с двумя другими художниками – старцем Прохором «с Городца» и чернецом Андреем Рублевым – в Благовещенском соборе относится именно к находящемуся в храме иконостасу. Сейчас стало ясно, что храм, стоящий на месте существующего собора в 1405 г., был совсем маленьким, он не мог вместить рассматриваемый огромный ансамбль, в котором высота икон равна 210 см. Если бы даже иконы 1405 г. при перестройках храма и были бы перенесены в существующий собор 1480-х гг., они должны были сгореть в опустошительном пожаре 1547 г., о котором красочно сообщает Никоновская летопись, упоминая о гибели «Деисуса письма Андрея Рублева». Отнесение икон Благовещенского деисусного чина кисти Феофана Грека, еще встречающееся среди историков искусства, базируется на общем представлении о его творчестве. Действительно, огромные, «титанические» образы Благовещенского деисусного чина, глубина выраженного в них драматического размышления, индивидуальная значительность каждой отдельной фигуры, византийский характер пластики и колорита, исключительный артистизм живописи – все это напоминает новгородские фрески Феофана Грека 1378 г. Против такого отождествления свидетельствует, однако, иной «почерк» художника. Контуры, вместо округлых и плавно льющихся во фресках, в иконах оказываются спрямленными, угловатыми, а кисти рук, вместо маленьких, очерченных единой плавной линией, – крупными и заостренными. иной характер носят и драпировки, чрезвычайно сильно отличающиеся по рисунку. Эти отличия трудно объяснить различием видов живописи – монументальной и иконной, или требованиями технических приемов.
Представляется наиболее вероятным, что ансамбль деисусного ряда, сейчас находящегося в Благовещенском соборе Московского Кремля, был принесен в этот храм после пожара 1547 г., по приказу царя Ивана Грозного, из какой-то другой, причем более крупной по размеру русской церкви. Этот деисусный чин был выполнен, на наш взгляд, артелью во главе с выдающимся, неизвестным нам по имени византийским художником, который, как и Феофан Грек, работал на Руси.
При всей близости к византийскому позднепалеологовскому искусству, в иконах Благовещенского чина ощутимо воздействие русской художественной среды, местной традиции, и прежде всего в акцентировке линии, силуэта – приемев давно использовавшемся русскими художниками, дабы облегчить восприятие композиций в огромных интерьерах древних русских храмов.
Другой деисусный чин – Высоцкий (ГТГ, ГРМ, илл. 352, 353, 354) – отличается, прежде всего, своей иконографией. Его фигуры изображены по пояс – вариант, встречающийся в иконостасах XIV–XV вв., а впоследствии почти исчезающий. В таких иконостасах не бывает представлен «Спас в силах», но лишь Его поясное изображение. Высоцкий чин, как и Благовещенский, основан на традиции византийского позднепалеологовского искусства, но отличается относительной скромностью колорита и иной внутренней характеристикой. Вместо исключительно широкого диапазона эмоциональных оттенков, вместо философской, космической направленности Благовещенских икон, изображения в Высоцком чине охарактеризованы более умеренно. их позы и лики выражают сдержанную скорбь и сосредоточенное размышление.

352. Архангел Михаил из деисусного чина. Конец XIV в. из Высоцкого монастыря в Серпухове. ГТГ

353. Иоанн Предтеча из деисусного чина. Конец XIV в. из Высоцкого монастыря в Серпухове. ГРМ

354. Апостол Петр из деисусного чина. Конец XIV в. из Высоцкого монастыря в Серпухове. ГТГ
Семь икон чина происходят из собора Высоцкого монастыря в городе Серпухове, недалеко от Москвы. В Житии основателя монастыря, игумена Афанасия, составленном в самом конце XVII в., приводится сообщение (возможно, дошедшее в виде устного предания), что этот игумен, переселившись в 1387 г. В Константинополь, в Студийский монастырь, заказал иконы для Высоцкого монастыря в византийской столице, послав их на Русь до 1395 г. известие вступает в некоторое противоречие со стилем икон. В константинопольских произведениях конца XIV в. не удается обнаружить столь заметное обобщение формы, столь резко подчеркнутую линию и силуэт, а также почти прижатый к раме вертикальный очерк торса. В иконах Высоцкого чина, выразительных и строгих, ощутимы не только византийские, но и русские стилистические корни, своего рода симбиоз традиций.
Красивые красные надписи на золотых фонах, обозначающие имена изображенных, полустерты, но можно различить, что они были сделаны по-гречески. Надписи же на Евангелии в руке Христа и на свитке апостола Петра – славянские, причем, даже если они поправлены в XVI в., как некоторые думают, то очертания всех бук, соответствуют нормам русской палеографии конца XIV в. Не исключено, что иконы исполнены на Руси, хотя и мастерами, которые ориентировались на византийские традиции. В таком случае (если наше предположение справедливо), рассказ о присылке икон из Константинополя следовало бы рассматривать лишь как легенду, придуманную в XVII в. для возвеличения древностей Высоцкого монастыря в Серпухове и благочестия его основателя Афанасия. Учтем, что пригласить художника было, скорее всего, дешевле, чем везти семь крупных икон издалека. Если же принять, что иконы действительно исполнены в Константинополе, то следует рассматривать их как чрезвычайно своеобразную ветвь поздневизантийской константинопольской живописи.
Редкий стилистический вариант поздневизантийского искусства представлен четырьмя иконами ГТГ, которые когда-то, видимо, принадлежали Троице-Сергиеву монастырю и были найдены в его северных владениях близ Архангельска. Это своеобразный ансамбль, состоящий из икон Спаса на престоле, Богоматери и Иоанна Богослова и напоминающий по составу фигур о Распятии, а также, благодаря триумфально поднятой деснице Христа, о Его победе над смертью (илл. 355). К той же группе принадлежит хуже сохранившееся изображение «Христа во гробе». Иконы написаны по византийским канонам, воспроизводя пластическую концепцию палеологовского классицизма, но они обладают сходством и с итальянскими произведениями. В византинизирующем искусстве итальянского средневековья встречаются изображения богоматери и Иоанна Богослова, со скорбными позами, как в «Распятии», но где вместо Христа распятого представлен Спаситель в торжественной, триумфальной позе. Привкус западноевропейского искусства виден и в скульптурности фигур, рельефе драпировок, в исключительно светлой карнации, натуральности постановки ног Иоанна, его длинных, «готических» пальцах. Оригинален светлый, свежий колорит, с его яркими травянисто-зелеными и лилово-розовыми оттенками. Мастер, создавший эти иконы, должен был воспитаться в том крае, где соединялись обе традиции – византийская и итальянская: возможно, в одном из районов Далмации. Правда, аналогии иконам ГТГ в этом крае пока не найдены. Пространный славянский евангельский текст на раскрытом Евангелии у Христа исполнен почерком конца XIV в. с московскими диалектными особенностями и свидетельствует, тем самым, что иконы были созданы в Москве.

355. Спас на престоле, с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богословом. Иконы конца XIV в. Из погоста Кривое на Северной Двине
Наиболее значительный слой в русской иконописи второй половины – конца XIV в. отражает глубокое переживание сосредоточенной и тихой молитвы, смирение, внимание к тонким оттенкам жизни души, вместо патетики, богатырской силы и монументального размаха икон Благовещенского чина и его круга. Используя мотивы и приемы экспрессивного стиля, остроту линий, асимметрию форм, резкость световых бликов, мастера включают их в совсем иную, заново рождающуюся художественную структуру, где формы становятся более хрупкими, позы выражают готовность к покаянию и светлую печаль, а лики – умиление и растроганность.
В иконописи Москвы произведения этого слоя разнообразны и довольно многочисленны. На первом месте стоит двусторонняя икона «Богоматерь Донская», прославившаяся как чудотворная (ГТГ, илл. 356). Со второй половины XVI в. она находилась в Благовещенском соборе, куда попала, возможно, из Успенского собора Коломны, украшавшегося в 1392 г. Композиция на лицевой стороне своей нежностью и теплотой чувства напоминает «Богоматерь Владимирскую». Бережно придерживая Младенца, Чьи одежды с золотыми штрихами окутывают Его словно золотым облачком или сиянием, Богоматерь смотрит на Него со сложным чувством радости и печали. Типом округлого лика, сиянием световых лучей вокруг глаз, исключительным уровнем мастерства икона напоминает изображение Богоматери в Благовещенском чине. Но она отличается не только более тонкой живописью, рассчитанной на восприятие с близкого расстояния, но и неуловимыми акцентами в пропорциях, усилением эмоциональной характеристики и ее большей открытостью. Икона «Богоматерь Донская» еще теснее, чем Благовещенский чин, связана с русской культурной средой.

356. Богоматерь Донская. Конец XIV в. (около 1392 г.?). ГТГ
«Успение Богоматери» (илл. 357) на обороте «Донской» представлено необычно, как теофания, как явление Христа, вокруг фигуры Которого образуется сияние, раздвигающее все формы к краям композиции. В отличие от «Донской», мастер «Успения» насыщает изображение клиновидными и даже игольчатыми очертаниями, подчеркивает яркость лазуритовой мандорлы Христа, Его одежд цвета золотистой охры с ассистом, интенсивность цвета в зеленых, красных, лиловых одеяниях апостолов. Полузакрытые, как щелочки, глаза скорбящих апостолов и святителей, брови «домиком», треугольные подглазные тени, стремительно положенные световые блики, заостренные пальцы их молитвенно простертых ладоней создают изысканный, ломкий ритм коротких линий и штрихов, в котором отражается хрупкость и чуткость душевных движений. Многие элементы в «Успении» словно взяты из монументальной живописи, например, контуры одежд Христа, и более всего напоминают фрески церкви Феодора Стратилата. Эти элементы стилизованы, переведены в камерный план, но создают образы скорбные и драматические, очень близкие к росписям новгородского храма Св. Феодора.

357. Успение. Оборотная сторона иконы «Богоматерь Донская». Конец XIV в. (около 1392 г.?). ГТГ
Сохранилось несколько выдающихся икон, которые написаны в Москве, вероятно, в 1390-х гг. для московских и подмосковных монастырей и храмов. Они исполнены уже без специфической стилизации «Успения», без апелляции к экспрессивному стилю фресок, а при помощи тонкой и плавной живописи, с постепенностью в построении рельефа, прозрачными золотистыми охрами, с которыми красиво сочетаются благородный синий цвет и – характерная примета времени – очень тонкий золотой ассист. Таковы иконы «Иоанн Предтеча – Ангел пустыни» из села Городище близ Коломны, в окружении житийных клейм (к сожалению, замененных новыми в конце XVIII в.; ГТГ, илл. 358); «Св. Николай, с житием», из Угрешского монастыря (ГТГ, илл. 359); «Богоматерь Одигитрия», принесенная преподобным Кириллом Белозерским в 1397 г. на место его будущего монастыря, из московского Симонова монастыря, где он жил до ухода на Север (ГТГ, илл. 360).
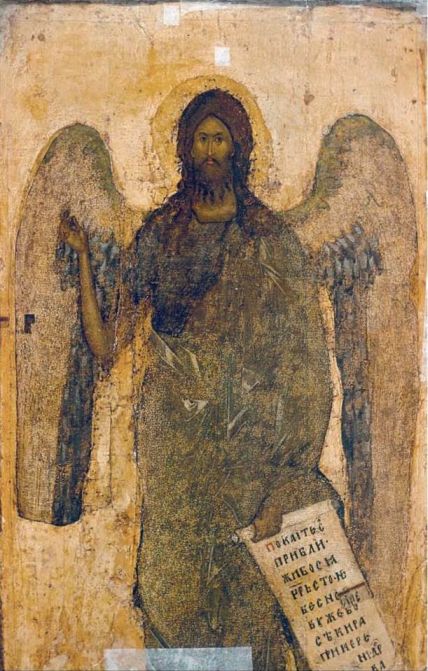
358. Иоанн Предтеча – Ангел пустыни, с житием. Конец XIV в. Из села Городище близ Коломны. ГТГ
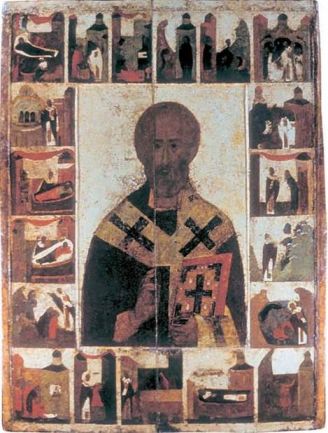
359. Св. Никола, с житием. Конец XIV в. Из Николо-Угрешского монастыря под Москвой. ГТГ

360. Богоматерь Одигитрия. Около 1397 г. Из московского Симонова монастыря. ГТГ
Продолжением той же стилистической линии в московской иконописи является маленькая икона «Богоматерь Одигитрия» из Покровского монастыря в Суздале, служившая, по-видимому, для личной молитвы в келье какой-либо из монахинь этого аристократического по составу инокинь монастыря (ГРМ, илл. 361). Икона из Суздаля, в технике исполнения которой обнаруживаются приемы византийского мастерства, выделяется своей иконографией (Младенец Христос доверчиво вкладывает ручку в ладонь Богоматери), сердечностью чувства и изысканностью живописи.

361. Богоматерь Одигитрия. Конец XIV в. Из Покровского монастыря в Суздале. ГРМ
Особое место среди икон утонченно-созерцательного плана занимает икона «Борис и Глеб на конях», из Успенского собора Московского Кремля (ГТГ, илл.249:362). Несмотря на то, что иконография св. князей в виде всадников, с длинными пиками, на которых развеваются знамена, должна была подсказать героический образ храбрых воинов, св. братья изображены как мученики, движущиеся навстречу своим страданиям во имя Христа. Легконогие кони – вороной с синим отливом и коричневый – реют над землей, а две скалы повторяют контуры фигур: старшего брата Бориса и повернувшегося к нему младшего – Глеба. Всадники едут шагом, их безмолвный диалог глубоко трогает каждого предстоящего перед иконой. Борис, старший, полон горьких предчувствий, и непреклонность его пути тем ценнее, чем больше колебаний и страха приходится ему преодолеть. Глеб, юный, тринадцатилетний, ищет у брата духовной поддержки. Приготовление свв. Бориса и Глеба к страданиям, предчувствие ими собственной кончины не раз описано в посвященных им памятниках письменности, начиная с XI–XII вв. Но только в XIV в., когда путь к совершенству души стал одной из главных тем культуры, сюжет о страданиях святых князей получил столь тонкое воплощение в живописи. Лики святых братьев являются отдаленным парафразом центральной группы в изображениях «Тайной вечери»: погруженного в задумчивость Христа и приникающего к нему юного апостола Иоанна, который предчувствует грядущие страдания.

362. Свв. Борис и Глеб на конях. Конец XIV в. Из Успенского собора Московского Кремля. ГТГ
Не только общей интонацией, но и типами ликов икона Успенского собора похожа на многие другие русские произведения второй половины – конца XIV в.: глубоко сидящими глазами, треугольными тенями, печально приподнятыми у внутренних концов бровями и такой заметной особенностью как маленький, полудетский подбородок. Все в этих ликах подчеркивает не физическую мощь, а богатство духовных возможностей, путь к обретению совершенства, найденную дорогу к спасению, к будущему райскому блаженству.
Однако «Свв. Борис и Глеб на конях» исполнены более пастозной живописью, все формы – пластичны, рельефны, карнация энергична, цвет более интенсивен, чем в произведениях конца XIV в., особенно в московских иконах. Возможно, икона написана несколько раньше остальных рассмотренных нами только что произведений, например, в третьей четверти XIV в. Есть в ней и что-то простодушное, иное, чем в аристократических, рафинированных иконах бесспорно московского происхождения. Икона могла попасть в Успенский собор не из Москвы, а из какого-то другого русского центра.
Не менее оригинальна и даже загадочна другая икона «Борис и Глеб», происходящая из собрания Н.П. Лихачева, (ГРМ, илл. 363) где святые братья изображены по древней иконографии – в рост, фронтально (см. икону XIII в. в Музее русского искусства в Киеве, илл. 221). Бесплотные фигуры св. князей напоминают о комниновской живописи, утрированно яркие красочные плоскости одежд – красных, лазуритово-синих и пурпурных – смотрятся как цитаты из искусства XIII в. Но эти ассоциации возникают лишь в результате блестяще использованных мастером, осознанно или интуитивно, приемов ретроспективной стилизации. Рисунок подолов одежд выдает знание навыков условной перспективы и умение передать соотношение пространственных слоев, а очертания фигур достигают той степени геометрического обобщения, той лаконичной выразительности клиньев, дуг, углов и прямых линий, повторяющихся и идущих параллельно, округлых и диагональных, какой не знала более ранняя русская иконопись.

363. Свв. Борис и Глеб. Вторая половина – конец XIV в. Из собрания Н.П. Лихачева. ГРМ
Лапидарность художественного языка – одно из проявлений исключительного аристократизма этой иконы. Сила св. братье, – не в физической мощи, а в духовной значительности, внутренней насыщенности тонких аскетичных ликов, в дружбе св. князей, согласии, духовном единении, солидарности, которая передается и идентичностью силуэтов, и соприкосновением контуров: благодаря опущенной руке Бориса, опирающейся на меч, контуры обеих фигур объединяются. Икона из собрания Н.П. Лихачева наследует ростовскую традицию и воспроизводит какое-то древнее произведение, вроде иконы «Архангел Михаил», около 1300 г., из Ярославля (илл. 236). Между тем, типы исхудалых ликов с широкими темными тенями, рисунок волос в виде плоских силуэтных пятен находят аналогии в московском искусстве конца XIV в. (ср. миниатюры Киевской Псалтири 1397 г., лик Спаса в шитом «воздухе» 1389 г. В ГИМ). Вероятно, икона отражает особое, в XIV в. еще редкое, осознанно ретроспективное направление в искусстве Москвы, где в конце XIV в. мотив местного национального наследия стал играть значительную роль.
В конце XIV в. в Москве, а быть может и в каких-то небольших подмосковных центрах, стали появляться произведения, в которых почти не звучит напряжение поиска, скорбь трудного пути. Иконы полны сияния, тихой радости, настроения обретенного блаженства. Среди них на первом месте – «Воскресение Христово» («Сошествие во ад») из Воскресенской церкви в Коломне (ГТГ, илл. 364). Ее светлый колорит, с преобладанием синих, голубых и золотистых оттенков, ее легкие, словно парящие в невесомости фигуры, музыкальный ритм жестов, спокойные и задумчивые лики – все это отдаленно напоминает памятники византийского классицизма второй половины XIV в., неуловимо перекликается с большими, многофигурными композициями в росписях церкви Перивлепты в Мистре. «Сошествие во ад» совсем близко подходит и к образам русской живописи XV в.

364. Сошествие во ад. Конец XIV в. Из Воскресенской церкви в Коломне. ГТГ
Разница, однако, в том, что «Сошествие во ад» еще не затронуто следующей волной неоэллинизма, с ее идеальной невозмутимостью. Контуры в московском произведении еще чуть-чуть сохраняют заостренность, а взгляды маленьких черных зрачков – пристальность.
Коломенская икона свидетельствует о творческом характере московской иконографии XIV в. Эта икона была главной, «храмовой» в Воскресенской церкви, поэтому в ней выбран самый торжественный, многофигурный иконографический вариант, с расширенными группами праведников, с дополнительными фигурами ветхозаветных жен, сопровождающих Еву (такая иконография, вероятно, появившаяся в Византии, известна только по русским памятникам, начиная с первой половины XIV в., илл. 277). Это могут быть Сарра, Ревекка, Рахиль, а в XV–XVI вв. В русских иконах иногда изображаются и многие другие праведные жены-праматери, например, Эсфирь в царской короне. Пасхальный, «симфонический» характер композиции подчеркивается и редко изображающимися персонификациями христианских добродетелей и положительных качеств земной жизни («доброты», «красоты», «правды», «мира» и других), которые в виде ангелов наполняют сияние Христа и своим оружием – длинными белыми копьями – разят олицетворения пороков, населяющих бездну ада. Иконографические варианты такого рода могли разрабатывать образованные люди при великокняжеском или митрополичьем дворе, а также при каком-либо значительном монастыре.
Спокойные, просветленные образы иногда появляются даже в иконах московской провинции, мастера которых были далеки от стилистических тонкостей палеологовского искусства. В иконе «Свв. Борис и Глеб с житием», также из Коломны (ГТГ, илл. 365), где одежды центральных фигур сделаны в XV–XVI вв. малиновыми и зелеными вместо первоначальных пурпурно-коричневых, охристых, серых, не обнаруживается ни соразмерности пропорций, ни естественности ракурсов, характерны для основных направлений живописи византийского круга, в том числе русской, в палеологовский период. Все изображения – плоскостные, силуэтизированные, тела словно бескостные, в некоторых сценах действие кажется застывшим, а фигуры – словно повисшими. Однако сквозь эту архаическую структуру проникает новое чувство. Оно сказывается в прозрачности и воздушности композиций, в молитвенном, сосредоточенном настроении многих сцен, а главное – в характеристике центральных изображений, особенно св. Бориса. Его лик, с тонкими чертами, выражает полноту понимания мира, основанную на духовном опыте. Св. Борис приблизился к христианскому духовному идеалу, к пониманию божественной любви, а, как пишет цитируемый в Сказании о Борисе и Глебе св. Иоанн Богослов, «совершенная любовь изгоняет страх» (1Ин.4:18), поэтому князь Борис не боится предстоящих страданий. Этот образ поднимается над частностями художественной эволюции и сохраняет свою жизненную верность на протяжении веков, соотносясь с мотивами русской литературы и реальными персонажами истории.

365. Свв. Борис и Глеб с житием. Конец XIV в. Из Борисоглебской церкви «В Запрудах» в Коломне. ГТГ
Значительное место в русской иконописи конца XIV в. занимают памятники, отражающие стиль так называемого позднепалеологовского классицизма, а именно той его ветви, которая стремилась выявить скульптурность и весомость форм, крупность фигур, не обращаясь ни к усиленной экспрессии живописного мазка, ни к подчеркнутой музыкальности ритма. Одна из таких икон – «Преображение» (ГТГ, илл. 366) – создана московским художником. Это храмовая икона Спасского собора в Переславле Залесском. Собор ремонтировался в 1403 г., и тогда же была заново написана его икона, в традициях искусства только что минувшего XIV в. Геометрическая регулярность композиции, с ее несколько раз повторенным трехчастным членением, смягчается красотой голубых лучей и отблесков от ореола Христа, а главное – искренностью чувств, поэтичностью переживания событий, исключительной глубиной характеристики в ликах Христа, ветхозаветных пророков Ильи и Моисея, троих апостолов, каждый из которых олицетворяет разные уровни восприятия божественного света, исходящего от Спасителя.
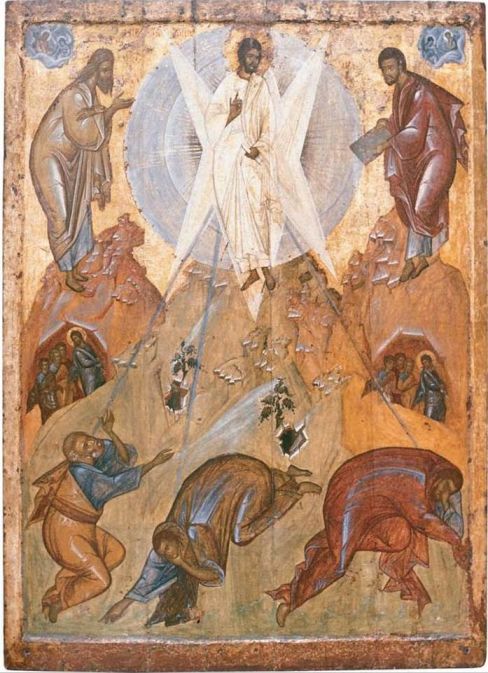
366. Преображение. Около 1403 г. Из Спасо-Преображенского собора в Переславле Залесском. ГТГ
Иконопись Новгорода
В конце XIV в. было покрыто новым слоем живописи изображение «Богоматери Одигитрии» (илл. 367) на лицевой стороне большой двусторонней иконы XI в., находящейся сейчас в Успенском соборе Московского Кремля, где на обороте – знаменитое поясное изображение св. Георгия, рассмотренная в главе I (илл. 57). В XIV в. двусторонняя икона хранилась в Новгороде или, не исключено, в Москве, куда могла быть привезена из Киева. Византийский художник, написавший новый слой на «Богоматери Одигитрии», мог быть приглашен непосредственно из Византии или быть москвичом.

367. Богоматерь Одигитрия. Живопись конца XIV в. на лицевой стороне двусторонней иконы XI в. Успенский собор Московского Кремля
Лик Богоматери, тонко написанный, с лучиками света на щеках, исходящими из сияющих глаз, соединяет выражение светлой печали и тихой радости, встречающееся в лучших произведениях позднепалеологовского искусства. Но композиция «Богоматери Одигитрии» – нагруженная, с тяжелыми формами, что продиктовано контурами оригинала XI в., строго повторенными в записи. Воздействием нижележащего слоя объясняется, вероятно, и плотность красок, не имеющих обычной для византийской живописи прозрачности.
Между тем, иконописцы Новгорода придают классицистической традиции суровость и торжественность. «Благовещение» (Новгородский музей, илл. 368), огромных размеров, является главной иконой неизвестного новгородского храма (возможно, церкви Благовещения на Городище). Изображения неба и луча со Св. Духом в виде голубя переделаны в позднее время, как и небольшая фигура св. Феодора Тирона, вероятно, патрона заказчика, включенной непосредственно в саму композицию, что встречается весьма редко. Массивные фигуры, округлые, словно выточенные темные лики, укрупненное изображение архангела Гавриила, занимающее больше половины композиции и выделенное сияющими одеждами – ярко-синим хитоном и золотым гиматием, его широкий шаг, тяжелая поступь и властный жест передают величие происходящего события, его Божественную предопределенность. Асимметрия композиции и угловатость контуров в данном случае способствуют выразительности иконы, повышая ощущение силы и активность воздействия на зрителя.
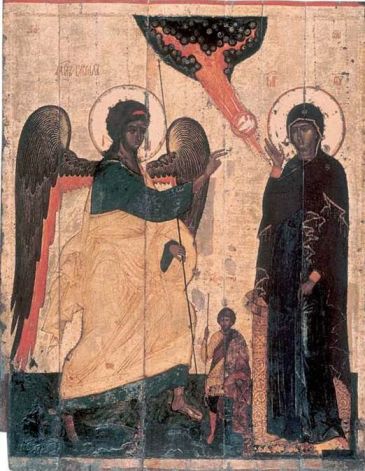
368. Благовещение. Конец XIV в. Из церкви Бориса и Глеба «В Плотниках» в Новгороде. Новгородский музей
В иконе «Св. Борис и Глеб на конях» (Новгородский музей, илл. 369), которая была главной иконой в церкви Бориса и Глеба «В Плотниках» (построена в 1377 г.), лики очень похожи на лики из «Благовещения». Вероятно, оба произведения вышли из одной мастерской. Однако мастер иконы со св. всадниками строит композицию максимально сбалансированно, идеально вписывая фигуры в квадратную доску. Если московская икона из ГТГ с таким же сюжетом передает душевное состояние св. князей и их диалог, то новгородская изображает их парадный выезд, их силу и крепость духа. Здесь св. князья представлены как защитники Руси, храбрые воины, в соответствии с характеристикой, которая дается им во многих памятниках древнерусской письменности. Подобно тому как св. Димитрий Солунский защищал свой город Фессалоники, так святые Борис и Глеб защищают всю Русь, а поскольку их двое, то сила их больше, чем у св. Димитрия. Они уподобляются не только крепостной стене, защищающей страну, но и обоюдоострому мечу, разящему врагов.
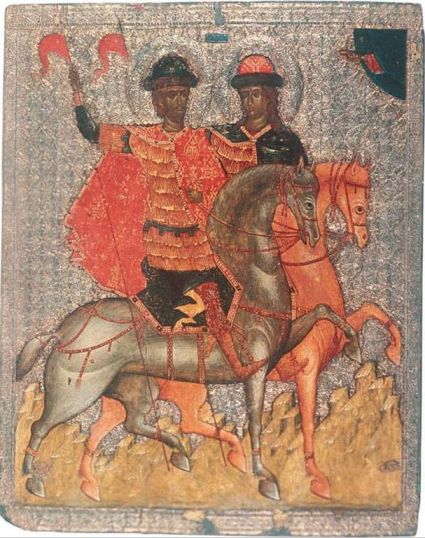
369. Свв. Борис и Глеб на конях. Конец XIV в. Из церкви Бориса и Глеба «В Плотниках» в Новгороде. Новгородский музей
Разновидность новгородского классицизма образуют иконы с утрированно темным, оливково-санкирным цветом широких теней, с яркими пятнами белильных бликов и красных губ, благодаря чему изображения приобретают тревожную напряженность. Таков, например, «Спас Нерукотворный», сейчас находящийся в Успенском соборе Московского Кремля (илл. 370). К тому же художественному кругу принадлежит замечательная икона «Спас на престоле», находящаяся в южной части иконостаса Успенского собора Московского Кремля, куда она была привезена, скорее всего, в XVI в., при Иване Грозном и митрополите Макарии. Если изображение фигуры Спасителя, указующего на раскрытое Евангелие, переписано в позднее время, то Его лик сохранился от конца XIV в. и обнаруживает большое сходство с темными суровыми ликами икон «Благовещение» и «Свв. Борис и Глеб на конях».
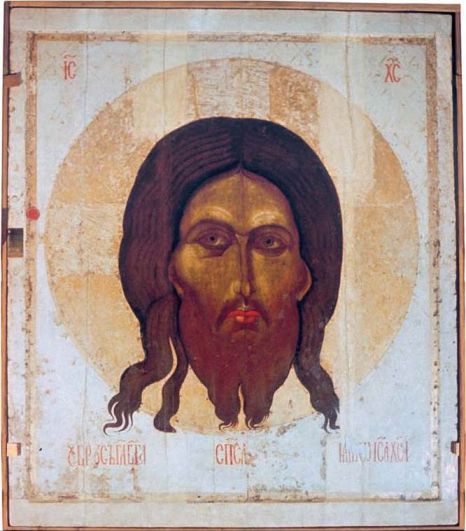
370. Спас Нерукотворный. Конец XIV в. Успенский собор Московского Кремля
Произведения с тонкой, деликатной характеристикой образа встречаются в конце XIV в. не только в Москве и Подмосковье, но и в других центрах. Так, среди новгородских икон это, например, «Покров», около 1399 г., (Новгородский музей, илл. 371), живопись которого, к сожалению, недостаточно хорошо сохранилась.

371. Покров. Около 1399 г. из Покровского Зверина монастыря в Новгороде. Новгородский музей
К тому же стилистическому направлению относится интереснейшая икона в Национальном музее в Стокгольме (илл. 372), с изображением на одной горизонтальной доске трехфигурного деисусного чина, с фронтальными фигурами св. Николая слева и неизвестного святого справа. Этот последний держит книгу с текстом евангельской притчи о человеке, собравшем много богатства в своих житницах» вместо того, чтобы заботиться о своей душе (Лк.12:16–21). Наиболее ранним произведением в данной стилистической группе является «Архангел Михаил» (ГТГ, илл. 373) – икона с поясным изображением из несохранившегося деисусного чина, написанная на серебряном фоне, но с золотыми контурами перьев на ангельских крыльях. Типологически икона похожа на изображение архангела Гавриила в деисусном чине Благовещенского собора Московского Кремля (илл. 351), но отход от монументальности, утонченное очарование и хрупкая красота новгородского произведения возвещают наступление иной художественной эпохи.

372. Деисусный чин, со св. Николой и неизвестным святым. Конец XIV в. Стокгольм, Национальный музей

373. Архангел Михаил, из деисусного чина. Конец XIV в. Из собрания С.П. Рябушинского. ГТГ
Миниатюры и орнамент рукописей
Искусство украшения рукописных книг также переживало в этот период творческий подъем. Большинство рукописей продолжали украшать так называемым тератологическим орнаментом, особенно широко распространившимся в русских манускриптах в XIII – первой половине XIV в. Переплетения фантастических животных, змей и птиц с длинными орнаментальными лентами, которые завязываются узлами, формируя композицию каждого художественного элемента – инициалов, заставок, обрамлений миниатюр, приобрели в русском книжном искусстве неповторимое своеобразие, благодаря особенностям ритма, силуэтов и раскраски. Тератологический орнамент русских рукописей XIII–XIV вв. В полной мере является национальным вариантом декора «звериного стиля», распространенного практически повсеместно.
В самом конце XIV в. В ведущих книгописных мастерских Москвы, работавших при дворах митрополита и великого князя, возрождается старинный «византийский» орнамент, в виде стеблей и медальонов, которые заполнены многокрасочными изображениями цветов и листьев, напоминающими мотивы узоров перегородчатой эмали. Новое обращение к этому орнаменту, не исчезавшему из византийских рукописей, нельзя объяснить только лишь возрождением русско-византийских контактов, ибо эти контакты укрепились гораздо раньше, чем появились первые примеры «византийского» орнамента в московских манускриптах конца XIV в. Скорее всего, импульсом для нового процесса послужили новые оттенки исторического самосознания Москвы, ощутившей себя в этот уже весьма тяжелый для Византии период преемницей византийского культурного наследия и власти киевских князей, и потому стремившейся имитировать красоту рукописей Византии и Киевской Руси.
При относительной скупости книжного репертуара, когда иллюстрировались преимущественно книги богослужебного назначения, русские миниатюры были разнообразны по иконографии, особенно что касается иллюстраций к Евангелию и Псалтири. Как и прежде, в русском книжном искусстве подчеркивается божественное вдохновение составителей священных текстов, их величие, богатство внутренней жизни. Выразительность иконографических формул дополняется красотой живописи и изобретательностью композиций.
Среди произведений сугубо провизантийского направления выделяются миниатюры новгородского Евангелия последней трети XIV в. (ГИМ, Муз. 3651) (илл. 374). Величественные, скульптурные фигуры стоящих евангелистов живо напоминают образы поздневизантийского классицизма (например, росписи церкви Троицы в Сопочанах в Сербии, церкви Св. Андрея на Треске в Македонии), где воспроизводятся традиции античности. иконография миниатюр уникальна: евангелисты пишут свои тексты (фразы из Евангельских чтений, редко цитирующиеся в миниатюрах) в свитках, которые словно спускаются к каждому из них с небес, подвешенные на белых шнурках. По существу, это та же тема небесного вдохновения, которая была ярко воплощена уже в XI в. в миниатюрах Остромирова Евангелия (илл.58:89), но в другом иконографическом варианте. В рукописи XIV в. Эта тема преподносится тоньше, при помощи мотива подвешенных свитков, который встречается – тоже очень редко – в композициях с пророками, которые как бы с небес получают тексты своих прорицаний.

374. Евангелист Матфей. Миниатюра новгородского Евангелия. Третья четверть XIV в. ГИМ, Муз. 3651.
Эти миниатюры исполнены бесспорно византийским художником, причем близким к Феофану Греку по масштабу дарования и по могучей силе титанических, богатырских образов, по монументальному подходу к изображению, в котором чувствуется рука опытного фрескиста. Однако некоторая меланхоличность ликов, стилизованный изгиб фигур и многоцветный колорит заставляют предположить авторство другого, анонимного мастера.
В миниатюрах московского Евангелия конца XIV в. (Библиотека Московского университета, 2 Bg 42) ориентация на византийский классицизм сказывается в пространственной организации композиции, в пластике фигуры сидящего евангелиста (илл. 375). В московской рукописи формы более субтильные, чем в новгородском манускрипте: черты лика мелкие, конечности изящные и маленькие. Персонификация Премудрости, чья фигурка изображена чуть в глубине, напоминает изображения в античной и ранневизантийской живописи, откуда она и была срисована каким-то византийским или южнославянским мастером ХIV в., а затем скопирована на Руси. Изображения евангелистов с вдохновляющей их Премудростью были широко известны в Новгороде (в росписи церкви Успения на Волотове, в миниатюрах XV в., см. илл. 302). Этот сюжет, привлекательный для русской среды, поскольку он с большой наглядностью показывает небесное происхождение евангельского текста, был известен и в других центрах.

375. Евангелист Марк миниатюра московского Евангелия. Конец XIV в. Научная библиотека МГУ, 2 Bg 42.
На традицию византийской живописи со скульптурными, объемными, классически пропорционированными изображениями ориентирован и знаменитый фронтиспис Евангелия из Переславля Залесского, с изображением «Спаса в силах» («Спаса во славе», РГБ, F. п. I. 21, илл. 376). Композиция навеяна иконами, которые с конца XIV в. располагались в центре деисусного ряда русских (особенно московских) иконостасов (ср. икону в Благовещенском соборе Московского Кремля, илл. 97). Помещенная перед евангельским текстом, эта композиция подчеркивает его эсхатологическую подоплеку и напоминает о грядущем Втором Пришествии. Рукопись, не имеющая точной даты, исполнена, вероятно, уже около 1400 г., поскольку миниатюра, в отличие от более ранних памятников, обнаруживает элементы манерности и стилизации, с утрированными контрастами пропорций, чрезмерностью пышных драпировок и других деталей.

376. Спас в силах. Фронтиспис Переяславского Евангелия. Конец XIV – начало XV в. РНБ, F п I 21
Наиболее значительный пласт русской миниатюры отражает повышенную эмоциональность позднепалеологовского искусства. В Новгороде это художественное направление имеет широкий спектр вариантов, от суровой экспрессии до простодушной умиленности, что зависит как от времени создания произведений, так и от локальной интерпретации и социальной ориентации стиля. Центральное место среди памятников этого большого и неоднородного пласта принадлежит двум миниатюрам «Псалтири Ивана Грозного», вывезенной, как считается, из Новгорода царем Иваном Грозным и получившей в его честь свое условное наименование (РГБ, ф.304, Троицк., III/7, Муз. 8662). На одной миниатюре изображен царь Давид (илл. 377), с текстом своего Первого псалма на развевающемся свитке («Блажен муж иже не иде на совет нечестивых»), а на другой, что более редко, представлен пророк Асаф, с поучительным текстом, отвечающим строгой и дидактической интонации новгородской культуры («Внемлете, людие мои, законъ мои...») (илл. 378).

377. Пророк Давид. Деталь миниатюры новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. РГБ, ф. 304, Троицк., III/7, Муз. 8662

378. Пророк Асаф. Миниатюра новгородской Псалтири («Псалтири Ивана Грозного»). Конец XIV в. РГБ, ф. 304, Троицк., III/7, Муз. 8662
Миниатюры помещены в крупные обрамления в виде храма – мотива, с XI в. укоренившегося в русском книжном искусстве. Многочисленные животные, заполняющие конструкцию, несут символику, связанную, вероятно, с темой апотропеев, защиты христианского храма. Тератологический стиль орнаментального заполнения, которое является в данной рукописи одним из лучших образцов русского орнамента XIV в., связывает миниатюры с организмом всей рукописи, где заставки и инициалы выполнены в том же стиле. В обеих миниатюрах – широкие, обобщенные силуэты, асимметричные контуры, острые линии, отрешенные взгляды маленьких глаз, направленные как бы внутрь души, а также неправильные, но остро запоминающиеся черты ликов передают глубину и напряжение внутренней жизни. Миниатюры «Псалтири Ивана Грозного» до деталей сходны с росписями основного мастера церкви Феодора Стратилата в Новгороде, это словно фресковые фигуры, перенесенные на книжный лист. Оба изображения бесценны для понимания первоначального колорита Феодоровских фресок: скупая, смягченная гамма, строящаяся на сопоставлении двух неярких цветов: синего с белилами и желтовато-терракотового, с небольшими вкраплениями киновари.
Новгородская миниатюра второй половины XIV в. постепенно утрачивает монументальный стиль и все реже напоминает образы стенописей. Таким сходством еще в некоторой мере обладают фигуры в Прологе из собрания Погодина (РНБ, Погод.59, илл. 379), помещенные в начале житий каждого месяца. Фигурам апостола Анания и свв. врачей Козьмы и Дамиана (память 1 ноября) присуща округлость, тяжеловесность, а их простодушные лики, диспропорциональные контуры, акцентированные жесты указывают на связь с «простонародным» слоем новгородского искусства. Так, св. Козьма словно показывает зрителю открытый ящичек с лекарствами, а Дамиан, придерживая свиток, на котором был написан текст для исцеления духовного, высоко поднимает свой медицинский инструмент скальпель хирурга или ложечку аптекаря.

379. Св. апостол Анания. Миниатюра новгородского Погодинского Пролога. Конец XIV в. РНБ, Погод. 59
Изображение св. Иоанна Златоуста в Служебнике 1400 г. (ГИМ, Син.600, илл. 380) – совсем маленькое, подчеркнуто изящное, особенно в сравнении с массивным обрамлением-храмом, а лик, с характерными черными «бусинками» глаз, выражает задумчивость, внутреннюю собранность и дисциплину.

380. Св. Иоанн Златоуст. Миниатюра новгородского Служебника. 1400 г. ГИМ, Син. 600
В новгородской книжности второй половины XIV в. сохранились уникальные памятники нарративного содержания, с миниатюрами, последовательно иллюстрирующими житийные и иные тексты. Лучший из них – Сказание о св. князьях Борисе и Глебе, включенное в состав конволюта – Сильвестровского сборника (РГАДА, Типогр. 53, илл. 381). Миниатюры, размещенные вперемежку с текстом, расположены попарно, одна под другой. В соответствии с духом русской культуры позднепалеологовского периода, эти миниатюры изображают не триумф и апофеоз мучеников, не прославление их подвига, а вдумчивое, сосредоточенное переживание событий. Почти каждая композиция содержит диалог, противопоставление: два князя беседуют, князь Владимир отсылает в поход своего сына Бориса, и тому подобное. Если изображается чудо исцеления от св. мощей погибших князей, то здесь же – и внимательные, тихие очевидцы совершающегося события. «Диалогичны» и композиции, где князь Борис молится перед иконой Спаса, а снаружи ждут коварные убийцы; ворвавшиеся убийцы – и пронзенные ими невинные жертвы; Борис и его отрок-слуга. Миниатюры подобных серий напоминают по своей структуре «клейма» житийных икон, но отличаются более прозрачной и беглой живописью, чем в иконах.

381. Князь Глеб едет с дружиной, и у него «потцеся» конь. Князь Глеб садится в лодку («насад»). Миниатюра новгородского Сильвестровского сборника. Вторая половина XIV в. РГАДА, Тип. 53, л. 117 об.
Московские миниатюры того круга, в котором отразилась эмоциональность, чувствительность позднепалеологовской живописи, отличаются от новгородских в сторону большего лиризма и утонченности. На первое место среди таких памятников следует поставить Псалтирь 1397 г. (РНБ, ОЛДП, F 6, илл. 382). Миниатюры расположены на широких полях листа, по сторонам текста. Одни из миниатюр содержат иллюстрации к ветхозаветным событиям, другие – дают смысловые параллели тексту псалмов, вводя новозаветные сцены и фигуры персонажей церковной истории. Иллюстрированные Псалтири такого типа создавались в Византии уже в IX в. и стали особенно изысканными в XI в. Московская рукопись воспроизводит византийский образец, но вносит много сюжетных изменений в духе новой эпохи, например, уделяя повышенное внимание фигурам монахов, поскольку монашество пользовалось большим почитанием на Руси в XIV–XV вв. Главное же отличие московских миниатюр – красота силуэтов и ритма, выразительность плавных движений, спокойных жестов, тихих молитвенных поз, изящных построек и маленьких растений. Чуть упрощенное воплощение того же стиля –, миниатюрах «Зарайского Евангелия» 1401 г. (РГБ, собрание Румянцева, П 118, илл. 383), где евангелисты размышляют над своими текстами в окружении прозрачных построек и тонких деревьев, похожих на маленькие пальмы.

382. Сотворение Адама (пс. CXVIII, 73). Лист с миниатюрами из Киевской Псалтири. 1397 г. РНБ, ОЛДП, F 6

383. Евангелист Марк. Миниатюра Зарайского Евангелия. 140х г. РГБ, Румянц., П 118
Московские миниатюры конца XIV в. не только создают образ книги как источника Премудрости и райского блаженства, но и передают хрупкую изысканность книжного организма, склоняя читателя к рассматриванию задумчивых, погруженных в молитвенное состояние персонажей, сосредоточенных бесед, благочестивых действий. Обе последние рукописи вплотную приблизились по стилю к решениям XV в. В новгородском искусстве некоторое сходство с ними обнаруживает изображение Иоанна Златоуста в Служебнике 1400 г.
Стилистические варианты в русской иконописи и книжной миниатюре более разнообразны, чем в монументальной живописи, тем более что памятники последней в Москве не сохранились. Нет сомнения, что над фресками, иконами и миниатюрами работали одни и те же художники, и лишь неполная сохранность произведений мешает уловить эти связи во всей полноте. Разумеется, могли быть и исключения, когда та или иная мастерская специализировалась только на иконописи. Если для росписей Волотова и фресок Феофана Грека мы не обнаруживаем бесспорных аналогий, то рука главного мастера стенописи церкви Феодора Стратилата предстает со всей очевидностью в миниатюрах «Псалтири Ивана Грозного», а стиль и почерк мастеров росписи церкви Рождества Христова «на Кладбище» («На Красном поле») – в иконе «Покров», около 1399 г., в Новгородском музее, и в некоторых иных новгородских иконах.
Псковская живопись второй половины XIV в.
Для искусства Пскова вторая половина XIV в. становится временем кристаллизации местной художественной традиции. К сожалению, во Пскове от середины столетия не сохранилось ни одного фрескового цикла и лишь конец XIV в. представлен несколькими ансамблями, сохранившимися на территории так называемого «Довмонтова города». Под этим названием подразумевается участок Псковского кремля, который была пристроен к основной его части в середине XIII в. князем Довмонтом. Здесь на маленькой территории было сосредоточено около 20 небольших церквей, которые на протяжении XIII–XV вв. строились богатыми псковичами как обетные храмы. В начале XVIII в. В ходе русско-шведской войны Довмонтов город был разрушен, а руины церквей постепенно оказались погребенными под землей. Лишь в последние годы стараниями археологов и реставраторов фрески этих церквей обрели новую жизнь.
Среди росписей Довмонтова города наиболее полной сохранностью и высоким художественным качеством выделяется ансамбль церкви Рождества Христова, созданный, вероятно, в начале 1390-х гг. Росписи сохранились лишь в нижней части храма и поэтому система его декорации не поддается убедительной реконструкции, хотя очевидно, что в целом художники следовали здесь общепринятым стандартам. Фрески Рождественской церкви представляют собой пример достаточно массового искусства, и мастерство работавших здесь художников свидетельствует о том, что живопись Пскова этого периода находилась в зените своего развития.
Живопись Рождественской церкви несет на себе отпечаток отработанности и четкой организации всех художественных приемов, которые сведены в единую и стилистически монолитную систему. Становление этой системы прослежено нами по фрескам Снетогорского монастыря, здесь же она предстает перед нами уже в устоявшейся форме, что придает этой живописи некоторый элемент статичности. Как и в снетогорских фресках, мастера работают здесь в рамках ограниченных художественных средств (илл. 384). Это касается, прежде всего, сближенного колорита, основанного все на тех же сочетаниях красно-коричневых, фиолетовых, желтых и оливковых тонов. Художники пишут в быстрой и отточенной манере письма, где отсутствуют сложные пластические построения, а форма создается в основном за счет интенсивных пробелов, положенных на локальную раскраску и чуть оживленных теневыми проработками (илл. 385). Но даже в рамках этой минимализированной системы художники не отказывают себе в импровизации, варьируя плотность краски и оживляя тем самым скупое однообразие цветовых сочетаний.

384. Две мученицы. Фреска церкви Рождества Христова Довмонтова города во Пскове. 1390-е гг.

385. Неизвестный святитель. Фреска церкви Рождества Христова Довмонтова города. 1390-е гг.
Продолжая линию снетогорских фресок, это искусство отличается высокой степенью обобщенности рисунка, энергичного и в то же время предельно лапидарного. Примечательно, что ясность и краткость художественного языка распространяется даже на иконографические построения некоторых сюжетов. Образы довмонтовских фресок экспрессивны и внутренне напряжены, но одновременно в них присутствует стабильность и уравновешенность, достигаемая благодаря уверенной простоте художественного метода (илл. 386). Лики святых как правило имеют особое выражение, взгляды обращены не к зрителю, а внутрь себя. Несмотря на контрастность колорита и динамичность рисунка, эти фрески чужды открытой эмоциональности новгородского искусства и вызывают чувство большей успокоенности и гармонии, за которыми, впрочем, угадывается горячий религиозный темперамент, сдерживаемый рамками строгих художественных форм.

386. Фигура ктитора. Фреска церкви Рождества Христова Довмонтова города во Пскове. 1390-е гг.
Современниками довмонтовских фресок являются две прославленные псковские иконы, происходящие из Варваринской церкви Пскова. Эти иконы – «Собор Богоматери» (илл. 387) и «Св. мученицы Параскева, Варвара и Ульяна» (илл. 388) (обе в ГТГ) – своего рода завершающий аккорд развития псковской живописи XIV века, открывающий широкие перспективы в искусство XV столетия. Они стоят на пике развития экспрессионистического направления в иконописи Пскова, воплощая собой экстремальную форму тех художественных принципов, которые уже зафиксированы как главные признаки псковской школы. Все формулы доведены здесь до крайности: колорит, построенный на контрасте темных – коричневых и сине-зеленых, и ярких – розовых и киноварных тонов; чистые, без постепенных переходов, высветления складок одежд, горок и жемчужных украшений; наконец, всплески света на ликах святых. В «Соборе Богоматери» эта почти экстатическая напряженность находит выражение в динамичных позах всех персонажей, которые как в хороводе окружают фигуру Богоматери, и даже в расположении горок, которые, подчиняясь своей необъяснимой музыкальной логике, обрамляют трон Богоматери. Вся композиция, посвященная рождественской стихире «Что Ти принесем, Христе», как будто проникнута мелодией этого гимна, звучащего из уст трех певцов, изображенных в нижней части иконы, и буквально «поющего» трона Богоматери, который скорее напоминает какой-то фантастический музыкальный инструмент или псалтирь пророка Давида. В иконе с изображением трех мучениц это внутреннее напряжение сокрыто внутри и проявляется в аристократически вытянутых фигурах святых, которые не имеют устойчивой опоры и представлены как бы в замершем движении, а также в колорите иконы, где главная роль принадлежит ярким киноварным отблескам неземного света. Источник этого мистического света, в соответствии с предельно конкретным мышлением псковского художника, изображен здесь же, в верхней части иконы, где мы видим фигурку благословляющего Христа Эммануила, облаченного в такие же ярко-красные одежды.
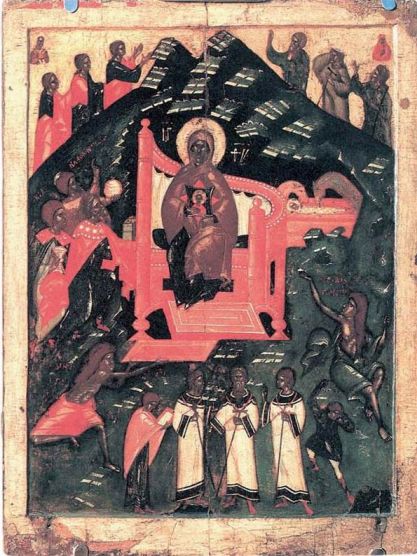
387. Собор Богоматери. Конец XIV в. ГТГ

388. Мученицы Параскева, Варвара и Ульяна. Конец XIV в. ГТГ
Несмотря на живость и открытость стиля этих икон, они оставляют ощущение завершенности определенного этапа художественного поиска. Экспрессивная манера живописи, приоткрытая во фресках Снетогорского монастыря, находит в этих иконах свое максимальное для Пскова выражение. Никогда более псковские образы не будут столь близки к современным памятникам Новгорода, но это сходство внешних признаков экспрессивного стиля, обусловленное общими духовными настроениями исихазма, так никогда и не станет идентичностью двух школ. Следуя своей консервативной природе и духу ретроспективизма, живопись Пскова повернет чуть вспять от форм активной эмоциональности и экспрессии, и в XV столетии создаст новый идеал психологически выразительного образа.

389. Андрей Рублев. Спас Вседержитель. Из деисусного чина. Начало XV в. из Успенского собора на Городке в Звенигороде. ГТГ
