Протоиерей Игорь Гагарин начинал свой священнический путь в постперестроечное время, когда вера уже не была в запрете. Время тогда было трудное, но в истории Церкви удивительное, потому что служить ещё было негде, храмы только восстанавливали. Приходилось вести службы и под открытым небом, и в пятнадцатиградусный мороз
— Отец Игорь, Вы были рукоположены в 1991 году, то есть в становлении Церкви в девяностые годы принимали непосредственное участие. Вам наверняка есть, что вспомнить о том времени.
— Конечно. Время было трудное, сейчас его часто критикуют, — иногда справедливо, иногда нет, — но в истории Церкви удивительное, уникальное. Людям молодым, выросшим уже в постсоветские годы, трудно представить, но тогда и среди прихожан, и среди духовенства было очень мало тех, кто верил в Бога с детства. Я, например, в детстве и юности практически не видел вокруг себя верующих людей, кроме бабушек, которых мы всерьез не воспринимали.
Как человек приходит к Богу, тайна. У каждого свой путь. Я, как и большинство советских людей, не только в школьные, но и в студенческие годы разделял навязанное нам с детства мнение, будто в наше время верить в Бога могут только малограмотные люди, но при этом меня, как и многих моих друзей, рано стали интересовать вопросы о смысле жизни.
Искал ответы на эти вопросы и в русской классике, и в философских книгах. Не буду сейчас долго говорить о том, как шёл этот поиск и какими путями он вёл, какие были «открытия» и разочарования. Это отдельный большой разговор. Скажу только, что поиск ответов на вопрос о смысле жизни привёл, в конце концов, к христианству, к православной вере, в Православную Церковь. Открылась истина Евангелия. И это открытие так радовало, так захватывало! Было ощущение, что только теперь начал жить – раньше видел весь мир в чёрно-белом цвете, а теперь он стал цветным. С огромным интересом читал святых отцов, вникал в смысл богослужебных текстов, наполненных высочайшей поэзией.
А когда открылась истина, появилось и желание изменить не только образ жизни, что естественно, но и деятельность. Я тогда жил недалеко от Троице-Сергиевой лавры, ездил туда на службу. И это, наверное, тоже сыграло роль в том, что мне захотелось стать священником. В то же время я понимал, что это неосуществимая мечта. Было чёткое представление, что для этого надо сначала поступить в семинарию и окончить её, а у меня жена и двое детей – на что они будут жить, пока я буду учиться в семинарии?
Я как-то поделился своими переживаниями с отцом Вячеславом Перевезенцевым. Мы познакомились и подружились, когда он учился в семинарии. Несколько раз приезжал в школу, где я преподавал, вёл с нами беседы, рассказывал о Христе. В 1990 году его рукоположили.
И вот как-то сидим с ним у меня дома, и я говорю: «Отец Вячеслав, а я ведь тоже мечтал бы стать священником, но это невозможно». А он ответил мне, что очень даже возможно – в стране открываются тысячи храмов, большинство Церквей полностью разрушены, а семинарии в год выпускают от силы двести человек. Тогда в стране было всего три семинарии: в Загорске (так в советское время назывался Сергиев Посад), Ленинграде и Одессе. «Поэтому сейчас такой момент, — сказал отец Вячеслав, — что если человек искренне верует, у него есть желание стать священником и нет канонических препятствий, и если ему даст рекомендацию священник, рукоположат в момент и назначат в разрушенный храм».
Меньше чем через год моя мечта осуществилась. Словами не передать, как я был счастлив, и это ощущение счастья за 33 года никуда не ушло.
И у подавляющего большинства священников, рукоположенных в то время, был очень похожий путь. Они тоже были обычными советскими школьниками, потом студентами, к Богу пришли уже в студенческие годы или позже, работали по светской специальности, многие очень успешно. Я без особого сожаления оставил свою работу, хотя мне говорили, что что-то у меня как у учителя получалось, а некоторые… Один работал конструктором на заводе, и он, когда мы уже оба были священниками, сказал мне: «Отец Игорь, если бы ты знал, как мне нравилась моя работа, как трудно было принять решение». И он не один такой. Многие уже сделали карьеру на любимой работе, но предпочли священство.
Я работал учителем, но главным для себя до прихода в Церковь считал писательство. Писал рассказы, стихи, пробовал напечататься. А когда открылся мир веры, с писательством само собой всё закончилось. Сейчас, перечитывая какие-то свои старые стихи, которые в тот момент мне казались талантливыми, думаю, какая же это была ерунда. И у всех моих знакомых священников, рукоположенных примерно в то же время (кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже), было так. То, что открылось нам в Церкви, а потом в священстве, было настолько глубже, настолько масштабнее всех наших прежних увлечений, казавшихся нам серьезными, что это либо совсем перестало нас интересовать, либо отошло на второй план.
— Замечательно, что вы и сейчас, через 33 года не сомневаетесь в правильности своего выбора, считаете священство своим призванием. Но ведь некоторые, рукоположенные, как и вы, в девяностые (часто вскоре после воцерковления) стали тяготиться своим служением и оставили его. Это, к сожалению, не единичные случаи.
— Допускаю, что таких случаев много, но я не знаю ни одного. К сожалению, отец Вячеслав Перевезенцев уже ушёл из этой жизни, а остальные служат. Никто не перегорел, не выгорел, не разочаровался.

— Трудно было осваивать богослужение?
— Не с нуля осваивал. Богослужебные тексты уже знал и понимал – были же книги. Но как вести себя в алтаре и что делать? Конечно, сначала было страшно. Например, я с детства стеснялся петь, а мне сказали, что придётся. И пришлось, в том числе и за певчих – первые два года никакого хора у меня не было.
Не я один, а многие священники, назначенные настоятелями храмов, которые предстояло восстанавливать из руин, служили тогда без помощников и без хора. Даже появилось такое выражение: сам читаю, сам пою, сам себе кадило подаю. Пропою, что нужно, а потом читаю вслух молитву.
Не было ни окон, ни дверей, ни пола – на землю положили дощечки, и на этих дощечках стояли люди. Летом птицы летают и «бомбят» своим пометом. Престол накрывал целлофановой пленкой. Службы были только по воскресеньям. Приходишь, снимаешь пленку, всю залитую птичьим пометом, и начинаешь служить. А «бомбёжка» не прекращается. Чаша всё время покрыта платом, чтобы в неё не упало что от летающих над престолом ласточек.
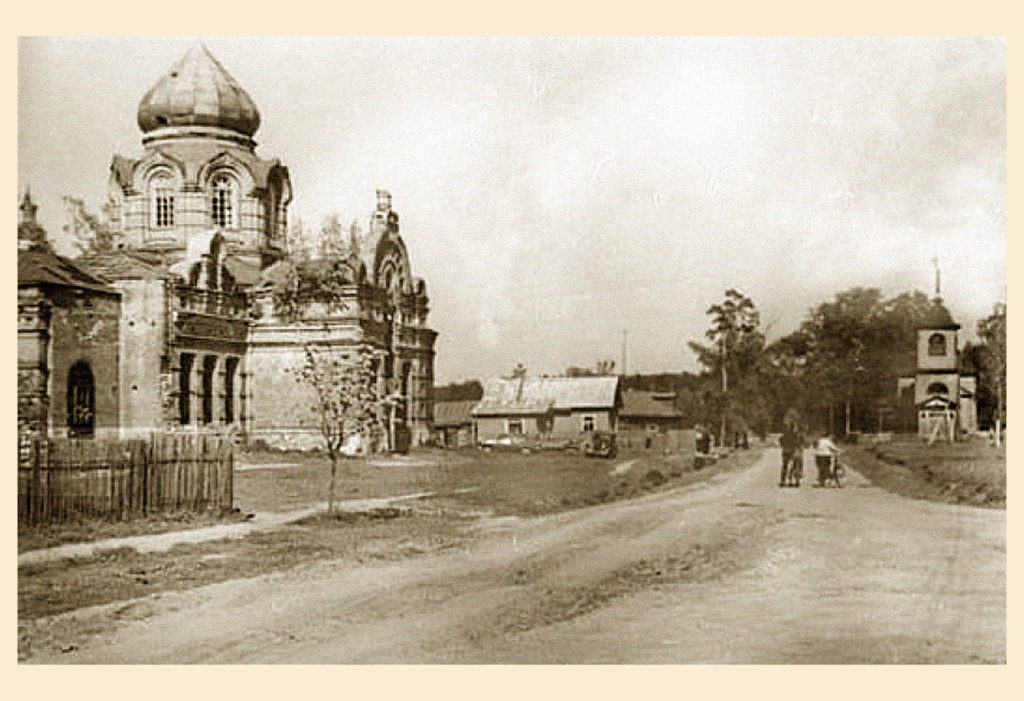
Зимой мы с другом-алтарником решили, что отменяем службу, если мороз ниже пятнадцати градусов, а в минус 15 служили. Постоянный экстрим. И это было так радостно!
И потихонечку что-то делалось – находились жертвователи, спонсоры. Проходит год – окна вставили, ещё что-то. Я прекрасно понимал, что восстановить храм невозможно – ни людей нет, ни средств. Дал бы Бог отгородить и обустроить уголок, поставить буржуйку и как-то всё же служить. Прошло чуть больше двадцати лет, смотришь — храм полностью восстановлен. И не только наш храм, но и все храмы нашего района, которые в начале девяностых были не в лучшем, а некоторые в худшем состоянии. Это ли не чудо?! Мы понимали, что восстановить эти храмы невозможно, а они восстановлены. Понимаешь, что если дело Божие, то заниматься им будет Бог, а не ты. Ты только соработник Божий.

Это дало мне и жизненный урок. Не надо ставить большую задачу. Её, может быть, надо иметь в виду, но в данный момент времени должна быть какая-то конкретная вполне выполнимая задача, и пока ты её не решил, не надо думать о других. Понимал, что надо вставить окна – искал средства. А я ведь совсем непрактичный. «Не умеет гвоздя забить» — это про меня. И искать тех, кто даст деньги, не умею. Но с Божьей помощью находились люди.
Когда меня только рукоположили, я сказал одному монаху из Лавры, что не представляю, как буду восстанавливать храм. Он мне ответил: «Твоя задача – молиться и чтобы служба в храме шла. Если будет служба, будет молитва, Господь будет делать всё остальное: и людей тебе пошлёт, и пожертвования придут». Это сбылось полностью, на сто процентов! И не только у меня. Все храмы в Ногинском районе сейчас восстановлены. Как это произошло, мы не понимаем и до сих пор удивляемся. Как-то Господь это сделал.
— Вам же было сложнее, чем многим. В городских храмах, даже подмосковных, всё-таки был народ. Вас же назначили настоятелем сельского храма. Это настоящее село или уже только по названию?
— Сегодня это скорее поселок. В девяностые многие состоятельные люди купили там дома, перестроили их в коттеджи. А когда я начинал там служить, это было вымирающее село, и на службу приходило только несколько бабушек.
Но находились спонсоры. Например, Майя Михайловна Краснокутская, руководитель предприятия «Русский мех». Мне посоветовали к ней обратиться, я приехал, освятил предприятие, рассказал сотрудникам о Церкви, и она стала помогать. Очень многое было сделано с её помощью.
Мы, конечно, не за деньгами шли в священники, хотя ещё с советских времен был стереотип, что попы много зарабатывают. И когда я, уже став священником, встречал некоторых учителей из своей школы, где до священства преподавал, а последние годы был завучем, некоторые говорили: «Ну, Игорь Викторович, теперь, вы, конечно, больше получаете?» Я отвечал: «Нет, меньше». Смеялись, не верили, хотя я говорил правду.
Повторяю, все мы тогда пришли не за деньгами, а горя желанием служить Богу. Но и священнику надо на что-то жить, а семейному священнику ещё и о семье заботиться.
Священника содержит приход, а когда приход в маленьком селе состоит из нескольких бабушек… Я ни в коем случае не жалуюсь – наоборот, у меня о том времени самые светлые воспоминания. Просто объясняю, в каких условиях начинал служение.
Так вот, Майя Михайловна не только стала жертвовать на храм, но и попросила меня раз в неделю приезжать к ним на предприятие и проводить с сотрудниками беседы. Приезжал, рассказывал им о Христе, о Евангелии, о Церкви. И всегда она меня за это благодарила, давала какую-то денежку. Но всё равно первые два года было очень тяжело, и в приходе по-прежнему были одни бабушки.
А через два года ситуация резко изменилась. Мой друг, отец Михаил Ялов, рукоположенный почти одновременно со мной, стал настоятелем храма в Электростали. Под храм переделали современное здание, потому что там храма никогда не было. И на весь город, довольно большой, было только два священника. Отец Михаил предложил мне по пятницам служить с ним литургию, а после неё вести воскресную школу для взрослых. В ещё один будний день я служил с ним всенощную. И он мне сразу сказал, что в эти два дня все требы в городе мои. А треб тогда было много.
— Как шла просветительская работа?
— Воскресная школа для взрослых в Электростали была главным делом для меня. Изголодались люди по слову Божьему. Приходило от семидесяти до ста человек, сидели в большом актовом зале, я рассказывал им о Евангелии, о богослужении. И, хотя я был ещё молодым неопытным священником, что-то, видимо, у меня получалось, потому что на занятия приходило всё больше людей, и некоторые стали приезжать ко мне в Ивановскую церковь. На литургию.

Именно эти люди составили костяк прихода. Процентов девяносто прихожан были те, кто приезжал из Электростали. Потом отца Михаила перевели в Ногинск, и оттуда тоже некоторые стали приезжать ко мне. И даже из Черноголовки несколько человек приезжало – в приходе отца Вячеслава Перевезнцева я с ними познакомился.
Последние годы каждое воскресенье бывало 70-80 причастников, иногда и больше. Для сельского храма это много. После литургии была трапеза, мы беседовали, один прихожанин объяснял Апостол того дня (я обычно в проповедях объясняю прочитанное на литургии Евангелие или рассказываю о празднике). В неформальной обстановке беседовали. Здорово было!
И люди собирались самые разные. Было два профессора из Черноголовки, сантехник, продавщица…
Я часто думал, что если бы не Христос, эти люди, конечно, могли как-то пересечься, но вряд ли проводили бы вместе досуг. А Христос собрал их, и все различия в образовании, социальном статусе не имели никакого значения – мы действительно стали братьями и сёстрами во Христе.
Уже два года я служу в другом храме, в Балашихе, и большинство этих прихожан теперь приезжают ко мне туда.

— Конечно, не в Москве и не в Подмосковье, не в Петербурге, не в других больших городах, но по стране ещё много разрушенных храмов. Некоторые из них уже вряд ли станут восстанавливать, потому что находятся они там, где давно никто не живет и даже домов не осталось. Но какие-то храмы и сегодня восстанавливают. А можете вспомнить что-то из церковной жизни девяностых, что уже ушло безвозвратно?
— Не знаю, безвозвратно ли, но сегодня невозможно представить литургии на дому. Никакого алтаря, никакого иконостаса, на столе расстилается антиминс, ставятся сосуды, в комнате собираются люди вокруг тебя, и ты совершаешь литургию.
У отца Вячеслава Перевезенцева первые литургии были все такие, потому что ему пришлось восстанавливать храм, в котором сначала вообще негде было служить. И я несколько раз служил с ним эти домашние литургии. Было чувство, что мы перенеслись в первые века христианства. Удивительное чувство!
У меня на приходе было то же самое, только не дома, а в коридоре храма. Зимой, когда мороз, ставили в коридоре стол, накрывали антиминсом. Вокруг стояли люди, я за собой веревочку натягивал, обозначив, что это алтарь и сюда не заходите.
И крестили мы первые годы на дому, когда холодно, потому что в храме негде было крестить. Сейчас взрослые приходят креститься редко, а в девяностые, особенно в первой половине девяностых, крестили чаще детей.
— Не знаю, как у вас, но во многих храмах тогда взрослых крестили без всяких бесед.
— Я с самого начала проводил беседы. Требовал, чтобы человек прочитал хотя бы одно из четырех Евангелий, и потом мы с ним обсуждали прочитанное, я отвечал на его вопросы и сомнения. Считал и считаю, что это необходимый минимум для крещаемого взрослого человека.
— И не было такого, что людей не устраивало это требование, и они либо вообще передумывали креститься, либо шли искать храм, где их покрестят без всяких требований?
— Помню только один случай, когда человек, почитав Евангелие (думаю, что даже не почитав, а полистав), передумал креститься. Обычно никто не возражал. Люди прочитывали Евангелие, мы с ними беседовали, и я их крестил.
— Но не все потом становились прихожанами?
— Далеко не все. Из всех, кого мы крестим, в Церковь приходят единицы. Знакомый батюшка как-то посетовал по этому поводу: значит, напрасны все наши беседы. Нет, не напрасны. А за Христом много пошло народу? Единицы пошли из тех, кто слушал Его. А большинство отвергло. Люди встречались с Самим Христом, слушали Его проповеди, видели Его чудеса, и не пошли за Ним. Пошло меньшинство. И так до сегодняшнего дня.
Наше дело сеять, а то, что всходят немногие из посеянных семян, конечно, не радует, но и не удивляет. Радует, что некоторые всходят. А какие-то из тех, которые сейчас не взошли, может, взойдут позже. Всё равно сеять надо.
Вот поговорили мы с вами, и я немножко смущаюсь. Не выглядит ли мой рассказ каким-то хвастовством? Вот, дескать, какой я был подвижник! Чтобы такое впечатление не сложилось, скажу снова: так, как я описал, жили и служили большинство рукоположенных в начале девяностых священников. Многим было гораздо труднее, чем мне.

Комментировать