Нина Бутарова, преподаватель Воскресной школы, созданной известным петербургским духовником протоиереем Василием Ермаковым, размышляет о том, как настроить ребенка на начало учебного года, о «молебне на начало обучения отроков».
— Нина Николаевна, Вы воспитали несколько поколений детей: от тех, кто росли в трудные 90-е, до наших вольных детишек 2020-х. Воскресная школа, в которой Вы трудились — в Санкт-Петербурге, при храме прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище. Я знаю, что Вы всегда умели привлечь детей, даже в подростковом возрасте, к посещению храма и Воскресной школы. В чем секрет такой притягательности?
— Наша Воскресная школа основана о. Василием, он очень любил детей, на приходе их было множество. Я уверена, что все то, что, при помощи Божьей, удалось сделать — по его молитвам. Мы имели счастье быть духовными детьми замечательного священника, прот. Василия Ермакова — одного из удивительных подвижников недавних лет, к нему за советом отправлял петербуржцев отец Иоанн (Крестьянкин), с которым у батюшки была духовная дружба. И при батюшкиной жизни, и после его кончины школа работала по принципам, заложенным им.
Отец Василий был глубокий традиционалист, воспитанный духовно опытными священниками, прошедшими сталинские лагеря, общался с прп. Серафимом Вырицким; батюшка был строгим, но очень любящим духовным отцом. Он как-то успевал следить за всеми, видел, что делают и дети, и взрослые. Подправлял, часто шутками-прибаутками, народ смеялся, но понимал прекрасно, что шутки попадали в самую точку. А бывало, что батюшка говорил очень серьезно, строго, грозно даже. И мы чувствовали, что эта строгость его — от любви, трепетного отношения к делу спасения души каждого из нас.
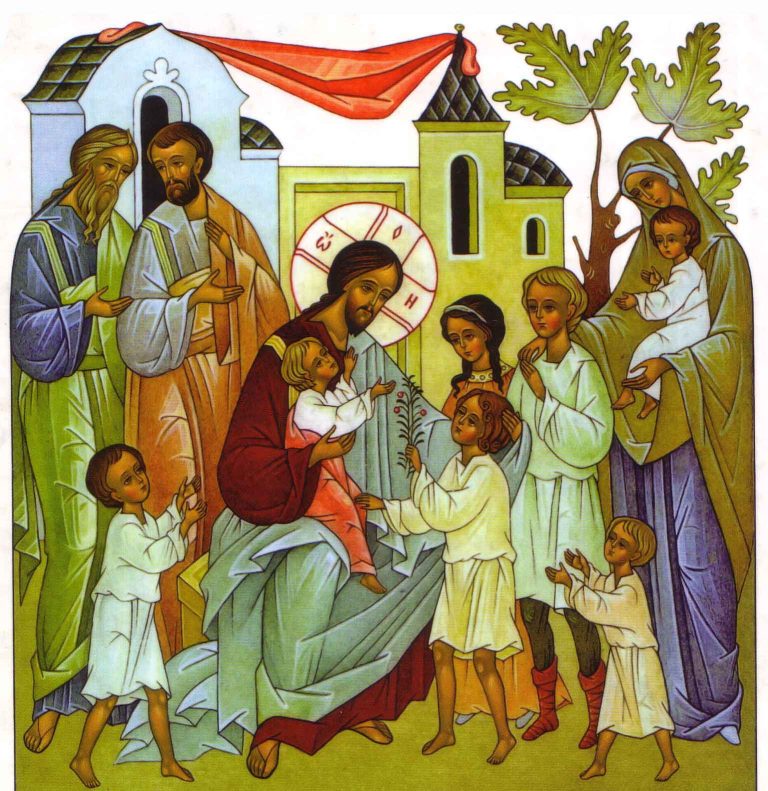
Батюшка не терпел расхлябанности, уныния. Было у него выражение «внимательный, отточенный христианин». Вот такими он и хотел нас видеть — подтянутыми (телом и душой), внимательными, радостными. Кто-то из прихожан подметил — «мы идем со службы — всегда улыбаемся, словно со свадьбы». Отец Василий сам показывал (нет — являл) нам радость веры, счастье быть со Христом. И дети, разумеется, чувствовали эту жизнь на приходе — очень радостную, осмысленную, наполненную. Батюшка всех нас любил, но мне казалось, что ко мне у него какое-то особенное, свое отношение. Потом я от разных людей слышала — у них так же было.
Звучит немного необычно, но именно эта-то удивительная, строгая и радостная любовь отца Василия (и, надеюсь, наши попытки ее передать) привлекала детей, даже уже почти взрослых. Так они мне сами говорили.
— Воскресная школа для многих детей начинается с молебна — он служится каждый раз в начале учебного года. Мы привыкли к этому, но, может быть, не очень часто задумываемся, зачем он, один и тот же в течение многих лет? Кому он нужен и для чего он — детям, родителям?
— Важно, чтобы человек понимал — без Бога не до порога. Не только воскресное утро, но и вся наша жизнь должна быть освящена молитвой и благословением. Мы везде должны быть христианами, не только в храме, и вести себя соответственно. Школьная жизнь для ребенка, конечно, очень важна — и учеба, и отношения с одноклассниками, учителями. Нужно вести себя по-христиански, не лениться, не задираться, не осуждать, не сплетничать, мириться по-доброму, если с кем поссорился, не обижать никого. Это непросто, вот и попросим помощи Божией. Только не должно быть языческой «торговли» — я отстою молебен, а Бог мне даст пятерку по математике. Мы просим благословения и помощи на наши труды.
А от родителей школьная жизнь их чад требует терпения и мудрости — тоже есть о чем помолиться…
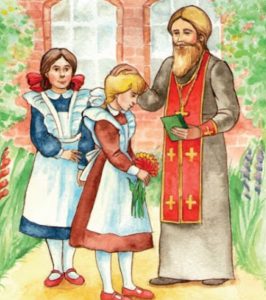
— Среди множества детей, которых Вы учили, были те, кто рассказывал Вам потом, что молитва перед учебой — на молебне или частная — помогла им?
— Вопрос сложный. Чудеса, конечно, случаются и в наши дни, но тут нужно быть очень осторожным в пересказе… Здесь какая-то тайна, тайна отношений Бога и конкретной человеческой души.
Но могу рассказать об одной моей ученице, очень старательной, но переживательной ужасно. Она мне говорила, что перед экзаменами даже собраться толком не может — так нервничает. Хотя даже все и выучивает. Но, когда помолится подольше (особенно она любила акафист прп. Сергию Радонежскому и молитвы прп. Амвросию Оптинскому), то душа успокаивается, Господь явно дает благодатные силы. Получается собраться и все хорошо сдать.
— Что нужно сделать, чтобы ребенок не «простаивал» время молитвы, молебна, а действительно обратился к Богу?
— Это вопрос не только про молебен, но и вообще — как научить ребенка молиться. Внимательно, благоговейно, искренне. Наверное, в первую очередь — самим так молиться, по крайней мере стараться, насколько можем. Например, любимый писатель отца Василия, Владимир Солоухин, вспоминал, как в детстве — а он вырос в патриархальной крестьянской семье — мама рано-рано утром вставала на колени перед иконами и молилась. Видимо, так искренне, что и детское сердечко тоже тянулось помолиться. Он слезал с печки и пристраивался на коленках рядом с мамой. Потом была сложная взрослая жизнь в советском обществе, отход от веры, но в конце концов Солоухин вернулся к вере благодаря маминым молитвам и памяти о тех детских утренних обращениях к Богу вместе с мамой. Это я для примера, конечно, а не для того, чтобы все утром вставали на колени и детей ставили.

Дети чувствуют, что для нас важно, по-настоящему, не на словах важно. И это в детской душе остается. Родители говорят друг с другом и с детьми о вере; обсуждают, как по-христиански поступить; в нашей, взрослой жизни есть место Богу — тогда и ребенок будет серьезно относиться. Конечно, нужно говорить, объяснять, рассказывать.
— Вообще, с точки зрения Православия, что такое учеба? Имеет ли она какую-то вероучительную оценку?
— Для ребенка учеба то же, что для взрослых — работа. Это тот труд, который ему поручен, и относиться к нему надо по-христиански, честно. В житиях новомучеников мы читаем, что в концлагерях охранники знали, что «церковники» работают ответственно, в отличие от «социально близких» уголовников. Если священника поставить на склад, все будет честно, а уголовник разворует. Даже в условиях богоборческой власти, в неправедном заключении, они все равно честно выполняли свою работу; не за страх, а за совесть, как перед Богом. А мы на кого хотим быть похожими — на новомучеников или?..
— Не секрет, что многие дети не любят школу, большинство ценят общение с друзьями, но никак не уроки. Вы сами — мама, да и к Вам, как преподавателю Воскресной школы, наверняка много раз обращались другие родительницы с вопросом: как настроить ребенка на учебу?
— Мы уже говорили и о совести, и о дисциплине. Наверное, готовых рецептов нет, дети все разные.
Можно и нужно давать интересные книжки по разным темам, подбирать нужные по возрасту и настрою. Не запускать, особенно сложные предметы, языки, потому что стоит несколько тем не выучить, как все становится непонятно, просто руки опускаются — «Мне это никогда не выучить». Родителям нужно держать руку на пульсе, вовремя вникать, помогать.
— Ребенок взрослеет, какие-то предметы его перестают интересовать. Как убедить его, что нужно и их учить хорошо, пока не кончится 9-й (или 11-й) класс? И нужно ли это, на самом деле?
— Если честно, во взрослой жизни тоже есть много лишнего, того, что не интересно и делать не хочется. Надо и это учиться выполнять — «за послушание». Может быть, потом окажется, что этот нудный предмет пригодится. Или пригодится умение распределить время и силы, собраться и быстро, но качественно сделать нелюбимый предмет.
Не мы придумали школьную программу. Да, она далеко не идеальна; если есть возможность перевести ребенка в специальную школу по его интересам — прекрасно, но большинство учится в общеобразовательных школах. Какой тут выход? Разрешить ребенку сказать «не хочу, не буду»? Нет, конечно. Здесь воспитывается послушание, терпение, смирение, дисциплина, воля.
Где-то я читала, что крестьяне, жившие до революции недалеко от монастыря (кажется, речь шла про Валаам, но утверждать не буду), отдавали своих сыновей-юношей трудниками в монастырь на год. Там тоже не все работы были любимыми, да и вообще — «Зачем мне все это, я же не монах»? Но возвращались домой мальчики повзрослевшими, в том числе и умеющими смирять свое «хочу — не хочу». Помнится, в тех местах и девушки охотнее замуж шли за тех, кто потрудился в монастыре.
— Многие молятся об учебе прп. Сергию Радонежскому, св. прав. Иоанну Кронштадтскому. И в самом деле, хорошо помолиться им, скажем, перед экзаменом; как Вы, кстати, недавно упомянули. Но как избежать молитвы без веры, как просто обряда?
— Проблема непростая, каждый из нас с ней все время сталкивается. Как помолиться утром и вечером, а не «вычитать» правило? Святые отцы говорят: основа молитвы — внимание и благоговение. И для детей, и для взрослых. А для взрослых — еще и покаяние…
А про прп. Сергия и прав. Иоанна — нужно постараться, чтобы эти святые стали близкими для ребенка, чтобы теплое чувство к ним было. Тут, как и всегда, важно, чтобы и у родителей было это теплое чувство, эта близость к святому.
Расскажите детям житие; а оба жития удивительно интересные. В жизни прп. Сергия, который жил 700 лет назад и был монахом, есть эпизоды удивительно современные, точнее — на все времена: и трудности в учебе, и проблема отцов и детей, и взаимоотношения со старшим братом…
Со святым прав. Иоанном еще интереснее — ведь он жил не так давно, и свидетельств сохранилось очень много. Читайте о нем, и то, что вас впечатлило, с живым чувством перескажите ребенку. И он будет чувствовать, что это святой, которого мама (или папа) любит, знать, как много чудес он сотворил — значит, и мне непременно поможет. Не обязательно именно так, как я хочу, но поможет. Тем более что сам-то я, по правде сказать, очень редко знаю, что мне нужно, а что нет (что полезно, а что — нет). А святой знает.
— В начале Вы рассказали немного о своем общении с прот. Василием (Ермаковым). Может быть, Вы еще немного дополните — какие акценты он расставлял в вопросе детей, школы, воспитания?
— Отец Василий очень часто говорил о семейных проблемах, о великой силе материнской молитвы, родительского благословения. Вспоминал, как в глухие 1930-е годы, когда все было запрещено, его родители всегда благословляли детей — его самого и двух его сестер: «Иди и учись с Богом!»
Много раз я слышала в проповеди, что в страшные годы войны их с сестрой (подростков) угнали немцы, и только родительская молитва спасла от смерти.
С болью говорил, что многие в эти дни (перед 1-м сентября) купили ребенку новую красивую форму, цветы дали, но не дали самого важного — не привели в храм.
Батюшка очень строго запрещал отпускать детей «в толпу» — на дискотеки, гульбища всякие — «Поближе к Богу, подальше от толпы!». Очень строго относился к «компаниям», к «приятелям» и «приятельницам». Учил нас: «Храм, школа, дом — и все. И помогать родителям».
Грозно и громогласно звучало батюшкино «не»: «я не буду курить, ругаться! Я не возьму рюмку, не стану колоться!» И от родителей батюшка требовал такой же строгости — не потакать детям, а приучать, говорить, объяснять, водить в храм: «Где ваши дети? С 6-7-го класса их нет в храмах», – говорил он с болью.
Говорил, что ребенка нужно воспитывать, пока он поперек лавки; кажется, что он еще маленький, не видит, не понимает — нет, он все чувствует, все впитывает, и «все идет из семьи». Что «несчастна жизнь того человека, на которого в колыбели не смотрели с любовью глаза матери». Говорил мамам: «Вот цель твоей жизни, вот твой долг — дать дите на служение Богу, принося в храм, причащая, молясь, благословляя!».
Женщинам, мамам батюшка повторял: «Материнская молитва со дна моря подымет»; говорил нам: «Все святое, могущественное воспитывается у груди материнской. Так вы дайте им сердце, дайте ум, дайте веру в Бога, личным примером, а не расхлябанностью, не равнодушием!», «В вашем сердце колоссальная сила — воспитать могущество народа». Вот так, ни больше, ни меньше.
Беседовала Олеся Ланская


Комментировать