Отчет по командировке в Палестину и прилегающие к ней страны
Часть 1-я. Иерусалим и его древние памятники
Du bist ein offnes Grab, umringt
von Särgen,
Wie kann ich Dich als Friedenstadt
erkennen?...
Sepp.
Введение к обозрению иерусалимских памятников
Для того, чтобы, при обозрении памятников древнего Иерусалима, не заходить в стороны, необходимо предпослать ему предварительные замечание о характере древнееврейской архитектуры, не вытесненной доселе наукою и представляющей много пунктов сомнительного характера.
Грунт, окружающий Иерусалим, служивший материалом для постройки древнего города, представляет следующие четыре вида камня. 1) Нумулитическую известковую формацию, состоящую из мягкого рассыпающегося камня, сложенного из песка и извести, с примесью время и многих ископаемых веществ, грязно-серого цвета, известную у местных жителей под именем какули. Этот слой, представляющий самый верхний, наносный, позднейший пласт палестинской почвы, по своей ломкости и рассыпчивости, не годится для стен, но употребляется, по крайней мере в настоящее время, для сводов, где требуется не столько крепость, сколько легкость материала. 2) Второй по порядку, первый из основных слоев грунта представляет чисто известковую толщу, без примеси сторонних элементов, отличающуюся необыкновенною твёрдостью. Взятый из этого слоя камень в древних памятниках легко узнать по золотистому цвету, в который он окрашивается от времени и по несокрушимой твердости его углов, в других камнях обыкновенно притупляющихся от времени, но в камнях этого сорта получающих напротив железную твердость. Худшие из этих камней, открытые дождям, иногда представляют более или менее глубокие поры, но тем тверже делаются тогда жилы, соединяющие эти поры. В древности из этого камня делались мечи, топоры и ножи, – отсюда нынешнее название камня миззи острый. Впрочем, в настоящее время, этот материал мало ценен оттого, что, по самой своей твердости, он плохо принимает цемент и часто выпадает из стен, когда кладется небольшими плитами. В древнее же время, когда камни соединялись в стену не цементом, а тяжестью своих собственных масс, это был самый употребительный строительный материал. 3) Третий вид иерусалимского известкового грунта представляет пласт чистого белого цвета, непосредственно следующий за миззи, также не имеющий сторонних примесей, и в отношении плотности представляющий ту особенность, что сокрытый от действия воздуха, он очень мягок, но на воздухе отвердевает и при этом срастается с цементом в одну нераздельную массу. Указанные свойства сделали этот камень самым дорогим в настоящее время и самому сорту камня дали название маляки царский, – хотя, по другому объяснению, такое имя дано потому, что этот именно камень образует так называемые царские пещеры или царские каменоломни в Иерусалиме. 4) Последний вид иерусалимского известняка представляет так называемый мрамор святого креста, по плотности не отличающийся от миззи, но превосходящий его прекрасным розовым цветом, ради которого его употребляли и употребляют на колонны и орнаменты; обшивка Кувуклия гроба Господня, прекрасные коринфские колонны мечети Ель-Акса сделаны из этого местного мрамора. Свое имя он получил от того, что в окрестностях Иерусалима он добывается главным образом недалеко от Крестного монастыря. – К этим четырем фармациям можно прибавить еще незначительные меловые кряжи.
По исследованиям мистера Руперта Джонса, разрез иерусалимских гор: Елеонской, Злого Совещания и др. дает, начиная от вершины горы к подошве, именно следующие отношение слоев: какули в 291 фут толщины, миззи в 71, маляки в 40, наконец по дну Кедронского потока – слой мрамора святого креста неисследованной толщины. Так как таким образом лучший иерусалимский камень сокрыт под корой худших слоев, то древнееврейским строителям нужно было рыться в глубинах земли за материалами для работ и потому древнееврейские каменоломни являются подземельями и пещерами, как каменоломни древнего Рима.
Просим читателя перенестись мыслью на восток от дамасских ворот Иерусалима, по дороге, идущей вдоль северной стены города, где известковая скала, служащая основанием городской стены, представляет отвесную высоту около 35 футов, очевидно обделанную человеческою рукою. Здесь была главная и лучшая по своему материалу маляки из каменоломней древнего Иерусалима. Со времени Иосифа Флавия огромные подземелья этой каменоломни известны под именем царских пещер, может быть вследствие их огромности, так как забранного отсюда материала, судя по величине образовавшихся оттого углублений, по вычислению архитекторов, было бы достаточно для постройки двух Иерусалимов нынешних, а может быть и потому, что строителями, забиравшими отсюда материал, были цари Иудейские. С этих именно пещер должно начаться изучение древнего Иерусалима.
Царские пещеры открываются большим натуральным гротом в 62½ фута ширины, служившим некогда стойлом для овец. Отсюда идет легким спуском длинный низкий натуральный проход 96 футов длины в восточном направлении, упирающийся в большую и очевидно искусственно образовавшуюся камеру, которая у Сеппа называется одним из имен Дантова ада male sacci. Таким образом ломка камня была начата здесь в первый раз (вероятно во времена Соломона) на 159-м футе трудного подземного прохода и на 40-м футе отвесной глубины под уровнем почвы. Это обстоятельство очень важно, в виду того, что кругом Иерусалима много открыто лежащих пластов материала какули и миззи, которым в настоящее время пользуются. Видно, что архитекторы древнего Иерусалима обладали тонким знанием петрологии и брали не первые попавшиеся камни, а тщательно разыскивали таких пластов, которые могли бы дать материал вечный, как говорит Флавий. Кроме того, так как в глубинах земли камень вообще мягче, то, при выборе этой пещеры для ломки камня, может быть имелось в виду облегчить и ускорить добывание камня. Из malle sacci дальнейший ход в царские пещеры идет на юго-восток через наваленные массы мелких осколков и между больших камней, брошенных здесь то на половине, то в начале отделки, с такими свежими следами инструментов, как будто только вчера здесь прекращены работы. Огромные натуральные столбы поддерживают исполинские своды подземелий. Вся длина, неподдающихся описанию проходов каменоломни по прямому пути имеет 846 футов, а ширина колеблется между 1500 и 400 футов. Все подземелья царских пещер в настоящее время приходятся под городом, и именно под мусульманским кварталом Иерусалима. Самый крайний восточный пункт подземелий только на 50 футов не доходит до нынешнего австрийского приюта на страстной улице, так что, таким образом, вся западная часть Вефезды построена на сводах царских пещер.

Рисунок 1. Царские пещеры
Так как во многих местах каменоломни камни, по каким-то обстоятельствам, оставлены неоконченными, то по ним мы можем проследить весь ход работ в каменоломне. Выбивка камней здесь шла правильно по слоям скалы, откраивавшимся квадратами известной величины, смотря по данной архитектурной норме. Именно: выбирался в скале известный слой, большею частью средняя часть слоя, как более плотная и предварительно выравнивалась в виде отвесной стены. В известном пункте этой стены иссекалась во всю толщину слоя поперечная ниша, широкая настолько, чтобы в ней мог поместиться рабочий, когда требовался большой камень, или по крайней мере, чтобы в нее свободно можно было ввести инструмент, когда камень требовался меньший. На известной глубине ниши, всегда соответствующей требуемой широте выбиваемого камня, иссекалась вторая ниша под прямым углом к первой, обыкновенно около 4 дюймов широты, по своей глубине соответствовавшая требуемой высоте камня. Наконец третья ниша выбивалась параллельно первой и должна была соединиться с второю. По окончании этой ниши камень выпадал из своего места. Выбивка дальнейших камней была проще, потому что в них одна сторона была уже обделана при выбивке ниши предшествующего камня. Когда исходил весь данный слой, т. е. собственно пригодная для построек средняя, плотная часть его, брали следующий и т. д. идя всегда в выбирании слоев снизу-вверх. Что здесь работы шли именно в этом порядке, доказывается тем, что в разных местах царских пещер, на высоте 30 и более футов в сводах подземелья висят иссечённые квадраты, держащиеся скалы одною из сторон, тогда как внизу слои выбраны кругом на большое пространство. Судя потому что число ниш, начатых в разных местах каменоломни, бывает обыкновенно пять или шесть, можно думать, что рабочие распределялись по группам из пяти или шести человек. Далее, оттого что, углубляясь в скалу глубже и глубже, выбирали только плотные части слоев, а низкие или поврежденные трещинами оставляли, образовались нынешние проходы в царских пещерах. Брошенная часть слоя представляет теперь колено или выступ, за которым поворачиваете в новое углубление широко выбранного слоя, обратившего на себя внимание высшим свойством камня. Но что особенно удивительно, так это то, что эти работы производились почти в темноте. Хотя в каменоломнях зажигались лампы, копоть от которых доселе можно замечать в особенных малых треугольных нишах (вероятно каждая группа из шести рабочих имела одну лампу); но что значит свет какого-нибудь десятка ламп для необъятного пространства подземелья. Это обстоятельство тем замечательнее, что здесь же происходила вся дальнейшая обделка камней. По Флавию Древн. VШ, 2. 9 здесь не только обделывались камни, но и соединялись в стену (συνδήσαντες ἁρμόσαντες), т. е. положение каждого камня в стене определилось в каменоломне так, что стена выносилась из подземелий готовою.
Остатки древних работ в каменоломнях дают возможность определить также характер инструментов, которыми производились работы. Вообще говоря, при выбивке камней употреблялся в различных видах один двухчастный инструмент, тожественный с нынешним скульпторским долотом или карпелью. Острие карпели иногда прямолинейно и имеет величину одного, двух или трех пальцев, иногда имеет желобчатую форму с выгибами, которых обыкновенно бывает около восьми; иногда они бывают так густы, что на один палец их приходится 4 и 5. Желобчатые карпели употреблялись для предварительной расчистки скалы, а также при обделке камня, выпавшего из ниш, оттого они были шире гладкой карпели, служившей только для отделения камня от скалы. Так как ниши, которыми отделяли камень, часто очень глубоки и узки, то карпели должны были быть длиннее нынешних, что, понятно, затрудняло работу, так как вообще с длинным инструментом трудно обращаться и удар, сообщаемый длинному долоту, ослабевает от самой его длины. Замечательно при этом, что в царских пещерах видно мало следов кирки, которою в настоящее время исключительно выбивается камень. Это объясняется тем, что камни имели здесь особенное назначение и выделывались слишком тщательно и осторожно, между тем кирка дает случайные удары, легко могущие испортить камень, тогда как карпели или долоту, ударяемому молотом, легко можно придавать такую силу удара и в таком направлении, какое требуется. Еще менее употреблялись в каменоломнях еврейских средства аналогичные с нынешним разрывом скал порохом, и состоявшие в том, что в сделанный небольшой разрез скалы вбивался сухой деревянный клин и смачивался водою дотоле, пока, разбухши он расширял расселину и наконец совершенно разрывал скалу. Эти последние средства, заимствованные от египтян, употреблялись не столько в каменоломнях, сколько при проведении дорог. В окрестностях Иерусалима по дороге в Хеврон, и к лавре св. Саввы много видно сломанных этими средствами скал.
Самою трудною работою была не выбивка камней, а перенесение уже приготовленного камня из подземелья до места назначения. Наибольший камень, оставленный необделанным в каменоломне и лежащий в одном из средних отделений, потребовал бы для своего передвижение 50,000 рук, т. е. совокупного усилия всех жителей нынешнего Иерусалима. Судя потому, что на некоторых, приготовленных для передвижения, камнях иссечены с одной или двух сторон небольшие ямины, можно думать, что евреям, как и египтянам, были известны особенные камне-двигательные машины. Притом из царских пещер камни выносились не нынешним трудным входом, а особенными отверстием в сводах. Одно из таких отверстий доселе можно видеть в крайней восточной части пещер; даже следы цепей, которыми поднимала камни, обозначаются доселе в стенках устья. Иерусалимские чичероне связывают с этим устьем еще особенные предание, незаслуживающие вероятие. Был известен евреям также египетский способ поднятие камней на высоту, состоящий в том, что в стене скалы делались лестнице-образные уступы и камни выкатывались с ступени на ступень. Такие уступы для поднятия камней можно видеть на южном склоне Сиона, в раскопках Модзле, где они служили для поднятия камней на высоту Сионской крепости.
Кроме царской каменоломни древний Иерусалим имел еще большую каменоломню на восточной стороне города. Стена, к которой лепится теперь Силоамская Султанская деревня, вся изрыта каменоломнями. Домами называются здесь образовавшиеся от вырубки камней пещеры, к которым пристроена фронтовая сторона. Одна из пещер здесь близко напоминает царские пещеры, хотя уступает им в величине. Нынешние улицы Силуанской деревни – ничто иное, как древние лестницы, иссеченные в скале каменщиками, для скатывания камней к городу и храму. Южная большая часть Силуанских каменоломней давала камни маляки, а северная миззи. Еще есть открыто лежащий остаток древней каменоломни на южной стороне Иерусалима по дороге в Вифлеем за богадельнею Монтефиоре. – Все, что замечено о царских пещерах, относится и к этим последним.
Каждый камень, вышедший из древнееврейской каменоломни, получал особенную печать своего происхождение, представляющую доселе решительный археологический признак еврейско-арамейской архитектуры в истории древних памятников и развалин, и состоящую в том, что лицевая сторона четырехугольного камня τετράγωνος, вместо гладкой обделки, утвердившейся в архитектуре египтян, римлян и пр., имеет со всех четырех краев лентообразную выемку или выпуск, над которым среднее поле камня несколько возвышается, так что издали каждый камень кажется обделанным в рамку. Кроме этого выпуска и по краю его, лицевая сторона имеет еще другую меньшую тесьма-видную рамку, состоящую из легкой насечки и без углубления, вероятно служившую для того, чтобы регулировать обделку камня, т. е. это первая линия, по которой нужно было вести обделку желобка или выпуска. Таким образом каждый камень древнееврейской архитектуры имел по краям две рамки: регулирующую линию и выпуск. Что касается среднего поля камня, то, выступая над выпуском, оно бывает всегда более или менее гладко выровнено. Таким образом эта система отличается от того, что в архитектуре называется боссаж, при котором лицевая сторона остается всегда в сыром виде, а выравниваются только края для того, чтобы плотнее лежал камень на камне, и чтобы удобнее было связать их цементом. Эта последняя система, представляющая простое экономическое средство сокращение работ при кладке стены, употреблялась греками, римлянами, арабами в тех случаях, когда имелось в виду сообщить зданию особенно грозную наружность. Таковы из греческих построек стены города Мессены, из арабских нынешние иерусалимские стены; подобный вид имеют и некоторые из древних английских крепостей. Между тем в еврейской архитектуре боковые выпуски не только не сокращали работ, но, входя в виде орнамента к уже обделанному и выглаженному материалу, требовали двойной обделки каждого камня. Это, говорит Типпинг (Traills Iosephus XLV), была самая образцовая работа в мире, и сложенная из таких камней стена казалась колоссальным rilievo (панели); так чисто и гладко был отделываем каждый составной камень. если в некоторых камнях при боковых выпусках лицевая сторона в настоящее время представляется не вполне обделанной, то это объясняется тем, что в течение тысячелетий могла повредиться выровненная сторона, да и в первоначальном виде не всякий еврейский архитектор одинаково чисто обделывал свои камни.

Рисунок 2. Древнееврейский камень
Если камень назначался для угла стены и, следовательно, двумя сторонами выходил наружу, то обе эти стороны одинаково обделывались выпусками. Если камень должен был иметь три лицевых стороны, напр., в пилястре, каждая из этих сторон получала такую же обделку. Наконец камень, назначавшийся для столба и открытый со всех четырех сторон, кругом обделывался рамками выпусков. В так называемой башне Давида, некоторые камни которой не вполне закончены в обделке, можно видеть порядок обделывания камня. По проведении регулирующей линии занимались обыкновенно сперва обделкой выпуска и потом уже средним полем. если некоторые незаконченные камни в башне Давида имеют невыглаженные еще неровности в лицевом поле, то в ней нет камней без выпусков и регулирующей линии. Обделка выемки и среднего поля производилась скульпторским долотом с зубиками, следы которых, числом около 8, почти на каждом камне можно замечать доселе.
Эту характеристическую особенность отделки древнееврейского камня мы будем называть обделкой выпусками, или боковыми выпусками (англ. draft marginal), имея в виду 1Цар.7:9, где библейский писатель о камнях Соломонова храма выражается: они были обделены выпусками (גזית от2גזה подстрагивать) обрезков, т. е. выемок по четырем краям лицевой стороны камня. Как видно из библейского описания, камни храма были чисто обделаны), следовательно, грубый боссаж не имел здесь места3. Там же камни храма названы производившими большое впечатление на зрителей, что заставляет предполагать, что прежде Соломона, т. е. прежде знакомства с финикиянами, подобная отделка камней была неизвестна в Иерусалиме. Из период второго храма мишна называет залу собраний синедриона комнатою в выпусках, в которой не только наружная, но и внутренняя сторона стен имела камни этой обделки, подобно как уцелевшая до настоящего времени древняя камера в дамасских воротах иерусалимской стены. Точно также в выражении Мишны: «мудрецы גזית этот термин мне кажется натуральнее относить к выпускам в одежде мудрецов, т. е. к тефилим, вместо обыкновенного толкования этого места.
Для того, чтобы в древнем иерусалимском материале и уцелевших остатках стен отличать не только их еврейское происхождение, но и различные периоды происхождения, нужно иметь в виду следующее:
1. Все народы древности, архитектура которых стояла в одинаковых условиях, при сооружении монументальных памятников, в первые периоды обнаруживают наклонность к громадности строительного материала, постепенно переходящего к меньшим и меньшим камням и кирпичу. Памятники древнего Иерусалима, по громадности строительного материала, занимают в человеческой истории третье место после памятников Баальбека и египетских обелисков; материал египетских пирамид может быть поставлен только после памятников Иерусалима. Конечно, на этом основании было бы поспешно заключить, что памятники Иерусалима были древнее пирамид, а памятники Баальбека первыми в мире сооружениями; но когда идет дело об одном и том же породе, то, на основании большей величины камней, можно предполагать большую древность монумента. Само собою разумеется, что при этом нужно принимать в соображение много других обстоятельств, потому что, напр., в один и тот же период происхождение памятник большей важности мог иметь превосходство и в строительном материале пред памятником меньшей важности.
Частнее здесь нужно различать длину и ширину строительного материала. Сколько можно заключать из остатков работ в каменоломнях, а также из остатков древних памятников Иерусалима, высота камней, назначенных для соответственных рядов стены нижних или верхних строго выдерживалась одинаковая, чтобы не нарушался порядок и правильность кладки стены. Что касается длины, то, как зависевшая от большей или меньшей плотности слоя, она не могла быть правильною, хотя не представляла и слишком не соответствующих величин. Напр. в остатке нижнего ряда стены Иерусалим. храма, около тройных ворот, ряд нетронутых древних камней представляет, по измерению Сольси, абсолютно одинаковую высоту 1 метра 90 сантиметров, между тем как длина их представляет следующие цифры: 3 метра 95 сантим.; 1,15; 1,00; 1,90; 1,34; 2,83; 2,12; 1,17; 1,22; 2,60; 2,45. По еврейскому локтю эти цифры равняются: 7½ локтей, 2¼. 2. 3½. 2½. 5⅓. 4. 2¼. 2⅓. 51/10. 4⅔. Наоборот другой остаток стены того же нижнего ряда около золотых ворот, или около моста Робинсона имеет длину в три и четыре раза большую, а равно и по высоте далеко превышают цифру 1 м. 90 см. Эту разность мы считаем признаком неодновременного происхождение остатков и притом остаток с большею длиною и высотою камней считаем древнейшим. При этом разграничении, однако ж нужно быть осторожным, потому что, и при одновременном сооружении, камни высших рядов стены имеют постепенную меньшую высоту. Нужно заметить при этом, что в позднейшее время еврейской архитектуры, смесь больших и малых камней была кажется особенною системою кладки камней, но в ней большие и малые камни располагаются в известном симметрическом порядке и притом разность касается только длины камней, а не их высоты. Вот напр., вид древнееврейской стены, снятый с вестибюля одной гробницы в деревне Шуафат.

Рисунок 3. Стена вестибюля древнееврейской гробницы в деревне Шуафат

Рисунок 4. Увеличенный разрез по линии а...b
2. После массивности материала важным определяющим признаком служат особенности в описанной уже обделке лицевой стороны. Понятное дело, что один и тот же архитектор, тем более в одном и том же сооружении, должен был давать одинаковую облицовку камням. И действительно, ряд камней около тройных ворот харама имеет математически одинаковые выпуски в 156 миллиметров ширины. Хотя эта величина не есть какая-либо аликвотная часть еврейского локтя (как половина локтя, треть, четверть и под.); но во всяком случае очевидно, что выпуски камней здесь делились по масштабу, а не по одному глазомеру, как думает Сольси. Между тем другие остатки, напр. около золотых ворот имеют выпуски в 230 миллиметров и более. Такая разность в главной части обделки служит решительным доказательством, если не разновременного происхождения, то во всяком случае различных строителей. Что касается среднего поля, то, как уже замечено, в остатках древнего Иерусалима, оно выровнено не везде с одинаковою чистотой, и притом камни больших размеров, с более широким выпуском, имеют всегда менее чисто обделанное среднее поле. Самым простым предположением здесь может быть только то, что большая чистота в отделке соответствовала большему развитию архитектуры и что, следовательно, менее безукоризненно обделанные камни относятся к древнейшему времени, а более безукоризненно к позднейшему.
3. Третьим признаком служит присутствие или не присутствие цемента для соединения камней между собою. Древнейшие памятники восточные сооружались без всякого цемента, так как, при громадности строительного материала, можно было не опасаться выпадение камней из рядов стены. Мало того, с течением времени, от действие собственной тяжести, древние камни нижних рядов срастаются с верхними, почти входят одни в другие. В памятниках Баальбека и Трилитона камни слились так плотно, что в промежутки их соединение не может войти самый тонкий перочинный ножик. В остатках иерусалимских памятников только немногие ряды представляют такого рода соединение – ясный признак того, что памятники были восстановляемы по разрушении. Флавий говорит, что, вместо цемента, камни имели железные связи. И действительно находят в остатках храма такого рода соединения.
4. Как известно из библейских описаний и из общей истории архитектуры, в древнейших восточных сооружениях, начиная от египетских пирамид, возвышающиеся ряды камней в стене не представляли одной отвесной линии во всю высоту стены, по каждый верхний ряд делал уступ над нижним, уходя более или менее в глубь стены, и чем древнее памятник, тем уступы заметнее, так что напр., в египетских пирамидах стена здание есть вместе лестница для восхождения. Храм Соломонов в Иерусалиме также имел вид пирамиды, по библ., описаниям. И в нынешних остатках Иерусалима эти уступы заметны, но в различных отношениях; напр., в стене плача евреев они очень невелики, едва равняются широте выпусков камней. Но около золотых ворот есть уступ такой широты, что на нем можно усесться. Особенно заботливую обделку имели уступы на углах стен как пунктах, более бросающихся в глаза. В Пс.143:12 с обделанным углом стены сравнивается женская красота: «девы наши как углы красиво обточены».

Рисунок 5. Юго-восточный угол Харама
К этим главным признакам древности нужно прибавить еще несколько второстепенных. Часто можно угадать такую или другую древность здание, так сказать, по его старческим морщинам и цвету. Мы говорили уже, что камень миззи от времени переходит из серо-коричневого цвета в золотистый с отливом; но для этого требуется слишком продолжительное время; ни одно арабское и даже римское сооружение, сложенное из этого камня, не блестит таким золотом, как напр. монумент Авраама в Хевроне. Что касается другого камня маляки, то от действия времени он темнеет, как напр. в стене плача евреев. – Само собою разумеется, что в течение тысячелетий открытый непогодам камень не может остаться без некоторых повреждений. Как ни удачно были выбраны камни, уцелевшие в остатках древнего Иерусалима, но в разных местах они облизаны зимними дождями в различной степени, соответственно их положению и их давности. – Наконец Иерусалимские памятники, вследствие своей массивности, глубоко уходят в землю с течением времени и на своих вершинах порастают не только мхом, но и целыми кустарниками и деревьями. Кого не поражали исполинские букеты кустарников на стенах Баальбека, куст на памятнике Авессалома и проч.
В последнее время начали различать на камнях и памятниках древнего мира еще особенные символические знаки, указывающие то имя художника, то место нахождение камня, то место назначения, то счет камней и пр. Когда я иду по Страстной улице, говорил мне М-р Ганно, я слышу разноязычный говор камней, брошенных здесь различными веками и нациями. Не смотря на всю смелость подобного предположение, оно не лишено основание. Известно, что Навуходоносор клеймил особенными значками каждый камень, нашедший место в его столице, и эти значки в новейшее время помогли узнать вавилонские камни в отдаленных от Вавилона городах Сирии, строившихся чужим материалом. И на некоторых камнях еврейских встречаются непонятные значки в виде столбиков (в памятнике Хевронском), ямин больших и меньших, черточек и проч.; иногда все поле камня бывает истыкано будто копьем. На нескольких камнях, впрочем, не чисто-еврейского происхождения, в подземелье Уоррена я мог ясно отличить буквы К, В и подобные. На новейших камнях Иерусалима часто можно замечать арабские буквы. Но кто поручится, что все это не случайная работа досужих наблюдателей, а неподдельный алфавит древней архитектуры. А если даже и так, то где ключ к этим новым иероглифам?
Приложим теперь указанные признаки древнееврейской стены и камня к истории. Для памятников древнего Иерусалима, (т. е. собственно для остатков иерусалимского храма, главнейшего памятника Иерусалима) можно искать времени происхождение в трех периодах еврейской истории: 1) в время Давида и Соломона или вообще в период царей Иудейских до плена; 2) в период после-пленный и 3) во время Ирода великого. Таким образом в смешанной массе развалин древнего Иерусалима должны принадлежать первому периоду самые крупные камни из сохранившегося материала, с более грубою отделкой поля, широким и глубоким выпуском не всегда одинаковым, без всяких признаков цементовой связи, с уступовидной кладкой рядов и наиболее глубокими следами действие времени. Как и следовало ожидать, камни с такими признаками занимают самые нижние ряды в остатках древних стен, как вековечное основание, на котором дальнейшие периоды положили свои новые материалы. Возобновление храма и города после вавилонского плена совершалось слишком поспешно, чтобы при этом могли явиться какие-либо оригинальные архитектонические особенности. Здесь не только имели дело с одним готовым материалом, т. е. с разбросанными камнями прежних стены храма и города, но и этот материале не могли сложить надлежащим образом. Остатки стены, относимые к этому периоду, представляют совершенный беспорядок: одни камни обращены наружу не лицевою, а оборотною стороною, другие представляют только обломки больших прежних камней, третьи лежат в стене как -то стоймя и под. Один аммонитянин, посмотревши на стену, воздвигавшуюся при Неемии, заметил с иронией: «Пробежит лисица и повалит эту каменную стену» (Неем.4:3). Наконец, камни Иродовы представляют художественно обделанное целое с безукоризненно выглаженными сторонами, неглубоким боссажем 15 миллиметров широты, с едва заметными уступами (5 сантиметров широты) рядов стены. Такие камни встречаются более на южной половине площади Иерусалим. храма, тогда как восточная сторона, по свидетельству Флавия, даже в период Иродова храма называлась Соломоновою. Но так как, и после новых построек Ирода, храм и Иерусалим были снова разрушены, то большая часть камней совершенно перемешалась, вследствие чего в нынешнем виде стен среди Иродового ряда можно вдруг встретить несоразмерной высоты камень первого храма и наоборот.
Нужно заметить при этом, что, рядом с описанною искусственною обделкой и кладкой камней, заимствованною во время Соломона от финикиян, должна была существовать и более простая система малых необделанных камней, а во время Ирода великого еще римская система обделки гладких камней. Сольси не основательно полагает, что работа выпусками не может принадлежать Ироду, а есть всегда признак первого периода еврейской истории. Мы увидим, что, в время Ирода были в употреблении в Иерусалиме как римская, так и древнееврейская кладка, соединявшиеся иногда в одном и том же памятнике. С другой стороны, до Соломона Иерусалим Иевусеев состоял частью из пещер, частью из зданий, сложенных из грубых простых камней без выпусков.
* * *
В последнее время утвердилось мнение, что древние евреи не знали употребление сводов, и на этом основании многим древним памятникам с признаками сводов стали искать места в позднейшем периоде. Между тем положительные свидетельства библии говорят противное, напр., выражение 1Цар.7:9, что во дворце Соломоновом все было сделано из камня с выпусками от основания до сводов טפחות. Корень этого последнего слова значит именно накидывать покров, и притом шаровидный, куполообразный, как у Исаии (Ис.48:13) этот корень обозначает выпуклость небесного свода. Есть и другой термин в библии для обозначения сводов חניות Иер.37:16 употребляемый в смысле выпуклого свода доселе у арабов (chanuth своды). Флавий говорит положительно о сводах в постройках Соломона Древн. VIII, 3. 2. Что касается формы сводов, то, судя по нескольким оставшимся образцам, напр. камере пр. Илии под мечетью Эль-Акса, в древнейшее время она была пирамидальною. В последний же период еврейской архитектуры встречается арка полного полукруга, приближающаяся к классической. Между памятниками древнего Иерусалима и вообще св. земли, рядом с арками полного полукруга, можно находить еще огиву, царствующую в архитектуре арабской. Эта форма свода заняла место римской полусферы не ранее 9-го века. Мечеть Амру в Каире от 7-го века, мечеть Дамасская, приписываемая всеми арабскими историками Халифу Эль-Валиду, сыну Абд-ель-Малека, от 705 года христ. эры, имеют еще римскую полусферу. Все другие, вскоре затем возникшие, арабские сооружение имеют огивы, как напр, мечеть Тулуп в Каире от 869 года, прекрасная цистерна в Рамле, носящая имя Елены, с надписью 372 года магометанской эры. Таким образом стрельчатый свод, встречающийся по местам в памятниках, принадлежащих несомненно древнему Иерусалиму, должен быть объясняем как поправка, внесенная впоследствии арабскими обладателями города Давидова.
* * *
Всем известно, что древние евреи знали употребление колонн. Мнение Ренана, что «колонны металлические, упоминаемые в библии, не суть колонны, т. е. не могут считаться архитектурным орнаментом» не основательно, потому что металлические колонны выливаются всегда по образцу каменных и деревянных колонн и непременно предполагают известность этих последних. Если библейские писатели о двух столбах пред входом в святилище Соломона нашли нужным заметить, что они были из меди, то другие колонны портика непременно были простые каменные. Незачем прибавлять, что в последний период, т. е. в век Ирода, наклонность к употреблению колонн перешла в архитектурную страсть. В настоящее время тысячи монолитных колонн гранитных, мраморных и каменных раскиданы по всему пространству св. земли в виде поверженных обломков её древнего величия. – Самое производство колонн можно видеть в двух, недавно отрытых, неоконченных колоннах на западной стороне Иерусалима. Особенно замечательна колонна, отрытая в Иерусалиме в 1871 году на русской земле в 20 шагах пред фронтом миссийской церкви. Это верхняя часть скалы, обделанная в виде лежащей колонны, но нижней частью еще неотделенная от грунта. Колонна должна была иметь около 20 футов длины и 8 в диаметре. Камень выбранный для колонны – простой маляки и работа камня, хотя она в настоящем виде даже вчерне не окончена вполне, очевидно не отличалась изяществом. На двух концах колонны сделаны небольшие карнизы совершенно одинаковые, так что нельзя угадать базиса и вершины колонны, тем более, что диаметр цилиндра везде одинаков. Между следами инструментов на колонне, кроме тех, какие мы видели в царских пещерах, видны еще круглые следы, если это не позднейшее превращение под действием дождей. Какие-то особенные обстоятельства помешали окончанию отделки колонны. Может быть видная теперь в цилиндре трещина образовалась от землетрясения во время самой обделки и была причиною того, что колонна не была отделена от скалы и с течением времени была совершенно забыта и засыпана песком пустыни, подобно тому как в сиенских каменоломнях громадный обелиск, уже почти оконченный, был расколот землетрясением и покинут. Что касается происхождение этой колонны, известной теперь в Иерусалиме под именем русского монолита, то простота материала и его обделки, а равно и громадность размеров заставляют относить его к древнейшему архитектурному периоду. Может быть это даже одна из колонн, назначавшихся для портиков Соломонова храма, тем, более, что, по свидетельству Флавия, колонны для храма выбивались именно на западной стороне Иерусалима. Да и для того, чтобы пыль пустыни могла засыпать этот исполинский цилиндр, нужно было весьма продолжительное время. Другая колонна подобного же материала лежит, в таком же неоконченном виде, около 200 шагов на SWW от пруда Мамиллы и отличается от русского монолита тем, что имеет коническую форму, как колонны дорического ордена. Землетрясение, может быть тоже самое, раскололо и эту колонну прежде её полного окончания. – Обделывались колонны и в царских пещерах, напр, монолит под мечетью Эль-Акса вынут из южной части пещер, как можно заключать по тожеству материала и величине образовавшегося в скале пустого пространства после вырубки колонны. Вообще же колонны доставлялись на место назначения в готовом виде, как и все другие камни, так что библейское свидетельство, что на месте самого храма не было слышно молота, обделывающего материал, имеет наглядное подтверждение. В позднейший период колонны выписывали из других мест, особенно из Египта гранитные.
Что касается еврейских капителей, то, по описаниям библейским (1Цар.7:19) они представляли вид распустившейся лилии с побочными украшениями в виде сеточек, шнурков и шаровидных украшений. Такая форма приближает древнееврейскую капитель к греческой коринфской капители. Иосиф Флавий прямо называет колонны Соломонова дворца коринфскими. Между тем в позднейший период еврейская капитель приняла особенности римской, века Августа. – Между развалинами древнего Иерусалима находили много капителей еврейского происхождения. Заслуживает упоминание здесь капитель, найденная Пьеротти в раскопках на юго-восточном углу площади Иерус. храма, имеющая на каждой из четырех сторон по листку лилии без завитков, совершенно гладкий абак и внизу ряд шаровидных украшений числом около 25. Другая капитель, найденная в том же углу: состоит тоже из листьев лилии, только грубее сделанных с прибавочными рисунками в виде малых веток, листьев и кистей; абак также украшен лилиями; внизу вместо шариков изогнутые линии в виде

Многие капители имеют рисунки очень широких листьев акантуса, этого повсеместного растение в Иудеи.
В последнее время колонны, находимые в развалинах св. земли, вызвали много споров. Замеченное уже Флавием сходство еврейской колонны с греческой многих привело к мысли, что еврейская архитектура развилась только под влиянием греческой и что, следовательно, еврейские памятники, имеющие колонны, приближающиеся к греческим особенно дорические, все без исключения принадлежат греческо-римскому периоду еврейской истории. К вопросу о колоннах прибавили другие архитектурные орнаменты, находимые на фризах, особенно триглифы (орнамент из иссеченных в камне столбиков, симметрически расположенных по три с двумя большими и двумя малыми желобками), представляющие в греческой архитектуре особенность дорического ордена, и между тем часто встречающиеся на памятниках древнего Иерусалима. Таким образом, все почти древнееврейские памятники отнесены к позднейшему периоду, и у еврейской архитектуры отнят всякий самобытный характер. В настоящее время только один М-р Сольси стоит за еврейскую архитектуру, тогда как все другие специалисты вопроса, с известным графом М. Вогюэ во главе, видят в ней не более, как выродившуюся ветвь греческого искусства.
Но действительно ли грекам принадлежит первоначальное изобретение дорической колонны и триглифов? Нет, положительно. Оба эти элемента архитектурного ордена были известны на востоке прежде, чем греки были в состоянии подумать о каком-либо монументальном сооружении. В египетских катакомбах Бени-Гасан, по времени происхождение восходящих к фараонам XII династии, т. е. почти за 3,000 лет до христианской эры, уже есть конические колонны с выемками, не отличающиеся от колонн дорического ордена и названные Шампольоном протодорическими. В других египетских катакомбах Кум-ель-Амар, происходящих от VII династии т. е. за 3,700 лет до Р. Хр., можно видеть пилястры с цветком лотоса поддерживающие архитраву с настоящими триглифами. В Карнаке на капителях, изображающих бутоны, лилии и лотоса, также есть украшение в виде триглифов, хотя эти капители принадлежат царствованию фараона Тутмаса из 18 династии, т. е. около 1700 года до нашей эры. Точно также многие другие карнизы египетские украшены дорическими триглифами двухцветными и трехцветными, между которыми обыкновенно помещаются на метопах эмблемы божества или царей основателей. Можно прибавить при этом, что считающиеся также позднейшим явлением вставные или стенные колонны в Египте найдены в памятнике Рамзеса II, в скалах Джебел Силсилис, а на потолках всех египетских катакомб есть лучевидные украшения, также признаваемые исключительною принадлежностью греков. Наконец по Флавию (Древн. VIII, 5, 2) над стенными колоннами дворца Соломона был ряд триглифов τριγλύφοις, между которыми были сделаны ветви, листья с цветами и проч.
Если, не смотря на эти решительные факты, исследователи в дорических колоннах, триглифах и друг, архитектурных орнаментах еврейских памятников видят влияние греческой архитектуры, то здесь скрывается всегда излишнее пристрастие к греческому искусству и гению. Ведя историю искусства отдельного народа, доводят ее до неизбежного влияния греков и на нем успокаиваются, как на последнем рычаге в великой истории человеческого развитие. Положим, что это справедливо в отношении к народам, исторически следовавшим за греками, но каким образом первобытные народы востока, которым сама Греция обязана своим существованием, не могли обойтись в своих произведениях без греческой указки? Последние открытие на востоке ведут к развенчанию греческого архитектурного гения, бывшего, в сущности только эхом, гулкость которого зависела оттого, что велика была духовная сила древних народов востока, произведшая этот доселе не умолкнувший гром. До какой степени мало могут быть собственностью греков орнаменты, считаемые их собственностью, можно видеть из сравнение греческой архитектуры с египетскою. Первыми моделями египетской архитектуры, как доказано в настоящее время, вопреки мнениям Гюйо и Рауль-Рошета, были постройки из дерева, тогда как первобытными сооружениями греков были жилища троглодитов, пещеры и гроты. Но каким образом пещера или грот могли дать идею колонны, идею фриза и орнаментов архитравы? Колонна может быть только подражанием деревянному столбу первобытных сооружений, точно также как архитрав, с орнаментами и архитектурные украшение потолков служат искусственными копиями тех натуральных стволов и обрубков дерева, которые образовали первобытный навес и крышу. Когда египтянин перешел от деревянных к каменным постройкам, памятные ему из прежних образцов деревянных построек столбы стали принадлежностью и каменных сооружений, даже там, где они вовсе не были необходимы т. е. стали формою архитектурных орнаментов, первоначально воспроизводя простой деревянный ствол, а потом разветвляясь подробностями ветвей и листьев. Что же касается греков, то, имея первоначальною архитектурною моделью здание пещеру, они никогда не могли сами собою дойти до колонны и других архитектурных орнаментов без сторонних влияний. И действительно, по древнему преданию самой Греции, все её художники, техники, артисты были выходцами из Египта и Финикии, а потому её древние монументальные памятники должны были иметь характер и стиль заимствованный. Главный монумент построенный Дадалом, был лабиринт, скопированный с лабиринта египетского. После этого, что значит научный прием, ставящий архитектуру древних евреев, по исторической последовательности, после греческой, не обращая внимание на то, что евреи задолго до существования имени греков, выросли среди монументов Египта и Финикии, того Египта и той Финикии, которые были именно учителями самых греческих архитекторов и гений которых властвуют во всей передней Азии до Ниневии, Вавилона и Персеполя.
Еще можно было бы видеть греко-римское влияния в еврейских памятниках, если бы последние могли быть отнесены к какому-либо из отдельных орденов, обособление которых в известные формы несомненно принадлежит грекам. Между тем ни один из памятников Иерусалима не может быть причислен к какому-либо определенному ордену. если в них встретится колонна с капителью, положим коринфскою, то над нею будет возвышаться орнамент, приближающийся к совершенно другому ордену, напр., дорическому, карниз из египетской системы и т. под. Такая смесь архитектурных орденов представляет первую фазу развития человеческого искусства, если угодно, первобытный хаос архитектурных элементов, из которого творческая сила греческого гения постепенными усилиями наконец вызвала отдельные образы. Если Витрувий, известный писатель времени римской республики, свидетельствует (De architectura IV, I), что в его время разделение орденов не производилось строго, так что напр., коринфский орден безразлично заимствовал орнаменты от двух других, если для Витрувия существует, собственно говоря, два ордена дорический и ионический, а коринфский, за исключением капители, представляет только смесь того и другого; то это показывает, что самому греко-римскому гению трудно было найтись в хаосе, заимствованных им архитектурных элементов. Может быть также при этом, что, рядом с отдельным развитием орденов, у греков и римлян не терял, а значение и первоначальная восточная система единичного ордена архитектуры, оставлявшая архитекторам свободу выбора элементов из всей широты архитектурной области. Памятниками этой восточной системы можно считать в Италии малый храм Пестул и орнаменты в Помпее, в Сицилии гробницу Терон и храм Селпмонт, в Африке гробницы в окрестностях Триполи и проч. (Architecture polychron par Hittorff, рисунки II, VI, XVII).
Независимо от этих соображений, мы имеем положительное доказательство отношений, существовавших между еврейскою и греческою архитектурою, в одном древнееврейском памятнике, подлинность которого стоит выше всяких сомнений. Около 180 года пред Р. Хр, Гиркан сын Иосифа, приобретший огромные богатства и боясь ревности братьев и жадности тогдашней власти, удалился за Иордан и поселился в вади-ес-Сур, недалеко от Хешбона, в построенной им самим крепости. Вот описание этой крепости по Иосифу Флавию (Древн. ХП, 4. 14): «Гиркан построил за Иорданом весьма крепкий замок весь из белого камня до крыши, сверху вырезал фигуры очень больших животных и обвел кругом прудом широким и глубоким. Прорыл находящуюся против замка гору и устроил в ней многие гроты на несколько стадий глубины. Здесь были особенные апартаменты для пиршеств, для отдохновения и разных житейских потребностей. Обильные проточные воды были проведены для увеселения и прохлады в замке. Вход в гроты был так узок, что им едва мог пройти один человек, – что было сделано Гирканом с целью воспрепятствовать нападению братьев, если бы они вздумали осадить его. Наконец были сделаны большие внешние ограды с портиками, которые он украсил садами. Окончив построение замка, Гиркан назвал его Тиром Τύρον. Место это находится за Иорданом, между Иудеей и Аравией недалеко от Хешбонитиды. Семь лет управлял Гиркан этой местностью, во все время царствование Селевка в Сирии». Это описание во всех подробностях вполне соответствует древнему памятнику, в окрестностях Хешбона, открытому в 1818 году известными путешественниками Irbi и Mangles и недавно вновь обследованному Баддингтоном, Вогюе и Сольси. Нынешнее название памятника Арак-ель-Емир за́мок князя очевидно есть только перевод Флавиева древнего имени τύρος скала, хотя и это последнее известно здесь доселе в названии соседнего источника Нар-Сир, окруженного олеандрами и сикоморами и текущего вправо от замка. Самый замок состоит из двух частей: обширных гротов, иссеченных в скале и собственно замка или дворца. Гроты идут глубоко в скалу двумя этажами и, как видно из их устройства, имели различное назначение: одни чище отделанные и освещающиеся широкими окнами очевидно были жилыми комнатами; другие с корытами и кольцами, вбитыми в скалу, были конюшнями и стойлами; третьи магазинами; можно узнать в скале даже голубятню. Весь этот исполинский улей в скале уединен широкими рвами и имеет очень узкий проход; здание очевидно назначалось служить убежищем от нападений, и легко могло вместить отряд в 50 человек с 50 лошадьми во время продолжительной осады. На некотором расстоянии от гротов видны остатки плотины, перерезывавшей долину и замыкавшей пруд, теперь сухой, но некогда наполнявшийся водою из вади-ес-Сур и известный под именем Мейдан-ель-абед – скачки невольника. Среди этого пруда стоят развалины большого четырехугольного здание, известного теперь под именем каср-ель-абд (дворец невольника), потрясенного землетрясением, но сложенного из больших камней белого маляки с упоминаемыми Флавием фризами огромных животных, украшающими верхнюю часть здание. Всякий скептицизм должен замолчать пред таким редким в истории св. земли соответствием между уцелевшими останками и нынешним видом памятника и его описанием в древнем источнике.
План дворца, представляющего собственно архитектурный памятник, образует прямоугольник около 140 футов длины и 60 ширины с открытым со всех сторон вестибюлем и боковыми галереями. Куски колонн, валяющихся внутри, показывают, что галереи были кругом украшены колоннадою. Лестница в северо-восточном углу вела на террасу и в верхний ярус. Комнаты освещаются окнами в наружной стороне; небольшое отверстие в углу большого фасада давало свет и лестнице. Стены сложены из камней 25 футов длины на 8 ширины, с выпусками, приближающимися к выпускам последнего периода еврейской архитектуры, хотя отделанными не довольно чисто. Свод сложен из огромных камней, но без выпусков. Частные архитектурные черты замка Гиркана обнаруживают все возможные элементы. Тогда как вестибюль имеет простые большие колонны 4 футов в диаметре, верхняя галерея имеет искусственные колонны, образованные соединением двух отдельных корпусов желобчатой колонны. Капители колонн дворца приближались к коринфским с рисунками листьев аканфа и столбиков, сверху увенчанных с обеих сторон завитками, и имели высоту 4 и 5 футов. Базисы колонн были то простые, то с выемками и рисунками аканфа, не похожими на греческие. Пальмовые листья под архитравом имеют также совершенно восточный характер. Фриз с триглифами приближается к дорическому, напротив карниз с зубчиками к Ионическому. Тоже нужно сказать и о других архитектурных элементах; ни один из них не принадлежит греческому искусству в чистом виде. Профиль карнизов и особенно карниз входной галереи, малая широта архитравы, формы триглифов, орнаменты конических шариков и проч. если могли намекать исследователям на некоторые римские памятники, напр., на большой римский театр, театр Марцеллы и др., то с другой стороны все эти признаки также мало давали права назвать дворец Гиркана римским, как признак больших изображений животных (львов) – назвать его ассирийским. Между тем обстоятельства сооружения замка заставляют предполагать, что строителями его были местные чисто-еврейские архитекторы. Имя главного архитектора Гирканова, несомненно чисто-еврейское, можно доселе читать на выровненной поверхности скалы по правую сторону от входа, в гроты вырезанное большим древним шрифтом, стоящим на средине между квадратным и финикийским:
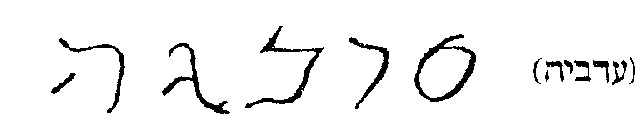
Рисунок 6. Надпись дворца Гиркана
Кроме того, нельзя предположить, чтобы беглец Гиркан принужденный скрываться в пустыне от своих ожесточенных врагов, облеченных властью, и притом сам из фамилии священнической, даже родной племянник первосвященника, мог выписать для себя за Иордан греческих архитекторов, вместо того, чтобы воспользоваться местными архитекторами Хешбона, верными древним, признанным законом и обычаем, восточным школам. Итак, судя по любопытному памятнику Гиркана, можно заключить, что древнееврейская архитектура принадлежит к особенному, всеобъемлющему стилю, заключающему в себе как многие из элементов, развитых впоследствии греческими орденами, так и элементы азиатские и египетские (в иерусалимских. памятниках). Это была архитектура из древнейших в мире, граничащая с тем периодом, когда человек пещеру или грот предпочитал зданиям сложенным из отдельных камней и этим последним зданием старался придать наружность цельной пещеры употреблением чрезмерно крупного материала. Реакция Маккавеев несколько сузила этот универсальный стиль исключением из орнаментации сюжетов царства животного и оставлением одних изображений из царства растительного. Наконец Ирод внес в восточные школы римские элементы века Августа с сохранением оригинальной растительной орнаментации и наклонностью к коринфской капители, которую вообще следовало бы называть римскою, так как коринфский орден последнее свое развитие получил только у римлян, а не у греков. Вообще же еврейская архитектура всегда имела свой самобытный характер и физиономию и нельзя не пожалеть, что до настоящего времени один только Сольси пытался серьёзно прояснить этот оригинальный характер и представил первый, еще слабый и неполный, опыт истории еврейского искусства.
Даже по отношению к христианским памятникам несправедливо подводят под одни стили памятники Европы и Азии. На западе архитектурный гений римского духа скоро был потушен. Размеры материалов чрезмерно сократились; щебень, кирпич, известь заняли место древней живой кладки. Скульптура скоро потеряла характер и сделалась тяжелою и плоскою. Уже при Константине великом в Риме не умели сделать капители и для сооружение триумфальной арки должны были разрушать древний памятник, чтобы воспользоваться его колоннами. Все, что построено в Италии от V до ѴII века, заслуживает сожаление; базилики этого времени мозаическое соединение материалов, вырванных из других памятников. Между тем на востоке к этому времени приурочиваются памятники, в которых видна жизнь, свежесть, одушевление, строятся все новые и новые храмы, дворцы, гробницы, города. Художники до бесконечности разнообразят свои модели, пренебрегая строгою замкнутостью классических орденов и имея в виду универсальный и все соединяющий древнеазиатский стиль. Они кладут стены из таких камней, которые внушают ужас современному римлянину, поднимают исполинские монолиты колонн, ставят их в портики, портики соединяют в дворы. Они умеют сделать дверь или окно в цельном цилиндре базальта; вместе с копиями классических капителей они выделывают свои восточные капители в стиле, который называют стилем византийским, но который в сущности был только свободным развитием того содержание, какое представляла восточная архитектура в её первой фазе развития на востоке, одним из проявлений которой была архитектура древних евреев. И так сваливать в одну массу памятники Европы и Азии, называть падением все то, что следовало не стереотипным греческим образцам, а вызывало из забвения воспоминание древних восточных форм, все то, что держалось своей почвы восточной, значит забывать, что сторонние влияние, какие бы они ни были, не могут с корнем вырвать местный гений народа. Не смотря на все давление греко-римское, настоящий еврей или сириец никогда не был ни греком ни римлянином. Сравн. La Syrie centrale. Architecture civile et religieuse du I-er au VIII-e siècle par Melchior de Vogüé.
* * *
В последнее время исследователями памятников Палестины выдвинут еще вопрос о мозаике, находимой в раскопках очень многих памятников св. земли. Всем известна наклонность нынешних обитателей Палестины к употреблению мозаики; не только храмы и дворцы, но и дома частные среднего класса имеют мозаические украшение. Где начало этого рода украшений? Обыкновенно полагают, что изобретение мозаики принадлежит церковной византийской архитектуре. Но с этим опять нельзя безусловно согласиться. Самое слово мозаика, μουσεῖον, μοσαϊκόν не имеет этимологии ни в греческом, ни вообще в европейских языках, но происходит от финикийско-еврейского слова משכית. В книге Левит (Лев.26:1) предписывается израильтянам воздерживаться от языческих культов в следующих пунктах: α) не вымышлять себе богов; β) не ставить кумиров или статуй; γ) не класть на земле камней маскит, чтобы на них повергаться для молитвы. Что камни маскит не были фигурами или образами божеств, как переводят обыкновенно, видно из самого грамматического оборота. Если бы здесь разумелся камень, обделанный в какую-либо фигуру, тогда столбы אבן משכית, а не אבן משכית. Это были камни, на которых приносились молитвы, мостовая пред кумирнею или идолом, устроенная особенным запрещенным образом, противоположным רצפה, т. е. мостовой согласно с духом закона (Иез.40:17, 18) и состоявшей из простых одноцветных каменных квадратов или ромбов, может быть также разрезанных ромбов, т. е. треугольников. Из Иез.8:12 и Притч.25:11 видно, что помост маскит был цветной, или пестрый. Эта пестрота не могла зависеть от крашения, так как вообще работа красками была неизвестна евреям, и так как у древних народов, как и в настоящее время, живопись имеет место только на стенах и потолках, а отнюдь не на полу. Остается предположить здесь пестроту мозаической работы, такую же, какую, по свидетельству Аристея, также вопреки постановлению Моисея, устроил Ирод в своем храме, λιθόστρωτον, по-халдейски γαββάθα. Кажется что и מוסך в 2Цар.16:18 означает лифостратон, т. е. царскую экстраду или седалище, украшенное мозаикою (LXX; τὸν θεμέλιον τῆς καθέδρας), и что, следовательно, мозаическая работа могла иметь место отчасти и в первом храме, по влиянию финикиян, против которых собственно и было направлено запрещение книги Левит, так как первоначально мозаическая работа была тесно связана с распространенным в Палестине финикийским язычеством. В книге Есфирь, (гл. 1) также говорится о лифостратоне, на котором стояли золотые ложи. В настоящее время на востоке различают два вида мозаики: одну составляемую из разноцветного мрамора, которым выводят различные арабески по белому полю, другую из стеклянных кубиков различных красок с преобладанием позолоченных кусков, которыми слагаются фигуры цветов, деревьев, животных и зданий. Противоположность этих двух видов мозаики доходит до того, что та и другая производятся различными мастерами и имеют особенные название. Первый вид называется vocham mogazzah, как Саадие в арабской библии переводит еврейское маскит; второй – fosayfisa от греческого слова ψῆφος, которое арабы произносили fesifos – fosayfisa. Последнюю мозаику сами арабские писатели выводят из Константинополя от византийцев, а мозаику мрамором считают наследием библейских праотцов. В раввинской литературе упоминается не только первый древнейший вид мозаики, но и последний византийский под именем pesiphas. В aboth рабби Натана (стр. 28) говорится: «есть три рода талмудистов: камень gazith (т. е. с обделанною выпуском лицевою стороною), камень угловой (т. е. по-своему положению необходимо обделываемый с двух сторон) и камень песифас (т. е. куб обделываемый со всех четырех сторон для мозаической работы). Первого рода камень это тот ученый, который стоит только на медраше (толкованиях библии) и в этой области обращается; второй камень – кто обращается в медраше и галахе, третий камень – кто обращается в медраше, галахе, агаде и тосефте».
* * *
Если эти немногие замечание не дают полного понятие о древнееврейской архитектуре, то, надеюсь, их достаточно для того, чтобы читатель мог убедиться, что обозрение памятников св. земли далеко не так легко, как представляют некоторые туристы и еще не приведено к концу в тех путешествиях по св. земле, какими располагает современная литература, не смотря на всю ученость некоторых из них. Археология, как и история, – бесконечный предмет, и чем больше она изучается, тем больше в ней открывается темных углов, требующих света и света. Классические обозрение памятников востока, изданные в Англии ученым Murray и во Франции известными Ioanne и Isamber могли сделать только то, что вызвали жажду новых исследований и привели десятки новых путешественников в св. землю. Если Ренан в отчете о своем ученом путешествии в Палестину, представленном на имя императора Наполеона III, говорит, что для него было достаточно нескольких дней для изучения памятников древнего Иерусалима, то этим он только даёт знать, что он был не исследователем, а развлекающимся туристом, который и Рим может обозреть в восемь-девять дней, при пособии ловкого чичероне, и еще насмеяться над археологом, проведшим всю жизнь среди памятников древней столицы европейского запада. Какого рода обозрение древних восточных памятников представил Ренан в своем отчете, видно из следующей фразы его об одном финикийском памятнике, фразы может быть рассчитанной на эффект, но на самом деле скрывающей глубокое незнание: се monument étrange flottait pour moi dans un intervalle de vingt ou vingt-quatre siècles, susceptible à la fois d’être consideré comme le contemporain de Salomon ou de saint Louis.
Харам-Эш-Шериф и остатки храма Иеговы
Панорама, открываемая Иерусалимом, единственная в своем роде и как будто рассчитана на то, чтоб произвести впечатление строгого закономерного величие. Для путешественника, приближающегося к Иерусалиму с запада, почти весь вид города ограничивается одною высокою городскою стеною серо-бурого цвета, прямыми, скрещивающимися линиями обвившею город и сообщающею ему скорее вид модели, приготовленной для города, чем действительного города. Путешественник на минуту забывает, что пред ним действительный Иерусалим, а не один из тех рисунков и видов, которые показывал ему при уроках священ. истории и которые впоследствии воображение привыкло рисовать ему каждый раз при имени города Давидова. Нынешние стены Иерусалима на самом деле слепок, сделанный арабами, по воспоминанию Иерусалима древнего, хотя тот, кто по нынешней стене составил-бы себе понятие о древнем городе, впал-бы в такую-же ошибку, как и тот, кто по нынешнему бесцветному населению Иерусалима вздумал-бы судить о его древних обитателях. Русские путешественники обыкновенно наблюдают Иерусалим с террасы русской миссии, откуда замечательный вид на западную часть иерусалимской стены к югу от Яффских ворот; где из-за стен города возвышаются единственные в Иерусалиме высокие деревья армянского сада, свежая зелень которых дает неожиданный контраст с поблекшим мертвенным цветом всего вида города. Впрочем, общее впечатление от города теряется по мере приближение к стенам, соответственно чему красивая и гладко обточенная модель, видевшаяся в перспективе, переходит в грубо отделанную и совершенно не эстетическую стену. Кроме армянского сада для наблюдателя с террас русских построек, красиво выдается из-за стены большая базилика католической патриархии, синие купола храма гроба Господня и мечети Омара, зеленый купол синагоги, четыре или пять выбежавших высоко над городом минаретов и на северном холме города группы белых куполов частных домов, кажущихся разбросанными, катящимися в долину, камнями. Боковым фоном города по ту и другую сторону служат горные возвышенности, надвинувшиеся к холму города, с бледною, гармонирующею с цветом скал, зеленью оливковых дерев, между которыми с Долины Рафаилов каким-то крылатым видением выступает огромная ветряная мельница богадельни Монтефиори. Но выше всякого описания задний фон Иерусалима, образуемый далекою цепью Иорданских гор, вечно подернутых темно-голубою дымкой, которая, при бледном сиреневом цвете палестинского неба, кажется воздушным основанием небесному своду. Впечатление от этого заднего фона английские путешественники сравнивают с впечатлением от известной картины Гэнсборо, представляющей едва вероятное художественное сочетание в изображении индивидуума в синем костюме в синей комнате, в окно которой видится синее небо. Синева Иорданских гор, действительно представляет одну краску с синим сводом неба, с синим куполом Омаровой мечети, но при этом их разделяют такие живые оттенки, что они не только не утомляют глаза, но напротив оставляют всегда самое приятное и какое-то ласкающее впечатление, с которым жаль расстаться. Мой спутник в Палестине, поэт, любуясь этою картиною Иорданских гор по ту сторону Иерусалима, импровизировал:
Там синий слой густого пара
Висит вдоль гор и берегов,
Как дым библейского пожара
Пяти преступных городов.
Насытившись панорамою св. города, путешественник спешит в его стены и ищет глазами древних памятников Давида и Соломона. Но где-же они, эти великие развалины столицы Иудейского царства, пред которыми и Капитолий в Риме и акрополь в Афинах должны отойти на задний план, по их безмерному значению для истории человечества?... Quantum mutatus ab illo. Путешественнику скоро приходится убедиться, что он не в Иерусалиме, т. е. не в древнем Иерусалиме, а в каком-то новом восточном городе, пленившем город Давидов. Как жаль, что Иерусалим не остался на всегда в развалинах как Баальбек, Ниневия и др. города, а облекся в эту новую чуждую наружность. Навеки оставленные в жилище змей и геенн Баальбек, Ниневия и Пальмира, благодаря своему запустению, сохранили в целости свои древние остатки и конечно еще много веков будут принимать в своих развалинах новые и новые поколения людей, ищущих уроков от лица седой древности. Такую-же идею воспитывает в себе путешественник и о павшем Иерусалиме. И вот с замиранием сердца ступивши в область этой мировой сцены, вместо живописных развалин, поражающих своим величием и воспоминаниями, путешественник видит пред собою грязное местечко с валящимися вовсе не от древности домиками, напоминающими заброшенный город отдаленной провинции с мелкими лавчонками, с глухим говором разноязычных жителей, вместо дикого рева львиц и гиен. О, это выше всякого запустения. Иерусалим должен завидовать Баальбеку и Пальмире. «Будут искать его и не найдут следов его», говорил пророк.
Тем тяжелее эта судьба Иерусалима, что его древние развалины, самые священные в мире, были вместе с тем одни из самых замечательных. Плиний называет древний Иерусалим самым значительным городом не только в Иудее, но и на всем Востоке. По свидетельству Страбона, город Давидов имел такие громадные сооружение, что их можно было видеть из Яффы. Это значит, что Иерусалим был виден для всей Иудеи, потому что Яффа самый низменный пункт страны. И действительно, когда, после покорения Иерусалима, евреям запрещено было приближаться к своей древней столице, они имели утешение смотреть на её разрушенные громады с отдаленных гор Иудеи. И наоборот, с высоких террас иерусалимских зданий, говорит Флавий, можно было видеть всю страну от моря Средиземного (θάλαττα) до Мертвого (λίμνη). Сам Тит, пораженный величием побежденного Иерусалима, при разорении его, оставил на память потомству три наиболее замечательные башни Фазаэль, Гиппику и Марианну и западную стену города. Но сохранил-ли новый Иерусалим в целости эти сооружения, пощаженные, как чудо строительного искусства, совершителем судеб Божиих над Иерусалимом? Где уцелевшая от разрушения часть дома Божия, в которой, по разрушении Иерусалима, как свидетельствует иерусалимский талмуд (Sanhedrin 18, 4), раббан Гамалиэль, внук известного наставника апостола Павла, имел заседание с собравшимися из вавилонских и греческих провинций Иудеями? Где памятник Соломона, по свидетельству Диона-Кассия (LXIX, 14), стоявший еще во время возмущения Бар-Кохбы, помазанного рабби Акивой в Мессию? Где сионская церковь, эта первая христианская церковь в мире, по свидетельству палестинского уроженца Епифания, уцелевшая от разорения и стоявшая среди развалин как шалаш в огороде? Где та часть Иерусалима, которая, по свидетельству Евсевия (Demonstr. evang. VI, 18), спаслась от опустошения, в исполнение пророчества Захарии (Зах.14:4)? Где это необъятное поле развалин, ужаснувшее императора Адриана, которое делало Иерусалим похожим на город, потрясенный до основание землетрясением? Где наконец Иерусалимский театр, трикамарон, тетранимфон, додекапилон, монетный двор, построенные Адрианом в опустошенном уже Иерусалиме, по Chronicon paschale 1, 474? Какой ответ может дать истории на эти вопросы новый Иерусалим? И какое значение может иметь этот новый город, взгромоздившийся на древние развалины и окутавший собою, как паутиною, свящ. остатки, вместо того, чтобы держаться от них в почтительном отдалении на страже свящ. праха, как стоят на страже древнего своего акрополя Афины, как даже нынешний Ашкелон сторожит свой потонувший в песке древний акрополь. Дикие звери, поселившись среди развалин древних храмов, не на столько оскверняют их, на сколько мусульманские обладатели Иерусалима, вопреки своим собственным доктринам, осквернили этот всемирный город. Когда арабы не задумываясь разметали прах многих египетских городов, в которых они не видели ничего священного, когда на Луксорский храм в Фивах, или на великий философский храм в Дендерах, изображавший неоплатоническую идею истины, добра и красоты в их нераздельном единстве, арабы взгромоздили новые деревни и обстроились свящ. материалом храма, то они могли оправдаться незнанием их философской идеи или её несоответствием с своим учением. Но чем могут оправдать арабы свое святотатственное отношение к остаткам древнего Иерусалима, священнейшего города в мире, в котором, по учению ислама, нет такой точки, на которой не молился бы какой-либо великий праведник или пророк. Несмотря на это уважение, или может быть вследствие этого вандальского уважения, Иерусалим потерпел гораздо более других известных остатков древних столиц и городов. В тех немногих следах древности, какие можно различать в настоящее время, все перевернуто вверх дном: древние камни большею частью сдвинуты с своих первоначальных мест, прекрасные гранитные и мраморные колонны частью разбиты, частью валяются в виде прилавков у магазинов и кофеен, или, как простой камень, вопреки всем строительным законам, вошли в состав новой городской стены. В наказание за это новый Иерусалим, построенный не на живой почве, а на древних развалинах, то и дело обваливается, вместе с тем, как сокрытые под землею остатки стен и сводов подаются и падают.
Такое глубокое опустошение до крайности затруднило топографию древнего города. Один из новейших путешественников Людвиг Ноак (Von Eden nach Golgatha) совершенно отказался видеть Иерусалим в нынешнем неопрятном городе этого имени и переносит город Давидов, со всею совокупностью географических и исторических преданий, на Ливан в Келесирию. Живописная местность и среди нее покинутые древние развалины, на пути из Бейрута в Дамаске, так пленили Ноака, что одного легкого созвучия имени развалин с именем Иерусалима для него было достаточно чтобы сдвинуть город Давида с его древнего места и составить большую теорию Иудейского царства на Ливане. Можно пожалеть об этом человеке, убившем десять лет труда над развитием этой воздушной теории в двух огромных томах своего сочинения. Но он имел свое утешение; он нашел Иерусалим именно такой, какого искало его воображение, город преданный божественному проклятию и оставленный человеком в наследие львам и гееннам, но величественный и грозный в самых своих развалинах, раскиданных на столько, чтобы, достаточно выражая идею падения и проклятия, с другой стороны не быть в опасности потонуть и исчезнуть под песком пустынным. Не будем пока мешать Ноаку наслаждаться прекрасными видами вновь открытого им ливанского Иерусалима, но, прежде чем искать нового Иерусалима, войдем в ближайшее рассмотрение Иерусалима существующего. Если от этого последнего осталось очень мало следов, то эти следы тем более дороги и тем непростительнее было Ноаку пройти мимо этих остатков в его поисках «за бесконечным полем развалин».
Классическое место древних источников, определяющее положение древнего Иерусалима, заключается в сочинении Иосифа Флавия о войне Иудейской V, 4, 2 и дал. При всей своей подробности, это место далеко не так ясно, чтобы по нем можно было восстановить полный образ древнего Иерусалима, не прибегая к отдельным, случайным указаниям и намекам других книг и собственным соображениям. Описание трех холмов (§ 1), на которых стоял город и, следовательно, частей города, страдает главным образом тем недостатком, что в нем не определены страны света, в которых нужно искать одну часть в отношении к другой. Описание трех существовавших стен города (§ 2) еще более не удовлетворяет, потому что в нем не указывается отношение двух последних стен к первой древнейшей стене, а в описании первых двух стен не указана часть города, к которой они принадлежали. Только посредственно, из случайно названных соседних местностей при описании стены, особенно же из истории хода осады и постепенного опустошения города Титом, можно определить, что первая и древнейшая стена окружала верхний город. Из того, что две другие стены начинались на северной части первой, можно заключить, что верхний город лежал на юге в отношении к другим частям города, хотя и это первоначально не было принимаемо (Лигтфоот и др.), и только с Реланда (Pal. 846) стало бесспорным. Многие не узнавали здесь горы Сиона собственно потому, что Флавий, по какой-то необъяснимой причине, имени Сиона не называет (Клярке еще в недавнее время помещал верхний город на горе Злого Совещания, где гинномский некрополь). И в библии единственное место, в котором Сион назван в строго географическом смысле, есть 2Сам. 5, 7–9. (2Цар.5:7–9) Вполне бесспорным считалось всегда только то, что третий холм, упоминаемый в §1 процитированного места Флавия, есть гора храма или Мория, хотя и она не названа по имени. Что этот холм лежал на восточной стороне города, при потоке кедронском, видно из описания первой и третьей стены Иерусалима (§2), из описания святилища (§5) и истории осады. Таким образом основными пунктами, в которых можно не сомневаться, нужно считать в топографии Иерусалима Морию и Сион. К этим бесспорным пунктам можно, кажется, прибавить и Везефу, в том смысле, но крайней мере, что эта часть города лежала на севере Иерусалима (§§ 2, 8) хотя некоторые из критиков (Вильямс и Шульц) и этот холм вносят в число спорных. Остальные пункты в топографии Иерусалима так не ясны в описаниях, что только путем продолжительных изысканий и наблюдений над местностью и остатками древнего города можно прийти к каким-либо результатам.
Первою и важнейшею как по-своему значению, так и остаткам древности, частью Иерусалима служит гора храма, с которой мы и начинаем обозрение.
* * *
Площадь иерусалимского храма в настоящее время называется у арабов Харам-Эш-Шериф т. е. священная ограда. Это название очень древнее и перенесено на иерусалимское святилище с гроба Магомета в Медине и мечети с камнем каабы в Мекке, известных у арабов под тем же названием. Около 15 века иерус. святилище называлось также акса отдаленный т. е. по местности отдаленное от других святилищ ислама. Нужно отдать справедливость особенному, хотя и своеобразному, уважению, оказываемому месту храма Иеговы нынешними его обитателями. По магометанским сказанием площадь этого святилища – одно из самых священных мест на земле; она связана с небом воротами, которыми Бог ежедневно посылает в Иерусалим 70,000 ангелов петь аллилуйя. Когда верующий молится в ограде святилища, его молитва также близка к Богу, как если бы он молился на небе. Пилигрим, посетивший Иерусалим, получит один награду, равную награде 1000 мучеников. Стечение магометанских пилигримов в Иерусалим почти не уступает количеству пилигримов христианских; здесь можно видеть пилигримов магометанских из Сибири, Индии, Марокко; редкий пилигрим, идущий в Мекку, не будет в хараме иерусалимском. С другой стороны, как в Мекку не смеет ступить нога гяура, так до последнего времени христианин не мог вступить в ограду иерус. харама, не рискуя жизнью или по крайней мере большими опасностями. Кажется, что при этом запрещении, кроме общего у магометан презрение к иноземцам, имело значение предание о храме Ирода, запрещавшем вход иноверцам во внутренний двор под страхом смерти. Эту угрозу шейхи харама повторяли до последнего времени. Доступ к хараму получили христиане в первый раз при посещении Иерусалима его Высочеством Великим Князем Константином Николаевичем, когда за его свитою все гяуры Иерусалима проникли в святилище. С того времени посещение харама не представляет трудностей и обходится только более или менее значительным бакшишем, смотря по продолжительности посещения.
Для того, чтобы бросить первый общий взгляд на площадь харама, рекомендуют несколько пунктов наблюдения. Бурфорт, Галбрейтер, Сольси изучали вид харама с крыши серая на северо-западном углу площади, некогда резиденции паши, в настоящее время обращенной в казармы. Когда не было доступа христианам в ограду харама, это был единственный пункт, с которого снимали планы и делали наблюдение над свящ. площадью все ученые и путешественники. Другие (фотографы) находят панораму харама лучшею с Елеонской горы, откуда Иерусалим с несчетными белыми куполами домов, жмущихся в одну сплошную массу, кажется одним необъятным храмом, а площадь Мория – святым святых этого храма. Но для ближайшего наблюдения крыша серая не удобна тем, что она скрывает южную часть харама, а Елеонская гора не довольно близка для подробного обозрения. По-моему наблюдению, самый полный вид на площадь обнимается с минарета при северной ограде святилища, хотя я не нашел подтверждение замечанию аббата Штанля, что с этого пункта не только свящ. площадь и Иерусалим, но и всю Иудею до Яффы и моря можно видеть, как на ладони.
Вид площади харама, независимо от вызываемых им великих воспоминаний, очень эффектен. Силуэты ее мечетей, особенно мечети Омаровой, по выражению Диксона, пренебрегающей всяким сравнением, и других арабских памятников, рассеянных по широкому полю площади, перемешанных с кипарисами и маслинами, обрамленных бледною рамою стены и накрытых глубоким небом Палестины, при ослепительном освещении восточного солнца, можно видеть у всех пейзажистов фотографов Европы. Но мне не случалось видеть фотографии, напоминающей настоящее впечатление харама; особенно ощутительно в фотографиях харама, виденных мною в Иерусалиме, Бейруте и Константинополе, отсутствие этого металлического света, обливающего и мечети, и стены, и деревья, и траву харама и доселе еще как во время Иосифа Флавия, сообщающего площади Мории вид сверкающей снежной горы. В своем общем виде, поскольку он зависит от грунта и солнца, нынешний харам напоминает харам древнего святилища. Но в своем внутреннем содержании его вид выдохся и исчах. В древнее время эта площадь дышала жизнью и кипела народом. Кого и чего здесь не было? Левиты сновали здесь взад и вперед по своим обязанностям. Фарисеи, усевшись в кружок, трактовали о догматах и разбирали новые отступления саддукеев. Священники и ученые, в ожидании открытия заседаний синедриона, читали уроки закона в отделениях второго двора. Селянин с снопами нового жнива здесь встречался с богатым горожанином, влекущим за собою дородного вассанского вола и овцу. Прокаженный и нечистый на лестницах двора сталкивались с ревнивым мужем, влекущим легкомысленную супругу для торжественного обличения. Под широкими портиками внешнего двора толпа с шумом окружала вновь явившегося пророка, предрекавшего грядущие времена. Продавцы голубей и разных печений зазывали всех и каждого в свои лавочки. Меновщики предлагали национальные сикли взамен императорских динариев и греческих драхм. Этот шум торговли, споров, молитвы смешивался с звуком труб, с мычанием закалаемых животных и фырканьем живых, с треском пламени на жертвеннике. В этой картине площади, говорят раввины, внимательный наблюдатель мог заметить десять таинственных особенностей, или десять чудес чистоты и святости харама: никогда не было на площади святилища не только скорпионов или ящериц, которыми кишит площадь в настоящее время, но даже мелких насекомых в снопах приношений и мух в кухнях святилища; никогда ветер не колебал ровным столбом поднимавшегося к небу жертвенного дыма и дождь не падал на курящийся алтарь; как густо ни наполнял народ дворы храма, никто не говорил никогда: «тесно мне, негде повергнуться для молитвы»; никогда дурного запаха не было от животных; никто никогда на площади святилища не имел грубого и нечистого помысла, не соответствовавшего святости места славы Иеговы. В настоящее время, за исключением нескольких часов дня, площадь совершенно пуста. Изредка пройдет по повредившейся лестнице местный эфенди, водонос пробежит с своим кожаным ведром, одним видом своим способным отнять всякую жажду у европейца, тощая, одетая мумией, женская фигура простучит по мостовой своими деревянными подошвами, работник выйдет на свежий воздух из ремонтирующейся Омаровой мечети и опять все мертво и пустынно.
Харам-Эш-Шериф, или вся площадь иерусалимского храма, представляет параллелограмм в 35 английских акров или в 17½ десятин земли. Северная сторона параллелограмма имеет 1042 англ. фута длины, восточная 1530 ф., южная 922, западная 1601. Несмотря на то, что эта площадь была выравниваема в разные времена, ныне она не представляет гладкой поверхности; там, где были засыпаны овраги и долины, земля успела осесть в течение тысячелетий и образовала новые углубления. Идя от северо-восточного угла вдоль стены, окружающей площадь, получаем следующие высоты грунта над уровнем Средиземного моря: по северной стороне (идя от востока к западу) у ворот Баб-Гитта 2418 футов, у ворот Баб-ель-Хаваниме 2429 ф., у ворот Баб-ес-серай 2436; по западной стороне, направляясь от севера к югу, у ворот Баб-ен-назир 2423 ф. у Баб-ель-Гадид 2421, у Баб-ес-синсле 2421, у Баб-ель-макгарибе 2416, на юго-западном углу 2420; по южной стороне кругом мечети Эль-Акса грунт колеблется между 2417 и 2419; по восточной стороне, идя с юга на север, на юго-восточном углу дает 2416, у колонны суда 2412, у ворот Баб-ет-таубе (золотых) 2417, у трона Соломонова 2419. Внутри площади на платформе мечети Омаровой с северной стороны 2437–2439, с южной 2434. Пол мечети Омара 2440; священная скала среди мечети 2442. Таким образом получаются следующие отношения. Самый высокий пункт, командующий площадью, есть свящ. скала в мечети Омара, лежащая почти в центре параллелограмма; от нее во все стороны идет склон, но притом больший к югу (25 ф.) и востоку (23–25), чем к северу (8–24) и западу (около 20). Если площадь харама есть площадь Иерусалимского храма, то платформа Омаровой мечети есть именно место храма Соломонова, занимавшего самый выдающийся и близкий к средине пункт площади. Упомянутое оседание грунта кругом мечети Омара подтверждает свидетельство Флавия, что на Мории первоначально едва доставало места для храма, а для дворов, опоясывавших храм, нужно было выравнивать грунт насыпною землею. Раскопки в разных пунктах площади показали насыпной грунт на весьма значительной глубине. Высоту насыпной коры площади можно приблизительно определить из сравнения высоты грунта площади вдоль внутренней части стены с высотою соответственных пунктов за стеною вне черты площади. По южной стороне харама внешний грунт у подножия стены ниже соответствующей ему части грунта внутри харама на 35 и 40 футов. По восточной стороне, идя к северу, разность уровня дает 50, 25, 20, 10 футов. По северной стороне, идя от востока к западу, разность уровня – 20, 10, 5, 0, 5–, 10–, 20–; т. е. восточная половина северной стены имеет насыпь постепенно понижающуюся к средине, где уровень внутреннего и внешнего грунта одинаков; западная же сторона северной стены особенно на северо-западном углу, наоборот, имеет внешний грунт выше внутреннего, так что, при уравнении площади, не только не нужно было здесь делать насыпь, но наоборот требовалось срыть вдававшееся в площадь возвышение, и, следовательно, разность внутреннего и внешнего грунта показывает здесь высоту снятой с площади коры при её выравнивании. Действительно в северо-западной части храма до сих пор помостом служит натуральная иссеченная скала, поднимающаяся непосредственно за стеною и даже в стене храма4. По западной стороне, обращенной в городу, наружный грунт опять ниже внутреннего, средним числом на 15 футов, а на юго-западном углу на 25 футов. Таким образом подъем на гору храма на южной и восточной стороне, отчасти также на западной, очень чувствителен. На юго-восточном углу на месте самого большого 50 футового понижение внешнего грунта пред внутренним, строители святилища считали недостаточною простую земляную насыпь и сделали большие каменные подстройки, известные теперь под именем юго-восточного подземелья харама. Диагональный к этому углу наибольшего возвышения площади над внешним грунтом, северо-западный, угол, дающий противоположные отношение понижение площади пред внешним грунтом, всегда держало в руках иерусалимское правительство, наблюдало отсюда над народными движениями в храме и имело здесь крепость, как и до последнего времени здесь была резиденция паши, а теперь казармы. От этой разности грунта харама стена, окружающая площадь, как прежде, так и в настоящее время имеет не одинаковую высоту, большую снаружи, чем внутри, большую там, где стена стоит над значительным спуском, чем там, где спуск легок, или даже переходит в подъем.
Представляя в большей своей части насыпной грунт, площадь харама есть, вместе с тем, самая плодородная часть земли в Иерусалиме. Здесь трава достигает высоты травы наших русских лугов, так что, не умея сделать из нее употребление, шейхи харама принуждены несколько раз в году выжигать ее. Деревья имеют здесь огромные размеры и некоторым из них дают более 800 лет. Впрочем, в настоящее время богата растительностью только южная часть харама, и притом только маслинами и кипарисами; и шишки последних употребляют мусульманские колдуньи для своих волхований. Но нынешняя растительность харама ничтожна в сравнении с тою, какую видели здесь некогда. Фабри (1, 397) говорит, что здесь росли ливанские кедры и так называемые райские кедры с плодом в человеческую голову. Шуберт (3, 59) находил здесь гранатовое дерево и египетский лотос. В 15 веке между среднею платформою и западною галерею было много сикоморов, апельсинных и др. деревьев, а на северной стороне за платформою был большой цветник с колоннами. Магометанское предание отличало некоторые деревья по особенным сказанием: два дерева посаженных Соломоном, пальму пророческую около мечети ель-Акса, пальму св. девы Марии и проч. Большая часть древней растительности харама частью вырублена арабами, частью погибла от недостатка ухода.
Остатки храма Иеговы на площади харама, главным образом, сосредоточиваются в ее внешней стене, которая, представляя вообще арабское сооружение, в нижних своих частях имеет видные снаружи отдельные камни и целые ряды камней, уцелевшие от древнееврейского периода. Открываем обозрение этих остатков с так называемой стены плача евреев, или западной стены cothel mearab, одного из первых пунктов, которыми начинают обыкновенно путешественники обозрение Иерусалима. Если идти от Яффских ворот по улице Давида к хараму, то, не доходя последнего за крытым базаром поворачивают к стене плача направо чрез небольшой грязный переулок; отсюда две других таких же грязных кривых и узких улицы (пройти которые невозможно без провожатого) приведут к подножию стены плача. Ожидая найти развалины, понимаемые в нынешнем смысле ничтожных, мелких обломков, путешественник с удивлением видит пред собою, правда, не цельный памятник, а остаток, но остаток такого рода, пред которым все сооружение нынешнего Иерусалима – детские домики, сделанные для забавы. Этот остаток, смотрящий лицом к городу, видел, как весь новый Иерусалим созидался и разрушался, снова созидался и снова разрушался, и все продолжает стоять безмолвным и бессменным зрителем. Стена плача, по просьбам евреев отделенная им для молитвенных собраний, лежит между воротами Магарби и Сипсле, около 400 футов на север от юго-западного угла харама, имеет 158 футов длины и возвышается девятью, 31½ фута общей высоты, рядами камней, из которых наибольшие камни имеют длины около 16 футов, а наименьшие около 6½ при средней высоте 3½ футов. В нижних рядах камни довольно правильно дают длину равную двойной высоте, хотя между ними есть, полные квадраты. Чем выше ряд, тем более в нем уменьшается материал и преобладают квадраты, за исключением предпоследнего ряда, в котором длина каждого камня равна тройной высоте. Самый верхний ряд уходит в глубину стены, по измерению Сольси, на 45 сантиметров сравнительно с самым нижним рядом. Если эту цифру разложить на все девять рядов, то для выступа каждого ряда будем иметь ширину 5 сантиметров. Все камни выбраны из прекрасного белого маляки царских каменоломней и на лицевой стороне обделаны выпусками, имеющими, все без исключения, три дюйма ширины и ⅜ дюйма глубины, при безукоризненно чистой обделке среднего поля. Замечательно при этом, что линии выпусков имеют более свежий цвет камня, чем среднее поле, что заставляет предполагать, что выпуски открывались еще какого-то особенною накладкой, в настоящее время опавшею. Может быть по линиям выпусков клались те железные соединение, скреплявшие ряды камней, о которых говорит Флавий. В нижних рядах камней можно примечать значительное количество ниш, иссеченных в камнях; наибольшие из плит, имеют 5 и 6 футов высоты. Одни из ниш, более древние и вероятно современные стене, имеют правильные формы, т. е. угловидное и глубокое основание и кругловидную, постепенно уменьшающуюся в глубине высоту: они вероятно назначались для статуэток; другие совершенно квадратны, очень глубоки и похожи на позднейшие вырубки для перекладин или брусьев. Первые ниши, числом 9, расположены в одинаковом одна от другой расстоянии в третьем ряду камней; последние представляют видимый беспорядок и расположены в южной стороне стены плача, отделенной для соседнего двора. Вообще стена плача сохранилась лучше всех других остатков древнего Иерусалима, пострадали собственно только второй, третий и четвертый ряды камней, и то не от дождей и непогод, а от разрушительной руки позднейших владетелей Иерусалима.
Стена плача производит на зрителя двоякое впечатление. Первое впечатление – это, конечно, впечатление величия и силы, которые выразились в сооружении этой стены, воздвигнутой, как говорит Флавий, для вечного и непоколебимого существования (ἀκινήτους τῷ παντὶ χρόνῳ). Тут целые скалы громоздились на скалы и вечною загадкой для нового времени будет то, каким образом они поднимались на высоту стен простыми средствами, без пособия орудий новейшего времени. Не удивительно, что, при взгляде на эти громады, нынешние арабы приходили к разным легендарным сказанием об их сооружении, помещая их строителя между 72 князьями темных сил, строителей пирамид и других циклопических сооружений в Баальбеке и Пальмире. Величие этой стены тем более поразительно, что одновременно с нею глаз обнимает надвинувшиеся к ней новейшие постройки, едва заслуживающие название стен и домов. За этим первым впечатлением, вызывающем в вас мысль о древнем исполине – народе, бросавшем скалами, второе впечатление один мой спутник выразил замечанием: «не только человек, но и немой памятник под старость обращается в ребенка». В самом деле, эта стена, пережившая тысячелетие и выдержавшая напоры легионов, в настоящее время на своей вершине, в больших кустах дикой травы и в своих нишах, разводит голубей, а у своего подножие собирает для плача нынешних сынов Израиля. Плачь евреев!... Это выражение вошло в притчу... Я не буду спорить с своим спутником, что в этом непрерывном плаче есть нечто детское, но я положительно отвергаю свидетельство одного русского путешественника, обозвавшего этот плач одним пустым и ничего незначащим обрядом. Кто видел молящихся и плачущих здесь евреев, не имея наперед особенного предубеждения, тот согласится, что в них говорит не простой обычай, а свежее и как будто вчерашнее горе. Посмотрите, вот совершенно седой молящийся старик приклонился к стене и, устремив плачущий взор в голубое небе, шепчет дрожащими устами: «долго ли Иегова?» Другой, еще не старый, схватил себя за голову и как безумный топает ногами и тоже плачет. Третий, встретивши вероятно в молитве место, где высказывается надежда на возвращение храма, подскакивает, хлопает в ладоши и повергается на холодный камень, покрывая его поцелуями. Вот и женщина; она не обязана правилом являться сюда для молитвы; ее привело свободное чувство; не смея поднять громкого вопля вместе с мужчинами, она обняла камень и тихо плачет над ним, как над умершим первенцем, стоя целые часы коленями на холодном помосте. Ужели все это пустой обряд и дело обычая? В пятницу, кроме обыкновенных молитв здесь читается особенная литания. Предстоятель говорит:
Ради чертогов, которые разрушены
Ради храма, который разорен
Ради стен, которые разбиты
Ради величие нашего погибшего
Ради великих мужей наших павших здесь
Ради драгоценных предметов наших сожженных здесь
Ради священников наших, согрешивших здесь
Ради царей наших, пренебрегших это святилище
И на каждый стих получает ответ народа: «мы сидим здесь и плачем». Затем предстоятель поднимает голос выше и читает:
Молим Тебя умилосердись над Сионом.
Народ. Собери чад Израиля.
Предстоятель. Поспеши, поспеши Искупитель Сиона.
Народ. Скажи отрадное Иерусалиму.
Предст. Пусть слава и величие увенчают Сион.
Народ. О, будь милостив к Иерусалиму.
Предст. Пусть снова явится царство на Сионе.
Народ. Утешь плачущих об Иерусалиме.
Предст. Пусть мир и счастье войдут на Сион.
Народ. И жезл Иессея зацветет на Сионе.
Что касается происхождение стены плача (т. е. девяти рядов, о которых мы говорили, независимо от нескольких арабских рядов, накинутых сверху), то сомневаться в её глубокой древности, значит вообще сомневаться в древности. Все признаки, которые мы исчисляли, ставят стену в период древнееврейский, а тонкость в подробностях отделки относит ее к периоду наибольшего совершенства еврейской архитектуры. Таким образом это стена второго Иерусалимского храма, построенная Иродом. Если Флавий говорит, что Тит сохранил от разорения, между прочим, часть западной стены города, то здесь нужно разуметь обращенную к городу западную сторону харама, потому что городской стены на западной стороне не сохранилось. Так кажется нужно понимать и нынешнее название стены плача cothel mearabi стеною западною, т. е. в отношении к свидетельству Флавия. Уже во время Иеронима в Иерусалиме было место плача (flectus) евреев, и уже в это время евреи дорогою ценою покупали право приходить молиться на этом месте (Соmm. in Sophon. 1, 15). Во время франкских королей часто упоминается место плача евреев при западной стене. Известный испанский каббалист XIV века, рабби Исаак ставит стену плача евреев между чудесами света. Впрочем, формальное право собраний и молитв у стены плача евреи приобрели недавно особенными, купленными за деньги, султанскими фирманами, действительность которых поддерживается постоянно новыми приношениями. Узкое пространство, отделенное для собраний евреев, представляющее то, что арабы называют хауш, т. е. улица, не имеющая выхода, вымощено большими камнями и содержится довольно чисто.
Мы сказали уже, что на южной стороне места плача евреев отделена часть улицы для двора к помещению одного из прислужников мечети, фанатического негра. Это помещение, представляющее совершенно темную комнату, в которой восточная сторона есть вместе стена харама, скрывает в себе один из замечательнейших остатков древнего святилища, именно заложенные арабами древние ворота, известные под именем ворот Магомета, а в английских гидах под именем ворот Барклея, известного медика и археолога, открывшего эти ворота. Сложенные из обыкновенных древнееврейских камней с выпусками и чуждые всяких архитектурных украшений, ворота Барклея имеют 21 фут ширины; что же касается до их высоты, то ее нельзя определить в настоящее время, так как их нижняя часть глубоко вросла в землю. Особенного внимание заслуживает устройство верхней притолоки ворот, представляющей горизонтальные линии и состоящей из двух отдельных частей наружной и внутренней; первая наружная или фронтовая сторона притолоки состоит из одной цельной громадной перекладины более десяти футов высоты и широты и более двадцати длины, с выпуском;

Рисунок 7. Наружный вид ворот Барклея
вторая часть притолоки тех же ворот, обращенная внутрь, сложена из пяти горизонтально лежащих камней, примыкающих непосредственно к большой наружной притолоке, но не совпадающих с нею, что заставляет предполагать неодновременное происхождение этих двух сторон, ворот фронтовой и внутренней. Две большие ниши по сторонам показывают, что дверь запиралась огромным деревянным засовом. Внутренняя сторона ворот Барклея в настоящее время видна в подземной мечети ель-Борак, имеющей ход внутри ограды харама и лежащей на глубине 23 футов под уровнем нынешней площади харама. Независимо от ворот, мечеть ель-Борак заслуживает подробного рассмотрения.

Рисунок 8. План мечети Ель-Борак
В мечети совершенно пусто; несколько рогож лежит на полу, а в южной стене висит вбитое железное кольцо, к которому, по магометанскому сказанию, Магомет привязывал своего воздушного верблюда, отсюда название мечети именем ель-Борак (имя верблюда, этимологически: молниеносный) и ворот Барклея Магометовыми. Но здесь есть нечто гораздо более интересное, чем кольцо Магомета. Это именно самый вид мечети, очевидно составной и наслоившейся в различные времена. Идя по длине прямо на восток от ворот Барклея и по широте равняясь широте последних, мечеть делится на две неравные части. Западная меньшая и, очевидно, более древняя часть мечети покрыта сегментарною аркой из больших камней отличной работы.

Рисунок 9. Разрез ворот Барклея и сегментарной арки
Восточная большая часть имеет эллиптическую арку из малых камней и очевидно приделана впоследствии. Даже уровень пола в той и другой части мечети неодинаков. Стены мечети покрыты цементом, плохо наложенным на стену; ударяя кулаком о стену, получаем звук пустого пространства между стеною и цементом. Распределяя по времени составные части, образующие нынешний вид мечети, встречаем четыре различных периода. К первому древнему периоду, может быть к периоду первого храма, принадлежит нынешняя наружная сторона ворот с одною гигантскою притолокою, вместо всяких орнаментов. К второму периоду, также очень древнему, принадлежит плоская арка из пяти камней в стороне ворот обращенной внутрь площади; можно полагать, что и эта арка древнее Иродова периода, и принадлежит к пристройкам первого храма после Соломона. Третий период представляет сегментарная арка мечети ель-Борак, приближающаяся к римской и принадлежащая вероятно второму храму. Наконец эллиптическая арка принадлежит новейшим временам. Эта загадочная смесь разновременных сооружений в этом пункте харама разъяснена раскопками английского инженера Вильсона в апреле 1866 года, доказавшими, что мечеть ель-Борак есть ничто иное, как остаток древнего крытого хода от наружных ворот Барклея внутрь площади харама. Цельный остаток древнего хода представляет западная сторона мечети с сегментарною аркой. Арка эллиптическая показывает, что проход в этом месте был поврежден и возобновлялся впоследствии. Дальнейшее следование этого хода было найдено на восток от мечети в примыкающем к ней пространстве, наполненном мусором. Именно, под мусором найден вестибюль с сегментарною аркой и куполом, очень хорошо сложенным, но без цемента. В средине купола есть отверстие, первоначально назначавшееся для света, но теперь служащее устьем цистерны, образовавшейся из вестибюля. Что эта цистерна имеет отношение к мечети ель-Борак и именно представляет отделенное впоследствии продолжение того же крытого хода, который начинался от ворот Барклея, видно из того, что начало арки западной части мечети и арки цистерны приходятся на одной горизонтальной линии, при чем диаметр, высота арок и их форма совершенно тождественны. Равным образом и пол западной части мечети на одной линии с дном цистерны, за исключением небольшой разности в нескольких пунктах цистерны, произошедшей, конечно, от случайных наслоений на дне цистерны. При ближайшем обследовании цистерны оказалось, что в северной стороне её есть особенная камера, а в южной особенная ветвь прохода, ступенями поднимающаяся вверх, впрочем, не имеющая связи с первоначальным ходом, идущим с запада на восток. Несколько далее от этой цистерны на юг, Вильсон открыл ход в другую цистерну 45 футов ширины на 64 длины. Западная стена этой последней цистерны опять оказалась продолжением западной стороны древнего хода и совершенно одинаковой конструкции с первой цистерной, хотя стены её грубо покрыты цементом, так что нельзя рассмотреть кладки камней во всех пунктах. Что же касается арки этой второй цистерны, то древнейший вид её, совершенно соответствующий сегментарной арке первой цистерны, уцелел только с одной западной стороны, а на восточной стороне заменен новейшею аркой, как в мечети ель-Борак. Таким образом не остается сомнение, что мы имеем дело здесь с большим и очень древним крытым ходом, направлявшимся от ворот Барклея на восток, потом уклонявшимся на юг к месту нынешней мечети ель-Акса. Это тот проход, которым взошел на гору храма Омар с патриархом Софронием, хотя уже в то время, т. е. в 636 году по Р. Хр. этот ход был сильно поврежден5. Выход из прохода на площадь харама имел лестницу, так как грунт площади, теперь возвышающийся над приходом на 23 фута, и в прежнее время не мог быть на одном уровне с площадью. Предположение Сеппа, что нынешняя лестница, ведущая с западной галереи харама в подземную мечеть ель-Борак, имеет за собою древность равную аркам мечети, совершенно невозможно. Строители этой лестницы, бесспорно арабы, не сумели даже правильно приладить ее к подземелью и верхним концом её повредили сегмент арки.
Известно, что на западной стороне ограды ветхо-заветного святилища было 4 ворот, из которых важнейшими считались ворота, выходившие на мост (о котором сейчас будем говорить) и ворота, которыми по ступеням сходили в нижний город (у раввинов Caponius). Эти последние ворота, названные в кн. 1Хр. 26, 16 (1Пар.26:16) воротами Шаллехет, мы имеем в описанных сейчас воротах Барклея. Подземный проход был коридором второго храма от ворот к лестнице, которую почему-то находили неудобным устроить непосредственно у самых ворот, где теперь лестницы в подземную мечеть. Может быть этот ход был построен Иродом на месте древнейшего хода первого храма, так как ворота связанные с ним принадлежат первому храму. Замечательно, что обыкновенное название этих ворот Магометовыми оказалось неизвестным шейху мечети. На мой вопрос: кто строил эти ворота, шейх подумавши отвечал: «Давид»»
Третий древний остаток в западной стене харама, после стены плача и ворот Барклея, представляет мост Робинсона, называющийся так по имени известного американского профессора, открывшего этот замечательный остаток. Не доходя 42 футов до юго-западного угла харама, встречаем выступающие из стены три ряда величественных сводных камней миззи, принадлежавших разрушенной арке моста, проходившего чрез долину Тиропеон и имевшего 50 футов ширины. Одного сводного камня недостает верхнему ряду и оставленное им место заделано позднейшею стеною.
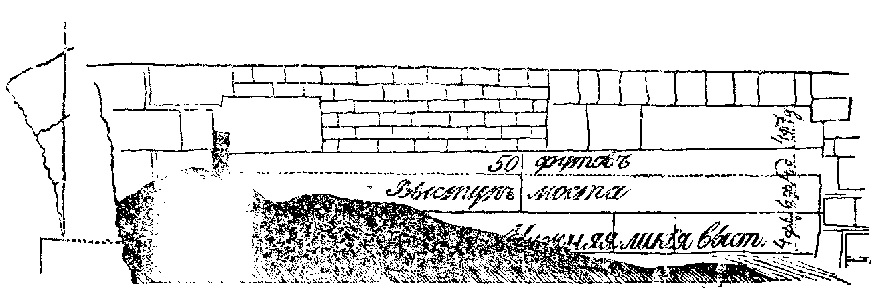
Рисунок 10. Разрезные и продольные линии моста Робинсона
Арка свода начинается над первым или самым нижним рядом древнееврейской стены, полузасыпанным мусором и, имея, по точнейшим измерениям Сольси, в самом начале 45 сантиметров выступа, в верхнем конце имеет профиль 12 метра, при вертикальной высоте всего остатка арки в 4 метра. Радиус круга, к которому принадлежал этот остаток, был 8 метров 35 сантим. и самый центр приходился на 85 сантим. ниже линии начального выступа арки. Образующая арка не была однако ж полным полукругом; но прямая опущенная с вершины дуги на хорду, была 7 метров 50 сантим. Но и в таком случае выгиб моста был довольно затруднителен и в месте соединение арки с стеною харама должна была быть земляная настилка, по крайней мере двух метров толщины, чтобы сделать переход моста удобным. Несмотря на то, что мост, образованный описанной аркой имел 16 метров 70 сантиметров длины, его было еще недостаточно для соединение храма и сионской площади, разделяемых оврагом вдвое большей величины. Таким образом, мост должен был состоять из соединения двух арок, наружные концы которых опирались с одной стороны на стену харама, с другой на возвышение площади, а концы внутренние в месте их соприкосновения покоились на особенном столбе или стене. К сожалению в настоящее время эта местность так глубоко наполнена мусором и нечистотами, выбрасываемыми сюда из города, что никаких следов моста, кроме упомянутого выступа в стене харама, не видно. В 1860 году англ. инженер Вильсон нашел основание среднего столба, поддерживавшего арки моста на глубине 12 метров и в расстоянии около 16 метров от стены харама. По описанию его, камни столба лежали под прямым углом к стене харама., имели выпуски и среднюю величину 14 футов длины на 10 ширины. Мусора, оказалось здесь при раскопках так много, что работы не могли быть доведены до конца, вследствие рыхлости грунта, грозившего засыпать рабочих в глубине раскопанного устья.
Робинсон, открывший остатки моста в стене харама, первый отождествил его с мостом, часто упоминаемым у Флавия, соединявшим гору храма с Ксистусом, т. е. площадью народных собраний, на северной стороне которой был дворец Маккавеев. Нет никакого основание сомневаться, что под Ксистусом Флавия нужно разуметь ныне пустынную и поросшую кактусом площадь, представляющую нижний, обращенный к хараму, контрфорс горы Сиона. Таким образом, нельзя сомневаться и в том, что древний мост мог быть только на этом пункте, т. е. на юго-западном углу харама, потому что Ксистус не мог идти выше на север вдоль стены харама. В Древн. XIV, VI, 2 говорится, что, по разрушении моста, во время осады Помпея, эта часть храма, «вследствие глубины окружавшего ее оврага, была неприступна». Действительно и в настоящее время долина Тиропеон, отделяющая храм от города, в этом пункте имеет наибольшую глубину и образует овраг 20 футов ниже площади харама. (Ср. Войн. Иуд. I, VII. 2. Войн. VI, VI. 2. VI, VIII. I) если Флавий называет мост γέφυρα, что у Гомера значит плотина; то у поздних прозаиков это слово означает только мост в собственном смысле. Кроме того, устройство глухой плотины в этом пункте стечения вод с Акры, Везефы и Сиона было бы нелепостью. Возражением некоторые представляют здесь то, что описываемый Флавием мост скорее должен был иметь место в середине стены харама, а не на её углу, как нечто незаметное и второстепенное. Это объясняется тем, что юго-западный угол харама был обращен к царскому дворцу и главной городской площади. Кроме того, и в этом пункте мост не переставал иметь первостепепенное значение в общей системе храмовых построек, стоя в непосредственной связи с базиликою Соломона, στοὰ βασιλική, на южной стене харама. По описанию Флавия, эта базилика или портик, состояла из трех крытых галерей, идущих с востока на запад и поддерживаемых коринфскими колоннами, ствол которых едва могли обнять три человека, что соответствует приблизительно 1 метр. 70 сантим. диаметра. Но здесь замечательно то главным образом, что широта среднего главного нерва этой тройной галереи, по переведении еврейского локтя на нынешние измерение, будет около 15 метров, или 50 англ. футов, т. е. будет равняться широте моста. Такое приспособление имело значение только в том случае, если между портиком и мостом была непосредственная связь, т. е. если разделявшая их стена имела такой же широты ворота и мост представлял собою продолжение галереи. А расстояние 12 метров, остающееся за мостом до угла харама объясняется тем, что такова (за исключением широты стены) была широта бокового южного нерва галереи, представлявшего глухой проход без выходов на концах. Замечательно при этом, что на восточной стороне параллелограмма площади харама, прямо противоположной мосту Робинсона, так же есть выступ в остатке древней стены, служивший некогда если не мостом, то по крайней мере балконом. Таким образом центральный нерв южной галереи харама имел оба конца открытыми, с одной стороны выходя на мост, ведущий па городскую площадь, с другой на балкон с видом на Иосафатову долину. Гипотеза Вильямса, что указанные Робинсоном остатки моста служили только сводами отдельного сооружение, прислонявшегося к стене харама, не состоятельна уже потому, что такая пристройка могла быть только с внутренней стороны стены, а не с внешней, и притом никак не над оврагом.
Хотя, таким образом, из свидетельства Флавия видно существование моста Робинсона в храме Ирода, но есть основание считать его более древним и относить к первому храму. Материал как моста, так и окружающих его камней, слишком крупен в сравнении с материалом стены плача. Здесь есть камни невероятной величины, особенно один угловой камень превосходящий все камни древнего Иерусалима и имеющий около 40 футов длины на 5 футов высоты. Составные камни моста имели 25 футов длины на 4 фут. 6 дюймов высоты. И по своему виду эти камни так облизаны дождями, что стена плача в сравнении с ними кажется новою. Что касается собственно арки, то от времени Ирода мы имеем несколько образцов ее в Иерусалиме, но ни один из них с мостом Робинсона не имеет ничего общего. – Влево от моста Робинсона, т. с. на север от него, древнееврейская кладка идёт еще 80 футов, прежде чем переходит в арабскую. Над местом, где встречается новая кладка с древней, есть арабской постройки лестница и площадка с одиноким кипарисом – восточным символом смерти и разрушения.
Рассмотренные нами доселе остатки Иерусалим. храма принадлежит западной стене харама и лежат внутри города6. Все другие остатки лежат в восточной и южной стене харама, служащей вместе и внешнею городскою стеною, так что для рассмотрение их нужно сделать прогулку за город чрез ворота св. Стефана или Гефсиманские. Непосредственно по выходе из ворот встречается четырехугольная платформа, служившая по преданию основанием несуществующей теперь церкви св. Стефана, хотя по другому преданию место мученичества и церковь Стефана были на противоположной северо-западной стороне Иерусалима. Вся местность за Гефсиманскими воротами на юг вдоль стены занята мусульманским кладбищем. Если вы делаете свою прогулку на кануне пятницы, вы встретите здесь закутанные белыми покрывалами женские фигуры, пришедшие, в сопровождении кого-либо из имамов, навестить отошедших отцов и братьев. Говорят, что назад тому лет двадцать христианину опасно было проходить здесь между могилами без сопровождения каваса; но в настоящее время ваш приход вызовет одно глухое проклятие и заставит только плотнее закутаться женские фигуры. В расстоянии 122 футов на юг от ворот Стефана новая, арабской конструкции, городская стена прерывается большим древним остатком стены, состоящим из одиннадцати рядов камней, сильно пострадавших. От самого верхнего одиннадцатого ряда уцелел только один камень; другие пять верхних рядов также скоро прерываются; только пять нижних рядов идут, не прерываясь на протяжении 86 футов и затем там, где стена во всю свою высоту делает небольшой угловой уступ, из пяти рядов остается только два нижних продолжающихся еще 185 футов в прямом направлении на юг. Свойство материала и кладка камней этого остатка стены представляют первый период еврейской архитектуры. По величине камни здесь достигают 27 и 28 футов длины на 5 и более футов высоты, причем нельзя заметить никакой нормы в отношениях длины и высоты. Трудно указать здесь два камня равных по длине, а разность высоты отдельных камней доходит до двух футов. Обделка камней, сравнительно с выполированными камнями стены плача, кажется сырою и грубою. Выпуск лицевой стороны в 4 и 5 раз глубже выпусков стены плача и имеет среднюю широту 5½ дюймов; равным образом и среднее поле камней далеко от тонкой отделки стены плача. Уступовидное возвышение рядов, не имея математической точности уступов стены плача, гораздо более заметно здесь, чем в последней и доходит до ¾ фута для каждого ряда. Кроме того, как обращенная не в город, а в пустыню и ничем не защищаемая, эта стена гораздо более потерпела от непогод и неприятельских орудий. Большая часть камней сильно обмыты дождем; некоторые имеют глубокие раны от ударов орудиями; третьи очевидно были сбиты с мест и впоследствии, при возобновлении стены, подняты и положены снова, но уже не так плотно, как остальные нетронутые камни. Некоторые исследователи полагают, что сравнительная нечистота отделки этой части восточной стены харама была допущена нарочно, так как самое положение стены вне города не требовало особенной гладкости в отделке, какая была необходима для западной стороны харама, обращенной в город и потому более сосредоточивавшей на себе внимание строителей. Это предположение устраняется тем, что южная сторона стены харама, обращена также не в город, но тем не менее имеет самую чистую отделку материала. Мы уверены совершенно, что не ошибаемся, объясняя эту разнохарактерность обделки камней разновременностью постройки. Два больших куста нашли почву для себя в промежутках, тронутых с первоначального места камней и по выражению одного путешественника – поэта: «печально свесились вниз, напоминая связку цветов на повалившемся надгробном памятнике».
Рассмотренный нами остаток восточной стены, по описанию Флавия, принадлежал к замечательнейшим сооружениям древнего мира. Вся высота стены в этом пункте была 400 локтей. Так как при этом стена шла над глубоким обрывом Кедронского потока, то посетители храма, смотря вниз с портика, бывшего на высоте стены, видели себя над пропастью, в которую нельзя было смотреть без головокружения. Стена была сложена из ослепительно белых (остаток действительно представляет камни потемневшего маляки) четырехугольных камней (ἐκ λίθων τετραγώνων) двадцати локтей длины на шесть высоты (Древн. XX. 9. 7). Эти цифры, указанные Флавием по одному глазомеру, превышают величину оставшихся до нашего времени камней этой стены; наибольшие из них имеют только 17 еврейских локтей длины. Нужно полагать, что высота всей стены 400 локтей преувеличена Флавием, хотя, вообще говоря, она была весьма значительна, как видно из того, что, по описанию евангельскому, с портика стены открывался широкий вид на Иорданскую область. Дьявол, приведши Спасителя в портик на этой стене и указывая с одной стороны пропасть, зиявшую у ног, с другой – бесконечную перспективу синих Иорданских гор, предлагал ему в доказательство своего божества броситься вниз и получить все царства мира за послушание. «Какие массы! какие сооружения»! говорили Иисусу Христу апостолы, любуясь с Елеонской горы высокой стеной восточного портика (Мк.13). – Происхождение этой части стены Флавий прямо приписывает Соломону. Говоря в вышеприведенной цитате о починке восточных ворот и портиков второго храма при Агриппе II, около 64 года христ. эры, Флавий противопоставляет этим, повредившимся так скоро после постройки портикам, величие нижней стены, служившей их основанием и называет эту стену делом Соломона. Тоже подтверждается и свид. Ин.10:22 и Деян.3:2.
Если некоторые видят здесь только название стены именем Соломона, а не происхождение от Соломона, то это противоречит ходу рассказа Флавия, имеющему в виду именно сооружение стены, а не её название. Кроме того, самое название стены именем Соломона должно было иметь особенное основание в её истории. Одного воспоминание о том, что на этом месте некогда возвышались другие стены, принадлежавшие Соломону, было недостаточно для названия стены Соломоновой, потому что на площади харама каждый пункт имел право на такое воспоминание. И так 400 локтевая восточная стена святилища, уцелевший остаток которой мы описали, принадлежит первому иерусал. храму. Заметная в некоторых местах починка этой первичной стены была трудом Иеремии по возвращении из плена. Починенная таким образом стена имела такой прочный вид, что Ирод великий не имел нужды возводить здесь новую стену, как он сделал на западной стороне и ограничился, вероятно, новой починкой.
Идя далее на юг от описанного остатка восточной стены, встречаем другой, такой же конструкции и конечно такого же происхождения, состоящий сперва из четырех, потом, не доходя Золотых ворот, из двух рядов, из которых нижний глубоко врос в землю. Второй ряд делает такой уступ над первым, что на нем можно усесться. Между камнями здесь особенно бросается в глаза один белый маляки, по высоте не имеющий себе равного в этом остатке и служивший, вероятно, дверной притолокой; он подобен притолоке ворот Барклея. Надгробные арабские памятники, надвинувшиеся к стене харама, заслоняют этот остаток.
Так называемые золотые ворота состоят из двух арок (13 футов широты каждая), лежащих на столбах из белого маляки без выпусков и уступов. В настоящее время входные арки наглухо заложены и к столбам арок прибавлена еще новая каменная обшивка, так что вместо ворот образовался здесь простой выступ в стене. Собственно, Золотыми воротами называется теперь внутренняя часть ворот, или иначе галерея, состоящая из двух проходных половин, разделенных монолитными колоннами и служивших пролетом триумфальных Золотых ворот. В настоящее время сюда можно войти только изнутри харама. Как в рассмотренных нами воротах Барклея, и здесь заметны разновременные наслоения. Косяки боковые наружных входов, состоящие из огромных, прекрасно обделанных, камней (видеть которые можно изнутри), представляют древнейшую составную часть золотых ворот, принадлежащую древнееврейскому храму. К этим косякам по древности можно прибавить монолитные колонны, разделяющие двойной проход галереи. Но эти колонны предназначались не для тех базисов, на которых они стоят и не для тех капителей, которые их венчают теперь. Впрочем капители колонн имеют два различных вида: византийские капители двух средних монолитов напоминают Ионическую капитель, очень низки и имеют большие завитки; на одной из этих капителей Вогюэ нашел изображение креста; капители крайних монолитов более древни и представляют образец римской коринфской капители. Стены галерей украшены пилястрами, над которыми идут два независимых один от другого карниза. Нижний карниз представляет более совершенную работу римского периода и состоит из двух рядов листьев аканта; верхний представляет накладную позднейшую работу византийского периода с выродившеюся формою римских украшений, сухим исполнением цветов и прибавочными украшениями в виде квадратиков, четырехугольников и пр. Таких же два карниза, совершенно независимых один от другого, принадлежащих двум различным архитектурным системам и периодам, представляет и наружный фронт ворот. Самые стены галереи восстановлены, очевидно, из какого-то более древнего и бывшего уже в другом употреблении материала, притом южная половина галереи сложена лучше, чем северная. Свод, покрывающий галереи, с шестью куполами, из которых два имеют форму барабанов, сделан также из древнего материала, но имеет новейшую арабскую кладку. Известный в Иерусалиме Монтефиоре видел еще какое-то подземное отделение при золотых воротах, служившее для гарнизона, наблюдавшего за порядком в храме. На мои вопросы об этом подземелье нынешние шейхи харама не могли, или не хотели сказать ничего положительного. Рассказали только сказку о каком-то царе, который сошел с отрядом солдат в подземелье золотых ворот и там погиб; с тех пор подземелье засыпано и забыто. Вероятно, здесь нужно разуметь остаток подземного хода Иродова, который, по Флавию, был проведен от крепости Антонии до Золотых ворот. Капитан Уоррен, в своих раскопках в соседстве с Золотыми воротами, нападал на этот подземный ход, находившийся в таком состоянии разрушения, что дальнейшее следование в нем было невозможно. – Особенное отделение с отдельными, в настоящее время пустыми, камерами есть и над сводами золотых ворот. С вершины золотых ворот очень красивый вид на Иосафатову долину и Елеонскую гору.
О существовании Золотых ворот при иерусалимском храме идет целый ряд свидетельств. Упоминаемые в Деян.3:2–10 πόρτα ὡραία τῷ ἱερῷ, при которых лежал больной, должны были быть внешние ворота (потому что внутри двора не дозволялось, как не дозволяется и доселе, располагаться больным и нищим), и притом наиболее людные и главные ворота святилища, следовательно, Золотые ворота. В евангелии псевдо-Матфея ангел говорит св. Анне: vade ad portam, quae dicitur aurea et occurre viro tuo in via. В евангелии de nativitate Mariae (cap. 3. 109) говорится о Золотых воротах: quae aurea pro eo quod deaurata est vocatur. В талмуде – Золотые ворота называются воротами Суз, потому что в эпоху персидского владычества на притолоке этих ворот был барельеф персидской столицы. Золотые ворота, по Мишне, лежали на линии вершины Елеонской горы и фронта храма, так что первосвященник, принося на Елеонской горе жертву рыжей коровы, сквозь открытые золотые ворота смотрел на фронт храма (впрочем, по другим сказаниям, храм виден был первосвященнику не сквозь пролет ворот, а поверх ворот); над воротами была еще камера, в которой хранились две меры еврейского локтя. В дальнейших раввинских сказаниях золотые ворота так тесно соединены с представлением святилища и богослужения, что их переносят даже в сказание о будущем Иерусалиме и царстве Мессии. Рабби Иоханан, рассказывает легенда, учил однажды в школе и говорил: «Бог святый и благословенный устроит в будущем веке ворота храма, которые на восток солнца, с двумя дверцами из цельного алмаза». Один эпикуреец, слушая это, заметил учителю: «ты обманываешь, потому что алмаза не бывает даже величиною в горлицу». Но вот, в скором времени после этого, эпикуреец отправляется в морское путешествие, утопает в море и, упавши в преисподнюю, видит циклопов, кующих что-то из огромного алмаза. Что это? полюбопытствовал эпикуреец. Это восточные ворота для храма Иеговы, отвечали циклопы». (Jalkut Schimoni на Ис.54:1. 339). Бл. Иероним говорит, что золотые ворота так назывались потому, что были великолепнее прочих, и что они были наружными воротами храма или портика Соломона, а не городскими (потому, вероятно, они не названы в числе городских порот и в кн. Неем.) Антонин мученик (от 570 года) говорит между прочим, что золотые ворота имели trabulatio т. е. свод или крышу. В 629 году имп. Гераклий, победив персов, взошел на гору храма с св. крестом чрез золотые ворота. Но чрез 5 лет после этого Омар взял Иерусалим и золотые ворота были заделаны. Во время крестоносцев ворота остаются закрытыми для народа и открываются только дважды в год: в вербное воскресение, в память торжественного входа Спасителя в Иерусалим и в праздник воздвижения креста Господня, в воспоминание победы Гераклия и возвращение из плена св. креста. Русский путешественник XII века, игумен Даниил, говорит о золотых воротах: «врата те пророк Давид сотворил и хитростью сделаны, медью позлащенной были покованы, позну подписаны были хитро, изовну железны покованы были твердо: двери суть четыре у ворот тех. Та бо суть врата осталось только ветхого здание да столб Давида, а ино все есть ново здание». Со времени Сулеймана и золотые ворота уже больше не открывались. Тем не менее, в местных сказаниях они и доселе не теряют своего древнего значения. Всякое новое торжество христианства заставляет шейхов харама боязливо посматривать на золотые ворота, которыми, по какому-то древнему пророчеству, христианский победитель войдет в Иерусалим. Впрочем, нынешний иерусалимский губернатор Камиль-паша, открывший в августе 1874 года ворота Ирода, бывшие доселе заложенными, имел в виду открыть и золотые ворота. Любопытно будет знать, какое впечатление произведет это на Магометанское население Иерусалима.
Из приведенных свидетельств видно, что золотые ворота всегда существовали на своем нынешнем месте, или по крайней мере после каждого разорения святилища были восстановляемы по древнему образцу. После разрушение храма Иеговы, имп. Адриан, построивший свой храм на Мории, не мог не обратить внимание на золотые ворота. Нынешние стены ворот, римская капитель и нижний карниз, по всей вероятности, принадлежат именно Адриану. Византийский элемент в верхнем карнизе и капителях двух средних монолитов вошел в золотые ворота, нужно думать, по случаю победного шествия импер. Гераклия, так как в постройках Юстиниана на Мории, за которым можно было бы считать и обновление ворот, его историк не называет золотых ворот, а золотые ворота Юстиниана в Константинополе ничем не напоминают золотых ворот Иерусалима. Своды и купола возведены первыми арабскими победителями, вероятно, во время сооружения Омаровой мечети. Что при этих позднейших починках и дополнениях имелись в виду древние предание о золотых воротах, видно из того, что две камеры над воротами, в которых, по талмудическим описаниям, хранились две модели локтя, не были забиты арабскими строителями, хотя эти камеры не имеют теперь никакого назначения. Мнение Вильямса, что золотые ворота в целом нынешнем составе принадлежат Ироду, с другой стороны мнение Вогюэ и Куглера, что они принадлежать целиком 6 или 5 веку по Р. Хр., одинаково страдают невниманием к указанным нами разновременным элементам, соединенным в устройстве и орнаментации золотых ворот.
Лучшим доказательством древнейшего существования ворот на месте нынешних золотых ворот служит то, что, прервавшиеся воротами, два ряда камней первого периода в ограде харама продолжаются непосредственно за стеной еще 60 футов, удерживая тот же характер и кладку. На месте, где эти древние ряды снова прерываются, видна заложенная теперь дверь 4 футов широты и по высоте равная упирающимся в нее двум упомянутым рядам стены; вероятно эта дверь служила некогда сторожевою калиткой и может быть есть та самая, которая во времена франкских королей была известна под именем малой двери; ею пользовались тогда, когда золотые ворота бывали закрыты, и от нее шла в глубину Кедронского потока лестница, следов которой ныне не видно. Верхняя притолока «малой двери» состоит из одного, хорошо выбранного, камня миззи, украшенного затейливой фигурою трех, вписанных один в другого, кругов, сделанных коричневою краской, с такого же цвета крестом в центре. С левой (южной) стороны двери, выступает небольшой четырехугольный столб, с иссеченной в нем сферической нишей, освещаемой тремя отверстиями. Так как эта сферическая пробоина связана с воротами, служившими не более, как сторожевою калиткой; то Сольси полагал, что чрез нее давали знать сторожу харама о своем прибытии запоздавшие путешественники. Но так как внутри харама, в направлении к этой нише, существовал водосточный проход, открытый недавно Вильсоном, и в самой нише виден узкий канал, проходящий в глубину харама, то ее скорее нужно назвать фонтаном воды для проходящих; таких фонтанов много можно встречать у входов домов и в настоящее время. В развалинах Хан-ель-Хальды в Финикии я видел совершенно такой же дверной столб с таким же фонтаном.
Малыми воротами первичные ряды прерываются, и на протяжении 700 футов на юг в стене харама не видно древнееврейских камней; их сменяет здесь пестрая смесь камней, в которой можно видеть следы различных веков от времени ими. Адриана до позднейшего арабского периода. Отсутствие древнееврейских камней в этой части стены представляет своего рода загадку. Возможное ли дело, чтобы разрушители Соломонова храма, оставившие выше такую значительную часть стены, в этом месте вырвали из-под земли самые последние камни? Не более-ли будет вероятно, что на этом месте первичной стены Соломоновой не было. Говоря это, я имею в виду место Зах.14:4–5, где говорится, что некогда «Елеонская гора раздвоится и в ней образуется ущелье в направлении от востока к западу, которое будет соответствовать ущелью Ацел между горами Иеговы». Этот предполагаемый разрез горы Елеонской с востока на запад, упирающийся в гору Морию, в настоящее время не имеет для себя соответственного продолжения (Ацел) по сию сторону Кедронского потока. Приведенное место пророка Зах. объяснится тогда, если на линии предсказываемого раздвоения Елеонской горы предположить существовавшее уже ущелье в горе храма, приблизительно на прямой линии, проведенной от высшего пункта средней вершины Елеонской горы до Яффских ворот, от которых действительно доныне идет вниз к площади храма небольшая долина вдоль нынешней улицы Давида. Конечно и в ущелье разделявшее гору святилища, могла входить стена, окружавшая харам, но когда впоследствии, выравнивая площадь, этот овраг засыпали, то основания древней стены скрылись под насыпью, на которой была проведена новая стена, не имевшая крепости стены Соломона, и потому легко разрушенная без остатка. Ворота Барклея и связанный с ними ход, занимающие самый нижний пункт в площади харама, может быть стоят на западном конце поперечной долины, пересекавшей харам.
За описанной частью стены, которую для отличия назовем стеною Ацел, до окончание восточной стены харама, древнееврейские остатки появляются еще два раза, сначала небольшой, на пространстве 29 футов, остаток стены первого периода и потом, не доходя 240 футов до юго-восточного угла, второй большой остаток, начинающийся двумя рядами и нарастающий до 15 рядов. Камни нижних рядов принадлежат и в этом большом остатке первому еврейскому периоду и достигают длины 30 футов на 4½ ф. высоты и, как видно, были некогда сдвигаемы со своего первоначального места. Самый нижний ряд, как обнаружилось в раскопках Сольси, лежит на скале, которая при этом, особенно на углу, очень чисто обделана под форму камней; верхние же ряды по обделке принадлежат периоду Стены Плача. Эта часть стены заслуживает внимания особенно потому, что, как я уже заметил, в ней видны остатки сводных камней аналогичных мосту Робинсона. К сожалению, эти остатки так повреждены, что едва ли какое-либо остроумие будет в состоянии восстановить вполне их первоначальный вид. Стена представляет выступ 20 футов ширины с сводными камнями. Но так как несколько таких же сводных камней, сдвинутых с места, видны в стене отдельно, на север отсюда; то выступ сводных камней конечно был первоначально гораздо шире, может быть достигал широты моста Робинсона. Вверху над выступом заметны два, заложенные теперь, отверстие, каждое 3½ фута высоты на 7 футов широты, если, как предполагает Сольси, выступ сводных камней принадлежит балкону, выходившему с портика, то эти два отверстия были окнами балкона. Мне кажется, что, вместо окон, здесь скорее нужно предположить дверь, а вместо балкона мост, может быть тот самый, чрез который, по Талмуду, козел отпущения изгонялся в пустыню. Впрочем, так как кругом выступа камни лежат не на своих первоначальных местах, то и самый выступ мог быть переделан из древнего материала уже в позднейшее время. Тем не менее присутствие сводных камней именно в этой части стены делает бесспорным древнейшее существование здесь какой-то арки моста или балкона, и Робинсон делает большой промах, обзывая это предположение фантазией, потому что им самим открытый мост на западной стороне харама имеет немного более оснований.
По древним сказаниям, на юго-восточном углу харама, которого мы достигли, лежал один камень баснословной величины, приготовленный Соломоном, но, по какой-то причине (может быть по самой громадности своей, как камень кабла в Баальбеке), не вошедший в стену и в течении веков остававшийся невключимым изгнанником из числа избранных, lapis exprobratus. Этот камень, говорит предание, разумел Спаситель в своих словах о камне пренебреженном зиждущими (Мк.12:10). Католические писатели прибавляли, что этот краеугольный камень имел в виду Спаситель и в обращении к ап. Петру: «ты Петр, и на сем камне созижду церковь Мою...» При имп. Константине этот камень, как говорит католическое предание, послужил основанием христианской церкви на Сионе, хотя, по другому преданию, он был еще прежде Константина зарыт где-то вблизи того места, где он лежал. В арабских местных сказаниях есть также упоминание о каком-то забытом камне, вопиявшем к небу о мщении на пренебрёгших его зиждителей. Нужно сказать, впрочем, что виновность зиждителей в отношении к lapis exprobratus извиняется отчасти тем, что они имели под руками много других камней, не менее достойных быть основанием дома Иеговы. Но чем могут извиниться арабские владетели харама, имевшие кругом Иерусалима горы строительного материала и между тем завершившие величественные остатки древней стены такою надстройкой, что проходящий мимо должен инстинктивно ускорять шаги, от страха погибнуть под развалинами страшно надвинувшейся и грозящей близким падением стены.
Оставляя восточную сторону ограды харама, нельзя не упомянуть об остатках колонн, встречающихся во всей длине этой стены между арабскими починками её. Конечно, это остатки древних колонн портиковых, валявшихся на площади по разрушении храма, подобранных невежественными арабскими строителями и уложенных, как попало, в массу материала стены. Для украшения ли или просто потому, что положенные колонны не вмещали своей длины в широте стены, они выдвинуты из её плоскости и так сказать вопиют пред прохожим о своем посрамлении и о человеческом невежестве. Многие из этих колонн, по всей вероятности, скрывают на себе если не надписи, то какие-нибудь другие знаки своего древнего достоинства и могли бы служить гордостью нынешних грязных портиков харама, заменивших портики храма Иеговы. Особенно замечательна одна из колонн, выдавшаяся из стены на целых 8 футов и известная у мусульман под именем Et-Tarik (дорога). От этой колонны, указывающей южный пункт, за который не должно переходить магометанское кладбище, примыкающее к восточной стене харама, по верованию арабов, будет проведена воздушная дорога, которая грешников приведет к погибели, а праведных к воротам рая. Сам Магомет, стоя на этой колонне, изречет суд мертвым, собравшимся в долину Иосафатову. Рассказывают, что недавно являлся в Иерусалиме какой-то арабский лжепророк и проповедовал народу с колонны Магомета. Но от неумеренной жестикуляции потерял равновесие, упал с колонны и ушибся до смерти. С тех пор еще большее значение получила колонна для иерусалимских арабов. Разве только молодой легкомысленный магометанин небрежною поступью, пройдет в виду колонны; настоящий же почитатель Магомета, проходя мимо, шепчет молитву и с робостью вскидывает глаза вверх, чтобы убедиться, что еще не стоит на колонне посланник Аллаха, возвещающий кончину мира. Но все тихо. Только голуби, в блаженном неведении рокового значение колонны, стаями садятся на нее и равнодушно озирают мировую сцену.
Южная сторона стены харама также имеет значительную часть древнееврейской работы, начинающуюся на юго-восточном углу пятнадцатью рядами и нисходящую до одного нижнего ряда. Остаток продолжается около 600 футов до того места, где в южную стену харама упирается городская стена, разделяющая стену харама на две части: внешнюю, наблюдаемую вне города и внутреннюю, уходящую в черту города. Внешняя часть, говорим, имеет древнееврейское основание, а внутренняя – значительный остаток римской стены с большими гладкими камнями, принадлежащими, вероятно, им. Адриану. Камни древнееврейской части дают тонкую отделку выпусков и сложены весьма плотно; видно, что они никогда не были сдвинуты с своих первоначальных мест. За исключением материала, которым здесь служит позолоченный временем миззи, взятый из Силоамской каменоломни, в остальном эта часть стены сходна с Стеною Плача. Древнееврейский ряд прерывается через 90 футов от юго-восточного угла огивальной, теперь заложенной, дверью, сделанной вероятно арабами, а чрез 200 футов от угла большими воротами из трех отдельных арок полного полукруга, каждая 15 футов широты. Нижние косяки ворот принадлежат древнееврейскому периоду и на одном из них, служившем некогда архитравом, вырезана следующая непонятная надпись:

Рисунок 11. Надпись тройных ворот
Обделанный в скалистом грунте большой подъезд, отчасти поврежденный, вероятно при разрушении древней стены, также должен был принадлежать храму Иеговы. Но верхняя часть ворот и их римские арки, очевидно, были достроены впоследствии, когда древние храмовые ворота на этом месте были разрушены.
Но главную достопримечательность южной стены харама представляют примыкающие к ней с внутренней стороны два подземные хода, известные под именем юго-восточного подземелья и подземелья ель-Аксы. Оба эти подземелья уже потому самому, что они подземелья, и, следовательно, представляют самые нижние и древние наслоения в сооружениях харама, заслуживают подробного рассмотрение.
Спуск в юго-восточное подземелье в настоящее время возможен только изнутри харама, и открывается на самом юго-восточном углу площади. По крутой каменной лестнице сходят прежде всего в небольшую камеру, известную у магометан под именем комнаты колыбели, так как магометанское предание указывает здесь колыбель Иисуса, большую опрокинутую мраморную плиту с нишей, служившей вероятно для статуи. Небольшая лампада висит над колыбелью, и шейх харама собирает от посетителей приношение на масло. Камера колыбели Иисуса заняла место большой древней залы с еврейскими сводами, напоминающими арку Робинсонова моста; в этой зале, по преданию, уединялся Соломон, когда писал притчи; подперемычные брусья древних сводов залы доселе ещё видны на месте. Группа трех древних окон на восточной стороне, освещавших залу и четвертое окно на южной стороне, принадлежали к самому простому стилю и не имели никаких орнаментов. Дверь в западной стене камеры колыбели, обыкновенно тщательно запираемая, открывает трудный и неровный спуск, по земляной насыпи, в глубину подземелья на 48 футов ниже уровня площади харама. Трудно не быть пораженным на первый раз встающими по всем направлениям из глубины подземелья в полумраке, подобно роям видений, рядами арок и колонн, по-видимому не имеющих конца. Гигантские столбы, поддерживающие своды, покрывшись зеленой плесенью, похожи на вековечные деревья в каком-то очарованном лесу, таинственная тишина которого прерывается только подземной работой кротов и легким шумом осыпающейся в разных местах земли, а в зимнее время просачивающимися чрез своды дождевыми каплями. В первых рядах арок еще есть некоторый свет, но в дальнейших могильная темнота, которую мусульманское предание сделало жилищем духов, служивших царю Соломону при сооружении храма и теперь заключенных в подземелье до нового пришествие пророка. В предотвращение враждебного действия этих невидимых обитателей подземелья, арабские посетители, при входе в подземелье, ставят из мелких камней небольшие заклинательные пирамидки, долженствующие отвлечь от них внимание гневных духов; целые батареи таких пирамид видны между первыми столбами подземелья. Впрочем, вообще говоря, арабы боятся сходить в это подземелье. Даже проводник имам, впустивши вас сюда и удивляясь вашей храбрости или неведению того, на что вы решаетесь, сходя в это подземное царство, упорно останется в верхнем троте колыбели и разве за большой бакшиш согласится следовать за вами в подземное путешествие. Почва подземелья неровна и постоянно прерывается холмами земли, Бог весть с которого времени скопляемой здесь дождевыми каплями. Вообще же дно подземелья повышается более на северной стороне подземелья, где в некоторых пунктах холмы земли сливаются с арками. Возвышение дна подземелья к северу, кроме позднейших наслоений, отчасти зависит и от первоначального свойства грунта, представляющего собою натуральный склон Мории. Масличные деревья, выросшие на сводах подземелья, не довольствуясь отведенной им насыпною землей, пробили корнями своды и всосались в живой грунт дна подземелья.
Юго-восточное подземелье состоит из 15 галерей, образуемых рядами четырехугольных столбов, поддерживающих полукруглые своды и идущих по длине с юга на север. Длина отдельных галерей не одинакова и колеблется между 250 и 60 футами, смотря потому, насколько неровный склон горы позволял входить в глубину площади. Наиболее длинные галереи – пять восточных и две последних западных. Более равномерности имеет широта галерей, если не брать во внимание несколько большей других галереи между 5 и 6 рядом столбов. Все вместе галереи, по их поперечному измерению от востока на запад, дают 350 футов от юго-восточного угла харама, так что крайняя западная галерея подземелья приходится на одной линии с восточной стороной средней платформы харама, представляющей теперь погост Омаровой мечети. Составные камни столбов галерей все выбраны из белого маляки, по величине большею частью равняются камням Стены плача, и обделаны выпусками, хотя не довольно чисто. Многие камни имеют выпуски со всех сторон, там, где в столбах они открыты кругом сторон. Некоторые камни были сброшены с своих первоначальных мест и, как видно, долго в таком виде лежали под дождями, прежде чем снова были положены на свои места и покрыты новыми сводами. В одиннадцатой галерее подземелья, при возобновлении столбов, употреблен в дело, вместе с простыми камнями, большой кусок карниза, попавший сюда, по всей вероятности, сверху с портика Иродова. Несмотря на то, что этот драгоценный остаток сильно стерся, его достаточно, чтобы, по его виду, восстановить целое. Он принадлежит дорическому карнизу, которого архитрав и фриз составлялись одним целым камнем 1,07 метр., т. е. 2 еврейских локтей высоты. Промежуток между триглифами четырехугольный и имеет 0,50 метр.; триглифы же имеют широту 0,459 метра. Таким образом, расстояние между тремя триглифами и, следовательно, между колоннами Иродова портика будет 2 м. 88 сент., т. е. 5½ еврейских локтя. К этим данным нужно приложить обыкновенные пропорции дорической колонны века Августа, то есть колонну 1½ локтя в диаметре и 13 локтей высоты. Сложенная из таких колонн колоннада поддерживала крышу, имевшую склон в одну только сторону. В известных древних сооружениях отдельный элемент такого рода крыши представляет прямоугольный треугольник, которого высота равна ⅓ основания. Так как в крыше Иродова портика основание треугольника имело, по Флавию, 30 локтей (разумеем всю ширину портика); то высота была 10 локтей, которые, с прибавлением 15 локтей высоты колонны и карниза, дают для всей высоты портика 25 локтей, т. е. точную цифру Флавия. Но возвратимся еще на время в подземелье. В крайней западной стене подземелья, украшенной пилястрами, капитан Варен нашел устье одной цистерны в настоящее время совершенно сухой, частью иссеченной в скале, частью сложенной из больших камней, и, вероятно, гораздо более древней, чем описанное подземелье, как видно из её положения на 30 футов ниже дна подземелья. Идя на север от устья цистерны, встречаем полузасыпанный громадный камень, служивший, как видно, притолокой двери, так что внизу под ним нужно предполагать засыпанный ход. Еще далее на север отсюда видна древняя водосточная труба, идущая из глубины харама; наконец самый северный конец западной стены подземелья состоит из обсеченной под вид стены живой скалы Мории. Что касается обращенной в подземелье стены харама, к которой примыкает подземелье, то она не имеет той обделки, какую мы описали в её наружной стороне, потому, конечно, что это было бы излишнею роскошью для подземелья. Сольси нашел здесь остаток железных связей, которыми, по Флавию, соединялись камни; железо было в состоянии йодного окисления и походило на кровавик.

Рисунок 12. Юго-восточное подземелье
Что это за сооружение? Так как описанные подземелья сложены из еврейского материала и снаружи обведены еврейской стеной, то они должны принадлежать ветхозаветному святилищу. Существование их при храме Иеговы подтверждается свидетельством Флавия, что для уравнения площади храма, кроме насыпи, были делаемы каменные подстройки, а во время Ирода площадь храма, в различных направлениях была изрезана подземными проходами. Чтобы не остаться без библейского свидетельства, мы можем указать на Зах.14:10, где, в определении окружности Иерусалима, пункт, соответствующий юго-восточному углу харама, назван царскими катакомбами (jakab – быть выдолбленным, пустым). Путешественник 333 года христ. эры говорит о подземных колоннадах, в которых Соломон держал демонов (Itin. hieros. an. 333). То же свидетельство повторяет бл. Феодорит (на Иерем.). Во времена крестоносцев эти подземелья называли конюшнями Соломона и держали в них целые тысячи лошадей и верблюдов. Доселе еще в углах столбов можно видеть. сквозные дыры для привязывания животных. С течением времени, особенно когда магометане запретили христианам вход на площадь харама, составилось много легенд об этих подземельях; говорили, что они простираются якобы непрерывно под всей площадью харама и даже далее до отдаленного Хеврона, Мертвого моря и проч.
Подземелья и крипты считались необходимой принадлежностью больших храмов древнего мира. Храм солнца в Баальбеке, во время земной жизни Спасителя строившийся храм в Дендерах (в Египте) и др. имеют катакомбы втрое большие, чем юго-восточное подземелье. Они представляют темные, длинные, узкие коридоры, не имеющие ни дверей, ни окон; чтобы спуститься в них, особенном механизмом ad hoc поднимали камень, закрывавший устье подземелья и сходили по веревочным лестницам. Это были, собственно говоря, сокровищницы святилищ; тут хранились статуи богов, музыкальные орудия, эмблемы всякого рода, принадлежности храмовых процессий и проч. Катакомбы иерусалимского храма, как мы видели, имели совершенно другое устройство. Это были высокие и широкие галереи с воротами и, вероятно, в первоначальном виде с достаточным освещением. И по отношению к своему назначению катакомбы Иерусалимского храма были гораздо важнее для современного им народа и истории, чем катакомбы других храмов. В Мишне (Рага, с. 3, 2) говорится «о подземном гроте, бывшем под горою храма и дворами, в который приходили рожать беременные женщины и оставляли детей на воспитании до 8-го года». На существование родильного дома при храме ветхозаветном указывает и то, что между известными 10-ю чудесами, в которых позднейшие евреи сосредоточили воспоминание о величии и святости храма Иеговы, первое место занимает чудо невозможности неблагоприятных родов в родильном гроте храма. Между тем для родильного грота под дворами храма нельзя указать другого места, кроме описанных нами подземелий. Вещественным доказательством этого древнего предания доныне служит детская колыбель, показываемая мусульманами в входной камере юго-восточного подземелья. Магометанские сказание о месте рождения и первом воспитании Спасителя в этом отделении юго-восточного угла харама, не имеют за собой другого основания, кроме общего еврейского предание, что бедные родильницы, особенно известные благочестием, находили приют в катакомбах харама. Будучи, таким образом, в течении веков местом появления на свет новых поколений, катакомбы харама в народном представлении окружались самыми дорогими воспоминаниями и, наконец, перешли в какой-то источник жизни, вне которого не должны были стоять и все великие праведники и святые. Таким образом, имя Симеона праведного, св. девы Марии, Магомета и др. связаны в народных арабских представлениях с этими катакомбами; источник райской воды, по легенде, течет в катакомбы для омовения новорожденных, и самые катакомбы получили название древнего святилища Меджед-ель-Кедим (древняя мечеть). С другой стороны также Мишна (Para с. 3, 2) и потом Маймонид (на Middoth 1, 9) катакомбы на юго-востоке харама называют защитниками святилища от осквернения нечистотой смерти и могил. Если, со времени законодательства Моисея, прикосновение к трупу оскверняло каждого частного израильтянина, то тем более оно могло осквернить святость храма. Между тем естественные свойства склонов Кедронского потока, удобных для устроения в них могильных пещер и, вероятно, еще со времени Иевуссев утвердившийся обычай погребения умерших на Мории, был причиною того, что дворы храма непосредственно граничили с полем народных кладбищ. Таким образом, если бы не было других причин для поднятия площади храма над остальною местностью и тщательного ограждения ее со всех сторон, это нужно было бы сделать для того, чтобы разделить между собою область жизни и смерти, чистоты и нечистоты. Если, по позднейшему сказанию, в этих катакомбах Соломон заключил подземных духов с запрещением выходить на верх площади храма, то на простом языке это значит, что катакомбы были именно границей, разделявшей две не примирявшиеся противоположности места, область храма, и область некрополя. Впрочем, в позднейший период арабского владения харамом область гробниц кажется вторглась в самые катакомбы. По крайней мере Шварц (Das heilige Land 218) рассказывает, что в 5606 году от сотв. мира, когда вход в катакомбы был закрыт для путешественников, два еврея ночью проникли в катакомбы и, блуждая под их бесконечными сводами, в одном месте наткнулись на большой каменный саркофаг, с каменною покрышкою, которой не было возможности поднять7.
И так катакомбы харама, вмещавшие рядом детскую колыбель и саркофаг были каким-то средоточием жизни и смерти в народных представлениях, и может быть выражали собою идею общего воскресения, как катакомбы Дендерского храма, почти современного по происхождению храму Ирода, имеющие на стенах изображение смерти и возрождения Озириса.
Что касается времени происхождение этих катакомб с подобным назначением, то Мишна и Маймонид передают упомянутые сказания как предание древности. Кроме того, значение, придаваемое этим преданием, их обстановка побочными деталями слишком значительны, чтобы они могли образоваться в непродолжительное время существование второго храма. Да и трудно предположить, чтобы Ироду, всегда рассчитывавшему на один наружный блеск и мало занятому настоящими нуждами народа, могла первому прийти человеколюбивая мысль устроить богоугодное заведение при святилище, которое при этом для него имело не большее значение, чем языческий храм Августа, им же построенный в Самарии. Мне кажется, что в приведенных сказаниях нужно слышать отголосок преданий первого храма и, следовательно, допустить первоначальное сооружение катакомб Соломоном. Как бы нарочно в подтверждение этого глухого предания, библейский рассказ (1Цар.3:16) между чудесами мудрости Соломона на первом месте ставит разбирательство дела о женщинах, судившихся по поводу живого и мертвого ребенка. Так как, по этому рассказу, две чуждых одна другой родильницы рождают в одном месте, и так как в рассказе нет намеков на их мужей и других родственников, то можно думать, что здесь передан эпизод из истории иерусал. родильного дома. Хотя в средние века было мнение, что Соломон назначил эти катакомбы под конюшни, но здесь, кажется, перемешались предание: бывшие здесь при втором храме конюшни Ирода приписаны Соломону, а богоугодные заведения Соломона перенесены на второй храм. – Главным подтверждением против существования катакомб при первом храме наука ставит то, что устройство сводов в это время было неизвестно. Мне говорили уже, что это положение не имеет серьезных оснований. По Диодору (11, 9), уже Семирамида строит под Ефратом большой тоннель со сводами. Своды находят в развалинах древней Ниневии, разрушенной тогда еще, когда Иудейское царство считало только 3-й год Иосии. В памятниках Баальбека существуют катакомбы, по своему началу, восходящие к циклопическому периоду истории. Если Сенека (Ер. 10) происхождение каменных сводов приписывает Демокриту, то он забывает, что уже во время Иопократа городская стена Самоса вдоль озера стояла на подземных сводах, что платформа храма Зевса, в Афинах, начатого Пизистратом, покоилась на параллельных подземных ходах со сводами, также как храм Эскулапа в Пергаме и др.
Но утверждая, что в Соломоновом храме могли существовать катакомбы, мы вовсе не говорим, что этими катакомбами были описанные нами подземелья. Свойство и обделка материала ставят сооружение нынешних подземелий в последний период еврейской архитектуры, как принадлежность храма Ирода, который, при их сооружении, мог иметь в виду образец Соломоновых катакомб, некогда бывших на этом месте. При разрушении второго храма, Иродовы катакомбы были сильно повреждены, своды совершенно обрушились и многие столбы были сброшены. Оставаясь открытым некоторое время после этого разрушения, подземелье много потерпело также от непогод в своем материале, который имел назначение быть всегда под сводами, и потому был выбран из очень мягкого сорта маляки. Первый, кто после Ирода занимался очищением площади харама, должен был поднять опавшие своды подземелья. Как указывают тройные ворота, возведенные при этом возобновлении, новыми строителями подземелья были римляне, след. это могло случиться в то время, когда Адриан строил храм Юпитера на месте храма Иеговы. Очень вероятно, что тройные ворота Адриана были одним из подъездов к храму, и что на противоположной воротам стороне подземелья были лестницы, выводившие на площадь харама. Но этим не кончились починки и перестройки подземелья. Огивальная дверь, о которой мы упомянули, и в самых сводах подземелья замена в некоторых галереях римского полукруга легкою огивою показывают, что в позднейшее время юго-восточные катакомбы еще раз были починяемы и переделываемы, вероятно при халифе Абд-ель-Мелек, о котором христ. писатель XII века Якут-ель- Гамави говорит, что «он на основаниях, оставшихся от Давида, десяти локтей высоты, прекрасно обделанных и сложенных, построил стену ограды из камней меньших чем Давидовы, но больших чем камни Дамаска». Наконец в то время, когда были заделаны другие ворота иерусалимские ворота золотые, ворота Ирода и пр., были закрыты навсегда и ворота занимающего нас подземелья и сделан нынешний спуск чрез камеру колыбели. Робинсон, вместо названных нами строителей, все подземелье юго-восточное приписывает исключительно имп. Юстиниану. Но, кроме материала подземелий, бесспорно древнееврейского и бесспорно предназначавшегося для тех именно столбов, которые он образует теперь, значение Юстиниановых построек в Иерусалиме сильно преувеличено у его историка Прокопия, на котором основывается Робинсон. Кроме того, Прокопий в подробном перечне сооружений Юстиниана не указывает нигде именно этого подземелья, чтобы на его свидетельство можно было ссылаться. Впрочем, со свидетельством Прокопия о постройках Юстиниана на Мории мы еще встретимся.
Менее обширно, но не менее замечательно подземелье ель-Аксы, лежащее под мечетью этого имени на запад от юго-восточного подземелья и примыкающее к той же южной стене харама в том пункте, где в настоящее время городская стена под прямым углом упирается в южную стену харама. Ход в подземелье влево от фронтового входа в мечеть ель-Аксы. Подземелье состоит из двух широких галерей, идущих параллельно галереям восточного подземелья. Как в этом последнем и здесь уровень почвы постепенно понижается от севера к югу по отвесной линии на 10 футов. При входе обе галереи разделяются сплошною стеною, а далее столбами, из которых некоторые не отличаются от столбов первого подземелья. Но впечатление, производимое этим подземельем, особенное. Если в юго-восточных катакомбах господствует могильная прохлада и темнота, то здесь чувствуется тяжелая теплота амбаров и подвалов, что конечно происходит оттого, что подземелье ель-Аксы более закрыто от внешнего воздуха и на своих сводах держит не легкую насыпь, а огромную тяжесть мечети. От этой духоты подземелья, в нем так много мышей, кротов и пр., что самому подземелью, а особенного древним воротам дали название Хульды (крот). Внутренность подземелья хотя нельзя назвать опрятной, но, сравнительно с первым подземельем, она содержится хорошо. В нижней южной части раскинуты рогожи, свидетельствующие, что сюда приходят для молитвы. Войдем в некоторые подробности.

Рисунок 13. Подземный проход под мечетью Аль-Аксы
Главную достопримечательность подземелья составляют внешние ворота, на южном конце подземелья, которыми некогда входили в него со стороны города. Подобно золотым воротам, они состоят из двух входов и называются у еврейских писателей двойными, а у арабов Bab-el-Aksa-el-kadim – ворота древней Аксы. Два входа ворот, каждый около 14 футов широты, разделяются большой колонной, сложенною из камней с выпусками во все стороны. Каждая половина ворот покрыта цельной каменной притолокой. К этому первоначальному виду ворот впоследствии прибавлено много новых элементов. Именно: от тяжести верхних галерей портика одна из притолок треснула, вследствие чего, независимо от упомянутой средней колонны, под притолоки подставили еще по две других монолитных колонны, капители которых одновременны с древнейшей из капителей золотых ворот. Далее в то самое время, когда в золотых воротах был прибавлен верхний византийский карниз, был наложен подобный же карниз и на ворота двойные внутри и снаружи с таким же невниманием к древней форме украшений. Обвалившиеся куски этого накладного византийского карниза кучами валяются около ворот в настоящее время. Восточная половина ворот в настоящее время заложена каменной арабской стеной, имевшей вверху окно с решеткой; западная же половина выходит в позднейшую арабскую пристройку харама Хатунию, выходящую из линии стен харама8. – Самое подземелье состоит из двух частей: собственно прохода, идущего двумя галереями, о котором мы говорили и вестибюля, в который сходят с галерей по большим широким и очень древним ступеням и который занимает место пред самыми двойными воротами. Это был парадный вестибюль или передняя для входящих с города двойными воротами в область харама. Вестибюль отличается от остального прохода прежде всего тем, что по средине для поддержание сводов имеет не простые столбы из камней, а цельную монолитную колонну, взятую из царской каменоломни, где до настоящего времени можно видеть круглое пустое пространство в скале, совершенно соответствующее объёму и материалу этого монолита. Капитель монолита имеет гладкий четырехугольный абак без всяких украшений; средняя же часть капители украшена рисунками длинных тонких листьев, похожих на листья тысячелиственника, между которыми идут голые стебельки с расширением вверху. Внизу на стволе колонны видна следующая еврейская надпись:

Рисунок 13а. Надпись на колонне
то есть: «Иона и Сабтия, жена его, из Сицилии могущественные между живыми». Сольси, открывший эту надпись, признал ее предшествовавшею христианской эпохе и осаде Иерусалима Титом. Если здесь упоминаются Сицилийские евреи, и притом имевшие большое значение в обществе, то это не должно служить удивлением после известного свидетельства Цицерона, что евреев было много в самом Риме, и что они имели влияние на общественные дела. Между тем Сицилия была станцией между Египтом и Римом; а от Египта недалеко было до Иерусалима. Что касается шрифта надписи, то она написана квадратными буквами, за исключением буквы мем [מ], имеющей древнюю форму. Стены вестибюля, как и всего прохода, носят следы различного времени. Сложенные из камня маляки, они были обделаны в стиле первого еврейского периода, отличаясь необыкновенною громадностью материала, но в позднейшее время древняя обделка камней была стерта, особенно в стенах вестибюля, около позднейших приставных пилястр, представляющих, кстати сказать, совершенно излишнее украшение вестибюля. Самые камни во многих местах были тронуты с мест и в стену вошли новые прибавочные камни позднейшего периода. Между камнями встречаются и такие, лицевая сторона которых обделана только на половину, что заставляет думать, что работы подземелья были исполнены поспешно. В стенах подземелья есть несколько заложенных древних ходов. Так, в западной стене вестибюля есть закрытый ход, ведущий, как передавал мне шейх мечети, в гробницу сынов Аарона. Предание очень странное, потому что, по духу закона Мойсеева, в стенах харама никому не могло быть отведено место для погребения, не исключая и первосвященников. И по наружному виду этот ход похож скорее на пролом, пробитый в стене враждебною рукою, чем на первоначальную дверь. В противоположной восточной стороне вестибюля, против гробницы сынов Аарона, есть другой ход, 10 футов высоты и пяти шпроты, с огромною цельной перекладиной над входом, называемый комнатой пророка Илии. Комната сложена из древних камней и в своей противоположной входу стороне имеет заложенную дверь с аркой особенной системы, состоящей в том, что камни, образующие арку, возвышаются один над другим с двух противоположных концов в виде ступеней, так однако ж, что все камни, при всякой длине выступа, центр тяжести имеют в стене, поддерживающей арку. Арка в комнате пророка Илии сложена именно из трех таких, выступающих из стен, длинных камней, покрывающих вход около 8 футов шпроты. Нижние косяки входов имеют камни с яминами для засовов, как в воротах Барклея. Что скрывается за дверью в комнате пр. Илии неизвестно, но что здесь пророк хранит очень древний остаток святилища, за это ручается самое впечатление древности, оставляемое комнатой и аркой Илии. Так как арка обращена на восток, то заложенный под ней ход может быть вел в юго-восточное подземелье. – Самую позднюю часть всего подземелья ель-Аксы представляют четыре купола над вестибюлем, сложенные из материала бывшего в каком-то другом употреблении. Внутренность куполов украшена рисунками, принадлежащими византийскому времени и представляющими большой круг, в центре которого шар, а по сторонам геометрические фигуры в виде вписанных один в другой квадратов, квадратов с восьмиугольниками и проч.; в промежутках цветы и виноградные кисти.
По времени происхождения различные части подземелья нужно расположить так. Стены проходов в их нижних рядах камней, двойные ворота в их первоначальном виде, комната пророка Илии и монолит вестибюля представляют остаток сооружений на этом месте Соломона. Во втором храме разрушенное подземелье было вновь построено с прибавкой новых камней и особенно колонн для поддержания портиков, возвышавшихся на сводах подземелья. Импер. Адриан украсил двойные ворота и укрепил их колоннами. Затем в период византийский, при общей наклонности к богатству украшений, были прибавлены новые орнаменты к воротам, и образован пред воротами вестибюль прибавкой пилястр и куполов. Наконец арабы заделали двойные вороты и покрыли грубою штукатуркой не только стены подземелья, но и колонны с капителями. Как видно из отношения подземелья ель-Акса к юго-восточному, оба они имели первоначальною целью только выравнивание площади харама, следовательно, могли не иметь большого выхода на площадь, соответствовавшего большим наружным воротам. Но уже во втором храме, по Флавию, на средине южной стены (т. е. на месте нынешних двойных ворот) был ход на площадь храма, следовательно подземелье имело ворота на двух противоположных концах. Но от этих вторых ворот, выходивших внутрь площади, не осталось никаких следов. Нынешний спуск с харама в подземелье ель-Акса принадлежит арабам.
Против древнееврейского происхождения подземелья ель-Акса есть возражение. Известный исследователь Крафт, изучая двойные ворота подземелья, с правой стороны над аркой ворот открыл обороченный вверх ногами камень с следующею надписью:
TITO AEL. HADRIANO
ANTONINO AUG. PІО
P. P. PONTIF. AUGUR.
D. D.
Присутствие этого камня с надписью было достаточно для Крафта, чтобы все подземелье с воротами приписать имп. Адриану. Крафт не обратил, внимание на то, что найденный им камень представляет собою пьедестал статуи императора. Но, чтобы, при жизни строителя императора, пьедестал его статуи был взят с своего места и положен в стену в качестве простого камня вверх ногами, это выше всякой возможности. Кроме того, Крафт не верно прочитал надпись. Речь в ней не об Адриане, а об его преемнике Антонине Пие, принявшем между прочими именами предшественников и имя Адриана и самый текст её нужно прочитать: «Титу, Элию, Адриану, Антонину, Августу Пию, Отцу отечества, Понтифексу, Авгуру. Декретом декурий». – С другой стороны поспешно и мнение Вильямса, который, на основании этой надписи, все подземелье отнес ко времени позже Адриана и Антонина. Простой взгляд на стену убеждает, что камень с надписью вставлен сюда не вместе с первоначальным возведением стены, а впоследствии при её починке. Между камнями стены и камнем надписи нет ничего общего ни в сорте материала, ни в его отделке. Даже более, чтобы дать место камню с надписью, нижним углом её задет один из сводных камней ворот, чем доказывается, что камень не приходился по той пробоине, которую хотели им заложить. Можно исторически определить время, раньше которого не мог войти в стену этот камень. Хотя храм Юпитера на Мории был разрушен по повелению равноапостольной Елены, но, как свидетельствует бл. Иероним (Comm. ad Esaiam 2, 18), императорские статуи, бывшие на площади харама, были оставлены еще на своих местах и стояли вероятно до 6 или 7 века и, следовательно, пьедестал одной из них мог войти в стену не раньше византийской перестройки подземелья, полежав предварительно в куче камней и мусора.
Чаще других повторяется мнение, что подземелье ель-Аксы принадлежит в целом своем составе импер. Юстиниану, след. 6-му веку по Р. Хр. Это мнение основывается па господствующем в науке предположении, что мечеть ель-Акса, стоящая на сводах подземелья, есть ничто иное, как христианская базилика, построенная, по свидетельству Прокопия, в Иерусалиме при Юстиниане. Чтобы не возвращаться к этому предмету вторично, укажем общее устройство мечети. Внутренность ель-Аксы состоит из семи зал – центральной большой и трех боковых с одной и другой стороны, идущих по длине с севера на юг. Уже один вид арок в этих залах с арабскими огивами ставит в недоумение посетителя, предваренного о византийско-христианском происхождении базилики. Центральный нерв (зала) храма поддерживается с каждой стороны 6-тью мраморными массивными колоннами, с коринфскими капителями, а в верхней части освещается двумя рядами окон. Два ближайшие боковые нерва поддерживаются четырехугольными простыми столбами. Что касается остальных четырех нервов, то они, очевидно, позднейшей конструкции и имеют простую, вовсе не замечательную работу. На юге храм оканчивается трансептом, отделяемым от средней залы большой огивальною аркой, над которою высится на четырех столбах красивый купол слегка вогнутый при своем основании. Вместо алтарной части – ниша, к которой прислонен красивый михраб (кафедра). На правой стороне последнего в особом приделе указывают камень, с которого, по магометанскому преданию, Иисус Христос вознесся на небо. Вся внутренность мечети, не исключая и колонн, покрыта белой штукатуркой, по которой в разных местах изображены эмблемы из царства растительного и между прочим виды двух стамбульских мечетей. В базилике соединено много отдельных мечетей: собственно ель-Акса, мечеть сорока пророков, мечеть Омара, на месте где он молился, мечеть Абу-Бекера и мечеть Могребин. Мечеть ель-Акса была одною из главнейших в Иерусалиме с древнейшего времени. Свидетель 15 века видел здесь висевшими 750 ламп; а в ночь мишабан здесь зажигалось 20,000 ламп, так что все святилище обращалось в огненное пространство.
По принятому в настоящее время мнению эта мечеть, говорим, есть ничто иное, как христианская базилика Юстиниана, о сооружении которой в Иерусалиме говорит Прокопий (De aedific. Iustiniani IV с. VII). Самое свидетельство Прокопия читается так: «Церковь Девы была построена Юстинианом в Иерусалиме на выдающейся горе города. Но при постройке избранное императором место оказалось недостаточным для утвержденного плана, именно на юге и востоке не доставало места для той части храма, где священнодействуют пресвитеры. Тогда архитекторы прибегли к следующему: там, где недоставало грунта, они сделали подземные подстройки и присоединили их к скале; затем, набросив подземные своды на подземелье, получили поверх- пост равную с площадью. Таким образом, церковь частью построена на твердом грунте, частью висит на воздухе. Камни для сооружения Юстиниана были так велики, что под них запрягали в телеги по 40 волов.... Колонны для базилики обделывались из особенной скалы огненного цвета, нарочно для того сотворенной Богом.... Так было построено здание, подобного которому нет в Иерусалиме». По моему мнению, это описание Юстинианова храма вовсе не соответствует нынешней мечети ель-Акса. 1) Прокопий говорит, что храм Юстиниана был построен на выдающейся горе города, между тем местность ель-Аксы принадлежит к числу низменных пунктов в Иерусалиме. Если при этом представить место ель-Аксы без подземных подстроек и насыпи, уравнявшей своды подземелья с площадью харама, то это будет вовсе не гора, а скат, идущий от вершины Мории. На этом основании Тоблер искал горы Юстинианова храма, на вершине Сиона, а не на Мории. 2) Прокопий говорит, что на избранном Юстинианом пункте не доставало места для базилики, что подало повод к сооружению подземелий. Но можно ли сказать, что площадь харама была мала для Юстиниановой базилики, чтобы ее нужно было пополнять искусственным расширением? 3) Если бы Юстинианова базилика была на горе храма Соломонова, то чем объяснить то, что подробный рассказ Прокопия, не оставивший без упоминания волов, возивших камни, не называет по имени свящ. места базилики, а описывает его частными чертами, как место, не имеющее имени в истории? 4) Хотя камни и колонны нынешнего подземелья по своей величине действительно могли требовать при передвижении 40 и более волов, но все они выбраны из белого малеки, а упоминаемого Прокопием огненного цвета камня (под которым вероятно нужно разуметь высший сорт миззи) в подземелье ель-Акса почти не видно, притом материал подземелья ель-Аксы взят очевидно из царских пещер, а вовсе не из какой-то неведомой скалы, ради которой Прокопий низводит на сооружение базилики божественное вмешательство. 5) По описанию Прокопия, недоставало места именно для алтаря базилики, между тем подземелье ель-Аксы соответствует боковым залам и идет во всю длину мечети. Есть и положительные возражение против принадлежности Юстиниану мечети ель-Акса. Каким образом христианская базилика Юстиниана, вопреки постановлением апостольским (11, 57), могла быть обращена алтарем не на восток, как базилика Константина великого в Иерусалиме, как храм того же Юстиниана в Константинополе, а на юг к Мекке? Где помещался христ. алтарь в мечети ель-Акса? Ниша, заключающая среднюю залу, слишком мала для христианского алтаря, а предположить, что она была больше, невозможно, потому что для этого требовалось бы закрыть боковые трансепты. Как мало имеет основания господствующий взгляд о сооружении Юстинианом ель-Аксы можно заключить из того, что доктор Сепп в своем новом сочинении Neuere architektorische Studien und Forschungen in Palästine нашел возможность доказывать, что Юстиниан построил не ель-Аксу, а центральное святилище харама – мечеть Омара. Привыкши слышать о повсеместном образовании мечетей арабами из христианских храмов, Иерусалимские христиане отнесли это общее предание и к ель-Аксе, соблазнившись, кроме неясного свидетельства Прокопия, устройством мечети, отчасти напоминающим христ. базилику. Но сходство плана мечети с базиликою не может иметь значение, после того как стали известными другие бесспорно арабского сооружение мечети с планом христианской базилики в Александрии и Каире. Сыны пустыни скоро уклонились от образца Меккского святилища и в своих собственных сооружениях стали под влияние византийское.
Время постройки ель-Аксы Джелаледин, арабский историк определяет так. «Божество имело свой престол в 3-х святилищах: в Меджид-ель-Харам (в Мекке), в Меджидь-ел-Акса и в Меджид-ель-Медина. Абу-Тарир спросил пророка: какое святилище древнее прочих? Кааба. А за тем ель-Акса. Сколько между ними? 40 лет». Итак, мечеть ель-Акса построена в 680 году (Кааба в 640 г.) христ. эры, между тем Юстинианова базилика в Иерусалиме должна была соорудиться в 532 году. К этому можно присовокупить и христианское свидетельство епископа Арвульфа (De loco S. с. 1), «о сооружении сарацинами при стене харама большего четырехугольного здание над остатками древних развалин». Эти развалины Антонин мученик (с. XXIII) называет «остатками портика Соломонова на южной стене, там, где сочится источник к Силоаму». Трудно предположить, чтобы христианский епископ не знал, что это четырехугольное здание построено не сарацинами, или что названные им развалины принадлежали не портикам ветхозаветного святилища, а базилике Юстиниана.
Но если даже будет доказано, что мечеть ель-Акса есть ничто иное, как христианская базилика Юстиниана, вопрос об её подземельях этим не будет решаться. Нужно было именно божественное вмешательство, чтобы архитекторам Юстиниана доставить древнееврейский камень с чисто еврейской обделкой.
Наконец на северной стороне харама остаток древней стены уцелел на самом северо-восточном углу в левой стороне нынешних ворот святилища. Этот остаток представляет северное продолжение первого восточного остатка, о котором мы говорили. Другой северо-западный угол северной стены, по описанию Флавия (Войн. V, 5. 8) «был занят крепостью Антонией, стоявшей там, где соединялись северные и западные галереи, на скале 50 футов высоты над площадью харама, обделанной в виде особенного контрфорса так, что на нее невозможно было взобраться». Эта крепость упоминается уже Неем. 2, 8. Ее вновь обстраивают и делают своей резиденцией Симон Маккавей, а особенно сын его Гиркан I (Др. XV, II. 4) и потом Ирод, назвавший ее Антонией, по имени своего римского друга. В мишне (Para 3, 1) эта крепость называется bira, греч. как доселе называются в Палестине большие дома, окруженные со всех сторон стенами. Позже импер. Адриан имел здесь свой додекапилон, или дом двенадцати столбов, фигурирующий на одной из его монет. Остатков крепости Антонии в настоящее время на северо-западном углу харама не видно, или она засыпаны песком и мусором. Только с площади храма можно видеть обделанную часть скалы, бывшую основанием крепости. Так как обделка этого угла вполне соответствует всем другим углам, то место крепости Антонии было приготовлено уже строителями первого храма. В настоящее время крепость Антонию сменили турецкие казармы, которые, впрочем, ныне переводятся за город на север от дамасских ворот, а здание нынешних казарм предположено к продаже. Я слышал, что это место рассчитывает купить английское консульство. – Иерусалимские чичероне под именем башни Антонии указывают остаток древней стены на северной стороне Страстной улицы, ниже казарм, по дороге к воротам Гефсиманским. Остаток имеет 41 фут длины и состоит из 8 рядов камней средней величины, грубой отделки с боссажем и очевидно лежащих не на своих первоначальных местах. Этот остаток стены, завершенный новейшей арабской, высокой башней, закрывает собою один, очень уважаемый иерусалимскими магометанами, двор, среди которого стоят гробницы некоторых из св. лиц ислама. Хотя вход в двор запрещен христианам, но я имел случай посетить его. В обделке одной из гробниц здесь есть остаток древней колонны розового гранита. Других древностей не видно. Вообще эта стена и этот двор могли принадлежать церкви или мечети и к древней крепости харама не имеют никакого отношение. У арабов это место называется «мечетью сражающихся с неверными». Занимающийся в настоящее время раскопками в Иерусалиме и Палестине, французский антикварий Ганно во дворе этой башни открыл мраморную плиту с греческою надписью, в которой он признал надпись храма Ирода, запрещавшую под страхом смерти вход во внутренний двор святилища иноверным.
Из предложенного обозрения остатков внешней стены площади харама видно, что: α) уцелели преимущественно угольные части стены; это могло зависеть оттого, что угольные части, как основные, обделывались наиболее прочно; β) уцелело больше камней первого периода храма, как более массивных, чем камней второго периода, материал которого, кроме большей удобосдвигаемости, привлекал внимание разрушителей храма и своею лучшей обделкой. Исключение представляет Стена плача, принадлежащая второму периоду, но уцелевшая вследствие особенного распоряжения Тита. γ) Уцелевшими от разрушения можно назвать подземные сооружения харама, по самому своему положению сокрытые от взоров разрушителей. Нынешняя арабская стена, возвышающаяся на описанных остатках древней стены и построенная из валявшегося на площади Мории древнего материала римского и византийского, а также из мелких кусков камня древнееврейского, представляет страшную противоположность древнему основанию своим до крайности плохим и разрушающимся видом. Смотря на эти новые арабские пристройки и сравнивая их с гигантскими остатками древнего харама, нельзя не повторить с талмудом: «ноготь у древних людей был крупнее, чем вся утроба нынешних (Ioma 9, 13).»
* * *
Перейдем теперь к внутреннему пространству харама, заключенному в описанных нами стенах, и прежде всего к среднему, самому возвышенному пункту площади, на котором, по Флавию, стояли стены иерусалимского храма и на котором в настоящее время стоит мечеть Омара.
Мечеть Омара занимает большую платформу, состоящую из натуральной скалы, выровненной и обложенной мраморным помостом. Платформа имеет 579 футов длины с севера на юг и 433 ф. ширины с востока на запад и возвышается над уровнем остальной площади средним числом на 15 футов. Платформа соединяется с площадью 8 широкими лестницами, из которых 3 на западной стороне, 2 на северной, 1 на восточной и 2 на южной. Число ступеней лестниц представляет следующие цифры: 8, 14, 21, 26, 8, 7, 12. Таким образом количество 15 ступеней, на которых Давид воспел псалмы восхождения и которыми, по преданию, восходила во храм дева Мария, будет представлять почти среднюю цифру нынешних ступеней платформы.
Такое место, как место храма Иеговы, не могло быть забыто по разрушении ветхозаветного святилища. Святость и слава этого места заставила импер. Адриана построить из развалин храма Ирода и на его месте римский храм Юпитера. По разрушении этого храма Константином, на его развалинах скоро было построено какое-то особенное небольшое святилище с алтарем крови Захарии, а в 363 году ими. Юлиан богоотступник позволил евреям во всем величии восстановить храм Соломонов, на его древнем месте. Именной указ Юлиана, призывавший евреев к сооружению храма, был дан рабби Гиллелю, правнуку известного рабби Иуды Ганаси. Но едва только был открыт древний фундамент и положены на нем первые камни, как страшное землетрясение сбросило их с места и самых строителей разогнало (Руфин. Hist. Eccles. 1, 37). Первые войны мусульманских завоевателей были за место Соломонова храма. В 636 году халиф Омар-бен-ель-Хаттаб, взявши приступом Иерусалим, обратился к тогдашнему иерус. патриарху Софронию с просьбой указать ему священнейшее место в городе для сооружения на нем достойного святилища. Патриарх показывал ему несколько свящ. мест на Сионе и Акре, но халиф оставался недоволен. Тогда патриарх сказал: «Я покажу тебе место, лежащее в середине мира, на котором было святое святых израильтян и на котором Бог явился Иакову» и взявши за руку халифа ввел его чрез ворота Барклея и связанный с ним проход на Морию к развалинам храма. Халиф осмотрел внимательно место и сказал: «Велик Бог! Это то самое место, о котором говорил мне пророк». Говоря это Омар снял с себя верхнюю одежду, набрал в нее мусору, покрывавшего остатки святилища и выбросил в вади Гинном. Его свита последовала его примеру и скоро таким образом расчистили свящ. скалу, на которой стоял храм и которую халиф немедленно назначил для нового магометанского храма. Первоначально построенная здесь мечеть Омара описывается (Arculf. 1. 1) как «четырехугольное здание, стоящее на развалинах Соломонова храма и вмещающее в своих стенах 3,000 человек.» Но следующие халифы нашли сооружение Омара не вполне достойным святости места. И вот в 686 году халиф Абд-ель-Мелек, в виду постоянных посещений Иерусалима пилигримами, задумал постройку новой мечети на этом месте по новому восьмиугольному плану, на которую постройку он издержал 100,000 динариев, т. е. семилетнюю подать, получаемую им из Египта. Это, кажется, единственное основание предания, передаваемого уже Егезиппом (114 и дал.), что вторую мечеть, называвшуюся так же именем Омара, строили египтяне в честь какого-то божества Аллагивуй (Аллаха). Постройка мечети поручена была архитекторам Ридша-бен-Гайва иезид-бен Салям. На сооружение святилища смотрели как на священнодействие и даже рабочие, прежде чем могли подойти к свящ. камням, должны были «пред началом дня идти в бани Соломона для очищения и затем в особое отделение, где им выдавались праздничные одежды». Построенное таким образом святилище считалось чудом мира и редкий богомолец, идущий в Мекку, не заходил посмотреть священную скалу алтаря Соломонова. Между тем легкая и смелая постройка мечети не могла противиться частым в Иерусалиме землетрясением и не один раз разрушалась. Но, так как в этих землетрясениях иерусалимские правители видели гнев Божий на храм недостойный своего места, то, при каждом возобновлении мечети, увеличивали её великолепие. Особенно большие повреждения потерпела мечеть в 1060 году, когда упала крыша здание с 500 люстрами; по этому случаю мусульмане ожидали больших несчастий для всех последователей пророка. Эти ожидание оправдались чрез 30 лет посте этого, именно в 1099, когда мечеть Омара наполнилась магометанскою кровью, пролитой крестоносцами. Пораженные величием Омаровой мечети, франки, овладевшие Иерусалимом, считали ее сначала подлинным ветхозаветным храмом и назвали его храмом Соломона или храмом Господним templum Domini. Все здесь блестело золотом и серебром: люстра и дверные замки были украшены драгоценными камнями. Но особенное внимание крестоносцев в мечети Омара обратил на себя спускавшийся с купола золотой сосуд весом в 200 марок, вмещавший в себе, по одним преданием, кровь Иисуса Христа, по другим манну. В разных местах мечети были найдены статуи, запрещенные магометанам, но хранившиеся потому, что они были найдены на площади харама. Прекрасная мечеть имела восьмиугольную форму и венчалась сферическим куполом. Сами крестоносцы не изменили ничего в устройстве мечети и ограничились тем, что среди мечети на свящ. скале поставили христианский алтарь, а стены мечети расписали христианскими картинами. В третий день Пасхи 1136 г. легат Альберих совершил торжественное освящение храма Соломонова в христианскую церковь. Иоанн Вюрцбурский, видевший христианский храм, преобразованный из мечети Омара, говорит (стр. 495 и дал.) о многих надписях храма, которыми крестоносцы воспроизводили пред посетителями замечательнейшие событие, совершившиеся на этом месте. В этот храм трехлетняя дева Мария была принесена Богу. Это событие напоминалось надписью:
Virginibus septem virgo comitata puellis
Servitura Dei fuit hic oblata triennis.
Без сомнения, пресв. Дева получала здесь небесные утешение:
Pascitur angelico virgo ministerio.
Из этого храма Иисус Христос изгнал торгующих. В воспоминание этого события на правой стороне храма показывали камень, освященный стопами Спасителя, окруженный множеством ламп. К этому камню присоединяли другой, на который Иисус Христос был принесен во храм в первый раз, как на алтарь. Картина, изображавшая это событие, имела, надпись:
Hic fuit oblatus Rex regum virgine natus
Quapropter sanctus locus est hic jure vocatus.
За этою надписью читали другую:
Hic Іаcob scalam vidit, construxit et aram
Hinc locus ornatur qui sanctus jure vocatur.
В этом храме Иисус Христос освободил блудницу, сказавши её обвинителям: «Кто без греха, тот пусть первый бросит в нее камень». В изображавшей этот случай картине лик Спасителя имел надпись:
Absolvo gentes sua crimina corde fatentes.
Сюда входил и выходил Захария, когда возвещено ему было рождение сына. Надпись изображение говорила:
Ne timeas Zacharia exaudita est oratio tua.
Вблизи восточной стены была капелла в воспоминание мученичества ап. Иакова. Надпись гласила:
Iacobus Alphaеі Domini similis faciei,
Finit pro Christo templo depulsus ab isto.
Sic Iacobum justum praedicantem publice Christum
Plebs male mulctavit, fullonis pertica stravit...
Piscator vita vere fuit Israelita
De templi pinna compulsus fraude maligna
Ad Christum laetus migravit recte peremptus.
Над четырьмя воротами храма с наружной стороны были особенные надписи. На западе:
Pax aeterna ab aeterno Patre sit huic domui
Benedicta gloria Domini de loco sancto suo.
На юге:
Bene fundata est domus Domini supra firmam petram
Beati qui habitant in domo tua, in saecula saeculorum laudabunt te.
На востоке:
Vere Dominus est in loco isto et ego nesciebam.
In domo tua Domine omnes dicent gloriam.
На севере:
Templum Domini sanctum est
Dei cultura est, Dei aedificatio est.
В 1187 году золотой крест был сброшен с храма магометанами и снова поставлен полумесяц, надписи христиан изглажены и стены омыты розовою водою, доставленною сюда на 500 верблюдах. В 1229 году Фридрих II заключил с султаном Камалом договор, по которому христиане и магометане совместно должны были владеть мечетью Омара, и в храме была поставлена символическая статуя общего братства. Около 1250 года магометане снова безраздельно владеют мечетью и перестраивают ее. По свидетельствам XV века, мечеть Омара своею красотой привлекает многие тысячи богомольцев и путешественников. В 1721 году эфенди Мустафа, по повелению султана Сулеймана, занимается «устройством и украшением дома на месте храма Давида». В 1815 мечеть Омара пострадала от пожара, следы которого были изглажены только в 1818 году. В настоящее время заново обделываются мозаические стены мечети, как говорят, вследствие замечания, сделанного султану его Величеством импер. австрийским по возвращении его из пилигримажа в Иерусалим, после освящения суэсского канала.
Мечеть Омара, по-арабски Куббет-ес-Сакра купол скалы, в нынешнем виде имеет форму правильного восьмиугольника 159½ футов в диаметре. Восьмиугольник стены венчает круглая башня, около 100 футов в диаметре, которая в свою очередь держит покрытый медью синий купол, увенчанный громадным серпом луны, концы которого соединяются. Имея вверху форму легкой огивы, купол несколько вогнут в нижней части, что дает ему особенную летучую легкость. Башня под куполом имеет лазуревый цвет с фантастическими линиями золотистых надписей из Корана. Самый восьмиугольник в нижней половине покрыт белым мрамором, а в верхней муравленною черепицею и мраморными плитами изящных рисунков, преимущественно голубого цвета. Мечеть имеет 4 ворот стрельчатой формы, обращенных на 4 страны света и поддерживаемых колоннами. Внутри мечети вся средина восьмиугольника под куполом занята живой натуральной скалой, служащей для пилигримов главным предметом поклонения и давшей имя купола скалы всей мечети. Таким образом все здание мечети Омаровой имеет целью только прикрыть собою место бывшего святилища Иеговы от случайных осквернений. Скалу окружают четыре массивных столба и 12 колонн поддерживающих верхнюю башню мечети с куполом. Стволы колонн прекрасного мрамора собраны из различных древних сооружений, как это видно из разнообразия их диаметров и неполного соответствие их своим капителям, приближающимся большею частью к Ионическим. Между кругом этих колонн и восьмиугольником наружной стены есть еще средний восьмиугольник, образуемый 8 большими столбами и 16 колоннами, стоящими на неравных основаниях, с византийскими капителями. Над колоннами идет горизонтальная архитрава, поддерживающая ряд полукруглых арок, украшенных мозаикой. Плоский потолок над арками соединяет восьмиугольник стены с башней купола и покрыт богатой позолотой. Окна имеют формы приниженной огивы и блестят разнообразием и пестротой цветов стекла, впрочем, нигде не имеют фигур, как окна готических церквей.
Впечатление, производимое видом мечети и её священной скалы, слагается из представления противоположностей: легкости и грубости, красоты и безобразия, закономерных форм и отсутствия всякой определенной формы… Это сочетание противоположностей – единственное, чего не может видеть равнодушно восточный житель. Представьте, что вы идете среди большого красиво обделанного двора, всходите по мраморным лестницам, под изящными арками, чрез красивую платформу к храму, обделанному в виде игрушки; среди прекрасных колонн входите в блестящую золотом внутренность святилища и затем, когда затронутое воображение ожидает встретить нечто необыкновенное, в самом центре святилища, видите пред собою нагую, изрытую морщинами, известковую скалу. Можно ли оставаться равнодушным пред такою перспективой? Что касается меня, то даже после привычки к этой картине, во время посещений мечети, я всякий раз чувствовал некоторую робость при виде этой немой суровой скалы в каком-то, одним исполинам свойственном спокойствии лежащей под красивейшим сводом и обрамленной в золото и кристалл.

Рисунок 14. Гумно Орны или скала мечети Омара

Рисунок 15. Разрез по линии А. В.

Рисунок 16. Разрез по линии С. Д.
Скала мечети в самом высшем своем пункте возвышается на 12 футов над полом мечети и на 2440 ф. над уровнем средиземного моря и имеет 60 ф. длины на 50 ширины. Кроме своей натуральной неровности, поверхность скалы имеет еще искусственные следы, которые остались на ней от времени крестоносцев, приспособлявших ее к христианскому алтарю. Ясно можно отличать на скале вырезки, сделанные при обшивке скалы мраморными плитами, которые впоследствии были сброшены султаном Салах-ед-Дином. Алтарь, стоявший на вершине скалы на восточной стороне её, был окружен железными перилами, вбитыми в скалу, глубокие следы которых видны доселе. К алтарю восходили по узким ступеням, выдолбленным в скале; следы их можно видеть доселе на северной стороне скалы. На такое обращение крестоносцев с свящ. скалой иерусал. имамы горько жалуются до настоящего времени, прибавляя при этом, что франки во время владения мечетью Омара отбили большие куски св. скалы и перенесли их частью в Константинополь, частью в Россию, где продавали их на вес золота (Schahab-ed-Din, 1.). Под юго-восточной частью свящ. Скалы есть не менее священная для магометан пещера, известная под именем пещеры духов. В нее сходят по лестнице в 16 ступеней. При глубине 11 футов под полом мечети, пещера имеет длины от ЮВ на СЗ 25 футов, ширины от ЮЗ на СВ 20 футов и 6000 квадратных футов в объёме. Пещера должна была быть меньше в своем натуральном виде; следы долота и карпели в потолке показывают, что она была расширена впоследствии. Каждый угол пещеры имеет у имамов особенное имя и связан с особенным воспоминанием: в северо-восточном углу небольшая мраморная плита носит имя Соломона; юго-западный угол посвящен Давиду; есть также место Авраама и Илии. В самой средине пещеры есть колодезь, в настоящее время заложенный и известный под именем источника духов.

Рисунок 17. Пещера духов
До 1790 года, говорят имамы, источник духов был открыт и происходили постоянные сообщения человека с миром потусторонним, но, после того как одна иерусалимлянка нарушила спокойствие многих семейств своими сношениями с умершими, источник духов был закрыт.
Здесь мы должны ближе войти в культ свящ. скалы мечети Омаровой, так как он, во всяком случае, имеет в своем основании древнее предание о святости скалы и площади харама. Нужно знать, что почитание камней очень распространено на нынешнем востоке. Не много можно указать замечательных событий в восточной истории, воспоминание о которых не сосредоточивалось бы около какого-нибудь камня, имевшего действительную или воображаемую связь с событием. Некоторые камни утратили всякие определенные предания и почитаются только как немые свидетели древности, всегда заслуживающей почитания. В Алеппо у северных ворот города Bab-en-Nassr есть камень, служащий предметом общего почитания для всех классов общества и притом для всех религий, хотя никто не знает причины такого почитания. В Мекке 360 камней разделяют между собою поклонение правоверных пилигримов, которые при этом не интересуются знать, за какие достоинства эти черные и серые глыбы принимают их коленопреклонение и целование. Профессор Сепп (Ierusalem und das heilige Land) нашел в этом почитание камня как камня, т. е. как твердой точки, на которой человек может смело опереться, не рискуя погрязнуть в преисподнюю, которую в первые времена после всемирного потопа человек ожидал встретить на каждом шагу. Это тоже самое, что известное в Финикии и у других древних народов почитание береговых скал, этих вечных стражей земли против враждебных попыток моря и этих спасительных маяков, своими вершинами указывающих путь к спасению борющемуся с волнами человеку. Такого рода значение имела, по Сеппу, с древнейшего времени и скала Мория. Пещера под скалой и источник – это пропасть откуда вышли на землю Воды потопа, а самая скала – это страж, поставленный удерживать новые стремления со стороны бездны залить земную поверхность. В таком смысле почитали скалу Мории потомки Ноя, имевшие здесь первый жертвенник послепотопного мира. В подтверждение своей теории Сепп приводит аналогии. По свидетельству Луциана, храм Геры в Гиераполе, построенный Девкалионом, под алтарем своим имел расселину, в которую ушли воды Девкалионова потопа. На скале Парнаса тот же Девкалион строит первый человеческий алтарь, а у подошвы Парнаса в Дельфах, ставит оракульский треножник над пропастью, в которую изливался свящ. ручей. Такой же алтарь в Афинах указывал место, где богиня алтаря вела некогда войну с владыкой моря, хотевшим затопить её святилище. Древнейший храм Юпитера олимпийского стоял над расселиной неизмеримой глубины. Такой же храм на скале с пещерой и источником воды представляло и иерусалимское святилище, жилище Иеговы, веселившееся, по Пс.46:5, речными потоками. Как ни много поэзии в этом взгляде, и как ни нравится он Вогюэ (Le temple de Jérusalem. Préface III), его нельзя назвать ни основательным, ни научным. Самостоятельных источников, которые можно было бы сравнить с пропастями Девкалиона, вовсе нет на Мории, и все предание знают, что площадь харама всегда питалась дождевою водою, собранной в цистерны, или же водою, проведенной сюда каналами из далеких Соломоновых прудов. Эти, с большим трудом собираемые на площади харама, сторонние воды ничем не напоминают запечатанных и постоянно угрожающих человеку вод Девкалиона. Напротив, как вообще в Палестине, так и на горе храма источник считался только символом радости и утешения, (как говорит и место Пс.46:5, приводимое самим Сеппом) и никому никогда не напоминал ужасов потопа. Положим, что в библии часто говорится о береговых скалах, удерживающих напор волн, и море изображается в угрожающих картинах; но что значат эти поэтические изображение для культа? Мало того, сами по себе они изображают всегда только бессилие моря что-нибудь сделать земле и человеку. Море, говорит один арабский поэт, для жителя Иерусалима казалось рабом, лижущим стопы своего берегового владыки. Культ Девкалиона мог развиться только на островах или на крайней береговой полосе, а в городе Давида Девкалиону пришлось бы ожидать от смертного как милости устройства цистерны для хранения влаги, чтобы не умереть от руки Тифона, подобно Озирису.
По-нашему мнению, скала харама имеет совершенно другой смысл. Нужно представить себе Иудею страну скал и скал, страну бесчисленных пещер, устроенных в жилище человеку заботливой природой. И теперь еще многие селения в Иудее почти не имеют других сооружений, кроме пещер. Что такое напр., Силоамская деревня, составляющая загородную часть самого Иерусалима? Это – вечно стонущая перекатывающимся эхом сводов группа пещер. Когда нужно было человеку строить дом Божеству (Вефиль), первым естественным планом для него была так-же простая пещера, при которой устроился жертвенник, получавший имя от какого-либо свящ. воспоминания. И доселе еще можно видеть на горах Иудейских, при входе больших пещер, особенные углубления и очаги, удовлетворяющие всем требованием жертвенника. Конечно, как вообще при доме, так и при Вефиле, нужно было иметь воду, потому что вода главное условие существования на востоке и потому что она необходима для омытия жертвенных частей, восходивших на алтарь. Таким образом представление источника, нераздельное от представления частного жилища первобытного человека, нераздельно и от представления Вефиля. Но так как в Иудее, по ее высокому положению, нет готовых источников и воду держат только глубокие места, то явилась необходимость при жилище или Вефиле копать глубокие колодцы для получения воды; причем для большей безопасности такие колодцы копались в самых пещерах, как это можно видеть в больших пещерах Бейт-Джибрина и Дер-Дюббана. Таким образом, при каждом жилище первобытных жителей Иудеи и при каждом первобытном Вефиле, можно представлять все, что находится в скале мечети Омара.
У арабов есть трогательное сказание касательно того, почему скала Мории выбрана для мечети Омара. «Некогда, когда Иерусалим был еще полем возделываемым, площадь харам-ес-шериф принадлежала двум братьям, из которых один был женат и имел детей, а другой был одиноким. Вместе они наследовали этот участок от матери и обрабатывали его сообща. Вот пришло время жатвы. Братья вышли на ниву, навязали снопов и сложили их в два стога, оказавшиеся совершенно равными. Во время ночи меньший брат сказал в сердце своем: «я одинок, а у моего брата жена и дети; несправедливо чтобы мне досталась такая же часть, как и ему; возьму-ка я часть снопов из моего стога и перенесу в его стог; он не заметит и оставит их за собою». Сказал и сделал. Между тем другой брат, пробудившись ночью, сказал жене своей: мой брат молод, живет один и нет ему помощи в труде его и утешение в заботах его; несправедливо, чтобы за свои усиленные труды он получил часть равную нашей, которую мы собрали с тобой без особенного труда; возьмем часть снопов нашего стога и положим тайно в его стог; он не заметит и оставит их за собою». Сказали и сделали. Выйдя на другой день на поле, братья увидели два стога, как и вчера совершенно равными; но ни тот ни другой не могли дать себе отчета в совершившемся чуде. Тоже они повторяли несколько ночей сряду, но так как каждый из них переносил такое количество снопов, какое возвращал другой, то стоги по прежнему оставались равными. Наконец в одну ночь братья стали на страже, чтобы узнать причину чуда и оба встретились с снопами, которые каждый приносил в подарок другому. Место, где такой добрый помысел пришел разом двум людям и так настойчиво приведен в исполнение, было приятно Богу и люди благословили его и избрали для дома Божия».
Это арабское сказание представляет сказочное развитие библейского факта, что храм Соломонов был построен на гумне Орны. Что магометане помнят это предание, видно из нынешнего названия пещеры и колодезя мечети Омара именем Орны, которое, впрочем, как не представлявшее прямого смысла для арабов, изменено по созвучию в Аруа или Бир-Аруа источник духов. И независимо от приведенного арабского сказание о двух братьях, избрание гумна Орны местом ветхозаветного святилища говорило человеку, что опаленное солнцем место его труда, место, где он приобретает честный хлеб для себя и своего семейства угодно в очах Божиих больше, чем все места замечательные и историческими воспоминаниями и красотой видов, но не освященные трудовым потом человека. В этом отношении храм Иеговы стоял в глубокой противоположности с святилищами хананейских культов, сосредоточивавшихся всегда около красивых мест прогулок и удовольствий в зеленых рощах под прохладною тенью. Прямо против сумрачной горы Мории и гумна Орны в цветущей долине Иерусалима Тофет было капище Молоха, культ которого также противоположен культу Иеговы, как гумно работящего селянина гульбищу и гарему. Каждый раз, когда первые снопы, собранные человеком с поля приносились по закону с отдаленных мест в святилище Иеговы, на площади харама оживала картина первоначального вида Мории как гумна Орны. Если в приведенном арабском сказании площадь харама называется нивою, а в библейской истории гумном Орны, то в этом нет никакого противоречия, потому что до настоящего времени в Палестине гумно устраивается среди поля, на возвышающейся части скалы, чтобы на открытом ветре удобнее было провеять смолоченный хлеб. Такие гумна, оставшиеся от древности, я видел в окрестностях Хеврона, на горе Самуила, в Бейт-Джибрине и др. м. Скала, выбранная для молотьбы хлеба, всегда имеет легкий склон на одну сторону для стока воды и по величине бывает около 18–24 шагов в диаметре, смотря по предполагаемому количеству хлеба. Сложенная из мелких камней, невысокая ограда окружает гумно со всех сторон, чтобы зерно не попадало в сторону. Поверхность площади гумна никогда не была выравниваема надлежащим образом для того, чтобы лучше растирались колосья при восточном способе молотьбы ногами волов и ослов. Пещера и источник не менее, чем при жилище человека, необходимы в поле для отдыха жнеца в палящий полдень, для малолетних членов семейств, которые обыкновенно проводят дни полевых работ также на ниве с отцами и матерями, для молотящих животных, требующих на востоке частого освежения водой. Таким образом, гумно, по своему устройству, удовлетворяло всем требованием жертвенника и могло служить богослужебным целям. Когда пророк Гад передал Давиду повеление Иеговы принести жертву на гумне Орны, царь не высказывал никаких затруднений по поводу принесения жертвы на этом месте и без всяких приготовлений немедленно идет для принесение жертвы, конечно уверенный, что на гумне богатого Орны найдется все нужное для жертвоприношения. Орна, узнавши намерение царя, говорит, что у него все готово: «вот волы для жертвы, телеги и упряжь воловья для дров». (2Сам. 24 гл.) Эти обстоятельства показывают, что принесение жертв на гумне, вместо избрания особенных жертвенников, не было неизвестно в Палестине, особенно в случаях поспешных и безотлагательных жертвоприношений, так что таким образом гумно Орны имело отношение к патриарх. вефилям. Если вефили строились обыкновенно на скалах, чтобы акт всесожжения мог исполниться торжественно и открыто пред лицом и неба, и земли, и преимущественно в таких местах, где кочевому человеку, совершителю жертвы, удобнее было остановиться для отдыха и пиршества, часто соединявшегося с жертвой, след. где была пещера и готовый колодезь, или по крайней мере удобная для прорытия колодца местность, то все эти условия устройства жертвенников были, говорим, условиями надлежащего устройства гумна, у старательного землепашца. Таким образом, нет никакого противоречия в том, что предания связывают скалу Мории с вефилем Мелхиседека, Иакова и др., и в тоже время делают ее местом молотьбы хлеба среди поля и наконец опять жертвенником Давида. Знал ли Орна о том назначении, какое дали горе Мории Мелхиседек и Иаков, или нет, во всяком случае он мог, не оскверняя связанных с местом воспоминаний, избрать его для своих хозяйственных работ, как впоследствии нива и гумно Орны снова обращены в жертвенник и место ветхозаветного храма, принимавшего в свои дворы снопы полей, а в святом святых хранившего манну, эту в небесной житнице приготовленную для человека пищу.
Спрашивается теперь как примирить с гумном Орны воды Девкалиона? Там, где, как во храме Геры в Гиераполе, как в Девкалионовом святилище Додоны или храме Зевса в Афинах, еще бурлят неустоявшиеся воды потопа, там мог ли устроиться человек с земледельческими орудиями для приобретения средств жизни? И можно ли представлять Орну в невинности ребенка, спокойно играющего на скале, когда пред ним зияет смертью преисподняя? Так как, вообще говоря, устройство гумна представляет дальнейший шаг в развитии человека, то если и были связаны с горой Мория в хана ейский период какие-либо неестественные сказания, они должны были отойти на задний план для трезвого духа земледельца Орны.
Несколько более приложения находит взгляд Сеппа в том значении, какое получила скала храма Иеговы в талмудической мифологии. Вот наиболее любопытные из относящихся сюда мест. В таргуме Ионафана на Исх.18:30 читаем: «в мире есть камень фундамента, которым Бог запечатал от начала устье преисподней и на этом камне написано святейшее, имя». В талмуде (Succa 53, 1) этот камень описывается подробнее: «в то время, когда Давид рыл основание храма, прорвалась подземная пропасть и хлынула на мир. Тогда Давид воспел 15 псалмов степеней и бездна возвратилась назад. Давид сказал: кто напишет св. имя на камне и заложит им бездну? Имя Божие вдруг явилось написанным и хаос заключился в своем месте». Таргум первую песнь степеней на этом основании надписывает: «песнь воспетая Давидом на ступенях пропасти». В каббалистической книге Ialkut chadasch (35, 2) это сказание передается так: «когда Адонай творил мир, Он поставил среди бездны камень, на котором начертал свящ. имя. Всякий раз, когда бурные волны преисподней поднимутся до камня, они убегают назад от страха св. имени. Этот камень лежит до нынешнего дня над пропастью и держат мир в его нынешнем виде. Когда кто-либо делает ложную клятву, камень погружается в воду и бездна готова поглотить мир. Тогда Бог посылает ангела, по имени Азариэла, имеющего 70 ключей к таинству свящ. имени. Ангел пишет снова св. имя и камень занимает прежнее место». «Когда Бог творил мир, он начал с св. святых, или с камня основания, который называется камнем шатия, от которого распростерты четыре страны света». Этот камень шатия по мишне (Ioma, 5, 2) был «в дни пророков внутри святилища, имел высоты три пальца, и в день очищения на нем первосвященник ставил курящуюся кадильницу.» Маймонид же объясняет: «на западной стороне храма во св. святых был камень, на котором стоял ковчег завета, урна с манной и жезл Ааронов. Но Соломон, предвидя разрушение храма, сделал в скале святилища особенное подземное место для сокрытия ковчега в случае надобности. В этом тайном месте царь Иосия и сокрыл священнейшие принадлежности святилища, так что во втором храме их уже не было, но они невидимо стоят доселе в пещере скалы (Massechet. Ioma р. 54)». Вместе со свящ. принадлежностями Соломонова храма, пещера скалы хранит и души всех потомков Авраама, которые отсюда посылаются в мир при рождении тела. Камень Шатия имеет далее вразумляющую и учительную силу и с его подножие Соломон видел весь мир от края до края и понимал язык птиц. Наконец камень шатии есть сам Мессия, надежда и спасение мира.
Как видно из этих свидетельств, предания о скале Соломонова храма в период талмудический стали на пантеистическую почву. Впрочем, здесь нужно различать отдельные периоды. По Мишне, объясненной Маймонидом и представляющей остаток наиболее древних и чистых преданий, камень скалы служил основанием для ковчега завета, следовательно, находился в стенах св. святых, выступая на три пальца высоты над уровнем остального помоста храма. Хотя указываемая здесь высота, сравнительно с нынешнею высотой скалы мечети Омара, весьма мала, но это объясняется другим свидетельством, что открытый теперь над полом вход в пещеру был невиден, следовательно, уровень пола святилища был выше, чем в настоящее время. Предполагаемое сокрытие здесь ковчега завета может быть имело историческое основание, так как в древних египетских храмах всегда были особенные сокрытые подземелья для хранения священных принадлежностей святилища. Все другие из приведенных талмудических и раввинских свидетельств уходят в область фантазии, имея исходной точкой свободное понимание мест св. Писания. Если у пророков Иерусалим есть нравственное средоточие вселенной, то в раввинской мифологии скала Мории сделалась вещественным центром мира, чем-то до мирным, откуда Иегова начал творение всего сущего. Мир как вызван из беспорядка и хаоса всемогуществом Божиим, так и поддерживается силою его имени, без которого все снова возвратилось бы к безобразию. Точно также и в частности в народе еврейском святилище служит центром, от которого исходит жизнь и благосостояние страны, и частная измена святилищу грозит гибелью целому. Разбегающиеся буквы св. имени это – колеблемые народным легкомыслием основы божественного, закона, на которых держится мир. Первый строитель храма и религиозного устройства в народе встречает пред собою прорвавшуюся бездну язычества. Чтобы создать стройное целое, нужно было примирить все бродившие в народе, несогласные элементы и подавить все, положительным образом враждебное новому устройству царства Божие. И Давид умиротворяет бездну своею песнью. Это Орфей, под звуки которого убегается основание дома Иеговы. Чем выше поднимается его песнь, чем торжественнее восходят по ступеням жизни иудейской свящ. звуки его лиры, тем глубже оседает все грубое и языческое, бездна сходит с лица земли и имя Иеговы, семьдесят раз священное, великое и сильное устраняет все силы, враждебные народу и царству Божию. Только с этого основного камня в святилище, держащего нравственный баланс всего сущего, ясен весь мир со всеми его таинствами; чириканье птицы с этой священной религиозной высоты есть не простой звук, а прекрасное, полное значение и смысла, слово. От того для великого строителя храма Божия Соломона, доколе он стоял на высоте своего избрания, не было тайн ни на земле, ни в преисподней. Служа исходным пунктом при творении физической и гражданско-религиозной жизни, скала святилища служит источником и чисто духовного мира и из её пещеры выходят души всех поколений, держащих знамя Иеговы. Происхождение душ из скалы харама, выводилось из буквального объяснение Ис.51:1, где говорится «о скале, из которой иссечен народ и о рве, из которого он извлечен». Наконец этот камень содержит все будущее народа, все чего он может ожидать; это его Мессия. Как соединяющий в себе начало и конец бытие всего мира и все нити человеческой и народной жизни, камень святилища не может быть грубою инертною массою, но есть камень жизни, выражающейся в движении и колебании; в этом значение его имени шатия (от שְׁתִי дрожать). Представленное Сеппом производство имени шатия от Сифа, изображаемого им в качестве то представителя Ноахидов в их служении камню, то ханаанского божества, играющего роль Тифона, победителя водной стихии, не имеет никакого основания, – Со времени разрушения храма пали основание жизни Израиля, и камень потерял свою чудодейственную силу и сделался мертвой, неподвижною массою. Есть благочестивый обычай, говорится в Ier. Fes. гл. 4, по которому женщины от начала месяца Аба до 9-го числа, в которое воспоминается падение храма, не работают веретеном (движение которого наиболее выражают стремительность и скоротечность земной жизни), потому что в это время погибла живая движущая сила скалы храма. Но прежде чем остановился чудесный камень, Иисус Христос, по раввинским сказаниям, посещая храм, взял на себя его силу, прочитал свящ. имя, начертанное на камне и чрез него творил чудеса и основал христианство.
Но так как независимо от камня нет для евреев источника народной жизни, то в будущем мире он опять откроет свою чудодейственную силу и имя Иеговы снова явится на его челе. Вот что говорит об этом одно позднейшее сказание. «Есть чудесный камень в Риме (по другим в Ниневии.) Некоторой божественной силой он принял образ женщины несказанной красоты. Многие неверные народы приходили и бросали нескромные взгляды на прекрасный образ, пока наконец о чудо! похотливые взоры зажгли холодный камень; мраморная жена зачала и родила сына Армилла, которого христиане называют антихристом; он 12 локтей ростом, имеет золотистый цвет волос и будет царствовать как бог над эдомитянами. Но чрез 990 лет по разрушении Иерусалима из источника Шиптим в Иерусалиме выйдет Менахем, сын Аммиэла, противник Армилла. Армилл созовет все народы в долину Иосафата и сразится с израильтянами и поразит их. Тогда придет Мессия сын Давидов и убьет самого Армилла. Это седьмое знамение кончины мира». –Таким образом, во времена господства чуждых евреям сил, камень движения и прогресса переменил свой фокус и перешел в Ниневию и Рим, т.к. как еврейская история своих главных врагов ожидала сначала с берегов Ефрата, а потом в период средневековых гонений из Рима. В прекрасных формах, какие камень принимает в Риме, нужно кажется видеть величие европейской цивилизации. Но будет время, когда центр мирового тяготения снова перейдет на скалу харама и на театр древнееврейской Истории.
Если камень храма остановился для евреев, то тем подвижнее он для нынешних владетелей Иерусалима магометан, ушедших еще далее в область мифического со своими сказаниями об основаниях Соломонова храма или мечети Омара. Уже один вид внутренности Омаровой мечети, этот конца не имеющий переплет стенной мозаики, дышащий фантазией и символизмом, эти таинственные урны на мозаике, эта причудливая смесь цветов зеленого, голубого, красного, синего, издающих от разноцветных окон и сообщающих предметам какой-то фантастический колорит, это море отливающегося огнями кристалла, в котором плавают агатовые рыбы и среди этого моря грубая суровая вершина скалы рассчитаны на то, чтобы перенести воображение в область первобытного хаоса, соединяющего самые несоединимые элементы. «В Иерусалиме или Бет-ель-Макдес Бог говорил скале: ты мое основание, от которого я начал создание мира; кто тебя любит, любит Меня и того Я люблю; кто тебя не любит, того Я не буду любить». Но главным образом арабские сказания о скале харама обращаются около идеи движения и колебания. «Сойдя в пещеру скалы, говорит Медшир-Эд-Дин, я видел чудо из чудес: трепещущая скала висела надо мною в воздухе, подобно орлу, ничем не поддерживаемая». Если в талмудической мифологии камень колебался только как веретено, то здесь размах его качаний равен всему пространству между небом и землею. Магомет, возносясь на небо, стал ногой на скале харама и воспользовался её возносящим вверх движением. Уже Магомет и скала были близки к воротам рая и земная персть, при виде красоты небесного жилища, издала крики радости, подобно тому одушевленному византийскому камню, который излился в гармонических звуках от прикосновения к нему арфы Орфея. Магомет повелел скале замолчать и вошел в рай один, оставив ее возвратиться на землю. Скала возвратилась, но не упала на землю, а продолжает колебаться между небом и землею, слишком гордая сознанием совершенного ей пути к небу, чтобы снова смешаться с прахом и слишком еще слабая, чтобы переступить небесную границу.
С печальной цепи тяготенья
Земная масса сорвалась
И как в порыве вдохновенья,
С кипучей думой отторженья,
В отчизну молний унеслась.
Рванулась выше, но открыла
Немую вечность впереди,
Чело от ужаса застыло
А пламя спряталось в груди.
И вот в эфире отдыхая,
Висит громада вековая
Чужая долу и звездам;
Она с высот где гром рокочет
В мир дольный ринуться не хочет,
Не может прянуть к небесам.
Подобные мотивы в религиозной поэзии арабов стали известны после того, как Магомет материализовал небо, наполнив его земными видами и предметами наслаждения. По сущность их выражает только вечный процесс бытия, стремящегося из грубых слоев жизни к высочайшему совершенству. При скале Омаровой мечети есть даже особенный показатель времени, остающегося для праха до его перехода, в область небесного. На северной стороне скалы в мечети Омара показывают вставленную в пол плиту черного мрамора с 23 яминами, из которых три имеют вбитые железные гвозди, а остальные пусты. По толкованию имамов в конце каждого великого периода человечества один из гвоздей выскакивает. Так как до настоящего дня уцелело только три гвоздя, то отношение прошедшего к будущему до кончины мира равно отношению 20 к 3. Согласно с этими вычислениями, выражающими ту же идею нетерпеливого стремление к своему концу, мусульманская легенда заставляет течь реку времен, состоящую из соединения четырех райских потоков, сливающихся вместе под той же скалою мечети Омара, подобно четырем рекам индийского рая, соединяющимся в городе Божием Meru (mors смерть) или царстве вечного покоя. Как частнейшее развитие общей идеи движения мировых сил, в другой мечети харама ель-Аксе указывают две колонны, находящиеся в вечном невидимом движении; подобно скалам Симилегадским, они то сходятся вместе, то снова расходятся, и смерть грешнику, дерзнувшему приблизиться к месту их движения, тогда как при приближении праведника колонны сами сторонятся и оставляют свободный проход. Впрочем, прибавляют арабские сказания, в новейшее время, вследствие грехов человеческих, скала харама не имеет прежнего значение. В то время как камень каабы, павший с неба белым, как снег, почернел от человеческих преступлений, и подвижный камень мечети Омара начал ослабевать и причинять зло людям (напр., своим видом он поразил одну приблизившуюся к нему женщину), вследствие чего султан Сулейман сделал скале каменные подмостки, на которых она теперь кажется лежащей, вместо прежнего открытого колебания в воздухе; вместе с тем и источник духов в пещере скалы, служивший прямым путем в царство теней, закрыт тяжелой дверью.
Замечательно, что и христиане платят дань этому восточному верованию в одушевленные и жизненные камни. В противоположность камням харама, греки указывают в храме гроба Господня одушевленные, невидимо движущиеся, колонны между капеллой Лонгина сотника и темницей Спасителя, среди которых не смеет ступить нога грешника. В пределах древнего Тарса указывают вертящийся камень под именем гробницы Сарданапала. Во многих местах Европы доселе еще живо верование Друидов в движущиеся и предвещающие Камни.
Чтобы ввести христиан еще ближе в поклонение живой скале мечети Омара, доктор Сепп (Neuere architektonische Studien in Palästina 5. 23) делает оригинальное предположение, что здание мечети Омара есть ничто иное, как христианская церковь, построенная императором Юстинианом. Еще прежде Сеппа английский исследователь Фергюссон и немецкий Унгер предлагали христианам для особенного поклонения скалу и пещеру мечети Омара, называя ее местом погребения Спасителя. Не задумываясь над существующими доселе памятниками, игнорируя четыре угла, уцелевшие от ограды древнего храма, Фергюссон отодвинул ограду древнего храма далеко на юг от нынешней южной стены с подземельями для того, чтобы скала Омаровой мечети осталась вне ограды иерусалимского храма. По этой дикой теории мечеть Омара есть ротонда, построенная над гробом Господним императором Константином, золотые ворота – древние пропилеи или портики христианской церкви, а пещера духов в скале Омаровой – погребальный грот Спасителя; Голгофу же или место распятия Фергюссон указывает пред Гефсиманскими воротами города. О месте гроба Господня я буду говорить в своем месте; теперь замечу только, что к теории Фергюссона, не имеющей за собою никакой тени доказательности, могло подать повод мусульманское верование, связывающее со скалою харама воскресение из мертвых. Источник духов в скале мечети есть путь в загробное царство и нет другого пути для возвращения отошедших душ на землю. У Джалаледдина III Аллах говорит скале мечети Омара: «Ты мой трон, ты фундамент, на котором Я возвысил небо и распростер землю; к тебе соберутся все сыны человеческие и от тебя воскреснут из мертвых». При таком учении великий факт воскресения Христа Спасителя в Иерусалиме имеет и для магометан глубокое значение, и христианский ученый, под влиянием этого верования насильственно переносящий христианскую святыню под своды магометанской мечети, представляет поучительное зрелище. Доктор Сепп, как сын католической церкви, в своих превращениях карты древнего Иерусалима остановился пред взглядом Фергюссона, как ни соблазняла его парадоксальность этого взгляда. Тем не менее, если не пещеру мечети, то самую мечеть Сепп осеняет христианским именем. Как я сказал, для Сеппа мечеть Омара есть ἁγία σοφία, построенная императором Юстинианом. Так как этот взгляд многим показался вероятным и развитие его касается всей вообще восточной архитектуры, то я покажу здесь его основание.
Известный путешественник 600 года Антонин из Пьяченцы, бывший в Иерусалиме скоро после Юстиниана, в описании виденных им св. мест между прочим говорит: после базилики Sancta Maria мы совершили молитвословие в претории, где был судим Господь. Это – ныне базилика Sancta Sophia пред развалинами храма Соломонова там, где под платформой стекает вода к источнику Силоамскому. О бок портика Соломонова в этой базилике есть стул, на котором сидел Пилат при суде Спасителя. Здесь же мы видели возвышающуюся среди претории четырехугольную скалу, на которой поставляли подсудимых, чтобы они были видны народу. Здесь стоял Господь и оставил на скале стопы ног своих. Оттого здесь совершаются многие чудеса и скала обложена золотом». – Какую скалу, спрашивает Сепп, мог разуметь здесь Антонин, если не скалу мечети Омара? Всякую другую, только не скалу мечети Омара. Ссылаясь на приведенное свидетельство, Сепп прежде чем призвать христианское происхождение мечети, должен согласиться, что место мечети Омаровой есть не место храма, а претория Пилата, следовательно, северный конец площади харама почти по плану Фергюссона. Что касается названия ἁγία σοφία, то у византийских писателей оно иногда относится к св. местам не в смысле базилики или храма. Наконец, Антонин не называет строителем описанного им здания Юстиниана, хотя по новости постройки этого упоминания следовало ожидать от писателя.
Главным образом Сепп основывается на доказательствах архитектонического свойства. Диаметры мечети Омара и нынешней ротонды гроба Господня почти одинаковы. Построенный епископом Модестом в 616 году анастасис и церковь Вознесения на Елеоне, построенная царицей Еленой, имели по своей форме непосредственное отношение к нынешней мечети Омара. Между древними памятниками Сепп находит два таких памятника, которые должны были служить в развитии стиля непосредственным переходом к восьмиугольной форме мечети Омара: это именно ротонда св. Стефана в Риме и мавзолей Констанции, дочери Константина великого на via Numentana, что ныне Santa Constanza. И вообще восьмиугольник, по Сеппу, характеризует всегда христианские монументы. Восьмиугольник образует церковь Сан-Витале в Равенне, начатая 526 г. и оконченная 547 г. По Григорию Назианзину (Бесед. 19) церковь, построенная его отцом, имела восьмиугольное основание. Восьмиугольные ротонды представляют церкви в Флоренции, Пизе, Павии, Падуе, Парме. Наконец, по техническому выражению византийцев, формы церквей первых веков были δρομική циркообразная. Таким образом Сепп приходит к заключению, что и восьмиугольное святилище на Мории могло быть только христианским сооружением. Но Сепп опустил из виду то, что между христианскими памятниками древнейшие восьмиугольники принадлежат именно востоку (как церковь антиохийская, Елеонская, анастасис и др.), где такого рода сооружения были известны с древнейших времен даже в Китае, Индии и Персии. А христианские восьмиугольники западные построены по образцу древнейших палестинских церквей, или даже по образцу Омаровой мечети. Известно, напр., что герцог Булеслав X из Померании, по возвращении из своего путешествия в Палестину, построил в Штеттине церковь по образцу Омаровой мечети, которую все европейские художники признавали идеалом восточного религиозного монумента. Рафаэль в своей картине «Принятие девы Марии её Обручником Иосифом» на заднем фоне картины поставил церковь совершенно похожую на мечеть Омара. В Византии же эта форма считалась сторонней заимствованной формой, даже не вполне достойной назначения храма, а все важнейшие византийские храмы этого времени построены в четырехугольной форме базилик. Если Юстиниан строил мечеть Омара, то отчего он по тому же плану не построил своей Aja Sophia в Константинополе, своей Вифлеемской базилики и проч.? Правда Сепп считает между памятниками Юстиниана еще другой восьмиугольник на горе Гаразине. Но эта аналогия наносит решительный удар его взгляду. Развалины восьмиугольного здания на Гаразине несомненно древнееврейского сооружения и может быть даже остаток самаритянского храма. Наконец Сепп делает промах, ссылаясь на то, что византийские храмы были циркообразные, потому что цирки никогда не были восьмиугольниками, а всегда параллелограммами, одна из сторон которых была закруглена.
Модель мечети Омаровой была известна древнейшим обитателям Палестины, ее указала им сама природа в своих нерукотворных сооружениях вулканических скал страны. Токи лавы покрывают всю Палестину каменной корой, которая, принявши формы первобытного местного грунта, на холмах имеет куполообразный вид. Издали эти скалистые куполы палестинских гор кажутся группами круглых зданий каких-то каменных городов. От действия времени кора, покрывшая холмы, образовала трещины, земля под корой осела или размылась водой и образовались пещерные куполы, жилище пастухов и стад или шакалов и гиен. Чтобы видеть какого громадного объёма и какой невероятной отчетливости достигают эти нерукотворные куполы, достаточно указать здесь пещеру на южной стороне лавры св. Саввы освященного. Этот венчающий скалу купол имеет около 60 футов в диаметре и 70 высоты. Возвышающиеся в соседстве с ним два купола самой лавры кажутся детским подражанием этому великому монументу природы, как и вся обитель св. Саввы, лепящаяся на скале, не смотря на высоту своих стен и Юстиниановых башен, кажется одним легким контрфорсом встающих кругом скал одной краски с обителью. Древнейшие сооружения в Палестине были подражанием горных пещер и вся история архитектуры в Палестине есть дальнейшее развитие и совершенствование того же нерукотворного купола, в приспособление к которому весь корпус зданий, поддерживавший купол, никогда не имел формы длинного четырехугольника и базилики и всегда приближался к кругу. Но так как полный круг купола был бы не прочным для низшей части корпуса, то его начали укреплять углами в виде квадратов, восьмиугольников и проч. Мечеть Омара есть типический образец этих первобытных палестинских сооружений, как показывает общеизвестное у арабов название её купол скалы по преимуществу, куббет-ес-сакра. Едризи причислял ее к семи чудесам света, конечно не потому только, что она стоит на месте Соломонова храма, также именовавшегося скалой Израилевой и также считавшегося чудом. Когда вы всходите по лестницам на платформу мечети Омара, вы чувствуете, что взбираетесь на высоту горы, и вот на этой высоте горы поднимается к небу новая искусственная вершина, в своем гордом взмахе принявшая лазоревый цвет небесного купола. Здесь нет фронта, нет передней и задней стороны, но со всех сторон вы видите одинаковый, смело и гордо выбежавший в высоту, красивый холм, обтесанный внизу в восьмиугольную стену наподобие гигантского монолита. Откуда взята идея этого купола? Этим вопросом вы оскорбите свое собственное впечатление. Посмотрите тысячи подобных куполов, выросших на палестинской почве, белеют кругом над Иерусалимом. Войдите под купол Омаровой мечети, вы увидите другой нерукотворный купол духов под скалой мечети, первообраз всех куполов. Арабские сказания называют мечеть Омара пупом земли, как тоже название носит и гора Фавор, этот уединенный зеленый купол Галилеи.
Наконец особенное основание для своего взгляда Сепп выводит из отношения Омаровой мечети к золотым воротам, которые закрыл Магомет II, чтобы устранить возможность исполнения предания о вступлении христианского победителя в Иерусалим этими воротами. Эти ворота напомнили Сеппу Константинополь с собором Aja-Sophia и золотыми триумфальными воротами, которые вели к семибашенному замку и которые запечатал тот же Магомет II по подобному же суеверному побуждению. Но строитель Aja-Sophia и триумфальных ворот в Константинополе был Юстиниан. Кто же мог быть строителем святилища харама и его золотых ворот, если не тот же Юстиниан? Это доказательство имеет больше поэтическое, чем научное значение. Но нужно заметить при этом, что его поэтическая картина не закончена. Если при мечети Омара с золотыми воротами у Сеппа стала рядом семихолмная Византия с софийским собором и триумфальными воротами, то, вглядевшись ближе в перспективу картины, Сепп увидел бы семихолмный Вавилон с храмом и золотыми воротами (Герод.1:181), семихолмный Рим с храмами и триумфальными воротами Тита, Спалятро с монументальным дворцом Диоклетиана и золотыми воротами, семихолмный Киев с его златоверхим собором Aja Sophia и золотыми воротами Ярослава. Какой город не имел храма и ворот? Какой великий город не имел монументального храма и золотых ворот?...9
И так нет никакого основания отнимать у востока лучшее из его сооружений, существующих до настоящего времени. Тем более оно дорого, что его стиль уже вышел из употребления в монументах востока. И, вопреки всей теории Сеппа, именно импер. Юстиниан был причиной падения этого стиля, так как, по завоевании Константинополя магометанами Aja Sophia с её длинными кораблями стала образцом для всех позднейших арабских мечетей. Между тем мечеть Омара не знает пред собою другого образца, кроме Меккской мечети, имеющей 118 куполов на восьмиугольных колоннах и в своем основании представляющей кубическую форму ветхозаветного святого святых. Кубические восьмиугольные и круглые здание не могли служить христианскими храмами в смысле места собрания верующих. Они имели целью только прикрывать собою свящ. предмет, как Кааба, мечеть Омара, как христианские баптистерии и проч. В христианской архитектуре настоящего времени православный алтарь наиболее представляет подобие древних монументов востока. Обилие куполов на русских монастырях и соборах также напоминает восточные сооружения и палестинскую почву, воспитавшую этот род искусства.
Прежде чем оставим мечеть Омара и окружающую ее платформу, мы должны точнее определить здесь место ветхозаветного храма. Так как мечеть Омара, хотя сложенная не из свежего материала, не имеет в своем основании ни одного камня, который можно было по отделке признать еврейским; то остается предположить, что от здания храма Иеговы буквально не осталось камня на камне. Самые развалины храма, не представлявшие таких больших камней, как камни внешней ограды, от постоянных расчисток места и переходов одного и того же материала в новые сооружения, являвшиеся и падавшие на месте Соломонова храма, могли обратиться в пыль, подобно камням храмов древней Трои. Но если таким образом исчезли следы храма на поверхности площади харама, то не могли исчезнуть подземные следы этого места, именно подземные каналы, которые шли от жертвенника всесожжения, стоявшего пред самым фронтом храма. В Middoth (III, 2) говорится: «на юго-западном углу жертвенника всесожжения были две ямы, подобные ноздрям, которыми кровь, излитая на западное и южное основание жертвенника, текла в канал (amah) и отсюда в поток Кедронский». «В устье ям спускался большой поршень с кольцом по средине, которым поднимали и опускали поршень, когда нужно было сойти в цистерну (III, 3)». Аристей (de legibus divin. transl. изд. Havercamp. p. 112) говорит о подземных бассейнах на площади храма, наполнявшихся, по его мнению, дождевой водой, соединенных свинцовыми трубами и занимавших кругом храма пространство 5 стадий; а при основании жертвенника, по Аристею, были невидные со вне пробоины, которые были известны одним священникам и которыми вода выгоняла вон кровь жертвоприношений. Флавий (Войн. V, III, 1) также говорит о сточных трубах (ὑπόνομος) внутреннего двора, в которых при осаде храма искала спасение партия Елеазара.
По поводу этих сточных труб иерусалимского жертвенника, у раввинов известных под именем Шис, исследование английского инженера Вильсона и архитектора бывшего Иерусалимского губернатора Сурайи-паши Пьеротти показали следующее. В пещере мечети Омара есть довольно большое устье, называющееся Источником Духов и ведущее в большую, иссеченную в скале, цистерну, которую для отличия назовем цистерною А. В северной стене этой

Рисунок 18. Харам-Эш-Шериф
1. Мечеть Омара. – 2. Купол цепи. – 3. Золотые ворота. – 4. Трон Соломона. – 5. Юго-восточное подземелье. – 6. Мечеть ель-Акса. – 7. Стена плача. – 8. Мост Робинсона. – 9. Подземный проход от ворот Барклея.
А. Цистерна духов. – В. Цистерна. – С. Цистерна. – D. Цистерна. – Е. Цистерна. – F. Группа трех цистерн. – G. Великое море. – Н. Фонтан.
а. Ворота Собат. – б. Ворота Готта. – в. Ворота Аетин. – г. Ворота Дантар. – д. Ворота Гуанхил. – е. Ворота Накир. – ж. Ворота Гадид. – з. Ворота Каттанин. – и. Ворота Сиисле. – i. Ворота Могарба и Барклея. – к. Двойные ворота. – л. Тройные ворота. – м. Стрельчатая дверь. – н. Малая дверь с фонтаном.
цистерны есть сточная труба в прямом направлении на север, выходящая сперва в цистерну В, потом в том же северном направлении в цистерну С, находящуюся недалеко от северного края платформы. В западной стороне цистерны Весть другой проход в четвертую цистерну D, лежащую на запад В и С. В восточной стороне той же цистерны. Весь третий восточный проход в цистерну Е, лежащую на восточном краю платформы. Цистерна Е имеет замечательную крестовидную форму ив восточной стороне сегментарную дверь, за которою идет лестница и подземный проход в направлении к Кедронскому потоку, но до такой степени запруженный землею и камнями, что проследить его нет возможности. Как видно из соединяющих каналов, эти цистерны составляли одно целое, одну систему подземного сооружение.
Измерением глубины этих цистерн можно определить их взаимное отношение. Цистерны А и имеют наименьшую глубину около 37 футов под уровнем нынешней платформы. Цистерны В и С имеют около 45 футов, а цистерна Е имеет 48 футов глубины. Таким образом движение воды в этих цистернах должно было начинаться с цистерны А или D (вероятно больше от А), следовать в цистерны В и С и потом изливаться в Е и далее. Если же этот перегон воды имел целью, как говорит мишна и Аристей, выгонять изливавшуюся у жертвенника всесожжения кровь, то эта кровь должна была стоять в центре соединения проходов, и именно в цистерне В, где соединяются водосточные трубы из всех цистерн А, С, D, Е. Струи воды, посылаемые сюда с различных сторон, имели целью тщательно вымывать до последней капли застаивавшуюся здесь кровь, чтобы не произошла зараза от её гниения10. Если древние свидетельства говорят о двух устьях (ямах) שפך, принимавших кровь жертвенника, то это нужно понимать о соседних между собою цистернах В и С. А так как устье главной цистерны было на юго-западном углу: жертвенника, то последний должен был стоять между цистернами В, С и D, над проходом, идущим от D к В. Фронт храма был пред самою цистерной В, след. несколько на северо-запад от мечети Омара. Такое положение храма не в центре нынешней платформы показывает, что её помост был впоследствии переделан и сокращен на северной стороне. Судя по описаниям, скала храма Соломонова не была выровнена, и именно грунт святого святых был на 10 локтей выше святого, чем, по моему мнению, объясняется то, что в измерениях стены святому святых не достает 10 локтей против высоты святого. Равным образом и внутри св. святых выдвигалась часть скалы, служившая, по мишне, основанием для ковчега завета. Что касается части скалы, находящейся в мечети Омара, то она приходилась под одною из боковых комнат храма и, как мы сказали, из её источника духов посылалась вода в бассейн крови. Касательно назначения пещеры, находящейся ныне в мечети, мне приходило на мысль такое соображение. Так как на платформу храма всходили по лестницам, затруднявшим приведение животных к жертвеннику, и так как перегон скота чрез дворы храма вредил общей чистоте святилища, то для сего мог быть особенный подземный путь из города к жертвеннику или лучше к пещере мечети Омаровой. Что действительно был такой подземный путь, видно из Войн. Иуд. VII, 2, 1, где говорится, что начальник Иудейского войска Симон Гиора проходил подземным путем с Сиона к месту самого храма. В таком случае пещера под скалой мечети могла быть временным стойлом, в котором животные ожидали очереди восхождения на жертвенник. Полагаю, почитатели пещеры духов не будут оскорблены предположением, что здесь было местопребывание агнцев и тельцов, назначенных быть носителями грехов и след. всего нравственного душерасположения иудейского народа.
Кроме цистерн и каналов, принадлежавших собственно жертвеннику всесожжения, Аристей свидетельствует о подземных бассейнах и каналах, переплетавшихся на площади харама на пространстве 5 стадий. На основании новейших открытий и изысканий на площади харама, его древние цистерны можно разделить на три класса: 1) Цистерны трубообразные, сложенные из больших тесаных камней, не имеющие сводов, но состоящие из длинного четырех-угольного устья, подобно нашим колодцам. Устья этих цистерн иногда бывают так малы, что в них едва можно просунуть голову. Цистерны эти наполнялись сторонней водой чрез каналы, но в настоящее время каналы засорены и только дождевая вода просачивается в цистерны чрез промежутки между повредившимися камнями. 2) Цистерны, иссеченные в скале и имеющие своды из натурального грунта. Этого класса цистерны всегда очень обширны и имеют от пола до сводов около 40 и более футов. Они также наполнялись водой чрез каналы, которых древние устья в одних цистернах видны доселе, а в других сокрыты. 3) Также обширные цистерны, но, вместо живой скалы, выложенные из тесанных камней. Все цистерны имели между собою связь чрез каналы, частью проведенные в живой скале, частью сложенные из камня. Главным резервуаром воды для цистерн храма, так же как и для всего Иерусалима, служили (Древн. VIII, VII, 3) Вифлеемские пруды Соломона, подземный канал от которых входил на площадь харама с западной стороны у нынешних ворот Баб-ес-Синсле, и сообщался сперва с цистернами А и D при жертвеннике всесожжении, а потом и с другими цистернами харама посредственно или непосредственно. По своему происхождению древнейшими, т. е. принадлежащими первому храму, должны считаться большие цистерны 2-го класса, сделанные в живом грунте скалы. Цистерны, сложенные из тесаных камней, могут быть отнесены ко второму храму, за исключением тех, которые, по своей новейшей конструкции, могли явиться уже в арабский период истории харама. Замечательно при этом, что наиболее древние цистерны принадлежат не северной, а южной части харама, что совершенно опровергает господствующее мнение, что южная часть харама включена в свящ. ограду только Иродом, а во время первого храма была за стенами дворов. Мы видели уже из обозрения остатков ограды святилища, что весь нынешний Харам-Эш-Шериф входил в область первого иерусалимского храма. – Вот список цистерн харама:
1. Главная цистерна харама лежит против самого спуска в подземелье ель-Акса и известна под именем великого моря. По величине эта цистерна превосходит все цистерны харама взятые вместе и имеет 43 фута глубины при 736 футах окружности. Вход в цистерну при одной из мастерских харама на восточной стороне ель-Аксы ведет в глубину по иссеченной в скале лестнице в 44 ступени. Исполинский потолок цистерны, состоящей из живой скалы, поддерживается огромными столбами, иссеченными в том же натуральном грунте скалы, и имеет восемь отдушин, из которых тремя в настоящее время достают воду из цистерны. В северо-восточном углу иссечена в скале небольшая камера, служившая вероятно левитам при их законных омовениях, а на восточной стороне есть канал, приносящий дождевую воду с площади харама. Это та самая цистерна, которую Тацит (Hist. nat. V, 12) называет подземным прудом, наполнявшимся дождями. При моем посещении этой цистерны в феврале, она имела не более 3 ф. 4 дюймов воды. Может быть над этой цистерной стояло медное море Соломона.

Рисунок 19. Великое море
2. Цистерна под самою мечетью ель-Акса влево от входа в подземелье, известная под именем цистерны листа, Бир-ель-Орак. По поводу этого названия существует следующая легенда. Некто из племени Темим, Шерик-бен-Габаша пришел сюда зачерпнуть воды для своих товарищей. Но по случаю его ведро упало в колодезь. Спустившись за ведром на дно колодца, Шерик увидел там двери и подземный ход, который привел его в большой и красивый сад, при выходе из которого после прогулки Шерик сорвал для памяти листок. Узнавши об этом событии, начальник города послал обследовать подземный сад колодца, но его уже не могли найти, а халиф Омар, когда было донесено ему об этом, объяснил, что это сад райский. Сорванный Шериком лист всегда оставался зеленым и хранился в мечети ель-Акса. Цистерна листа в настоящее время пользуется большим уважением мусульман. Когда новый паша первый раз вступает в Харам-Эш-Шериф, имамы дают пить ему воду этой цистерны, чтобы сделать кротким его управление. Цистерна имеет 42 фута глубины и 3 фута 6 дюймов средней высоты воды зимою на северной стороне и 5 футов на южной. В средине цистерны иссеченная из скалы колонна поддерживает скалистый свод цистерны.
3. На восток от Бир-ель-орак цистерна, также иссеченная в скале, 30 футов глубины. В настоящее время не имеет воды.
4. Еще далее на восток цистерна 62 фута 6 дюймов глубины и 8 футов средней зимней высоты воды. Недоступна для обследования её внутреннего устройства, но, судя по необыкновенно гулкому раскату эха, очень большая.
5. Группа трех цистерн около золотых ворот 40 футов глубины; сложены из тесаного камня.
6. Несколько южнее группы трех цистерн, цистерна 42 ф. глубины; не имеет воды. Потолок сегментарной арки сложен из малых квадратных камней.
7. Севернее группы трех цистерн. Доступна. 29 футов глубины; совершенно сухая. Состоит из двух камер с сегментарным сводом.
8. Там же. Недоступна. Имеет 35 ф. глубины. Кажется всегда бывает суха.
9. При северной стене харама. 23 ф. глубины. Сухая..
10. Там же. 29 футов глубины. Сухая.
11. На юго-западном углу харама. 37 футов 6 дюймов глубины. 5 дюймов зимней высоты воды.
12. Там же. 44 фута глубины и 8 ф. высоты воды.
13. На западной стороне площади харама 30 футов глубины и 4 дюйма зимней высоты воды.
* * *
Из других малых святилищ харама, выражающих собой темные предания древнего святилища, можно упомянуть следующие: 1) Купол цепи (Kubbet-el-Silsileh) или иначе купол суда (Kubbet-el-Berareh), на восточной стороне мечети Омара, где, по магометанскому сказанию, царь Давид имел свой трон и где определялось достоинство приношений в пользу храма. На этом месте, говорит предание, была иссечена в скале большая пещера, от сводов которой спускалась большая цепь с весами. Всякое приношение клалось сначала на весы этой цепи и если жертва была угодна в очах Божиих, весы поднимались, в противном случае опускались. По другой саге Бог послал Давиду цепь и весы из огня и света, и она висела над местом скалы до построения в 1470 году купола цепи. Во время Абд-ель-Мелеха в куполе показывали цепь и на ней рог овна Авраама и доспехи Кира. Здесь Магомет видел летающих гурий в ночь вознесение на небо. Предание о пещере, в которой оценивались жертвы, не может ли служить подтверждением выше высказанного предположения о приведении животных подземным ходом в нынешнюю пещеру мечети Омара. – 2) Алтарь крови Захарии к северу от мечети Омара. Тертуллиан говорит, что следы крови мученика всегда оставались свежими и не могли быть изглажены. Во времена византийских императоров и крестоносцев продолжали указывать на мраморной плите кровь Захарии. Non condemnamus errorem, замечает при воспоминании об этом предании бл. Иероним (in Math. 54). – 3) Куббет-ен-Нагарет, купол в память вознесение Магомета, содержит часть скалы, отбитой от горы Мории, при вознесении пророка. – 4) На западной стороне харама указывают скалу, на которой молился Соломон при построении храма. – 5) Трон Соломона или место мудрых судов Соломона, капелла, на север от золотых ворот, пользуется необыкновенным уважением магометанских пилигримов. К железным решеткам окон часовни привешены тысячи тряпок, оторванных богомольцами от своих одежд и оставленных здесь в предотвращение каких-то болезней. – 6) Во время владычества крестоносцев на запад от мечети Омара указывали место, где Иудеи приносили в жертву голубей. Действительно Софроний патриарх иерус. (Oratio de occursu Domini cap. 5) говорит о таинстве turturum et columbarum oblatarum, совершаемом Иудеями на площади харама. Арабы обратили алтарь голубей в часовню и сами молились здесь с лицами, обращенными на восток (Егезипп. 15). Ещё в 14 веке на площади харама был алтарь, на котором Иудеи приносили в жертву голубей (Maudeville 172).
Подземный Иерусалим
Кто читал известное исследование Rome souterraine par Spencer Northcote et W. A. Browntow, или же имел случай лично познакомиться с открытиями де-Росси в римских катакомбах и гробницах, тот может быть улыбнется, прочитав заглавие настоящей главы. Тем не менее, как читатель мог видеть отчасти из статьи о хараме, это заглавие имеет свои основание. Новейшие открытие в городах древнего востока, особенно в Иерусалиме показали, что Рим не есть единственный город, скрывающий под собой в недрах земли неисчерпаемые родники древнего величия, способные ослепить путешественника, вступившего под их вековые своды. Не имея монументальности памятников римских и гораздо более последних пострадавший от времени и человеческой руки, памятники подземного Иерусалима в последнее время обратили на себя общее внимание как сами по себе, так особенно в их отношении к древней истории библейской, ярко прояснившейся, благодаря раскопкам в Иерусалиме и Палестине, не смотря на то, что прошло не более тридцати лет с того времени, как первый раз был пробит грунт Иерусалима и первый исследователь спустился к засыпанным основанием древнего города. С того времени редкий из ученых путешественников не заносил своего заступа в кучи мусора и камней, скрывающих древний Иерусалим. Заслуживают упоминание в особенности раскопки в Иерусалиме английских инженеров Вильсона и Варена, французского исследователя Сольси, немецкого Тоблера, потом Пьеротти и Ганно. Но еще прежде того европейские консульства и многие частные лица начали покупать землю в Иерусалиме под храмы, богадельни и гостиницы, при закладке которых по неволе должны были снимать наносные слои и натыкаться на основание подземного города. Не смотря, однако ж на все, что сделано доселе, многие пункты Иерусалима представляют еще обширное поле для расследований, и может быть еще не одно великое сооружение, способное затмить славу древних сооружений Египта и Вавилона, будет найдено под слоем песка, мусора и вулканического извержения, засыпавших древний город Давидов.
К вопросу о подземном Иерусалиме относятся: α) новейшие раскопки в области подземного Иерусалима; β) иерусалимские пруды, цистерны и проч., и γ) иерусалимские гробницы.
* * *
Новейшие раскопки и открытия в подземном Иерусалиме
1) В 1865 году австрийским правительством была куплена часть древних развалин на страстном пути. При раскопке тупого треугольника, образуемого этой местностью, на глубине 30 футов нашли свод с мозаичной аркой и прекрасную коринфскую капителью 3½ футов высоты, впрочем без ствола. Около 15 футов глубже этого остатка, был найден другой, еще более замечательный. Была открыта камера, иссеченная в скале и имевшая длины с севера на юг 37 футов, ширины 28 футов и высоты 9 футов. Цельный потолок камеры, состоявшей из живой скалы, поддерживался тремя столбами, также иссеченными в скале и двумя сложенными из тесаных камней. Вход в камеру был на юго-востоке, а противоположная сторона имела отверстие для света. При камере было корыто в скале, цистерна и круглый погреб под скалой. Начиная от этой камеры, из-под мусора виднелись кругом остатки других сооружений, но, по причине огромной стоимости раскопок, дальнейшие работы в этом пункте были прекращены, а открытая камера в ноябре, 1867 года была обращена в цистерну нынешнего австрийского приюта. – 2) На углу улиц Давидовой и Христианской стоит греческий монастырь Иоанна Крестителя. При перестройке его в 1840 году, исследуя его основание, наткнулись на подземную капеллу с окнами и воротами, имеющую длины с юга на север более 40 футов. Не смотря на то, что капелла имеет свод в 20 футов высоты, и что уровень монастырского двора на 5 футов ниже уровня улицы, подземная капелла далеко ещё не достигает уровня двора. – 3) На западной стороне базара Chan-es Seit была масса мусора около 30 ф. высоты над улицею и небольшой сад, выросший на сводах какого-то подземного сооружения. Так как в период дождей затопляло базар водой и грязью с сада, то владелец решился снять его вместе с подземельями, чтобы на этом месте построить здание для складов. Сад и поддерживавшие его своды были срыты, но для возведения нового сооружения нужно было расчищать другой слой новых развалин, обнаружившийся под первыми и только на глубине 50 футов ниже уровня улицы нашли свежий грунт земли. Остатки подземных сооружений в этом месте шли от места раскопок до Casa del Principe. – 4) В 1859 году в том месте, где не большая улица el-Jakubijeh, идущая с юга на север, упирается в улицу Kanatir mar-Botrus, представляющую южную параллель улицы Давидовой, также находился небольшой сад, выросший каким-то чудом из массы камней и мусора и купленный прусским правительством под здание общества иерусалимских диаконис. По вскрытии почвы сада, на глубине 25 футов, нашли уцелевшее здание, не имевшее определенных признаков времени происхождения, кроме следов грубой мозаики на арке. Здание было обращено фронтом на нынешнюю улицу, хотя от линии нынешних домов отступало на 4 фута. Между тем фундамент этого подземного здания, лежавший 35 ф. ниже уровня улицы, в свою очередь стоял еще на новых развалинах и только на глубине 8 футов ниже его найдена живая скала. – 5) При закладке основания для нынешней англиканской церкви Христа, под 10-ю футами земли встретили 10 футов развалин, потом опять 10 футов земли и 15 ф. развалин и наконец иссеченные в скале своды и канал. При этой раскопке на глубине 30 и 40 ф. находили колонны и капители, также следы лестницы, сходившей к древнему водопроводу. – 6) Когда клали основание для так называемых новых казарм Ибрагима-паши до глубины 40 футов находили все взрыхленную почву, пересыпанную щебнем и остатками глиняной посуды. Наконец на 43 футе встретили подземное строение, сложенное без цемента из грубо обтесанных камней положенных таким образом, что ряд малых камней покрывался большим цельным камнем, опять ряд малых камней и опять один цельный камень и т. д. Строение оказалось так твердо, что на нем можно было положить основание казарм. – 7) Около сионских ворот при постройке здания, принадлежащего ныне армянской патриархии, была найдена лестница, сходившая вниз к силоамскому источнику. – Все эти раскопки в пределах нынешнего Иерусалима, сделанные случайно, при постройке новых городских зданий, не имели в виду научных целей, а потому и не дали определенных результатов, какие можно было бы вывести на их основании. Но они были важны тем, что вызвали мысль о необходимости специальных раскопок в Иерусалиме.
Между специальными археологическими раскопками, совершенными в Иерусалиме, первое по важности место принадлежит раскопкам Вильсона. В Апреле 1865 года в Иерусалиме прошли тревожные слухи о большом подземном квартале, открытом Вильсоном и угрожающем, при дальнейших раскопках, обрушиться и погубить весь город. Волнение умов по этому случаю заставило пашу запретить дальнейшие работы Вильсона и новооткрытое подземелье закрыть навсегда. Хотя таким образом до настоящего времени прямой путь в подземелье Вильсона закрыт, но я имел особенный случай посетить его другим ходом, неизвестным правительству, благодаря содействию известного иерусалимским путешественникам драгомана Питера Финкельштейна, того самого, которого отец упоминается в путевых записках нашего путешественника Каминского. После долгих розысков Финкельштейн нашел, что, кроме большого закрытого хода, которым пользовался Вильсон, новооткрытые подземелья имеют другой ход, или лучше, пролом из одного частного дома братьев Юссуф и Яссин эфенди недалеко от Мегкеме. Братья сначала выразили положительное несогласие впустить кого бы то ни было к подземельям чрез свои владения, вопреки запрещению местной власти, но бакшиш или, как читается в грамоте Петра Великого на путешествие в Иерусалим московскому старообрядцу Лукьянову, пекшеш устранил и это препятствие, и 19 марта 1874 года в девять часов утра, переодевшись в кладовой братьев эффенди, мы с Финкельштейном вступили в подземный исторический коридор, идущий от западной стены харама до башни Давида у Яффских ворот. В настоящее время коридор наполнен землей, нанесенною просачивающимися сюда в течении веков дождевыми каплями, так что пройти в нем можно только согнувшись. Но, как видно из места, где коридор был расчищен Вильсоном, он имел 12 футов высоты и 10 широты. Материалом коридора служил белый маляки, обделанный по римскому образцу с цементом, который, вследствие постоянной сырости, размок и большею частью выпал. Как широта и высота коридора, так и его тщательная обделка и направление на площадь храма показывают, что это не была клоака, или какой-либо водосточный проход, как подумали было о нем некоторые сначала, а нарочитое подземное сообщение между храмом и крепостью. Это – тот подземный ход, идущий под улицей Давида, о котором арабский историк XIV века Муджир-ед-Дин говорит: «улица Давида имеет подземный ход от так называемых цепных ворот харама (Баб-ес-Синсле) до цитадели дома Давидова, как её называли древние, потому что она была местопребыванием Давида. Этот подземный ход существует еще; иногда его открывают, и тогда каждый может видеть его крепкие каменные своды. Давид имел обычай этим подземельем ходить из своего дома в мечеть». Как видно из этого описания, уже в XIV веке коридор был в таком же состоянии, в каком он теперь, и по преданию считался современным башне Давида и храму. Едва ли можно сомневаться, что это тот самый проход, которым последний защитник Сиона Симон Гиора, потерявши последнюю надежду спасти крепость, в белой одежде с группою верных ему героев, прошел с Сиона к храму, чтобы умереть вблизи святилища (Войн. VII. 2, 1).
Коридор, в своем прямом направлении с запада на восток, имеет боковые ходы с целой вереницей подземных покоев, частью современных ему, частью позднейших, но во всяком случае погребенных под грунтом нового Иерусалима. Первый боковой ход, который мы посетили, идет в северной стене коридора и состоит из двух больших зал с промежуточными проходами. Так как первоначальный ход в залы сокрыт под массою наносной земли, то в настоящее время туда можно спуститься при посредстве веревочной лестницы только чрез пролом в стене, сделанный после Вильсона Вареном. Спустившись в первое отделение, вы видите себя в просторной зале с сводами римского сегмента, имеющей длины с севера на юг 35 футов, ширины с востока на запад 20 ф. и высоту неопределенную, так как пол залы покрыт глубоким слоем земли. Посреди залы стоит большая гранитная колонна, подобная колоннам пропилей Константина Великого при храме Воскресения. Колонна не доходит до сводов залы и имела назначением служить опорой нижней двухчастной арке, разделявшей на две половины свод залы; один из сводных камней этой арки доселе держится на месте. Капитан Варен обкопал эту колонну и открыл её базис на глубине 50 футов. Кроме этой центральной колонны, других колонн в зале не видно; может быть они повалены и сокрыты под наносной землей. Стены залы были украшены резной работою; по крайней мере в одном из углов уцелели остатки такой работы на линии начала сводов. Это – орнамент, представляющий род ионических завитков и вероятно имеющий под собою засыпанную землей пилястру. Громадность залы, в соединении с её орнаментами, ставит в тупик исследователей при определении её назначения. Нельзя предположить, чтобы арки, колонны и орнаменты принадлежали, как некоторые думали, подземным складам и магазинам, какие до настоящего времени устраиваются на востоке для предохранения городского имущества и военного провианта от неприятельского разграбления. Общий вид залы производит впечатление конференц-горницы общественного судилища. Но, прежде чем определять её назначение, рассмотрим всю группу соприкасающихся подземных камер.
Прямо против искусственного входа в залу, на противоположной стороне, такой же искусственный пролом в стене приводит во вторую подземную залу со сводом уже огивным, но по величине не уступающую первой. Для отличия будем называть эту вторую залу камерою № 2, а залу с колонною – № 1. В разных местах стены пробито множество мелких ниш, между которыми в одной я нашел неясные следы букв K I может быть имени строителя. Одна из ниш пробивает стену насквозь и вероятно некогда служила окном. Мой проводник, отличающийся беличьей ловкостью, не преминул взобраться в это окно, хотя от грунта, на котором мы стояли, его отделяло добрых два человеческих роста. Оказалось, что окно выходит в другую камеру, примыкающую сюда с южной стороны. В обделке залы № 2 поражает разнообразие материала и различных систем построения. Кроме нескольких огромных камней еврейских с выпусками, лежащих в нижних рядах, здесь есть камни римской обделки, есть камни крестоносцев с диагональными следами инструментов по лицевой стороне квадратов камней, наконец есть камни арабского происхождения, даже с следами арабских букв. Очевидно камера была восстановляема несколько раз, и последний раз арабами, которым принадлежит и нынешний стрельчатый свод залы. На южной стороне залы есть дальнейший ход с огивным сводом, но доселе он еще не был открыт и потому дальнейшее следование в этой части подземелья невозможно. Мы возвратились тем же мышиным проходом в зал у с колонной, отсюда по веревке поднялись в большой коридор, и особенным проломом вступили в новый ряд камер несколько на запад от первого, открывавшийся залой № 3, в которую выходит упомянутое нами окно из камеры № 2. Камера № 3 имеет римскую обделку и свод сегментарный; но в нижнем ряду стены видны два камня, по своей огромной величине не похожие на все другие, и вероятно взятые из другого еврейского сооружения. В самой средине камеры № 3 есть особенный узкий спуск в нижний ярус подземелий, состоящий из римской работы коридора № 4, на северной стороне которого два хода в две параллельные камеры № 5 и № 6 такой же римской кладки, из которых одна (№ 5) была впоследствии обращена в цистерну и покрыта грубым цементом, а другая (№ 6) была приспособлена к конюшне, на что указывают сложенные из камня и оштукатуренные ясли, хотя камера слишком мала, чтобы её первоначальным назначением было служить конюшней, и притом такому назначению противоречит проходящий среди камеры желобок для стока воды. Камера, № 6 имела дальнейший ход на юг, в настоящее время заложенный. Возвратившись из нижнего яруса снова в камеру № 3, мы заметили в южной стене её грозящее падением окно, кажется готовое обрушиться, вместе со стеною, при первом прикосновении. С некоторым ужасом мы пробрались сквозь окно и увидели себя в новой высокой римской зале № 7, сложенной из огромных, гладко обделанных, белых маляки и покрытой сегментарною аркой. Особенный проход на восточной стороне залы привел нас в следующую уже огивную залу № 8, приходящуюся, по уверению моего спутника, под домом иерусалимского эффенди Мустафа-ель-Рашида. Мы притаили дыхание и прикрыли свечи, чтобы не обличить своего подземного путешествия, чего легко можно было опасаться, принимая во внимание огромные трещины в сводах камеры № 8, служащих основанием дома эффенди. Говорят, что эффенди постоянно преследуется мыслью о том, что его владения висят над пропастью, и что по ночам его тревожат видения, имеющие связь с подземельями, в которых мы находились. Следуя далее, мы посетили камеру № 9, просторную залу, очевидно реставрированную и получившую стрельчатые своды. До сводов же стена имеет частью древнюю, частью новую кладку и на восточной стороне остаток фриза с большими шаровидными украшениями. В одной стене залы между камнями лежит большая колонна, конечно, служившая некогда украшением залы. На юг отсюда мы прошли еще стрельчатую камеру № 10, из которой особым проходом на восток вошли в залу № 11, представляющую неправильно усеченный четырехугольник, восточной стороной которого служит стена харама, т. е. северное подземное продолжение стены плача. Но какой тяжелый вид представляют здесь древнееврейские камни, вместо мягкого цвета, какой они имеют на воздухе, окрасившиеся цветом обожженного угля. Войдя в полукруглую дверь северной стороны залы № 11, вы стоите лицом к лицу пред знаменитыми арками Вильсона.

Рисунок 20. План пруда ель-Борак
Арки капитана Вильсона покрывают собою цистерну ель-Борак, примыкающую к западной стене харама и представляющую усеченный параллелограмм, 88 футов длины с севера на юг. Перетупив упомянутую дверь, вы будете находиться на южной усеченной стороне цистерны, имеющей 17 футов ширины. Здесь есть узкая площадка, с которой можете видеть всю глубину цистерны, если не желаете по веревочной лестнице спуститься на дно этого грандиозного сооружения, еще на 13 футов глубины. После 24 футов, на протяжении которых цистерна имеет только 17 футов ширины, вследствие усечения юго-западного угла параллелограмма цистерны под особую камеру, далее к северу цистерна получает свою полную ширину 42 футов. Пол в цистерне, так же как и в предшествующих залах, покрыт наносною землей, из-под которой в некоторых местах можно видеть грубый цемент покрывавший дно цистерны. Но самое замечательное в цистерне это – её своды, состоящие из двух различных арок, из которых ближайшая к площадке имеет диаметр равный всей широте цистерны и накрывает собою 44 ф., т. о. около половины всей длины цистерны, но так что, занимая собой среднюю часть цистерны, она оставляет непокрытой около 10 футов северной длины цистерны, которая и отходит под вторую дополнительную арку. Первая арка, представлявшая некогда самостоятельное целое, дает полный римский сегмент из 23 гладких римских камней, каждый от 10 до 17 футов длины. Этот исполинский полукруг с той и другой стороны покоится на древней стене 13 футов высоты. Вторая арка северная или малая, как ее можно назвать в сравнении с первой аркой, грубой работы из малых, плохо обделанных камней очевидно позднейшего времени. Северный конец этой второй арки во всю её величину заделан стеной, по уверению моего проводника, скрывающею вторую половину цистерны ель-Борак, доселе содержащую воду, тогда как та часть цистерны, в которой мы находимся, никогда не имеет воды. Пробуя эту разделяющую стену, капитан Варен сделал было в ней небольшое отверстие, в которое хлынула вода, едва не затопившая всех описанных нами подземелий. Но, к счастью для Варена и для владетелей цистерны, пролом в стене скоро успели заделать без последствий. В северо-западном углу цистерны есть глубокий спуск 35 футов, на дне которого две хорошо сохранившиеся камеры. Русский архитектор М. Ф. Грановский, присутствовавший при раскопках Вильсона в этой цистерне, передавал мне, что в одной из этих нижних камер под цистерною быта открыта лестница, выводившая по ту сторону стены харама на площадь. В настоящее время видна только нижняя часть лестницы, а верхняя покрыта обвалившимся потолком. Открытие этой лестницы и этих камер на дне цистерны устраняет всякую мысль о том, что покрываемое арками Вильсона подземелье назначалось для цистерны в своем первоначальном виде. Предположить же, что упомянутая лестница принадлежала более древнему сооружению, бывшему на этом месте, и что строители цистерны не знали о ней и строили водохранилище не подозревая под собою новых сводов, невозможно, потому что, как признано всеми бывшими здесь архитекторами, лестница строилась в одно время со всею цистерной. Таким образом несомненно, что здесь мы имеем дело не с цистерной, а с какой-то тайной камерой, вместо обыкновенных ходов имевшую подпольный ход, как многие подземные сооружения в Египте. Так как тайная лестница, выходившая отсюда на площадь харама теперь не существует, то чтобы выйти на свет Божий, мы должны были снова пройти всю описанную нами анфиладу зал до кладовой Юссуф и Яссин эффенди, где нам предложили умыться и вычистить платье, чтобы на улице не обратить на себя внимание полицейских. Действительно, мы буквально выкупались в грязи.
Что сказать вообще об арках Вильсона и связанных с ними подземельях? Английские путешественники, привыкшие изучать древние памятники не только с научной, но и с эстетической стороны, в отношении к вызываемому памятниками впечатлению, рекомендуют не только исследователям, но и простым любителям новых ощущений непременно спуститься под арки Вильсона. В самом деле, впечатление, получаемое от арок, при достаточном освещении подземелья, в состоянии вознаградить вас за все трудности подземного путешествие до арок. Это впечатление вызывается с одной стороны колоссальным величием арок, с другой их положением. Так как задняя арка меньше передней, то она нисколько не закрывается последней, между тем с вашего отдаленного пункта (обыкновенно наблюдают арки с площадки, о которой мы говорили) задняя арка кажется стоящей под ближайшей, а при движении огней арки точно движутся, то входят, то выходят одна из другой и арки Вильсона.

Рисунок 21. Пруд Ель-Борак и арки Вильсона
Прибавьте к этому зияющую у ваших ног глубину цистерны, черные камни, смотрящие из стен в каком-то ленивом, так сказать, медвежьем спокойствии, прибавьте далее сознание, что вы находитесь в подземном, давно умершем царстве, что в самом этом подземелье совершилась не одна кровавая сцена древней истории, прибавьте ко всему этому глухие звуки доходящие к вам из верхнего города, так как вы находитесь под главными воротами харама, если у вас живое воображение, заставьте явиться перед вами бедного архитектора Иродова, поднявшего эти громады и обращающего к вам ослепленное тираном лицо11, и, я думаю, вы не скоро забудете эту картину и доставленное ею ощущение. Независимо от этого эстетического представления, арки Вильсона, или собственно первая древнейшая арка, есть самый замечательный памятник древнего Иерусалима. Если другие остатки поражают своей массивностью, громадностью работ; то арка Вильсона удивляет своим классическим величием и искусством; по красоте и смелости сооружения это единственный памятник древнего Иерусалима. Что касается её древности, то, как показывает уже её устройство и тесная связь с харамом, она должна была быть современной стене плача евреев. По свидетельству многих европейских архитекторов, видевших эту арку Вильсона, стена харама и арка построены одна для другой и никак нельзя представить арки как позднейшего прибавления к стене. Если составные камни арки не имеют выпусков, подобно стене плача, то это объясняется тем, что сводные камни у евреев всегда были гладки, как можно видеть в остатках моста Робинсона и сводных камнях на юго-восточном углу харама. По своему назначению арка Вильсона была прежде всего тем, чем она служит теперь, т. е. мостом с улицы на площадь харама. Это подтверждается тем, что арка приходится как раз под нынешними воротами Баб-ес-Синсле (ворота цепи или арки) и по своей длине равняется широте ворот. В северной половине ворот Синсле в самом основании их обращает на себя внимание один большой камень, показывающий широту древних ворот харама, бывших на месте нынешних арабских Синсле; этот камень точно указывает северный конец арки. Таким образом арки, открытые Вильсоном, представляют тот самый мост, который упоминается в Нормандской летописи, цитируемой Вильямсом, под которым проходил подземный ход в долине. Таким образом, далее вместо одного моста на западной стороне харама, о котором говорит Флавий, мы имеем два моста, один, как мы видели, принадлежавший первому храму и связанный с его галереями, другой – современный второму храму и связанный с стеной плача. Этот последние мост в истории осады храма не упоминается у Флавия, потому что он не был так приметен, как возвышающийся над пропастью мост Робинсона, служивший царским проходом. Кроме того, так как под аркой Вильсона были особенные помещение, то она могла и не считаться мостом в собственном смысле; это был столько же мост, сколько и свод подземного сооружения. Как бы то ни было, но арка Вильсона должна была иметь исполинскую силу, если она могла выдержать тысячелетие и не податься под римскими легионами и валящимися громадами стен харама. Что касается второй арки, то она может быть принадлежит крестоносцам. Нужно полагать, что на её месте была некогда другая арка более древняя, и остаток этой первоначальной арки, неотделимый от стены харама, был причиной того, что вторую арку на этом месте должны были сделать у́же.
К ближайшему определению описанных нами подземелий может послужить то, что в нынешнем Иерусалиме на их сводах стоит иерусалимское судилище Мегкеме и возвышающийся невдали минарет называется минаретом суда Медене-ель-Кади. В городе преданий, как Иерусалим, общественные и присутственные места устраиваются всегда соответственно древним преданиям. Мы видели уже, что для резиденции губернатора и казарм выбрано место древнего замка и резиденции царей. Посему можно заключить, что и здесь на месте Мегкеме, или лучше под Мегкеме, к стенам харама прислонялось некогда древнее Мегкеме, βουλευτήριον, которое, по Флавию (Войн. VI, 6, 3), находилось именно около этого пункта, недалеко от дворца Елены Абиаденской, построенного импер. Нероном (Древн. XII, 8, 11) и лежавшего в нижнем городе недалеко от стены харама. Большая зала № 1 с аркой, разделяющей ее на две половины, наиболее соответствует назначению служить местом суда, причем первая большая половина камеры могла назначаться для подсудимых, истцов, свидетелей и проч., а вторая для членов суда. Другие залы и отделения вероятно были назначены для римского гарнизона, заведовавшего нижней частью города и наблюдавшего за народными движениями на площади храма. Мы знаем, что во время второго храма гарнизон ни на минуту не оставлял наблюдательного поста при святилище и при первой надобности врывался в дворы храма. Для таких наблюдений самым удобным местом были большие ворота храма, ведущие непосредственно в город, и еще лучше место под воротами, подобно тому как подобное отделение для гарнизона было и под золотыми воротами. Если, как мы видели, из нынешней цистерны ель-Борак есть подземный ход на площадь харама, независимый от ворот, назначавшихся для народа, то этот ход существовал на случай, если бы народ во время восстания заперся в стене харама и приготовился к осаде. Что большая часть описанных нами камер служила для гарнизона, это видно из самого устройства их, из амбразур, которые они имеют вместо окон, из их удлиненных форм, из взаимного сообщения между камерами в виде малых коридоров, не имеющего смысла для частных зданий. Что же касается большего подземного коридора, идущего от башни Давида и, царского дворца к воротам храма и гарнизонному отделению, то он имел целью частью давать знать секретным образом правительству обо всем, что совершается во храме, частью, в случае надобности, доставлять вспомогательное войско на площадь харама. Мы сейчас увидим, что иерус. правители на случай народных волнений устроили систематическое подземное сообщение между всеми главными пунктами Иудейской столицы. Подобное сообщение башни Давида с западными воротами храма было особенно необходимым, потому что эти ворота были люднее других и замок Давидов служил ключом всего верхнего города. При раскопках в некоторых из описанных камер были найдены Вильсоном римские статуэтки – доказательство, что здесь содержался не национальный, а римский гарнизон. Что же касается позднейших перестроек и стрельчатых сводов, то они принадлежат вероятно крестоносцам. По крайней мере обращение некоторых камер при стенах храма в конюшни упоминается в истории завоевания Иерусалима крестоносцами, и, как мы видели, юго-восточный угол харама также был занят крестоносцами под конюшни.
Другой подземный ход, совершенно соответствующий описанному коридору от башни Давида, был открыт архитектором Пьеротти 1857 года 3-го июня, при расчистке места для здания сионских сестер милосердия. Замеченное при этом небольшое отверстие, принятое сначала за устье цистерны, оказалось отдушиной большого подземного коридора, идущего от северо-западного угла харама под Везефу. При первом вскрытии коридора от него повеяло таким удушливым сырым воздухом, что Пьеротти должен был после нескольких шагов в подземелье возвратиться назад. Только после того как были вскрыты и расширены отдушины и прочищен воздух, можно было войти в проход. Начинаясь от северо-западного угла харама, подземелье идет на север под via dolorosa и пересекает линию этой улицы под углом 47°, на глубине 7 футов ниже уровня улицы, отсюда идет еще далее на север до следующей улицы параллельной via dolorosa. Вся длина прохода 165 футов 2 дюйма. Два противоположные конца имеют сходы с лестницами. На северной стороне в подземелье вела полукруглая дверь, а лестница имела 14 ступеней, каждая 2½ футов ширины. К сожалению эта лестница была снята Пьеротти и на её месте положено основание северо-восточного угла здания сестер милосердия. Вся северная часть прохода, по вскрытии его, оказалась наполненной наносною землей. На 69 футе от северного входа начинается скала, постепенно возвышающаяся к югу, так что стены прохода представляют здесь живой грунт. В частях, где нет скалы, стены прохода сложены из квадратных камней 3½ футов длины и 2–3 высоты, очень плотно сложенных. Свод большей частью сохранился и имеет полный римский сегмент, за исключением небольшой средней части, под улицей via dolorosa, где, как видно, был некогда обвал и свод был реставрирован. Восточная стена прохода, на средине между её северным началом и via dolorosa, имеет заложенную в настоящее время дверь полного полукруга в побочную ветвь прохода, имеющую 3½ фута ширины и 4 ф. высоты, и проходящую в направлении к воротам св. Стефана к востоку, но, не доходя церкви св. Анны, поворачивающую на юг к пруду известному под именем Овечьей купели. Пьеротти тщательно проследил эту ветвь прохода; она имела римский свод, но несколько уступавший в древности своду первого большого коридора. На южной половине главного прохода есть еще две подобные ветви, одна идущая на восток к соседнему пруду, другая идущая на запад в долину Тиропеон, но обе эти ветви не исследованы. Южный конец коридора упирается в скалу харама, на 8 футов ниже его площади, на месте, где некогда была крепость Антония. Снаружи вся площадь, соответствующая подземелью, в предохранение от дождей прикрыта большими каменными плитами, скрепленными крепким цементом.

Рисунок 22. Проход Пьеротти
Устройство подземелья, аналогичное с устройством большого коридора от башни Давидовой, высота и широта прохода, лестницы и проч. достаточно показывают, что проход служил к подземному сообщению между двумя важными пунктами города. С одной стороны, таким пунктом была, как мы сказали, крепость Антонии, с другой же могла быть только башня в городской стене, так как одинаково нельзя представить здесь и подобного прохода выходящим за линию городской стены и городской стены (так называемой второй), идущей выше прохода на север. Это именно тот темный подземный проход при замке Антонии, называющийся у Флавия Стратоновой башней, в котором был убит Антигон, младший брат Аристовула, сын Иоанна Гиркана, по проискам царицы Александры (Др. Иуд. XIII, 11, 2. Войн. 1, 3, 3.). Из описания итого убийства у Флавия видно и назначение подземелья. Антигон по приглашению идет в крепость Антонию. Убийцы следят за ним из Стратоновой башни, и едва он приблизился к ней, не подозревая злоумышление, его увлекают в темноту подземелья и убивают. Итак, это – место негласных казней и убийств, какие тогдашнее правительство считало необходимыми в своих видах, помимо закона. Что это было укреплённое место видно из множества амбразур в его стенах, имевших очевидно назначение отражать нападение на крепость и вместе доказывающих, что некогда проход не был вполне подземным, как в настоящее время. А так как эта башня была внутри города, то и защищаться могла только против городских жителей. Это дело мнительности и недоверия чуждых правителей Иерусалима. – Стратонову башню иерусалимскую нужно отличать от башни этого имени в Кейсарии (Древн. XV. 7. 5). У Флавия по поводу смерти Антигона в башне Стратоновой рассказывается такой случай. Некто Иуда Ессей, известный предсказатель, предрек Антигону, что он «умрет в Стратоновой башне», имея в виду при этом Стратонову башню в Кейсарии. Но вот в самый день, когда, по предсказанию, должна была случиться смерть Антигона, Иуда видит его выходящим из иерусалимского храма. Предвещатель смутился и сказал своим ученикам: «сегодня я сам должен умереть, так как истина от меня сокрылась и одно из моих наиболее истинных предсказаний не исполнилось. Антигон, долженствовавший сегодня умереть, еще жив и не может умереть в Стратоновой башне, потому что уже четвертый час дня, а до Кейсарии отсюда 600 стадий. Самое время отвергает возможность исполнение моего предсказания». Скоро после этих слов старец утешился, когда разнеслась весть о смерти Антигона в Стратоновой башне иерусалимской. (Войн. 1, 3, 5). Судя по этому рассказу, Стратонова башня не была известна в Иерусалиме. Может быть ее знали в народе под другим именем.
Третий по важности подземный проход открыт в 1865 году Сольси под Тройными воротами. Хотя по своему началу он принадлежит площади храма, как и подземные коридоры Вильсона и Пьеротти, но так как их главная часть выходит из-под харама, то мы и не упоминали о нем в речи о хараме. По устройству этот проход сложнее предшествующих и состоит из трех ветвей, пересекающихся и вьющихся зигзагами на склоне Офела и в нынешнем их состоянии не имеющих ни определенного начала, ни определенного окончания. Являясь неожиданно у тройных ворот юго-восточного подземелья, они также неожиданно обрываются на полугоре, не достигнув кедронского потока, что по-видимому должно было быть их целью. Впрочем, три ветви прохода принадлежат не одному времени. Древнейшая ветвь начинается около первой пилястры при западной стене юго-восточного подземелья, делает загиб у средней двери тройных ворот и идет параллельно стене харама под платформой тройных ворот, далее на восточном углу ворот уходит от стены харама на юг; в этом последнем направлении проход сложен из тесаных камней, тогда как первая половина его иссечена в живой скале. На месте, где проход поворачивает на юг от стены харама, видно подземное основание какого-то древнего сооружения, соединившегося с проходом, стоявшего на скале и сложенного из чисто обделанных гладких камней. На 30-м футе по уклонении на юг от площади харама, проход входит в особенную просторную камеру 13 футов высоты; по выходе отсюда переменяет южное направление на юго-западное, и скоро делается совершенно непроходимым по причине наполняющей его земли и камней. Вторая ветвь прохода начинается 20 футов на запад от места начала первой, и притом не под юго-восточным подземельем, а за стеной его. Хотя и эту ветвь прохода нельзя назвать ровной и правильной, но во всяком случае она не так круто, как первая, переменяет направление. По выходе из-под стены харама вторая ветвь прохода соединяется с третьей, начинающейся несколько ниже первой и идущей сперва параллельно с ней и частью даже соединяясь в одно русло, потом уклоняющейся на запад до встречи с второй ветвью. – Весьма трудно определить какое назначение могла

Рисунок 23. Проходы под тройными воротами
иметь эта плетеница подземных проходов. Если бы это была часть тех водосточных каналов, которые, по Аристею (см. Евсевий Praep. Evang. IX. 38), в различных направлениях проходили под площадью харама, как думал Сольси при открытии этих проходов, то чем объяснить этот переплет различных проходов в одном пункте, когда для стока лишней воды харама было бы целесообразнее устроить один канал и притом в прямом направлении в долину Кедронского потока. Положим, что древние строители, не имея в руках нашего компаса, могли без намерения уклониться от прямого направления в подземных работах; но, однако ж подземные коридоры Вильсона и Пьеротти, почти современные проходу, открытому Сольси, не уклоняются от прямой линии. Положим, также, что ветви прохода строились не в одно время и первая ветвь древнее двух последних; но строители позднейших ветвей прохода бесспорно знали о существовании рядом идущих древнейших проходов, потому что все ветви прохода имеют между собой взаимную связь, и, следовательно, сооружение новых ветвей, на ряду с древней ветвью, было не случайным, но имело особенные побудительные причины. Что это не были простые водосточные трубы, положительно видно из того, что на пути их встречаются остатки подземных камер, из которых одна уцелела доныне, а главным образом из того, что в пункте соединения второй и третьей ветви найдена древняя дверь, замаскированная в стене и скрывающая за собою еще один секретный проход в настоящее время совершенно обвалившийся. Таким образом, все это необыкновенное подземелье, вьющееся зигзагами и преграждаемое на пути новыми проходами, упирающимися друг в друга, было воздвигнуто в особенных секретных целях. Может быть этот лабиринт проходов вел в подземные сокровищницы храма, скрывавшее, во время нападения неприятелей, богатства святилища, подобно египетским катакомбам. У имамов иерусалимских действительно есть какое-то предание о больших сокровищах, скрывающихся будто бы в южной части харама, и когда Сольси испрашивал позволение на раскопки у тройных ворот, с него взяли обязательство делать раскопки в присутствии чиновника от правительства и все сокровища, найденные при раскопках, возвратить правительству. – Между разными любопытными древними остаткам, найденными Сольси при расчистке подземного хода, заслуживает упоминания следующий остаток еврейской надписи, в котором Сольси признал остаток Иродовой мраморной плиты с надписью, запрещавшей язычникам вход во внутреннее отделение святилища:

Рисунок 24. Остаток Иродовой мраморной плиты с надписью
Еще один подземный ход, имеющий отношение к площади храма, хотя принадлежащий городу, открыт при западной стене харама, на север от арки Вильсона, недалеко от базара Сук-ель-Каттанин, представляющего прекрасный образец арабской архитектуры XIV века и построенного при Магомете-бен-Келаун. Этот ход, для отличия называемый именем улицы Сук-ель-Каттанин, теперь обращен в цистерну, которая имеет два устья и без особенного труда может быть обследована. Пол и стены цистерны покрыты толстым слоем штукатурки, так что нельзя видеть кладки камней. Арка представляет классический сегмент и сложена из очень чисто обделанных камней и притом без цемента. Что эта цистерна имела, некогда совершенно другое назначение, видно из того, что на восточной стороне цистерны сохранилась лестница, приводящая к небольшой полукруглой двери, в настоящее время заделанной, но без сомнения скрывающей за собою вторую половину того же подземного прохода на площадь харама. За древность этого прохода достаточно говорит уже то, что вершиной своего свода он лежит на глубине 40 футов под уровнем базара Сук-ель-Каттанин. Кругом прохода были значительные здания древнего Иерусалима. При раскопке на северной стороне цистерны были найдены древнееврейские развалины на глубине 72 футов. Жители соседних домов пришли в ужас от такого открытия и потребовали от правительства запретить продолжение раскопки в этом пункте, так как от неосторожного потрясения без порядка лежащих камней и полуразрушенных сводов подземных развалин мог пострадать целый квартал города. К этому подземному проходу мы будем иметь случай возвратиться еще раз.
И так мы нашли подземные нити, соединявшие древний Иерусалим с харамом со всех сторон. На северной стороне подземный путь из города в храм представлял проход Пьеротти, на западной большой коридор Вильсона и другой малый проход Сук-ель-Каттанин; на юге группа проходов, открытая Сольси. Что касается восточной стороны, то, по ясным свидетельствам мишны, и здесь был подземный проход, выходивший в Кедронский поток под золотыми воротами. Этот последний проход имел связь с башней Антония, как показали раскопки Вильсона и Пьеротти и, следовательно, с башней Стратоновой (Древн. XV, 11, 7.). Башня Стратонова, как видно из мишны (Tamid. 11. Middoth 1, 2), имела непосредственную подземную связь с проходом Вильсона, под платформой мечети Омара и посредственную с юго-восточным подземельем и, следовательно, с группою подземных проходов Сольси. Тацит (Hist. V. 12), на основании этих проходов, говорит, что иерусалимский храм был построен наподобие замка, на целой системе подземелий. Нужно прибавить, однако ж, что эта система подземелий служила не для защиты святилища, а против него. Это были мины, которыми Ирод и другие чуждые еврейскому духу и жизни правители, одной рукой созидая дом Иеговы, другой хотели взорвать его, вместе со всеми основами национальной Иудейской жизни.
* * *
Из открытий подземного Иерусалима имеющих связь с харамом, самое свежее сделал Клермон Ганно в Апреле 1874 года. Между австрийским приютом и монастырем Ессе homo, на месте, принадлежащем греческому монастырю, на северной стороне via dolorosa, зимой 1874 года было размыто дождями несколько домов, так что владельцы принуждены были их оставить. Воспользовавшись этим случаем, М-р Ганно тщательно исследовал этот, во всяком случае важный пункт иерусалимской топографии и напал на большую пещерную часть древнего города. В отвесно обделанной скале, идущей стеной между упомянутыми австрийским приютом и монастырем, найден иссеченный в скале низкий ход и за ним камера А в скале, 14 футов длины на 8 ширины. Камера имеет по обе стороны (восточную и западную) широкие каменные ложи, кроме того в восточной стороне отверстие в виде окна, а противоположно входу в северной стороне узкую дверь во вторую камеру В, по величине равную первой, но не имеющую лож. Далее, по прямому направлению на север, идет опять не большая дверь и третья камера С, засыпанная землей, так что обследование её оказалось невозможным без продолжительной расчистки. Независимо от этой прямой линии камер, в восточной стене камеры В есть два хода; один ведет в новую комнату с ложем, прилавком и окном, сообщающим ее с камерою А, другой открывается в нижний этаж подземелья, состоящий из ряда комнат, по-видимому подобных верхним, но совершенно засыпанных землею. Если в настоящее время сходят в нижний этаж чрез верхний, то в первоначальное время всходили наоборот, нижним этажом в верхний. Это доказывается тем, что наружная дверь в камеру А была очевидно сделана позже самой камеры, даже пробита наружу из внутри подземелья и притом не довольно искусно, так что отверстием её задета одна из боковых лож камеры. Таким образом верхний этаж не имел непосредственного выхода на улицу. К сожалению, раскопки М-р Ганно, почти в самом начале, были запрещены местным правительством и обследование подземелья далеко не кончено. Но можно предполагать, что ряд открытых М-р Ганно подземных камер в скале не прерывается на всем пространстве от австрийского приюта с одной стороны и с другой до церкви Ecce homo. Даже под зданием церкви есть подобного устройства камеры, обращенные впоследствии в гробницы. С другой стороны, при закладке основания для нынешнего австрийского приюта также были найдены, как мы говорили, иссеченные в скале подземные жилища. Таким образом, здесь мы имеем дело с целым кварталом древнего пещерного Иерусалима.
Какому времени принадлежит это пещерное сооружение и каково его назначение? Некоторые полагали, что стена скалы, в этом месте обделанная отвесно подобно крепостному валу, принадлежала рву окружавшему город за стеной. В таком случае, как находящиеся за городской чертой, подземелья этой скалы прежде всею могли бы считаться древними гробницами. Но если бы это был городской вал пред стеной, то последняя (так называемая у Флавия вторая городская стена) должна была бы идти по сю сторону via dolorosa в некотором расстоянии от своего вала, следовательно, упираться в западную стену харама без продолжения пред северной стороной святилища. Между тем это противно свидетельству Флавия, что городская стена шла и пред северной стеной харама, так что на севере Харам-Эш-Шериф защищался двумя стенами: своей и городской. Описанный нами выше подземный проход Пьеротти, идущий на север от харама и бесспорно заключавшийся в стенах города, также требует значительно отодвинуть вторую городскую стену на северную сторону via dolorosa. Таким образом и скала с пещерами Ганно не имеет отношения к городской стене, тем более, что она не довольно ровна, чтобы быть городским валом, и притом очевидно обделана не в одно время. Западная часть скалы, ближайшая к австрийскому приюту, к которой принадлежат и подземелья М-р Ганно, обделана прежде восточной и гораздо грубее её. Восточная часть, ближайшая к монастырю ессе homo, обделана гораздо лучше, но очевидно позже западной, и, на сколько можно судить из сравнения работ, одновременно с последней отделкой Северо-Западного угла харама. Последнее обстоятельство наводит на мысль, что восточная часть скалы была обделана в то время, когда, по Флавию, башню Антонию отделили от северной части города и снесли соединявшую их скалу. Если же так, т. е. если скала с подземельями М-р Ганно была внутри города, то самые подземелья не могут быть приняты за гробницы, потому что, по еврейскому законодательству, гробниц в городе не могло быть (хотя и в городском вале так же едва ли могли быть допущены гробницы). Что подземелья были жилые комнаты, а не гробницы, это доказывается их двух ярусным устройством, а также тем, что некоторые из камер имеют окна. Если в двух камерах подземелья есть ложи, иссеченные из скалы, то эти ложи не похожи на ложи настоящих иерусалимских гробниц. Кроме того, устроение каменных лож в гробницах вышло из обычая устроение лож в спальных комнатах и в первобытном периоде Иерусалима было большое соответствие между устройством гробниц и спальных камер. Итак, повторяем, пещеры, открытые М-р Ганно, представляют часть древнейшего квартала Иерусалима, принадлежащую тому периоду, когда палестинские города были группами пещер, частью натуральных, частью нарочито иссеченных в скалах. Это квартал того Иерусалима, который был отнят Давидом у евусеев и обращен в столицу израильского царства. У местных арабов есть предание, что в подземельях Ганно была церковь Иоанна Крестителя. Это могло случиться в первые века христианства, когда христианские отшельники скрывались в пещерах и гробницах разоренного Иерусалима. В цветущий же период Иерусалима здесь вероятно были городские общественные склады. Упомянутая нами выше часть подземных камер, еще прежде открытая под зданием австрийского приюта, представляющая продолжение пещер М-р Ганно, имела приспособление для рогатого скота: корыта для воды и ясли для корма. Но так как здание австрийского приюта стоит в долине сырных продавцов Флавия (Тиропеон), то может быть сокрытые под ним подземелья были именно сырной лавкой, давшей имя всей долине. Это по-видимому подтверждается тем, что, под пещерной камерой, окруженной яслями и корытами, был открыт еще круглый погреб, может быть назначавшийся для хранение молока, сыра и масла.
Ещё более замечательна пещерная часть древнего Иерусалима, о которой мы говорили уже во введении, под именем царских пещер, проходящих под значительной частью Вeзефы, недалеко от австрийского приюта на север. Подобно катакомбам Рима и Неаполя, эти пещеры образовались первоначально от ломки камня, но впоследствии они могли получить какое-нибудь другое назначение, может быть служили загоном для овец, как в новейшее время. В период крестоносцев эти пещеры назывались подземельем выделки хлопчатой бумаги. Они не раз упоминаются в талмуде и у Тацита Hist. V. 12. Но научным образом царские пещеры были строго обследованы первый раз только в 1854 году прусским консулом Вебером. Нечего и говорить, что такой громадной величины подземелье, и притом открыто стоявшее в течение веков, сделалось предметом многих легенд и сказок. Там тени древних евреев плачут день и ночь о своем угнетении и подземелье стонет от мерно падающих слезных капель еврейских, которыми жители Иерусалима называют соленый источник в глубине царских пещер. Подобное сказание имеет достаточное основание в тех огромных трудах, с которыми были связаны работы в каменоломнях и которые, увеличиваясь от темноты и духоты подземелья, должны были далеко превосходить труды в египетских сиенских каменоломнях, где рабочие по крайней мере были на свежем воздухе и постоянно могли освежаться Нильской водой. У европейских путешественников каждое отделение царских пещер имеет особенное имя. Тут есть и ущелье ада Дантова, и камень Сизифа, и арфа Давида, и галерея Готфрида Бульонского, и камера Ричарда-Львиное сердце, и капелла, Леопольда, и дом королевы Виктории, и двор Франца Иосифа и мавзолей Наполеона III. Нынешний иерусалимский губернатор Камиль-паша, если верить слухам, принадлежащий к иерусалимской ложе свободных каменщиков, изгнал овец и пастухов из царских пещер и приделал дверь ко входу.
Совершенно особенную часть подземного Иерусалима представляют исследованные Барклеем и Тоблером две большие клоаки древнего Иерусалима в южной части города, о которых до новейшего времени ходили в городе самые фантастические сказание. Уже 2Хр. 29, 16; 30, 16 (2Пар.29:16; 30:16) говорится, что нечистоты выносились из города исключительно одними воротами, которые оттого и назывались Гнойными, точно также как Рим имел одни ворота нечистот, которыми ежегодно 15 июня выносились нечистоты из храма весталок на площадь капитолийского холма. Во времена Второго храма, вследствие неудобств открытого перенесения нечистот, были сделаны подземные клоаки для постоянного их стока вон из города. Первую клоаку можно видеть теперь около 100 шагов на юг от тех же гнойных ворот (Ель-Магреби). Вступив в южный конец канала, идете в прямом направлении с юга на север под гнойные ворота 30 шагов; затем поворачиваете на запад 12 шагов и опять возвращаетесь на север. Не смотря на накопившиеся в канале слои грязи, он имеет высоту 5½ и 6 футов на 2 фута широты. В своей верхней части под городом канал запружен совершенно и проследить его невозможно. Впрочем, обрыв канала можно видеть в городе при повороте от Сук-баб-ес-Синсле к Гарет-ель-Макгарибе. Недавно при расчистке основания одного частного дома, недалеко от Стены плача, наткнулись на ту же древнюю клоаку. Таким образом, этот канал назначался собственно для стока нечистот так называемой Акры или нижнего города. Что найденный канал действительно служил некогда тем, чем римская cloaca maxima, это достаточно подтверждает невыносимо тяжелый запах подземелья. Наши свечи едва могли гореть в этом канале. Мы часто наталкивались на трупы собак и кошек, забежавших в проход и захлебнувшихся газом. Мой проводник сравнил этот канал с известной собачьей пещерой в Италии. С помощью этого канала седьмой раз был взят Иерусалим 22 мая 1834 года палестинскими феллахами, возмутившимися против египетской конскрипции и ночью вторгшимися в город этою клоакой, чтобы чрез семь дней (29 мая) бежать от слуха о приближении войск Ибрагима-паши.
Другая древняя клоака, почти параллельная первой, идет по западной стороне Офела. Вход в нее между юго-восточным углом города и Силоамский купелью, на юго-запад от источника девы, между развалинами древних гробниц. Канал может быть прослежен на протяжении более 600 футов, 480 в прямом направлении на север и 142 с востока на запад. Первые 164 фута канал сложен из небольших тесанных камней хорошей работы, далее идет в живом грунте известковой скалы и затем опять сложен из камней. Широта канала везде одинакова 2 фута, но высота различна. Первые 44 фута от входа высота канала 8 футов; на 44-м футе встречается большая лестница, при которой канал понижается до 5 футов; входя в живую скалу, канал имеет 6 футов высоты до поворота его северного направления в западное. На самом изгибе поворота есть в своде отверстие, теперь заложенное каменной плитой, вероятно служившее для света и подачи материалов рабочим. В западном направлении канал постепенно понижается до того, что следование по нему делается невозможным. Дно канала покрыто везде землей, а также остовами животных и остатками глиняной посуды. Ток воздуха нигде не чувствуется. Пламя свечи не обнаруживает ни малейшего колебания, но окрашивается в синеватый свет. Начала канала в городе не найдено, но очевидно он шел под Тиропеон, может быть к дворцу на площади ксистус. Под домом Абу Сруда, около моста Робинсона, открыта Вильсоном часть подземного прохода, может быть принадлежащая этой клоаке.
Недалеко от первой клоаки есть еще особенный подземный ход, идущий от здание известного под именем гробницы Давида. В него сходят 13 ступенями и идут сперва низким ходом не более 4 футов высоты, затем входят в просторное подземелье 12 футов высоты, 50 ф. длины и 25 ширины. Затем низким проходом, подобным первому, выходят на восточном склоне Сиона. Присутствие лестниц и боковых проходов не позволяет думать, что здесь была цистерна. Еще менее вероятно, что это была клоака. На меня подземелье произвело впечатление погреба или подземного склада зернового хлеба.
Кроме этих, более замечательных, частей подземного Иерусалима, много малых остатков, в виде отдельных стен и камней, находили и находят в разных пунктах, особенно на Сионе. Силоамские феллахи, во владении которых состоит большая часть сионского холма, при распашке земли, находят на различной глубине Сиона остатки стен, сложенных из местных известковых камней обыкновенно не больше 6 футов длины с выпусками 4 дюймов глубины. Вместо цемента между камнями встречаются следы железных связей, которыми, по свидетельству Флавия, Иудейские цари укрепляли стены своих сооружений. Так как такую же работу представляют древние финикийские памятники, то в этих остатках видят работы тех каменщиков, которых прислал в Иерусалим Хирам царь тирский. Но на самой большей глубине сионские камни не имеют выпусков, обделаны очень грубо и сложены без всякого цемента. Это остатки Иевусеевского города.
На сколько можно судить по этим, далеко еще не окончательным, открытиям, памятники древнего Иерусалима лежат под зданиями нынешнего города гораздо глубже, чем базилика св. Климента в Риме под новым храмом этого имени, чем древний римский Трир лежит под новым городом этого времени. Наиболее глубоко погребен древний город в долине Тиропеон и на северной стороне Сионского холма. На всем пространстве нынешнего города есть только два пункта, в которых возвышается над мусором и пеплом свежий натуральный грунт. Это во 1-ых скала мечети Омаровой, к которой принадлежат также скала видная на северном углу харама и скала под Текийэ, зданием времени Сулеймана II, принадлежавшая, вероятно, к соседней храму высоте, на которой был акрополь. Во 2-ых скала гроба Господня и Голгофы. Возражения, высказанные в 40-х годах одним датским архитектором против подлинности и натуральности этой последней скалы, в настоящее время совершенно опровергнуты. Эти два наиболее важные в истории древнего города пункта: скала храма Соломонова и скала гроба Господня, одиноко возвышающиеся из-под сплошной коры, покрывшей древний Иерусалим, представляют знаменательное и поучительное зрелище для историка.
* * *
Были произведены некоторые раскопки и вне черты древнего города. Английским археологическим обществом в 1865 году были раскопаны видневшиеся из-под земли развалины древнего здания на северо-запад от города подле нынешнего дома Биркгейма, недалеко от русских построек. Основание здание оказалось древнееврейским и камни имели выпуски стены плача. Найдены были также гранитные колонны, свидетельствовавшие, что здание было значительным и общественным: может быть здесь был древний караван серай. – Вторая раскопка того же английского общества была сделана на север от города у одной цистерны, вправо от большой дамасской дороги, где заметен большой холм древних развалин. По вскрытии земли на западной и северной стороне цистерны нашли основание из камней, подобных стене плача и целую группу малых цистерн, расположенных одна за другой и разделенных стенками, с прекрасно сохранившимся цементом. В цистернах было найдено много остатков древней посуды. По всей вероятности, здесь была древняя маслобойня. – В некотором расстоянии на запад от этой второй раскопки была сделана третья, причем открыто основание из древнееврейских камней 22 футов длины, 3 футов 5 дюймов ширины н 4 ф. 4 д. высоты. Выпуски имели 4 дюйма ширины, но среднее поле высоко выступало и было обделано не чисто. Здание должно было принадлежать загородной башне, может быть сторожевой. – В том же северном направлении от города, около 300 метров от дамасских ворот, Сольси делал раскопки на месте, где предание иерусалимское указывало остатки большого Иродова театра (Древн. XV, 7, 1.). Под массой мусора были открыты основания древнего сооружения, очевидно погибшего от пожара. Признаков древнееврейского происхождения не найдено. Возможно, что здание театра, долженствовавшее соответствовать римским театрам, было исполнено исключительно римскими архитекторами.
Но наиболее замечательными раскопками в этой местности, на север от города, были раскопки одного большого холма, лежащего на встрече дорог от русских построек до царских гробниц и от дамасских ворот до гробниц Судей и очевидно образовавшегося из отвердевшего пепла. Видно, что холм наслаивался постепенно, под действием обыкновенного в Иерусалиме северо-западного ветра. Сторона холма, обращенная к ветру, выглажена, тогда как противоположная обрывочна. На том основании, что в ветхозаветном законодательстве говорится о пепле жертв, выносившемся в одно определенное «чистое место», и что другого подобного холма пепла нет в Иерусалиме, путешественники признали этот именно холм местом выбрасывания свящ. пепла жертв. Это мнение считалось бесспорным, особенно после того, как известный Либих сделал анализ пепла и нашел в нем элементы животных организмов. После этого холм, как свящ. остаток, был взрыт до основания, оказавшегося живой выровненной скалой, в которой признали нарочито сделанную площадь, библейское «чистое место» жертвенного пепла. Между тем новейшие исследование холма совершенно опровергают это установившееся мнение. Анализ Либиха оказался не точным. По исследованию парижских естествоиспытателей Риво и Билля, иерусалимский холм пепла имеет следующие составные части:
| 1. | 2. | 3. | |
| Acide carbonique | 29,709 | 34,519 | 36,877 |
| Acide sulfurique | 0,275 | 0,691 | 0,300 |
| Acide phosphorique | 0,277 | 0,000 | 0,402 |
| Chlore | 0,034 | 0,036 | 0,028 |
| Peroxyde de fer et alumine | 4,206 | 2,619 | 2,021 |
| Chaux | 41,426 | 46,415 | 44,118 |
| Magnésie | 8,132 | 6,389 | 6,986 |
| Sable et caet. | 13,951 | 8,010 | 8,434 |
| 98,046 | 98,700 | 99,236 |
Эти пропорции не могут принадлежать пеплу животных. В особенности пропорция acid. phosphor. слишком ничтожна для этого. Положим, что атмосферная вода значительную часть этого элемента могла разрушить; но что в данном случае влияние воды было очень слабо, видно из того, что до настоящего времени пепел содержит как главный элемент карбонат извести. Принимая во внимание что подобные холмы пепла есть в Наблусе, Лидде, Рамле, Газе и у арабов называются Tulul-el-Masabin «холмы фабрик шелка», нужно предположить, что и иерусалимский холм пепла обязан своим происхождением фабрике шелковых материй и след. по времени не древнее периода крестоносцев, прежде которых этого рода фабрики не были известны в Палестине. Что же касается настоящего пепла жертвенных животных в Иерусалиме, то если он не развеян сильными палестинскими ветрами, его нужно искать не на северной стороне Иерусалима, а ближе к храму на восточной стороне города. Могло ли быть, чтобы носили пепел чрез весь город по узким улицам и базарам, когда непосредственно за стеной храма был Кедронский поток и пустыня?
Впрочем, местность на север за стеной Иерусалима не представляет сплошной массы развалин и мусора. Напротив, в большей части грунт имеет здесь более коричневый цвет, отличающий в Палестине всегда девственную почву. Зато восточная и южная стороны т. е. кедронская и гинномская долины и западный склон Елеонской горы представляют толстый сплошной пласт мусора12. Известно, что царь Иосия, разорив идольские алтари, построенные его предшественниками на площади храма, развалины их снес в кедронский поток. Зоровавель, при расчистке развалин храма и города, также снес в поток большую массу негодных камней и мусора. Тоже делают импер. Адриан и халиф Омар. Таким образом, кедронская долина, в которую, по Флавию, нельзя было некогда смотреть без головокружения, засыпана больше, чем на половину. Раскопки в этой долине не могли открыть свежего грунта на глубине 80 и более футов. Протекавший некогда здесь кедронский поток, вследствие огромной насыпной массы, засыпавшей русло, не виден больше в долине, даже во время зимних дождей; вероятно он принял подземное течение. Кроме городского мусора, Кедронский поток и гинномская долина были глубоко засыпаны землетрясением, бывшим при царе Озии, когда, по преданию, передаваемому Флавием (Древн. IX, 10. 4), эти долины с царскими садами были засыпаны извержением какого-то соседнего вулкана, и целая половина одной западной горы была столкнута с места подземным толчком и катилась в восточном направлении на пространстве целых четырех стадий (ср. Иерон. на Иерем. 7). Воспоминание об этом событии сделало эту долину в народном предании более страшной, чем сама преисподняя, и долина геенская дала свое имя аду. «Самое страшное место в долине геенской, говорит талмуд (Erub. 19а), то, где растут две пальмы; там густой пар выходит из-под земли и есть спуск в преисподнюю». Кроме землетрясения при Озии, были и другие, много стоившие Иерусалиму. От землетрясения, бывшего в день смерти Спасителя, расселись многие иерусалимские скалы и иссеченные в горах гробницы (Мф.27:51, 54. Мк.15:38. Лк.23:45). Талмуд (Bava kama 82, 6. Megillah 3) говорит о необыкновенном землетрясении, случившемся во время Ирода, когда в развалинах жилищ погибло 10,000 человек. Кроме этих исторических землетрясений, содействовавших разрушению древнего Иерусалима, местные старожилы рассказывают о целом ряде других землетрясений более или менее губительных. «Редкий год», говорит Шварц (Das heilige Land 327), «в Иерусалиме не бывает землетрясения». И действительно, в мое непродолжительное пребывание в Иерусалиме, случилось землетрясение 18 февраля 1874 года. Для нынешнего Иерусалима эти землетрясения гораздо опаснее, чем они были для Иерусалима древнего. Потрясти древний Иерусалим значило поколебать скалы, тогда как потрясти новый Иерусалим, значит пошевелить подземные развалины, и без того подавшиеся под тяжестью верхнего города. В этом отношении к нынешнему Иерусалиму как нельзя более идет евангельская притча о муже юродивом, создавшем храмину на песке. После каждого зимнего дождя, после каждого подземного толчка целые десятки домов в Иерусалиме обваливаются, как карточные домики. Под конец зимы 1874 года, по каким-то тайным предсказаниям дервишей (как передавал мне российский императорский консул В. Ф. Кожевников), в Иерусалиме ожидали падение самой мечети Омара, последнего прочного пункта магометанского Иерусалима.
Иерусалимские источники, цистерны и пруды
К рассмотренным нами памятникам подземного Иерусалима ближайшее отношение имеют памятники, по самому своему назначению долженствовавшие быть подземными 1) бассейны для воды и водопроводные каналы и 2) Иерусалимские гробницы. Те и другие, как в собственном смысле подземные сооружения, не испытали таких потрясений, как описанные памятники древнего Иерусалима и, можно сказать, сохранились в целости.
Говоря о воде древнего Иерусалима, нужно различать: α) местную ключевую воду (источники), β) воду, собираемую во время зимних дождей (цистерны), и в) воду, проходившую в Иерусалимские бассейны особенными каналами, от так называемых прудов Соломона.
Жила местной воды, пробивающаяся в нескольких пунктах Иерусалима, представляет замечательную особенность периодических приливов и отливов. Три раза в сутки вода иерусалимских источников поднимается и понижается, обыкновенно на 6–10 дюймов. Поднятие источника происходит всегда быстрее, чем понижение; тогда как первое длится полчаса или не много более, последнее продолжается два часа и более. Подобного рода источники представляют редкое явление, хотя они не неизвестны и вне Палестины. В Перу есть источник, поднимающийся днем и спадающий ночью; известный источник Фридриха возвышается вместе с наращением луны, а после полнолуния спадает. Приливы и отливы этих последних источников одного происхождения с морскими приливами и отливами. Приливы же и отливы иерусалимских источников слишком часты, чтобы и их подвести под эту категорию. Скорее они зависят от вулканических давлений местного грунта. По наблюдениям старожилов, частые в Иерусалиме землетрясения оказывают заметное влияние на источники. Я нарочно посетил иерусалимские источники после землетрясения, бывшего в Иерусалиме ночью с 18 на 19-е февраля 1874 года. Поднятия и понижения воды были в десять раз больше и энергичнее, чем обыкновенно. По рассказам, тоже самое было замечено еще накануне, а в самую ночь землетрясения слышали необыкновенный шум в главном иерусалимском источнике, известном под именем Источника Девы, около которого я нашел большую толпу арабов; многие умывались и умывали грудных детей. Соседняя Силоамская деревня стонала от громких перекликов, так как это необыкновенное движение воды было принято за предвещание изобильного года. Пертурбации иерусалимской воды во время землетрясения показывают, что и вообще движение иерусалимских источников регулируется вулканическими силами грунта, периодически надавливающими на водяную жилу местности. Полную аналогию иерусалимские источники имеют только с одним источником, известным в горах Пиренейских, каждые 36 минут поднимающимся и спадающим, и также зависящим от подземной вулканической работы. Древнейшее иерусалимское сказание приписывает пертурбации своих источников дракону; когда источник поднимается, это значит, что чудовище спит и струя имеет свободное течение; когда источник спадает, это значит, что чудовище проснулось и заткнуло гортанью прорвавшуюся струю. Это сказание дало главнейшему из источников Иерусалима даже имя Драконова колодца, какое имя удерживается и в кн. Неемии (Неем.2:13). В талмудический период усиление и ослабление этого источника называли образом рабочих и субботних дней. Пилигрим Бордоский (Itin. Hieros. р. 152) говорит, что этот источник именно шесть дней струится, а седьмой стоит днем и ночью. Последнее сказание, как оно ни кажется сказочным, вероятно имело какое-нибудь основание. Полагают, что, вместо нынешней периодичности, источник совершал свои пертурбации, подобно источнику Фридриха, вместе с луною, т. е. изменял свои состояние каждую четверть месяца, или каждый субботний день. Иосиф Флавий (Войн. VII. 5. 1) упоминает такую чудесную реку в царстве Агриппы между Аркеею и Рафанеями. Эта река в продолжение шести дней всегда суха, но в седьмой день в ней открываются источники и образуют очень широкое течение, чтобы по истечении седьмого дня снова иссохнуть на шестидневный срок. Император Тит, во время своего пребывание в Сирии, по свидетельству Флавия, интересовался этой рекой и посетил ее. Трудно допустить, чтобы рассказ этот не имел никакого реального основания.
Особенным доказательством на то, что иерусалимские источники стоят в зависимости от вулканических условий местности, служат их минеральные свойства. Вода иерусалимских источников в летнее время имеет неприятный соленый вкус (зимою от примеси дождевой воды вкус изменяется). Магометанские поэты говорят, что некогда иерусалимская вода была сладка как мед и текла из источников рая; но впоследствии потеряла свой вкус от грехов человеческих, в то самое время, когда камень Каабы переменял свой первобытный белый цвет в черный. Известно, что таким же образом объясняют восточные легенды и вкус морской воды. По древней персидской книге творение Бундегеш, есть в мире три соленых моря, источники которых подлежат условиям приливов и отливов; эти моря осолились в момент человеческого грехопадения. После этого понятно то боязливое уважение, какое оказывают жители Иерусалима своим источникам. В журчании воды, отдающемся под пещерными сводами источников, иерусалимляне слышат тайный говор судьбы, которая, высказавши свое неблаговоление к человеку в омрачении и осолении ключей, откроет некогда свою расположенность к нему их новым очищением и ослаждением. Иерусалимские феллашки гадают по своим источникам; каждый вечер у того или другого колодца непременно встретите группу женских фигур, что-то шепчущих и спрашивающих у скромного источника. Кроме того, у иерусалимских жителей доселе хранится наставление древних раввинов пользоваться иерусалимской водой от лихорадки и несварения желудка.
Все иерусалимские источники соединяются между собой подземными каналами и представляют, можно сказать, одну подземную артерию, проходящую среди Иерусалима чрез долину Тиропеон и сходящую в Кедронский поток. Некогда это был открытый ручей, проходивший среди города, как видно из 2Хр. 32, 4 (по LXX) (2Пар.32:4). И в Ierus. Chagiga 1 упоминается об источнике, проходившем среди города Давидова. Но во время разрушений Иерусалима источник сокрылся под развалинами города и принял подземное течение, точно также как на восточной стороне Мории принял сокрытое подземное течение Кедронский поток. Первое, самое верхнее и самое слабое проявление водной иерусал. жилы можно видеть под царскими пещерами, где на восточной стороне сочится ключ соленой воды с температурой 11° по Реом. (8,8°C). Отсюда без сомнения источник течет сперва в юго-восточном направлении, потом в южном параллельно стене харама. Но, независимо от этого первого проявления и направления источника, Пьеротти открыл другое начало его при расчистке двора в нынешнем монастыре Сионских сестер милосердия 12 июня 1860 года. Открытый в этом месте ключ имеет вкус ключа царских пещер, 11° температуры по Реом. (8,8°C), бьет приливами и отливами и при этом обнаруживает необыкновенную, почти математическую правильность в количестве доставляемой им воды. Со дня открытия до конца января 1861 года, под непрерывным наблюдением Пьеротти, источник давал ежедневно воды ровно 250 gallon (английская мера жидкости, равная пяти нашим кружкам или четырем английским квартам). Эта особенность подтверждалась и наблюдениями последних годов. Только в феврале 1874 года, после бывшего в Иерусалиме землетрясения, движение воды в ключе было обильнее и неправильнее, пока чрез непродолжительное время снова восстановилась прежняя правильная пульсация. Источник Пьеротти имеет подземный канал с двумя отдельными рукавами, одним восточным, направляющимся к северной стене харама, другим западным, сходящим в долину Тиропеон и вероятно соединяющимся с источником царских пещер.
Новый источник, образующийся соединением ключа царских пещер и ключа Пьеротти и идущий вдоль западной стены харама, пробивается в 16 футах от угла улицы Сук-ель-Каттанин, в 135 футах от стены харама, где он известен под именем аин-ес-шефа источник здоровья. Вода этого источника более чем вода предшествующих, взятых отдельно, неудобна для употребления по причине содержащейся в ней в большом количестве хлористо-водородной соды; ей пользуются только в соседней бане, известной под именем хамам-ес-шефа, бани здоровья. Этот источник очевидно некогда имел чрезвычайное значение, доказательством чего служит особенное устройство его бассейна. Глубина источника в настоящее время достигает 160 футов. Спустившись на дно колодца, вы видите себя в камере А под сводом, состоящим из четырех отдельных арок на столбах около 10 футов высоты. В северной стене этой первой камеры небольшая дверь ведет в другую камеру В продолговатую, иссеченную в живой скале, 22 футов длины, 10 ширины и 8 высоты с сегментарной аркой в своде. В противоположной южной стене камеры А открывается канал С (10 футов длины, 2 ширины и 7 высоты), приводящий в новую камеру D 16 футов длины на 12 футов ширины с арками, сложенными из больших тесаных камней. Отсюда отделяется побочная ветвь прохода на восток, к сожалению, находящаяся в таком состоянии, что следование в ней невозможно. Местное предание говорит, что эта ветвь прохода вела под самую скалу мечети Омара и состояла из большого коридора с мраморными столбами и колоннами. Прямая же ветвь подземелья идет на юг длинным и узким проходом Е преломляющегося направления с ясными признаками позднейшего восстановления после разрушения. В одном месте проход вместо сводных камней покрыт колоннами белого мрамора 20 дюймов в окружности; в другом месте видна в потолке колонна миззи. Этот материал подтверждает предание, что проход некогда был украшен разнообразными колоннами. Южный конец прохода выходит в камеру самого источника, представляющую натуральный пещерный грот 11 футов 6 дюймов длины на 8 ф. ширины и около 15 высоты. Так как дно источника гораздо ниже дна описанного прохода, то вода из него поднималась ведрами и наливалась в канал, который проводил её в большие камеры D, А и В.

Рисунок 25. Разрез источника Аин-ес-Шефа
Говорим, устройство этого источника указывает его особенное назначение. Самым естественным объяснением описанного подземелья, мне кажется то, которое видит в нем древние купальни. Но, судя по древним описаниям, здесь можно предположить только одну купель, именно купель Вифезду. С средних веков до настоящего времени ошибочно указывают этого имени купель на северной стороне харама в древнем пустом бассейне, недалеко от Гефсиманских ворот. Об этом бассейне у нас будет речь ниже. Теперь скажем только, что на имя Вифезды этот северный пруд не имеет никакого права. 1) Местные жители не знают никаких преданий о чудесах, совершавшихся в этом пруде, самое имя которого им неизвестно. Как бы именно вопреки мнению ученых, считающих этот пруд чудесной евангельской купелью, арабы оказывают к нему крайнее неуважение, большее, чем к какому-либо другому древнему пруду. Почти до половины он засыпан уже городским сором, навозом и проч. 2) Пруд, носящий в описаниях Иерусалима имя Вифезды, не имеет живого ключа и очевидно питался дождевой водой или водой прудов Соломона. Между тем до настоящего времени в Палестине ценятся только бассейны с живыми ключами, так что трудно предположить, чтобы купель Вифезда, при своем священном значении в народе, зависела от дождей и, следовательно, подвергалась возможности то иссякать, то наполняться. 3) Не понятно, каким образом открытый громадный параллелограмм северного пруда был так затруднителен для больных, что входить в него можно было с трудом, и только по одиночке (Ин.5:7). 4) Наконец соединяемый с прудом Вифезды дом призрения больных и увечных с своими пятью галереями не мог быть в такой близости к замку Антонии, в какой стоял к ней пруд, лежащий на северной стороне харама. Самым удобным местом для богадельни в Иерусалиме была именно часть города на западной стороне харама, долина Тиропеон, представлявшая, так сказать, деревенскую часть города. Я полагаю, что богадельня и купель Вифезда имели связь с описанным источником Аин-ес-шефа. Это видно уже из названия источника, означающего источник здоровья, название, конечно основывающегося на древнем предании, потому что целебные свойства его воды, не смотря на особенности в составных частях, в настоящее время не подтверждаются. По отношению к этому источнику и купели делается совершенно понятным, каким образом евангельский больной должен был 38 лет ожидать очереди для входа в купель. Хотя, конечно, нынешняя глубина Аин-ес-шефа (l00 футов) была гораздо меньше, но тем не менее спуск в его подземелье всегда был затруднителен. Сюда именно могли сходить только по одиночке, и тяжело больные только при сторонней помощи. Подземный проход, соединяющий купель Аин-ес-шефа с местом самого храма, показывает, что это не была простая городская купель, но имела особенное отношение к ветхозаветному культу. Это как нельзя более соответствует сверхъестественной силе, которую приписывает евангелие купели, и которая могла открывать свое действие ближе всего чрез святилище. Если некоторые исследователи Вифезду называют еще овчею купелью и полагают, что в ней омывались жертвенные животные, то это не имеет никакого основания. Выражение Ин.5:2 ἐπὶ τῇ προβατικῇ κολυμβήϑρᾳ нельзя перевести «у овчей купели» потому что это будет противоречить нарочито указанному в том же стихе еврейскому имени купели «Вифезда» בֵּית חִסְדָּא дом милосердия или богадельня. В приведенном тексте нужно подразумевать пропущенное ϑύρα дверь и переводить «у ворот овчих купальня...». Есть еще собственное имя חִסְדָּא. Но едва ли оно может иметь сюда другое отношение, кроме того какое выражено в следующем обращении талмуда (Gittin 7 а): «имея Хисда (милостивая) и речи её Хисдий (милостивы)». – Что касается пяти крытых галерей, соединявшихся с купелью Вифезды, то остатки их можно видеть в развалинах, недавно открытых в соседстве с источником Аин-ес-шефа, принадлежавших очевидно древнему общественному сооружению, и может быть также в упомянутом древнем подземном ходе на площадь харама, обращенном теперь в цистерну, о котором мы говорили под именем прохода Сук-ель-Каттанин.
Как бы то ни было, но указываемое нами место для купели Вифезды имеет на своей стороне гораздо больше оснований, чем пруд на северной стороне харама. Чтобы избавиться от необходимости отождествлять этот последний пруд с евангельскою Вифездою, Унруг (стр. 259) признал Вифездой нынешний источник Дракона или Девы, на том основании, что последний пользуется уважением нынешних жителей Иерусалима и в своем устройстве приспособлен к накачиванию воды. Но и в этих отношениях Аин-ес-шефа не уступает источнику девы.
Источник Девы (в кн. Неем. Драконов) имеет непосредственную связь с источником Аин-ес-шефа и представляет новое проявление той же сокрытой иерусалимской водной артерии, которую мы видели в выше описанных источниках. Он лежит на скале Офела, около 1000 шагов на юг от юго-восточного угла харама. Широкая каменная лестница, ведущая к ключу, разделяется площадкой, на которой, по преданию, Соломон имел водокачательные машины, вероятно из рода тех спиральных насосов, которыми, по Страбону (XVI, 1), невольники накачивали воду Ефрата на платформы висячих садов Вавилона. Место класса вавилонских невольников, с их исключительною обязанностью накачивания воды, в Иерусалиме занимали известные библейские Nethinim, квартал которых был вблизи источника девы и обязанностью которых было накачивание воды для орошения соседних царских садов Иерусалима непрерывно, – для чего Nethinim вероятно разделялись на череды. С площади водокачательных машин 14-ю ступенями сходят под грот источника, имеющий острую дугу в своде. Вода бьет из-под камня с правой стороны грота у самой нижней ступени лестницы и затем стекает в особый бассейн 13 футов длины на 5 ширины с почерневшим от времени сводом, иссеченным в живом известняке. Иосиф Флавий (Древн. V. 4. 2) называет этот бассейн «рыбным прудом Соломона», что невероятно при малом объёме бассейна.
По качеству воды источник девы несколько отличается от источника Аин-ес-шефа большей легкостью удельного веса воды. Тогда как последний, по опытам Тоблера, дает на 128 унций воды 185 грамм осадка, источник девы дает только 93. И температура Аин-ес-шефа на 2 градуса выше температуры источника девы. Эти разности приводят к мысли, что, кроме воды, идущей от Аин-ес-шефа, источник девы принимает еще другую струю, начало которой неизвестно. Но если, таким образом, не вполне ясен начальный пункт источника девы, то его исходный пункт доступен наблюдению Это – тоннель, пробивающий скалу Офела в направлении на юг от бассейна источника девы к бассейну Силоамского источника. Тоннель имеет 1750 футов длины; широта и высота тоннеля различна и имеет от 10 фут. на 6 до 4 на 2. Вследствие особенностей местного грунта, тоннель не следует прямой линии, но извивается змееобразно. В летнее время его можно пройти насквозь, хотя для этого потребуется значительное пространство ползти на четвереньках. Мириады насекомых, укрывающихся от летнего удушья в сырости прохода, червей, пьявиц могут вызвать дрожь у нервного посетителя. Почти на средине тоннеля, на одном из колен, то и дело описываемых проходом, мой силоамский проводник остановился и с словами: «антика, хаваджи, антика» указал мне вырезанную на скале еврейскую надпись. Между несколькими неразборчивыми словами можно было прочитать... בנימין. Уж не Беньямин ли Тудельский, подумалось мне, искатель затерявшихся в истории 10 колен израильских хотел найти здесь то подземное царство, в котором, по легенде, великий волшебник Сеннахирим держит в заколдованном сне побежденные им израильские колена. Но к сожалению, нет. Надпись свежая, внизу означен даже год תרכט, соответствующий 1869 году. Как бы то ни было, но, как видно из этой надписи, Вильсон и Тоблер были не единственными посетителями подземного Иерусалима. Вообще нужно сказать, что большинство писателей, изображающих тайники подземного Иерусалима, считают излишним пачкаться в подземном царстве крыс, летучих мышей и проч. и ограничиваются тем, что посылают арабов в подземелья на разведки и записывают их рассказы. Сам любознательный Сепп наивно признается, что он только сверху заглядывал в подземелья в то время, как его спутник Тоблер лично спускался в непроглядную темь тоннелей и подвалов. (Ich war zufrieden mir den Ausgang zeigen zu lassen; Tobler dagegen rückte init brennender Kerze weit in dem zwei Fuss breiten Gauge vor...). Между тем личное посещение подземного Иерусалима так необходимо, что без него никакой рассказ не может быть ясным и точным. Достаточно сравнить упомянутых двух исследователей Сеппа и Тоблера. Оба они одинаково подробно говорят об одних и тех же памятниках, даже Сепп обнаруживает больше поэтического одушевления и живости в рассказе; но описанием последнего писателя редко удовлетворяется читатель. Кажется все есть в описании, но между тем из-за него не выступает настоящий вид памятника. Наоборот точный Тоблер, не дающий места поэтическому выражению, но только зондирующий грунт, по которому он ступает медленным, но верным шагом, совершенно удовлетворяет самого строгого читателя.
Но обратимся к Силоамскому источнику, которого мы достигли чрез упомянутый тоннель от источника девы. Силоамская купель имеет длины с востока на запад 53 фута и ширины 18 ф. Восемью ступенями, в настоящее время почти не годными для употребления, сходят под свод циклопического сооружения, обделанный из нависшей скалы. Точного времени происхождения этого бассейна указать нельзя, точно также как нельзя указать времени, когда из пещер, частью натуральных, частью оставленных каменщиками, возникла Силоамская весь, давшая имя купели и сама, подобно своей купели, дышащая тем временем, когда окрестность её была царством пещерных весей. Но само присутствие этой пещерной веси и этой циклопической купели почти у стен древнего Иерусалима представляет в высшей степени замечательное явление. Блиставший красотой восточного искусства, царственный Иерусалим в свои наилучшие времена и своей наилучшею частью, царскими дворцами Офеля, граничил с этой бедной, презираемою богатыми горожанами весью, в свою очередь гордой своей верностью преданиям отцов, самой суровостью и неприглядностью своих пещер, а особенно своим древним источником, невкусной воды которого житель Силоама никогда не менял на сладкие, но чужие воды позднейшего Иерусалима. Мало того, как бы в воспоминание своего общего происхождения сам Иерусалим снисходит до Силоамской веси в уважении к Силоамскому источнику. Известно, что у евреев был праздник, обряд которого сосредоточивался около Силоамской купели. Кроме того, местность соседняя купели была издавна местом народных собраний для жителей Иерусалима. Здесь помазан на царство великий Соломон. Потом мало ли всяких исторических событий, принадлежавших Иерусалиму, видел пред собою этот вековечный источник и эта непомнящая времени своего рождения весь. Совершенно согласно с древним значением источника А. Maпy в своем новом библейском романе Ашмаф Шомрон (Самарийские проделки) сводит свою Мирьям с Узиэлом у той же Силоамскои купели.
Валяющиеся доселе в силоамской купели остатки колонн и одна еще стоящая на месте среди купели колонна показывают, что уважение, какое питал Иерусалим к Силоамскому источнику, было некогда соединяемо с видимыми знаками внимания. Это – остатки колоннады, принадлежавшей некогда портику источника. Уже в Евангелии (Лк.13:5) говорится о большой силоамской башне при купели, упавшей (вероятно от землетрясения) и убившей 18 человек. Пилигрим бордосский называет Силоамскую купель quadriporticum. А Беньямин Тудельский говорит, что в его время было здесь прекрасное сооружение, принадлежавшее библейским временам. Это последнее свидетельство противоречит христианскому преданию, что в V веке бассейн источника был обделан в христианскую базилику с двумя большими отделениями мужеским и женским.
Далее, на юг от Силоамского источника, есть еще один источник живой иерусалимской воды, в древности известный под именем Рогел (ходок). Чтобы понять значение этого имени, нужно обратить внимание на то, что по древнему употреблению слово רגל ходьба было вместе с определением свободного препровождения времени, гулянья и празднества, в том смысле, что, по предписанию закона, для праздника нужно было совершить путешествие в столицу, следовательно, выйти из будничной колеи, набраться новых впечатлений и участвовать в религиозном веселье и пиршествах, которые предлагал ветхозаветный храм для своих пилигримов. В подтверждение такой этимологии я могу сослаться на следующее место Ier. Maas. Scheni cap. 4. «Некто рассказывает сон рабби Акибе: «снилось мне что мои ноги רגל чрезмерно укоротились». Это значит отвечал рабби, что тебе не придется испытать никаких удовольствий в ближайший праздник רגל. Другой спросил: «что значит, что я во сне видел свои ноги чрезмерно толстыми? Это значит, отвечал рабби, что в ближайший праздник ты получишь много удовольствий». Итак, источник Рогел был источником праздничных прогулок, подобно соседнему источнику силоамскому. Есть и другие названия источника. Арабы называют его именем Иова – этой популярнейшей личности на востоке; по местным преданиям Иов исцелил свои раны, омывшись, по повелению Божью, в этом источнике. Местные евреи называют источник именем Иоава, известного военачальника Давидова, много сделавшего для украшения и устройства нижнего Иерусалима. Наконец европейские путешественники называют источник именем Неемии, открывшего, по описанию кн. 2 Макк. (2Мак.1:19), в этом источнике священный огонь храма; в средние века на этом основании называли источник puteus ignis. Самый источник состоит из двух частей: собственно, колодца, имеющего форму обороченной пирамиды 120 футов глубины, и примыкающего к нему грота. Источник и грот были первоначально иссечены в живой скале, но впоследствии обложены большими тесаными камнями. Вот как описывает этот источник арабский писатель Медгр-ед-Дин (16 века) обозревший его с замечательной точностью. «Этот источник сложен из больших камней пяти локтей длины на два высоты. Я удивлялся тонкой обделке этих камней и огромному труду, которого стоило их расположение. Вода здесь свежая и обыкновенно находится на глубине 80 локтей, но летом поднимается выше, выходит из колодца, наполняет долину и приводит в действие мельницу. Я сходил в глубину источника с рабочими, починявшими колодезь и нашел, что ключ бьет в нем из-под большого камня двух локтей ширины. Там же есть большая пещера (бассейн), вход в которую имеет три локтя высоты на полтора ширины. «Холодный ветер дует от входа, – доказательство, что подземелье имеет еще другое неизвестное отверстие. Мы вступили в грот, красиво сложенный из камней, но неожиданный порыв ветра потушил фонарь и мы возвратились». – Древность источника Рогел не подлежит никакому сомнению. Уже в кн. Нав.15:7 и далее этот источник упоминается как всем известный пункт при географическом определении территории колен Иуды и Вениамина. Потом, если верить преданию, его обстраивают Иоав и Иезекия. Но обстроенный, таким образом, источник в древнейшее время был всегда закрытым, подобно многим источникам на востоке. По крайней мере во время войн, когда в Иерусалиме старались закрыть все соседние источники, чтобы не оставить их в руках неприятеля, об источнике Рогел никогда не заботились. Крестоносцы сделали над колодцем навес, существующий до настоящего времени и внешнюю купальню с каменными корытами на северной стороне от спуска в колодезь. Доказательством мусульманского уважения к источнику служат развалины мечети в нескольких шагах на юг от колодца; в начале прошедшего [XVIII] века эта мечеть была христианской часовней. И в настоящее время, в период весеннего разлива источника, мусульмане любят выходить сюда подышать свежим воздухом и покурить наргилле под журчание ручья. Нельзя без удовольствия смотреть тогда на их физиономии, осененные самым мирным настроением, сосредоточенно устремленные на змеевидный бег ручья и как будто говорящие: «с такою водой можно век жить и не умереть от жажды». – Хотя источник Рогел представляет непосредственное продолжение источников девы и Силоамского, но его вода значительно слаще, что опять зависит от другой подземной струи, встречающейся при источнике Рогел с струей силоамской. Здесь повторяется тоже отношение, в каком стоит источник девы к источнику Аин-ес-шефа. Обильная минералами неприятная вода последнего источника в источниках девы и Силоамском является более приятной и сладкою, чтобы в дальнейшем течении еще более очиститься в источнике Рогел13. Вместе с тем и самый объем и энергия ключей иерусалимских значительнее гораздо в нижних источниках, чем в верхних. Если верхний источник в области Сионских сестер милосердия, открытый Пьеротти, дает ежедневно воды не более 1,250 кружек, то источника девы было достаточно для непрерывного орошения царских садов древнего Иерусалима, а источник Рогел по весне заливал собой всю Кедронскую долину. – Других живых источников, кроме описанных (источника царских пещер, Пьеротти, Аин-ес-шефа, Девы, Силоамского и Рогел) Иерусалим не имеет.
Остается объяснить здесь одно темное библейское место, относящееся к источникам древнего Иерусалима, именно 2Хр. 32, 30 (2Пар.32:30). Чтобы удержать в стенах города источник и не дать воды неприятелям в случае осады города, Иезекия задержал источник, идущий от ключа верхнего Гехона и направил его на подол (מטה низменная часть) западной части города Давидова. В 1Цар.1:33 Гехоном называется нынешний Силоамский источник. Таргум Ионафана в приведенном месте вместо Гехон прямо ставит Силоам и бл. Феодорит (Quaest. 11) делает замечание, что Силоамский источник называется еще Гехоном, потому, что подобно Нилу, он выходит с большою силою из подземной жилы (גיח прорываться). Но, по своему положению, Силоамский источник может быть только нижним Гехоном. Где же верхний Гехон, источник которого, стекавший вниз к Силоамской купели, был задержан Иезекией и направлен в цистерны нижнего города? Я полагаю, что здесь нужно разуметь именно источник Аин-ес-Шефа, впоследствии переменивший свое общее имя (Гехонами назывались в древности многие ручьи и реки, напр. Аракс, Нил и др.) на халдейское Вифезда. Основанием такого предположения может служить то, что многие колодцы в области древнего Тиропеона и даже на северном склоне Сиона доныне имеют воду сходную по вкусу с водой Аин-ес-Шефа, что можно объяснить только непосредственным сообщением между ними. Хотя задержанный Иезекией источник с течением времени восстановил свое первоначальное южное течение, но, нужно полагать, от него идет и неоткрытый доселе боковой канал к колодцам западной стороны города, принимающий часть его воды. Если в 2Хр. 33, 14 (2Пар.33:14) говорится, что Манассия построил «часть стены города Давидова (так называемой второй у Флавия) на запад от Гехона до входа в рыбные (дамасские) ворота»; то под Гехоном здесь нужно разуметь исключительно Аин-ес-Шефа. Устройство иерусалимских источников предание приписывает главным образом царю Иезекии, которому, вероятно, принадлежат и подземные постройки Аин-ес-Шефа и тоннель, соединяющий источник Девы с источником Силоамским и источником Рогел. (Сравн. Сир.48:19).
* * *
Как видно из приведенного описания, Иерусалим не мог похвалиться обильными источниками. В очень сухое лето и те немногие и невкусные ключи, которыми владел Иерусалим, иссякали, так что город мог остаться совершенно без воды. Вследствие этого иерусалимские правители с древнейшего времени должны были подумать о том, чтобы снабдить город сторонней водой, хотя бы это снабжение стоило огромных трудов и средств. Забота об особенном водоснабжении Иерусалима была тем неотвратимее, что свое жаждущее народонаселение древний Иерусалим считал в таких огромных цифрах, с которыми не все нынешние европейские столицы могут идти в сравнение. По свидетельству Флавия, некто еврей Минней, перебежавший к Титу во время осады Иерусалима, свидетельствовал, что в одни ворота, вверенные его надзору, было вынесено 150,880 иудейских трупов, в течение двух первых месяцев осады. Другие знатные Иудеи, перешедшие в лагерь Тита, определили число всех погибших в Иерусалиме в первые два месяца осады, частью от голода, частью от неприятельских стрел, в 600,000 человек (Войн. V, 13, 7). Всех погибших во время осады Иерусалима Флавий считает в 1,000,000, не говоря о 97,000 пленных. Предвидя возражение против такой огромной цифры народонаселения, Флавий ссылается на следующий факт. Правитель Кестий, желая показать Нерону многолюдство Иерусалима, просил однажды священников сосчитать число пасхальных жертв, приносимых для заклания на жертвеннике. Оказалось, 256,500 жертв. Но, прибавляет Флавий, так как пасхальные жертвы закалались обществами средним числом в 10 человек, то всех мужей, бывших в Иерусалиме на празднике Пасхи, было 2,700,000, не считая нечистых, которые не могли иметь участие в пасхальной трапезе (Войн. VI, 9, 3). Конечно в этом числе было много иногородних, застигнутых в Иерусалиме осадой во время праздника. Но и одних коренных жителей Иерусалима Гекатей насчитывает до 12 мириад (120,000) мужеского пола (Против Антона 1.22). Для такого народонаселения Иерусалимские источники мало сказать недостаточны, если даже не брать во внимание того, что, по Иудейским законам, каждый еврей должен был иметь всегда под руками значительное количество воды для законных омовений, что огромная масса воды ежедневно должна была расходоваться на богослужение во храме, на орошение садов, огородов и проч. С другой стороны Иудеи, как вообще восточные люди, были любители хорошей воды и скорее были готовы терпеть жажду, чем употреблять воду плохого качества. Весьма характерный случай представляет известный ропот евреев из-за воды в пустыне. Встретив источник с противной водой, народ восстает против Моисея и решается скорее погибнуть, чем пить воду открытого источника. Каким же образом этот самый народ в блестящей столице Иудейского царства мог безропотно довольствоваться соленой водой местных источников?
Уже Соломон осознал необходимость проведения в Иерусалим сторонней воды посредством подземных каналов. Но для этого нужно было найти в ближайших окрестностях Иерусалима такой источник, который: α) давал бы возможно большее количество воды и притом, по библейскому выражению, не был бы «обманывающим источником», т. е. способным иссякнуть и, следовательно, погубить все работы по устройству водопровода, β) не был бы слишком отдален от Иерусалима и, по относительному положению места, лежал бы выше уровня столпцы, чтобы можно было без больших затруднений направить его воду в город каналом. Выбор Соломона пал на богатые источники Ефамские, соседние отечественному городу его отцов, лежащие в расстоянии 2½ часов от Иерусалима и в 1½ часа от Вифлеема, где и были устроены доселе существующие три пруда, известные под именем Ефамских или Соломоновых и откуда разновременно были проведены в Иерусалим три отдельные водопровода.
Группа прудов Соломона лежит на дороге из Иерусалима в Хеврон, при входе в вади Артас, там, где долина изменяет это поэтическое имя (нимфы Артузы) в прозаическое вади-ель-Хох (долина персиков). Все три пруда расположены один за другим длиной с востока на запад и по объему дают следующие величины: самый нижний или третий пруд имеет 582 фута длины, ширины же на восточной стороне 207, на западной 148; средний или второй пруд имеет 423 фута длины, 250 ф. ширины на восточной стороне и 160 на западной; верхний или первый пруд имеет 380 ф. длины на 236 и 229 ф. ширины. Занимая собою сжатую между двумя возвышенностями долину, понижающуюся с запада на восток (как в Иерусалиме, пруд известный под именем Биркет-ес-султан), пруды Соломона не имеют общей определенной глубины. Верхний пруд на восточной стороне имеет глубину 25 футов, средний 39, нижний 50. И каждый в отдельности пруд, вследствие склона долины, имеет глубину большую на восточной, чем на западной стороне. Средний пруд отделен от верхнего пространством 160 футов; нижний от среднего 248 ф. При этом уровень дна на западной стороне каждого последующего пруда на 20 футов ниже восточной стороны каждого предшествующего. Полагали, что между прудами Соломона есть внутренняя связь, так что верхний передает воду среднему, средний нижнему. Но новейшие изыскания не подтвердили этого. Пруды изолированы один от другого и имеют связь только с водопроводами. Каждый пруд имел свой особенный источник питания. Два первые пруда по своему устройству очень просты и только по углам имеют каменные лестницы для схода. Третий же или нижний пруд, кроме

Рисунок 26. Пруды Соломона
лестниц, отличается от других совершенно особенным устройством, которое делает очевидным для первого взгляда, что пруд был не одним простым резервуаром для воды, подобно верхнему и среднему прудам. Я просто глазам своим не верил, когда, сойдя в первый раз в третий из прудов Соломона и ожидая найти простое оштукатуренное дно цистерны, я увидел пред собою сцену древнего амфитеатра, да, амфитеатра. Боковые продольные и западная поперечная стороны пруда имеют сложенные из камня исполинские скамьи для зрителей, возвышающиеся амфитеатрально ярусами со множеством малых каменных переходных лестниц, покрытых штукатуркою. Дно пруда по самой середине бассейна разделяется платформой на две равные половины,

Рисунок 27. Третий пруд
из которых сценой вероятно была восточная половина. Чем открывали представление в амфитеатре, видно из того, что канал, наполнявший пруд водой, не сокрыт, как обыкновенно в прудах, но проходит сверху чрез скамьи для зрителей и выливает воду в самом центре пруда у ног зрителей. Стремительная, врывающаяся в пруд струя играла роль диких животных, выпускаемых на арену в цирках. Возможно, что и здесь выступали атлеты и выдерживали борьбу с дикой и шумной водною струей. После того, как нижняя часть пруда наполнялась водой, шло второе действие, состоявшее в особенного рода экзерцициях пловцов и крейсировании лодок, для чего в пруде слишком достаточно места, особенно в восточной его половине. Таким образом здесь развивалась одна из тех ветвей искусства, которые с такими усилиями старался соединить у себя Ирод великий, наполнивший Иерусалим гимнастами, бойцами, зверей укротителями и проч. К этим артистам нужно прибавлять теперь художников – пловцов и представителей морского искусства. Тем более можно настаивать на предлагаемом мной объяснении третьего пруда Соломона, что до настоящего времени исследователи не давали никаких объяснений его необыкновенного устройства или давали весьма несостоятельные, в роде того, что амфитеатром расположенная верхняя половина пруда регулировала вход и выход воды. Но спрашивается: кому нужно было здесь такое регулирование, которого нет ни в одном из других древних прудов? И зачем в таком случае понадобилась платформа посредине, бесчисленные лестницы и проч.? Вообще все прочитанные мной исследования, касающиеся этого пруда, только усилили во мне мое личное убеждение, что я видел редкий, может быть единственный в мире, образец древнего морского театра, в котором действующими силами и лицами были: фонтаном бьющая вода и финикийские и греческие матросы и пловцы, а зрителями – любители водной стихии из соседних городов: Иерусалима, Вифлеема и Хеврона. И какой житель востока в жаркий день не соблазнился бы прохладой пруда, шумом пенящегося водопада, и чрезвычайным невиданным в Палестине обращением с опасной водной стихией?... Подтверждением особенного назначения пруда может служить пристройка на его восточной стороне, состоящая из длинного прохода с полукруглой аркой в своде и из продолговатой камеры, без непосредственной связи с прудом. Это, вероятно, – своего рода уединенное фойе при театре; в его прохладе отдыхали прибывшие из города зрители, прежде чем по данному сигналу поднимались по большой каменной лестнице к пруду и сходили в ложи, расположенные на террасах. Присутствие этого уединенного фойе есть, кажется, единственная причина известного у арабов названия третьего пруда Соломона прудом арок, потому что нет никакого основания предположить, что самый пруд был некогда весь покрыт сводами. Цемент, первоначально покрывавший стены пруда, как можно видеть по остаткам его, отличался превосходным качеством и имел в своем составе много металлического элемента, что соответствует свидетельству Флавия об употреблении у древних евреев свинца при соединениях каменных стен.
В настоящее время пруды Соломона год от году приходят в худшее состояние. Во многих местах вода глубоко размыла стены, а дикие растения, необыкновенно цепкие и упорные, изрыли своими корнями дно бассейнов до того, что купанье в прудах считается в настоящее время опасным. Рассказывают, что в прошедшем году один купавшийся здесь араб, попавши ногою в расселину дна пруда и запутавшись в подводном кустарнике, не мог выйти и через несколько дней был найден мертвым. Впрочем, третий пруд-театр в 1874 году был заново оштукатурен по распоряжению щедрого иерусалимского губернатора Киамиль-паши.
Пруды Соломона питались многими источниками соседних вади: Артас и Бийяр. Но особенно замечательны два его источника, упоминаемые в Библии: так называемый запечатанный источник fons signatus и источник Аин-Эфам. Запечатанный источник, у арабов Аин-Салег, лежит в ста шагах на запад от верхнего пруда у подошвы холма Карн-ель-Борак (рог молнии). По узкой и весьма затруднительной лестнице сходят в первую камеру источника, лежащую на глубине 15 футов под местным уровнем, четырехугольную, 25 футов длины на 10 ширины. Среди камеры иссечен в скале небольшой красивый бассейн для воды, а по сторонам, как говорит предание, стояли скамьи Соломона, на которых царь любил сидеть, смотря на клубящийся в бассейне ключ. На западной стороне первой камеры дверь с круглой аркой ведет во вторую иссеченную в скале камеру несколько меньшего объема, чем первая, с таким же бассейном посредине. И только на западной стороне этой последней камеры небольшой проход приводит к ключу, бьющему из расселины скалы. Отсюда красивым, иссеченным в скале, каналом вода ключа входит в бассейн второй камеры, потом таким же каналом в бассейн первой камеры и затем идет на восток в направлении к прудам Соломона. Есть еще побочные каналы, выводящие воду из бассейнов куда-то на юг. Кроме упомянутого ключа был здесь еще второй независимый ключ в северном углу первой камеры, в настоящее время не действующий. Но и с оставшимся одним ключом запечатанный источник, по своей вековой энергии и неиссякаемости, должен считаться одним из самых замечательных в нынешней Сирии. С ним может сравниться только главный источник истоков Иордана и тирский источник Рас-ель-аин, также называющийся, по преданиям арабов, Соломоновым.
Другой из упоминаемых в библии источников для прудов Соломона Аин-Эфан лежит в соседней вади на юг от третьего пруда. В настоящее время это не более как цистерна с богатым живым источником. Но ¼ часа на юг от цистерны лежат значительные развалины какого-то древнееврейского сооружения с камнями в выпусках. Принадлежат ли они древнему Эфаму или может быть одной из тех семи синагог, которые Симон-бен-Иохай основал в Иерусалиме и его окрестностях (одна из этих синагог была именно при источнике эфамском), во всяком случае своим существованием здесь они обязаны близости источника. Не без значения и то мнение, что развалины могли принадлежать одному из укреплений, защищавших эту позицию, одну из важнейших во всей Иудее. Другое подобное защитительное укрепление, построенное, впрочем, арабами, доселе стоит у верхнего пруда Соломона с именем Калаат-ель-Бурак. Это – огромный квадратный плац, обнесенный высокими стенами и внутри застроенный конюшнями и камерами для солдат. В настоящее время эта крепость в запустении, несмотря на то, что считается одним из важных сторожевых постов.
Хотя описанные пруды и источники имели значение и сами по себе, но главным назначением их было собирать дождевую воду для водопроводных каналов, проведенных отсюда в столицу Иудейского царства. В настоящее время открыто три разновременных водопровода, проводивших воду от описанных бассейнов в Иерусалим. Нужно думать, что строители позднейших из водопроводов не знали о существовании древнейших. В противном случае было бы необъяснимо, зачем предпринимались громадные труды по устройству новых водопроводов, когда по тому же пути шли уже готовые, древние и всегда лучше сделанные каналы, которые в крайнем случае нужно было только прочистить и кое-где починить. Такое забвение древних водопроводов, как оно ни кажется странным, объясняется теми разорениями, которые испытывала Иудея, особенно Иерусалим и которые не раз заставляли народ не узнавать даже своих городов и своих собственных жилищ. Замечательно, что и в новейшее время иерусалимские правители долго не подозревали о существовании водопроводов, хотя один из них действовал до последнего времени и без ведома жителей приносил воду в Иерусалим до самой гинномской долины. Рассказывают, что в 1847 году один бедуин искал осла в долине рефаимов и по случаю наткнулся на один глубокий обвал, из которого слышался шум бегущей воды. Об этом было немедленно донесено паше, который послал людей для точного обследования открытия, которое между тем успело уже взволновать весь Иерусалим. Показание бедуина о подземном канале подтвердились, но, когда начали раскапывать вскрывшееся отверстие подземелья, случился новый обвал, после которого перестал слышаться шум воды, вместе с чем и розыски найдены излишними. Нынешний иерусалимский губернатор Киамиль-паша вздумал было в прошедшем году дать Иерусалиму возможность пользоваться той водой, какою пользовались жители древнего Иерусалима. С этою целью были начаты им починки одного из водопроводов. Но неожиданно явились противниками водопровода силоамские феллахи. Так как проведение канала в Иерусалим сделало бы не нужной в городе силоамскую воду, доставляемую сюда на плечах феллахов и, следовательно, многих из них лишило бы средств к жизни, то они остановили работы по починке водопровода вооруженной рукой и, хотя были усмирены пашей, но водопровод доселе не починен, потому что феллахи портили и портят его всякий раз, когда починки приходят к концу.
Из упомянутых трех древних водопроводов, называемый у арабов ель-Бурак, самый новый и наиболее сохранившийся, называется водопроводом нижнего уровня, или просто нижним в его отношении к другим водопроводам; еще называют его Артаским по имени его первого источника. Нижний водопровод питается тремя источниками: нижним прудом Соломона, источником Аин-Эфам и еще одним источником в вади Артас. Этот последний источник не исследован доселе, но, по рассказам арабов, подземный водопровод начинается у этого источника между тремя горами выше Фекои, проходит тоннелем под этим последним городом и затем входит в вади Артас. Не доходя прудов Соломона, водопроводе принимает всю воду Аин-Эфам, затем, подходя с восточной стороны к прудам, получает воду от третьего пруда. Отсюда по склонам гор идет на север к Иерусалиму, прерываясь на своем пути двумя тоннелями, из которых один у Вифлеема, другой между монастырем пророка Илии и Иерусалимом. К Иерусалиму водопровод подходит долиной гинномскою, которую он прорезывает несколько выше Биркет-ес-султан. Пройдя изгибами южный склон Сиона, водопровод входит в черту города около новой еврейской богадельни, потом идет сперва на север, по восточному откосу Сиона, и затем круто поворачивает на запад к воротам харама Баб-ес-Синсле. Отсюда шла целая система побочных артерий по всему нижнему городу до нынешнего австрийского приюта: главная же струя канала уходила под площадь харама, где сначала давала воду в цистерны жертвенника, а потом вливалась в «великое море», из которого избыток воды особенным каналом выливался в кедронский поток. Сравнительное положение пути, описываемого нижним водопроводом от прудов Соломона до Иерусалима, дает следующие высоты над уровнем Средиземного моря: у прудов Соломона 2550 футов; у Вифлеема 2526; за вторым тоннелем 2491; на западной стороне Биркст-есь-султан 2432; на южном склоне Сиона 2429; у ворот Баб-ес-Синсле 2419; на последнем пункте при впадении в «великое море» 2416. При таком значительном склоне понятна та быстрота и тот шум воды в подземном водосточном канале, «слушать которые выводили далеко в поле приходивших в Иерусалим путешественников». Аристей, посланник Птолемея, по возвращении в Египет из Иудеи, между виденными им чудесами рассказывает и об иерусалимских водопроводах. «Не могу умолчать пред тобой, царь, что мне показывали еще место, где проходит в Иерусалим вода. В трех стадиях от Иерусалима мы остановились и мой спутник сказал мне замолчать и прислушаться. Я услышал под собою страшное клокотание воды под землей». Всю длину водопровода Иосиф Флавий в одном своем сочинении определяет в 300 стадий (Войн. 11, 9, 4), а в другом (Древн. XVIII 3, 2) в 200 (в некоторых изданиях стоит даже 2,000) стадий. Эти цифры сильно преувеличены. При всех извилинах, описываемых водопроводом, его длина от Иерусалима до прудов Соломона равняется 13 английским милям, т. е. 100 стадиям; верхний же конец водопровода от прудов Соломона до источника Артас не дает и 30 стадий. Нельзя думать, что Флавий имел в виду в своих цифрах какой-либо другой из водопроводов, потому что другие два были еще короче. В настоящее время нижний водопровод действует исправно только до Вифлеема; остальная часть до Иерусалима повреждена во многих местах. Я заметил уже, что попытки исправить его доселе не имели успеха.
Второй водопровод, верхний, по его уровню сравнительно с предшествующим, у арабов называется Канат-ель-Куфар «водопровод неверных». Он начинается также не от прудов Соломона, но несколько далее на юг по направлению к Хеврону в вади Бийяр (долина цистерн). Начало водопровода имеет у арабов еще особенное имя Бир-ед-дарраджи (источник лестницы). Это – открывающийся лестницей подземный тоннель, иссеченный в скале на значительной глубине ниже уровня вади. В своем начале тоннель имеет 25 футов высоты, постепенно понижающейся до 5 футов. Вероятно, что этот тоннель, как полагает мистер Нилль, продолжается до фонтанов в вади Арруб. В долину прудов Соломона верхний водопровод входил около крепости, огибая верхний пруд с западной стороны, где на северо-западном углу пруда водопровод принимал воду запечатанного источника и, сходя вниз параллельно северной стороне прудов, давал ветвь от себя в средний пруд (ветвь в нижний пруд отделялась от него еще прежде на южной стороне прудов). Начиная от прудов Соломона, верхний водопровод можно проследить до Вифлеема. У Вифлеема водопровод теряется, углубляясь под холм, и не доходя до гробницы Рахили показывается снова, но уже в форме водопроводной трубы 15 дюймов в диаметре, превосходно сохранившейся и сложенной из больших камней с отличным цементом, имеющим в своем составе металл. Совершенно такого же устройства водопроводная труба была открыта его Высочеством принцем Артуром в Патаре, на юго-западном углу малой Азии. За гробницею Рахили водопровод снова теряется, так что направление его между этим пунктом и Иерусалимом можно указать только предположительно. Небольшая часть этого водопровода видна за монастырем пророка Илии в долине рефаимов; недалеко отсюда есть «древний пруд», также вероятно имевший связь с верхним водопроводом. Место вхождения верхнего водопровода в город не найдено. Полагают, что он имел связь с иерусалимским прудом Мамиллы, от которого шел далее к Яффским воротам до цитадели Давида. Недавно открыты отдельные части этого водопровода выше пруда Мамиллы на месте русских построек. Случившийся зимою 1874 года обвал у малой калитки построек давал видеть устройство канала, сложенного из больших камней и направлявшегося прямо на восток к цитадели Давида.
Третий водопровод от прудов Соломона до Иерусалима получал воду из запечатанного источника. След его виден только в одном пункте, на юге гробницы Рахили; судя по этому остатку водопровод шел по северному склону горы между вади Артас и вади Рагиб. Следование его от гробницы Рахили вниз до Иерусалима не открыто.

Рисунок 28. Три водопровода Ель-Бурак
Какому времени принадлежат описанные бассейны и водопроводы? На основании Еккл.11:6 первоначальное устройство прудов приписывается, согласно с преданием, Соломону. Устройство прудов действительно характеризует первобытную эпоху этого рода сооружений, когда для бассейна брали образованное самою природой ущелье и только на поперечных сторонах, для удержания воды, строили каменные стены. Образец такого устройства прудов в самом Иерусалиме представляет только один пруд Биркет-ес-султан, но таких прудов много встречают в разных местах Аравии. Разумеется, эфамские пруды, воздвигнутые Соломоном, были впоследствии много раз возобновляемы, особенно третий пруд, как мы видели, был заново обстроен с совершенно особенным назначением в царствование Ирода. Ко времени Соломона относят также и первоначальное устройство запечатанного источника на основании Песн.4:12. Действительно нижние части этого подземного источника, иссеченные в живой скале, должны принадлежать весьма древнему времени, верхние же надстройки над источником и нынешний купол относятся, к новейшему времени. Первоначальное устройство источника Аин-Эфам приписывают Ровоаму на том основании, что в кн. 2Хр. 11, 6 (2Пар.11:6) между обстроенными Ровоамом пунктами назван и Эфам. Что касается водопроводов, то верхний и третий принадлежат бесспорно эпохе царей Иудейских. Нижний же водопровод вероятно есть тот самый, построенный прокуратором Иудеи Пилатом, водопровод, о котором говорит Флавий (Древн. XVIII, III, 2) и сооружение которого так дорого стоило храму и Иерусалиму. Задумав ознаменовать свое управление устройством большого римского образца водопровода, который должен был доставлять воду из источника, отстоявшего от Иерусалима на 200 (?) стадий, но не имея средств для исполнения такого громадного сооружения, Пилат, конечно с согласия Каиафы, взял из храма корван – деньги посвященные Иегове. Узнавши об этом своевольном распоряжении римского правителя церковной кассой, народ собрался к дворцу Пилата и требовал немедленного возвращения денег и прекращения работ по устройству водопровода. Пилат выслал римский отряд, чтобы оттеснить от дворца мятежников с помощью палок. Но римляне не ограничились палками. С обнаженными мечами они бросились на мятежников и трупами их покрыли улицы города и площадь святилища, в котором в этот день кровь жертвенных животных смешалась с человеческою кровью. Эта кровавая история не помешала, однако ж Пилату окончить водопровод. Но чтобы загладить свою вину пред святилищем, Пилат обратил главную артерию водопровода на площадь храма, так что водопровод мог в собственном смысле считаться священным, как не только приносивший воду для потребностей храмового богослужения, но и построенный на средства храма. После Пилата водопровод был возобновляем в древний арабский период и в средние века египетским султаном Ель-Мелек-Ен-Насер-Магомет-бен-Келаун. На северной стороне пруда Биркет-ес-султан, водопровод переброшен чрез долину гинномскую на стрельчатых арабских арках.
Кроме трех описанных водопроводов, приносивших в Иерусалим воду с южных гор Иудейских, открыт еще один иерусалимский водопровод от источника Лифты, древней Нифты, отстоящего на ½ часа пути на северо-запад от Иерусалима. Этот источник упоминается уже в кн. Нав.15:9. Большие древнееврейские камни, подобные камням первой системы в остатках харама, видные при входе в нынешнюю деревню Лифту, показывают, что и здесь было укрепление, защищавшее источник. Красивые, улыбающиеся окрестные сады апельсинов, лимонов и абрикосов красноречиво подтверждают живительную силу источника. К сожалению водопровод лифтский так пострадал от времени, что только в нескольких местах можно видеть небольшие остатки его по дороге в Иерусалим. Если в истории крестоносцев говорится о воде, приносимой в Иерусалим в козьих мехах из источника, отстоящего от Иерусалима в 6000 шагах, то здесь нужно разуметь источник Лифты. Еще в настоящее время женщины носят в Иерусалим лифтскую воду, где она ценится дороже силоамской по-своему замечательно приятному вкусу. Но во всяком случае лифтский источник ни по достоинству, ни по богатству воды не мог равняться с системой источников прудов Соломона и, когда искали в окрестностях Иерусалима больших источников для проведения их в Иерусалим, был обойден в пользу эфамской воды.
Доставляемой описанными водопроводами воды было такое изобилие, что, по Евсевию (Praep. evang. IX, 25), весь Иерусалим буквально омывался водой, все сады, окружавшие город на далекое пространство, имели отдельные ветви от водопроводов и бесплодная, каменная почва Иерусалима казалась цветущим садом Иеговы. Но главным образом эти водопроводы имели целью наполнять иерусалимские общественные бассейны или пруды, в рассмотрение которых тем необходимее войти здесь, что, представляя собою бесспорные образцы древнееврейского строительного искусства, они имеют важное значение в определении топографии библейского Иерусалима, как твердые и неизменные пункты среди смешавшихся развалин древнего города.
Важнейшим из древних прудов собственно иерусалимских считают обыкновенно большой пруд на северной стороне харама, лежащий в черте города недалеко от Гефсиманских ворот. Со средних веков за ним упрочено имя евангельской купели Вифезды. Это – огромный открытый параллелограмм 360 футов длины, 130 ширины и 75 глубины. Последняя цифра должна быть значительно увеличена, потому что на дне пруда в течение веков наслоилось много мусора и грязи, особенно в 1842 году, когда, по распоряжению Таяр-паши, сюда высыпали мусор с погоста нынешней французской церкви св. Анны. Пруд так близко примыкает к стене харама, что последняя кажется прямым продолжением его стен. Нужно заметить, впрочем, что стена харама в этом пункте принадлежит арабскому периоду и по устройству резко отличается от стен пруда, представляющих замечательную систему древней кладки камня. Глубокие пробоины во многих местах дают возможность близко осмотреть всю накладную стену пруда до скалы, в которой иссечено первоначальное ложе бассейна. Стена пруда состоит из трех обшивок. Первая, т. е. непосредственно примыкающая к скале, состоит из больших квадратных камней, лежащих один на другом не непосредственно, но так, что между каждыми двумя большими камнями, лежит тонкий камень на подобие длинной кирпичины и притом на 6 или 7 дюймов выступающий дальше лицевой стороны большого камня. Так как эти кирпичевидные камни выступают со всех четырех сторон каждого большого квадрата, то последний кажется вставленным в рамку, которая при этом заполняется малыми камнями, связанными цементом и правильно расположенными. По этой нижней обкладке идет вторая, представляющая твердую кору цемента 2-х дюймов толщины, пересыпанного мелкими камнями и кусками мрамора, последняя верхняя обшивка есть ни что иное, как толстый слой извести. Робинсон несправедливо находил эту кладку исключительно свойственной древним прудам. Точно такую же кладку Сепп находил в вилле Адриана в Тиволе, в римской башне в Кельне и проч. Я хочу сказать, что первоначальным назначением этого параллелограмма вовсе не было служить бассейном для воды. Читатель видел уже в описании харама, что, по естественным свойствам площади храма, она была более или менее неприступна со всех сторон, за исключением северной, где наружный грунт за стеной харама был выше внутреннего. Чтобы изолировать площадь харама и в этом пункте, иерусалимские правители сделали глубокий ров между харамом и связанной с ним крепостью Антонией с одной стороны и кварталом Везефы с другой (Войн. V. 4, 2). Этот ров, имевший назначение защищать стену храма и прибавлять высоты башням Антонии, есть то, что в настоящее время иерусалимские путеводители называют Вифездой. Чтобы убедиться в этом, нужно обратить внимание на то, что бассейн не представляет сам по себе законченного целого. Несколько на запад от него и в таком же отношении к северной стене харама, был другой бассейн с именем Струфион, в настоящее время засыпанный; его место указывает только слегка осевший в этом пункте грунт. Этот второй бассейн имел непосредственную связь с первым. То, что указывают как остатки пяти притворов при овчей купели в западной стороне бассейна, были не более, как подземные коридоры, соединявшие между собой эти два бассейна или рва, как и в древних описаниях Иерусалима упоминаются два пруда на северной стороне харама, служившие одним целым. Евсевий называет их «прудами-близнецами». Пилигрим Бордосский 4-го века говорит о «двух прудах на северной стороне харама, построенных Соломоном, из которых один по правую, другой по левую руку». Это последнее выражение можно объяснить тем, что между прудами чрез разделявшие их арки был ход к северным воротам харама. Эти рвы и окопы (τάφνον καὶ φάραγγα – Войн. 1. 7. 3) были так важны в стратегическом отношении, что Помпей завладение харамом считает для себя возможным под условием их засыпки, но не может этого сделать по причине их огромности. Император Тит успел засыпать один из «прудов близнецов» и этим путем взошел в крепость Антонию. Все это не отвергает конечно того, что во рвах могла быть вода (водопровод низшего уровня, кажется, давал ветвь до этих бассейнов); но, чтобы это были «рыбные пруды», как говорит Флавий, на это нет никакого основания, точно также как нет основание принимать мнение того же Флавия, что рыбным прудом был источник Девы14. С голоса Флавия пруд на севере харама называется Рыбным в апокрифической истории Иисуса Назарянина (издание Гульдриха): «Однажды Иисус Христос играл в мяч с сыновьями священников на площади харама возле залы gazith; по случаю мяч упал в соседний рыбный пруд, при чем Иисус Христос произнес наставление своим сверстникам. Это наставление услышали Елеазар, Акиба и Иисус сын Левия, заседавшие в школе, выходившей к пруду (?). Тогда рабби Акаба вышел и спросил Иисуса Христа: «В каком городе ты родился, дитя мое?» Что до меня, то я придаю больше значение свидетельству Евсевия, что эти пруды «текли кровью», т. е. имели исключительное назначение удерживать неприятельские нападения на крепость Антонию. Объяснение некоторых, что в выражении Евсевия под кровью нужно разуметь жертвенную кровь, якобы проходившую сюда каналом для сообщения целебной силы воде (чем думают объяснить чудесные действия евангельской Вифезды), не заслуживает никакого внимания. Выше была у нас речь, что крестоносцы только по явному недоразумению ввели в ошибку всех последующих писателей приурочением имени евангельской целебной купели к этому бассейну. Можно ли представить соединенными в одно понятие: «крепостной ров» и «купель для больных» или богадельня? Никаких приспособлений для купания, этот бассейн не представляет; даже обыкновенных в других прудах лестниц по углам для схода в глубину здесь нет15.
Пруды в собственном смысле древний Иерусалим имел только на западной и южной своей стороне, в пунктах вхождения в город водопроводов ель-Бурак. Группа древних иерусал. прудов состоит из следующих пяти бассейнов: Биркет Мамилла, пруд змей, пруд бань патриарших, пруд султанский и пруд Иудейский. Первое место занимает пруд Мамилла, лежащий несколько на юг от русских построек, при начале гехонской долины, почему и называющийся верхним гехонским прудом. Местность кругом пруда занята в настоящее время мусульманским кладбищем и служит одним из любимых мест вечерних прогулок. Четырехугольник пруда имеет 293 фута длины (с востока на запад), 195 ширины и 20 глубины. Некогда пруд наполнялся ветвью от верхнего водопровода, но в настоящее время его питают только зимние дожди, так что летом он обыкновенно сух. Подобно «прудам-близнецам», пруд Мамилла иссечен в скале и, конечно, долго оставался в таком виде. Но впоследствии скала пруда была закрыта стеной из больших тесаных камней, а потом в еще более позднее время второй стеною уже из малых камней с цементом. На восток идет от пруда канал до Яффских ворот и цитадели Давида. Ученый Азулай в своем сочинении Schem hagdolim 30, 2 говорит, что еще во время великого раввина Хаим-Виталя (5340 года, 1580) около башни Давида слышен был большой шум в подземном канале Иезекии, вероятно том самом, который идет от пруда Мамиллы. Начинаясь в средине восточной стены пруда Мамиллы, канал имеет сперва четырёхугольную форму, затем овальную и две отдушины, которыми можно видеть устройство канала и которые в прошедшем столетии считались отдельными иерусалимскими источниками. Канал идет очень неровно, избегая на пути скалистого грунта и сложен везде из мелких камней и кирпича. Склон канала очень заметен, особенно в начале, так что, при быстроте наполнения пруда, вода в канале должна была, как говорит Азулай, производить большой шум. Продолжение канала найдено и по ту сторону цитадели Давида на месте нынешней англиканской церкви на глубине 25 футов, этот канал замечателен тем, что при нем стоял лагерем ассирийский полководец Рапсак. Если Рапсак, по Ис.36:2, был послан в Иерусалим ассирийским царем из Лахиша, который по Евсевию лежал на седьмом камне (миле) от нынешнего Бейт-Джибрина, на юго-запад от Иерусалима; то он должен был следовать большой так называемой султанской дорогой и чрез вади-ель-Вард выйти к самому пруду Мамилла. Но так как, по Ис.36:11–13, жители Иерусалима с городской стены слышали переговоры иудейских князей, посланных Иезекией к Рапсаку, то палатка главнокомандующего должна была быть не у самого пруда, а при канале или водопроводе, идущем от пруда в город, не далеко от Яффских ворот. Имя Мамиллы пруд получил вероятно от бывшей здесь церкви св. Вавилы (буквы м и б у арабов очень часто меняются, напр. Балбек = Мальбек). Евреи производят Мамилла от библейского Бет-Милло; другие – от арабских слов mа min Allah (то, чего хочет Бог) или Баб-Улла (ворота Божие). Строителем этого пруда предание считает Езекию. – Около ста шагов на запад от пруда Мамиллы есть другой небольшой, иссеченный в скале, древний пруд вероятно пруд змей, упоминаемый Флавием (Войн. V. 3, 2)16.
Пруд Мамилла связан подземным каналом с лежащим ниже его прудом Хаммам-ель-Батрак (бань патриарших). Этот последний лежит в черте нынешнего города, на западной стороне его, на углу Давидовой и христианской улиц. Сжавшиеся кругом пруда новые иерусалимские постройки не дают возможности подойти к пруду с улицы. Обыкновенно путешественники наблюдают его из кофейни И. Бахера, или из одной из соседних лавок, выходящих окнами на пруд. Бассейн пруда имеет 240 футов длины, 144 ширины, а глубины 13 на северо-восточной стороне и 25 на юго-западном углу. Этот пруд предание также приписывает Иезекии, а Иосиф Флавий (Войн. V. 11, 4) называет его миндальным, по роду соседних садов. В черту города этот некогда внешний пруд вошел после постройки так называемой третьей городской стены.
На восток от пруда Мамиллы у южной подошвы Сиона лежит третий из группы юго-западных прудов Иерусалима, известный под именем султанского, Биркет-ест-султан, какое название подтверждается надписью, открытой Шульцем на верхней накладке стены пруда и приписывающею возобновление его египетскому султану Ель-мелек-ен-Нан-сур-Келаун от 1294 до 1340 года христ. эры. Аркульф, цитуемый Робинсоном, свидетельствует, что в 964 году при пруде был каменный мост с арками (вероятно Пилатов), чрез который шла дорога в Вифлеем. Самое древнее свидетельство об этом пруде заключается в кн. Неем.11:14, где пруд царский есть ничто иное, как нынешний пруд султанский. От других прудов иерусалимских Биркет-ес-султан отличается тем, что он не ископан и не иссечен в твердом грунте, но, подобно прудам Соломона, образован простым отделением части натурального ущелья гехонской долины, откуда еще одно название его «прудом гехонским нижним», в противоположность пруду той же гехонской долины верхнему или Мамиллы (верхний и нижний пруд гехонский нужно отличать от верхнего и нижнего Геона т. е. источников Аин-ес-шефа и Силоамского. И по своему громадному объему Биркет-ес-султан выделяется резко из всех иерусалимских прудов, приближаясь к величине третьего и самого большого из эфимских прудов Соломона. Длина его 556 футов, ширина 220, глубина на северной стороне 35, на южной 42. Сходство в устройстве и отчасти в величине Биркет-ес-султан с эфимскими прудами Соломона наводит на мысль об их современности. Как бы то ни было, но между иерусалимскими прудами Биркет-ес-султан должен считаться самым древним. Его наполнял некогда водопровод нижнего уровня. В средние века здесь был постоянный водопой для скота и пруд назывался germanus. В настоящее время здесь не бывает воды даже зимой. – С 16-го века к пруду Биркет-эс-султан ставили в соседство дом Урии и самый пруд называли именем Вирсавии, прибавляя сказание, что Давид с террасы своего сионского дворца именно у этого пруда увидел в первый раз жену Урии. Впрочем, купальней Вирсавии называли еще другой небольшой пруд у самых Яффских ворот, засыпанный в 1844 году по настоянию французского консула, так как он был больше клоакой, чем водохранилищем.
На восток от Биркет-ес-султан в том же ущелье видны следы так называемого «водохранилища Иудеев» Биркет-Иегуди. Тоблер именно с этим местом связывает мост и Тивериевы бани, построенные Пилатом в честь Тиверия. А Сепп полагает, что у этого пруда при Понтии Пилате строилась силоамская башня, о которой говорится Лк.13:5 и которую прежде её окончание разрушило землетрясение.
Независимо от этой древнееврейской группы прудов, Иерусалим имеет еще несколько позднейших бассейнов. Таков пруд за городскою стеной, около 100 шагов на север от ворот Гефсиманских, 95 футов длины, 75 ширины и 14 глубины, питающийся одними дождями и известный под именем Биркет-Хаммам-Ситти-Мариам, «пруд бань госпожи Марии». На северной стороне города у ворот Ирода (у арабов Баб-ез-Загарие ворота цветов) есть пруд с именем ель-Хидже т. е. пилигримов, 38 футов длины, 30 ширины и 16 глубины. Несколько далее на запад отсюда на северной стороне грота Иеремии раскопки, предпринятые недавно одним греческим обществом на принадлежащей ему земле, открыли еще один довольно большой и очевидно общественный пруд, в настоящее время засыпанный.
* * *
Кроме воды живых источников и воды, приносимой водопроводами, древний Иерусалим, подобно нынешнему, собирал и хранил воду зимних дождей, которые, по счастью, здесь бывают очень обильны. Дождевая вода собиралась в небольшие бассейны или цистерны, которые можно разделить на 4 класса. 1) Цистерны трубообразные, напоминающие наши колодцы и сложенные из тесанных камней. 2) Цистерны, сделанные по образцу «великого моря» на площади харама, т. е. состоящие из больших камер, иссеченных в скале маляки, причем сводом цистерны служит обыкновенно живой пласт миззи. Труды по иссечению и устройству этого рода цистерн были так громадны, что в строителях их нужно предположить слишком большую охоту к монументальным сооружениям, если они не предпочли вместо них воспользоваться простыми цистернами из тесаных камней. 3) Цистерны, стены которых иссечены в скале, но свод накинут из тесаных камней. 4) Цистерны новейшие, сложенные из щебня и мелких камней с дурным цементом. Наилучше сохраняется дождевая вода в цистернах второй категории, а хуже других в цистернах четвертой. Цистерны всех категорий почти равномерно встречаются в черте древнего города. При каждой раскопке иерусалимского грунта прежде всего нападают на следы древних водохранилищ «дождей ранних и поздних». В ряду других заслуживает особенного упоминания цистерна на восток от храма Воскресения, известная под именем «цистерны царицы Елены», имеющая вход с улицы, ведущей к коптскому монастырю. Она иссечена в скале маляки, но имеет свод миззи; длина её 60 футов, ширина 30, глубина 66 футов. Цистерна имеет одно отверстие, которым пользуются христиане и магометане, но так, что те и другие одновременно накачивают воду с двух различных площадок верхней и нижней, вследствие чего христианские и магометанские ведра то и дело сталкиваются в тесном устье цистерны и вызывают с обеих сторон шум и ругательства. По качеству вода цистерны Елены очень хороша, что зависит от скалистого ложа цистерны и её превосходного цемента. В первый раз эта цистерна обследована доктором Тоблером, хотя представленные им измерение не точны. Иначе и не могло быть, если Тоблеру нужно было измерять цистерну
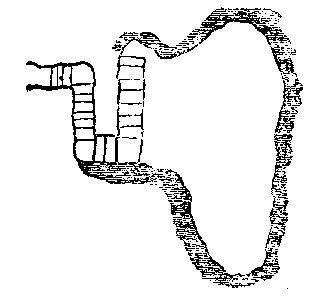
Рисунок 29. Цистерна царицы Елены
«плавая в воде и держа в зубах горящий факел, а в правой руке метр». – Из позднейших иерусалимских цистерн можно назвать наиболее замечательными цистерны Муристана (богадельни Иоаннитов) и монастыря Сан-Сальвадор.
Целая сеть древних цистерн покрывает и ближайшие окрестности Иерусалима. В оливковых рощах на северной стороне Иерусалима Вильсон насчитал более 50 цистерн, больших и малых, древних и новейших, сохранившихся более или менее. Самой замечательною между ними я называю цистерну соседнюю гробнице Симона праведного, известную под именем Джадагат-ель-Агель «склад съестных припасов» или продовольствия. Ежегодно в день Пятидесятницы иерусалимские евреи выходят торжественно из города, дамасскими воротами и посещают гробницы царей, гробницу Симона праведного и цистерну Джадагат-ель-Агель. На мой вопрос: почему таким значением пользуется эта цистерна? один образованный еврей отвечал мне рассказом о некоей царице (имени предание не помнит), устроившей в этой разрушенной цистерне безвозмездную раздачу хлеба во время большого голода и спасшей от смерти тысячи жителей Иерусалима. Цистерна имела огромные размеры, была иссечена в скале и поддерживала свой скалистый свод столпами живого камня. В настоящее время северная сторона цистерны совсем выпала, хотя воду здесь можно найти зимой. Другую весьма замечательную цистерну этой местности можно видеть у дамасских ворот; она обделана внутри как христианская церковь, и имеет даже орнаменты фресков, хотя устье её так мало, что в него едва можно спуститься. Неприхотлив был св. отшельник, избравший и обустроивший это древнее водохранилище для своего богомыслия. Весьма много древних цистерн встречается и на восточной стороне Иерусалима, вне городских стен. Между ними особенно замечательна цистерна на горе viri galilaei, необыкновенно гулкое эхо которой, перекатывающееся в течении многих секунд, по-видимому подтверждает предание, что цистерна обнимает все ядро Елеонской горы. Начиная от Елеона древние цистерны продолжаются до Вифании. Между ними мне показалась замечательною одна, лежащая в долине между горою Соблазна и Вифанской возвышенностью, в настоящее время разрушенная и служащая загоном овец; она иссеченна в скале, имеет прекрасный цемент и поразительную величину.
* * *
После всего этого понятно каким образом Иерусалим, при своем громадном народонаселении, во время продолжительных осад, никогда не терпел недостатка в воде, между тем как осаждающие, приходившие к Иерусалиму без предварительного знания его топографии и скрытой системы водопроводов и цистерн в окрестностях Иерусалима, гибли от жажды.
I. Иерусалимский некрополь
Между памятниками древнего Иерусалима наиболее сохранились те, которым, судя по их назначению, можно было бы предсказывать наименее долголетнее существование. Иерусалимские гробницы. Рассмотрение этих памятников в высшей степени интересно не только потому что, по выражению поэта, древняя катакомба есть одно из самых поэтических мест на земном шаре, но и потому что это рассмотрение прибавляет много новых черт к общей характеристике верований древних евреев. На этом основании я позволяю себе в описании иерусалимского некрополя особенную подробность, на которую вызывает меня еще разнообразие арабских преданий, связанных с иерусалимскими гробницами и самое множество этих гробниц, особенно поразительное при незначительном числе других древних памятников и делающее город Давидов одним обширным открытым гробом.
Сооружение гробниц у различных народов всегда стоит в более или менее тесной связи с верою в бессмертие и воскресение. Чем яснее и определеннее эта вера, тем большим уважением пользуются почившие и тем более прочно обстраиваются гробницы. В этом отношении евреи, вместе с египтянами, стоят выше всех народов древнего мира. Тогда как древние индийцы бросали своих мертвых в море для непосредственного уничтожение их в лоне мировой стихии, тогда как персы вывешивали мертвых с тою же целию в воздухе на деревьях, тогда как греки, римляне, германцы закапывали их в землю, или сожигали как прах, которому нет больше места на земле, евреи и египтяне отводили для своих умерших monumenta аerе perennia, лучшие сооружение, какие только могли построить. Для древних евреев гробницы были предметом гораздо большей заботливости, чем дома и города. В настоящее время в разных местах Палестины встречается очень много древних гробниц, сохранившихся так, как будто вчера только они были сделаны, между тем как от городов, к которым они принадлежали, остались едва заметные следы развалин. Часто спрашивают: отчего ветхозаветные писатели не стараются настойчиво и ясно обращать внимание народа на вопросы будущей жизни и загробной судьбы человека? Ответ на этот вопрос можно найти в древнееврейских гробницах. Вслед за египтянами, евреи, и без всяких напоминаний со стороны своих учителей, постоянно были обращены в область загробного мира, и притом так настойчиво и болезненно, что представителям закона нужно было напротив отвлекать их сознание от представлений будущей жизни к текущей и картинам земного бытия. По обычаям древних евреев, каждый член общества, имел ли он собственное жилище или нет, должен был иметь готовую гробницу на случай смерти, иначе его положение в обществе не было прочным, как легкомысленного и ненадежного члена. «Смотрите, чтобы между вами не было человека, не имеющего готовой гробницы», давал однажды наставление собравшемуся народу рабби Елиезер (Taan. 25). С другой стороны, лишение гробницы, которую человек устроил и на которую имел право, представлялось величайшим наказанием, каким только можно ужаснуть человека. «Ты не будешь положен в своей гробнице со своими предками, как все почивают с честью», говорится царю Навуходоносору (в кн. Ис.14:18–20). В древнем Иерусалиме отдельные гробницы имели за собой особенные предания и служили для позднейших поколений наглядными показателями их истории, а гробницы великих мужей были известны каждому малолетнему дитяти. И в настоящее время многие иерусалимские гробницы известны местному населению под разными библейскими именами и посещаются с уважением не только еврейским населением, но и христианами и магометанами, тогда как нынешний греческий мир не может указать даже гробницы Александра Македонского, а потомки великих римлян указывают безобразные развалины под именем гробниц Августа и Адриана, саркофагов Сципионов и т. д.
Для того, чтобы сделать гробницы возможно более прочными и несокрушимыми сооружениями, древние евреи ввели в обычай не строить их из отдельных камней, а иссекать в живом грунте скалы17 и притом не на вершинах гор, которые в Иерусалиме имеют мягкий рассыпающийся пласт, а в нижних частях склонов, в пластах маляки. В кн. Ис.22:16 обличается один иерусалимский вельможа, избравший, вопреки обычаю, местом для своей гробницы верхнюю часть горной возвышенности. Вельможе хотелось и местом своего вечного покоя быть выше обыкновенных смертных, лежащих у подножия горы. В обличение итого высокомерного отступление от обычая, пророк грозит владельцу гробницы, что его столкнут с его высокого места, и не в Иерусалиме, а в широких низменностях Вавилона его ожидает более скромная могила. Как иссеченные в боках гор, иерусалимские гробницы не требовали тех спусков по лестницам, какие ведут в римские катакомбы, идущие длинными галереями под равниной, и почти всегда углубляются в гору по горизонтальной линии от входа. Касательно устройства внутренней части гробниц в мишне (Bava bathra VI, 4) есть следующее правило: «если кто прибрел место для гробницы, то прежде всего он должен выдолбить грот четырех локтей ширины на шесть длины, внутри грота должен выдолбить восемь коким, три справа, три слева и два против входа в грот; каждый коким должен быть четырех локтей длины на семь пядей высоты и шесть ширины. Рабби Симон сказал; можно сделать грот и восемь локтей длины на шесть ширины, а внутри грота тринадцать коким: четыре справа, четыре слева, три против двери, один по одну сторону входа, другой по другую. Пред входом же нужно сделать atrium шести локтей длины на шесть ширины, чтобы в нем могли поместиться носильщики гроба». Под именем «коким» раввины разумеют места для саркофагов, иссеченные в стенах гробничных камер в виде перпендикулярных углублений или печур, в настоящее время известных в английских гидах под именем loculi. Конечно приведенное предписание вид представляют гробницы с целым рядом погребальных камер с loculi, представляющие целые подземные галереи. Вестибюли таких больших гробниц имеют обыкновенно скамьи для приходящих и в потолке отверстие для света. Расположение камер больших гробниц зависит от свойства грунта, но чаще встречается такой порядок: первая камера или антишамбр имеет в трех своих стенах, за исключением входной, по одной двери, из которых каждая ведет в отдельную камеру. Камера, лежащая на главной оси входа, может иметь еще одну третью камеру на той же линии и т. д. Есть гробницы, в которых погребальные камеры разделяются на верхние и нижние ярусы (Гробницы Судей) и гробницы, имеющие, вместо камер, длинные коридоры с местами для саркофагов (гробницы Пророков). Loculi для саркофагов также могут иметь различную величину, но чаще всего 6 или 7 футов глубины, 3 фута 6 дюймов ширины и 3 фута высоты. Кроме loculi, т. е. печеобразно иссеченных мест для саркофагов, гробницы иерусалимские имеют еще простые ложи, т. е. широкие каменные скамьи, параллельные стенам камер, иногда плоские, иногда с углублением на подобие яслей или корыт, arcosoliа; иногда ложе саркофага иссечено в виде ниши в стене или полки шкапа. Нельзя строго разделить по времени употребление простых лож и loculi, потому что те и другие встречаются одновременно в одних и тех же гробницах. Но древнейшей формой кажется нужно считать форму loculi. На склоне Офела, в черте древнего города, недавно открыта погребальная камера с 8 loculi. Так как, по еврейским законам, погребение в стенах города запрещалось, то эти гробницы принадлежат времени евусеев, с каким происхождением их соглашается даже самый скептический и осторожный из исследователей Тоблер. Таким образом, loculi были первобытной хананейскою особенностью сооружения гробниц. Образец египетской гробницы. После этого не имеют значение предположение о заимствовании евреями формы гробниц из Вавилона, и Финикии. Скорее можно бы предположить, что евреи заимствуют форму своих гробниц из Египта; но форма

Рисунок 30. Образец египетской гробницы
египетских гробниц также осталась совершенно чуждой евреям. Как видно из приложенного рисунка, гробница египетская состоит из трех частей: α) верхней камеры или целого ряда камер, назначавшихся для священнодействий в честь умершего, но никогда не заключавших самих саркофагов, β) колодца, представляющего спуск в подземную часть или самую гробницу и γ) камеры саркофага, сокрытой в недоступной глубине гробницы. Евреи не примирялись с таким глубоким сокрытием и отделением мест саркофагов; для них умершие продолжают быть членами их общества и семейства; к их саркофагам приходят искать утешение их потомки в трудные минуты жизни. Еврейская гробница могла иметь сходство только с верхней, доступной частью египетской гробницы, с исключением колодца и нижнего отделения. Кроме того, уединенное расположение египетских саркофагов, по одному в целой подземной камере, противоречило духу еврея, который не мог мыслить себя отдельно от своего семейства и в самой своей гробнице старался собрать вокруг себя близких и дорогих лиц, вследствие чего все древнееврейские усыпальницы были семейными. Если есть между иерусалимскими гробницами несколько одиночных гробниц, то они или принадлежали чуждым городу пришельцам, или были не окончены в своей отделке.
Второстепенными прибавлениями в больших гробницах древнееврейских служат: α) сокровищницы, β) ниши светильников γ) цистерны.
По общему обычаю древности, сходя в могилу, человек уносил с собою то, что считал в жизни более драгоценным: воин – свое оружие, царь и вельможа – знаки своего достоинства и все вообще – собранное в жизни золото и другие предметы, не подлежащие гниению. Таким образом гробницы древних были сокровищницами, скрывавшими часто несметные богатства. Бывали такие цари и правители, которые уносили в свои гробницы всю государственную казну, так что, оплакивая погребение царя, народ оплакивал потерю своего достояния и государственный кризис. Чтобы защитить от святотатственных расхищений погребенные сокровища, строители сосредоточивали все свое искусство главным образом на сооружении входов, недоступных для стороннего посетителя. В древних восточных сказаниях эти подземные сокровищницы имеют таинственные двери, отпирающиеся и запирающиеся никому неизвестным способом, с помощью особенных талисманов. Таков подвижной камень на подземном гроте сокровищ царя Рамзеса (Герод. 11, 12, 1). Таков никому из смертных недоступный камень, закрывающий устье, ведущее к кладовым царя Манеса. Таков камень золотого дома, воздвигнутого Трахонием в Микене. Древние гробницы, открытые в Ассирии, были так закупорены, что, по невозможности отворить или проломить дверь, исследователи бывали вынуждены пробивать пещерные своды гробницы, уступавшие лому и молоту скорее, чем дверь. Гробницы, открытые в скалах на озере Ван, имели каменные двери с свинцовыми запорами, отворявшиеся помощью особенных блоков. Если, по древней легенде, над кладами, зарытыми в землю, царствует мрачный Плутон, бог смерти; то это значит, что под кладами нужно разуметь сокровища, погребаемые вместе с умершими и что обычай закапывания кладов, вообще вышел из более древнего обычая класть клады в гробницы. Что касается важнейших гробниц иерусалимских, то, служа, подобно другим восточным гробницам, сокровищницами значительных богатств и между тем расположенные в горах, далеко от всякого надзора, они должны были иметь входы, защищенные не менее гробниц египетских и ассирийских. Многие иерусал. гробницы имеют остатки разбитых каменных дверей и ниши, служившие для запоров. В полном виде систему закрытия гробниц можно видеть в настоящее время только в так называемых царских гробницах, в рассмотрении которых мы озаботимся разъяснить сущность этой замечательной и сложной системы. Самые сокровищницы в иерусалимских гробницах устраивались всегда в глубине катакомб за loculi. А так как loculi были заняты саркофагами, то, войдя в гробничную камеру, хищник мог достигнуть сокровищ не иначе, как сдвинув с места массивный саркофаг с телом. Таким образом владельцы сокровищ и после своей смерти стояли на страже своего богатства. Сокровищницы представляют небольшие четырехугольные камеры, иногда с двумя тремя каменными полками, на которых раскладывались драгоценности в каменных ящиках.
Ниши для лампад встречаются в очень многих гробницах, как во внутренних отделениях над саркофагами или ложами, так и в вестибюлях и даже снаружи в расчищенной части скалы над входом в вестибюль. Ниши имеют обыкновенно форму треугольника 8 дюймов высоты и в наружной стене гробниц располагаются группами, а во внутренних отделениях по одной. Верхняя часть треугольника во многих нишах доселе хранит копоть от горевшего масла. Огромное количество этих ниш в некоторых гробницах, напр., в так называемой гробнице Иисуса Навина в Тибне, показывает, что освещение гробниц, особенно наружной части их, достигало огромных размеров. Нужно заметить, что некоторые из древних гробниц доселе освещаются в Палестине признательными к памяти почивших потомками, хотя конечно без того блеска, с каким они освещались в древнейшие время. Напр., в Наблусе гробницу патриарха Иосифа доселе чествуют евреи освещением каждый четверг и пятницу. В сочинении рабби Ицхака Пиело, от начала 14 века (см. выше, сказание о Драконовом колодце, стр. 203) по поводу освещения гробниц говорится следующее: «В Альме есть три гробницы, составляющие славу местности, принадлежащие трем святым, которые все носили имя рабби Елеазар. Прекрасные гранатовые деревья окружают тенью эти гробницы. Каждую пятницу вечером евреи зажигают здесь светильники. Однажды случилось, что освещение гробниц было так велико, что одно из гранатовых дерев у гробницы Елеазара, сына Арака, загорелось. Чтобы не нарушить святости наступившей субботы, никто не решался тушить пылавшее дерево, которое посему горело всю ночь. Но каково же было общее удивление, когда на другой день нашли не только ствол дерева, но и все малые ветви его совершенно целыми без малейшего повреждения. Это было чудо, посланное небом в доказательство правоты чествование гробниц чрез освещение». От евреев обычай освещения гробниц перешел и к магометанам и распространен и на новые гробницы уважаемых лиц в народе. На редком мусульманском кладбище не теплится под пятницу где-нибудь в углу одна другая лампада над свежей надгробной плитой. Из 2Хр. 16, 13. 14 (2Пар.16:13, 14) видно, что, кроме лампад, при гробницах возжигались большие костры в честь умерших, как доселе это делается в Индии. На кострах сжигалась одежда почившего и другие, бывшие в его употреблении, вещи, которых нельзя было положить в гробницу по их удобоистлеваемости. Когда умер рабби Гамлиил, прозелит Онклос сжег разных вещей рабби на 70 мани-цури, т. е. 7,000 золотых (Abodah Sara 11).
Почти все большие гробницы имеют в дворах или на площадках, предшествующих вестибюлю, небольшие цистерны для законного омовения оскверненных прикосновением к трупу. По каббалистическим сказаниям здесь ангел смерти омывал меч, поразивший умершего. При малых гробницах были цистерны общие, принадлежавшие целой группе гробниц. – При одной из иерусалимских гробниц (царских), при входе во двор, небольшое отверстие ведет в камеру, иссеченную в скале, 20 футов длины на 13 ширины, с лестницей и колонной, поддерживающей свод. Ныне эта камера обращена в цистерну, но, судя по её лестнице и колонне, она должна была иметь другое назначение, может быть назначалась для гробничных стражей.
Все иерусалимские гробницы в настоящее время открыты и пусты. Исчезли не только сокровища, но и самые саркофаги с древним библейским прахом. Хотя, по обычаям востока, расхищение гробниц, принадлежащих даже неприятелям, считалось величайшим преступлением, так что, когда Камбиз, ставши правителем Египта, коснулся гробницы Амазиса, его встретило общенародное проклятие, но между разорителями Иерусалима были, к несчастно, такие, для которых не имело смысла никакое проклятие божеское и человеческое. Блаж. Иероним в комментарий на VIII гл. Иерем. говорит о расхищении иерусалимских гробниц ассирийцами и римлянами. «Всё, что изрекло пророчественное слово, мы видим совершившимся в наши дни, как в Иерусалиме, так и по всей стране. Так как у древних был обычай класть в гробницы золото и разные драгоценные украшения, женские и мужеские; то жадность ассириян и римлян проникала в катакомбы, все забирала и сокрушала. Вместе с тем самый прах царей, князей, священников и всего иерусалимского народа извлекали из гробниц и саркофагов и бросали как навоз и пепел пред лицом солнца и луны». Впрочем, по разрушении Иерусалима Титом, многие гробницы остались еще неприкосновенными, может быть потому, что не был открыт вход к ним, или потому что в них не предполагали найти никаких сокровищ. Эти гробницы были вскрыты впоследствии арабами. Даже в настоящее время исследователи нападают иногда на древние нетронутые гробницы, но всегда незначительные, с простыми глиняными саркофагами, или даже вовсе без саркофагов, но с остатками костей в loculi. Нужно сказать при этом, что и европейские исследователи, так же, как и простые путешественники, не всегда уважительно относятся к библейским гробницам Иерусалима. Тысячелетие пережившие стены гробниц, нетронутые ассириянами и римлянами, во многих местах изрыты молотами европейских исследователей, слишком неосторожно пробовавшими прочность грунта. А все вообще стены и потолки гробниц испачканы надписями путешественников, считающих необходимым оставить след своего минутного пребывание в катакомбах изображением своих безвестных и никому не нужных имен. Особенную страсть расписываться в посещаемых местах обнаруживают английские и американские путешественники. Имя одного американца, которого не следует здесь упоминать, вырезано не только в каждой из посещаемых иерусалимских гробниц, но и в каждой камере гробниц и притом в нескольких экземплярах.
Многие путешественники в описании иерусалимских гробниц вводят целый ряд ужасов, которые должен преодолеть путешественник при их посещении и обозрении. De-Fоrbin, напр., говорит об огромных змеях, гнездящихся в глубине опустошенных loculi и готовых броситься на дерзкого пришельца в их вековую сень, о гиенах и шакалах, укрывающихся в гробничных камерах от дневного жара, о необыкновенной сырости и удушливости атмосферы в гробницах, способной вызвать головокружение в самое непродолжительное время. И много других небывалых опасностей можно встретить у новейших путешественников, особенно путешественников-поэтов. Все это, конечно, сказки. Худшее что может случиться будет то, что летучая мышь, испуганная вашими факелами, ударится вам в лицо, тощая собака испугает громким лаем, но только испугает, потому что палестинские собаки никогда не бросаются на человека. Бывают случаи, что в какую-либо из отдаленных гробниц забежит гиена, но это очень редко. Осторожные путешественники, прежде вступления в гробницы, делают выстрел в вестибюле, предполагая, что скрывающееся внутри дикое животное после выстрела будет искать спасение в бегстве. Случается, что, вместо дикого животного, в глубине гробницы встретится араб с наглым требованием бакшиша, но положительные грабежи ныне встречаются очень редко. Американцы и против этих врагов – бакшишников вынимают из кармана пистолет, хотя до выстрела дело никогда не доходит, потому что, при первом взгляде на оружие, дерзкий требователь обращается в трусливого зайца и тоже ищет спасение в бегстве.
* * *
В книге Иеремии (Иер.31:40) иерусалимский некрополь разделяется на две части: 1) долину мертвых и кладбища до потока Кедронского, 2) кладбище в Кедронском потоке до угла конских ворот на восточной стороне города. Под долиной, идущей до потока Кедронского мы разумеем большую вади-ед-Джос, идущую от Гробниц судей до северо-восточного угла города, т. е. до того места, где долина переходит в узкий поток с именем Кедронского, под которым именем известно было только ущелье на восточной стороне города, с исключением его верхнего продолжения выше северной черты города. Кладбище на восточной стороне Иерусалима до угла конских ворот, т. е. до юго-восточного угла харама, обнимает собою древние памятники на склоне Кедронского потока, и Елеонской горы. Обе эти части некрополя, северная до потока Кедронского и восточная в ущелье потока до настоящего времени представляют два отдельных некрополя, так что в принимаемом нами объяснении топографии иерусалимских гробниц едва ли можно сомневаться. К этим двум частям некрополя нужно прибавить ещё три не упомянутых у Иеремии отдельных группы: α) группу гробниц Гинномского некрополя или тофет, β) одиночную группу гробниц ер-Романие, полчаса пути на юг от города и γ) группу голгофскую. Средняя из этих групп не упомянута пророком, вероятно по отдаленности её от города, две другие по их происхождению после времени Иеремии.
1. Некрополь северный занимает пространство большее, чем все другие вместе, и во всех своих отдельных гробницах принадлежит к категории катакомб. Важнейшими представителями этого некрополя служат: Гробницы царей и Гробницы судей.
Гробницы царей, Кбур-ель-молук, принадлежат к самым замечательным памятникам не только северной труппы гробниц, но и всего вообще иерусалимского некрополя. Не смотря на единогласное название их царскими в преданиях евреев, христиан и магометан (какое согласие не встречается в преданиях о других гробницах), эти гробницы служили и служат предметом нескончаемых споров. Искать их нужно вправо от Наблусской дороги, около ¾ версты от дамасских ворот Иерусалима; недалеко от придорожной цистерны, легко заметной с дороги и большого недавно обстроенного дома, принадлежащего иерусалимскому каймакаму.
Гробницам царей предшествуют два двора. Первый или восточный двор, в который сходят по широкой, полу расчищенной недавно, каменной лестнице, имеет около 30 футов длины и 20 ширины, и весь иссечен в скале, отвесные стены которой имеют 12 футов глубины ниже местного уровня. Прямо против лестницы, в противоположной стене двора иссечена в скале камера, в которой жил приставник к гробницам. Влево от лестницы, т. е. в западной стене первого двора, дверь полного полукруга без орнаментов, за исключением простой гладкой полоски в виде карниза, ведет во второй западный или внутренний двор гробницы. Второй двор несравненно больше первого и имеет 100 футов длины с севера на юг на 87 футов ширины с востока на запад. Также как первый, он иссечен в живой скале, возвышающейся со всех сторон отвесными стенами в 20 футов высоты. Эта последняя цифра должна быть значительно увеличена, так как грунт двора засыпан в течении веков наносным песком и землей. Тот оказал бы большую услугу древности, кто расчистил бы этот двор, а за свои труды он получил бы целую казну древних монет, которые, вероятно, со времени расхищения гробниц, рассыпаны по всему пространству двора. Особенно значительное наслоение образовалось на западной стороне двора. Тощая маслина, единственное дерево двора, выросшая на случайной наносной почве и задержанная в своем росте твердым, непроницаемым для корней, подспудным дном двора, прислонилась к западной стене, напоминая собою того сказочного сторожа царских сокровищ, который давно уже успел умереть и обратиться в скелет, а между тем все еще продолжает стоять на своем посту, к ужасу проходящих. В южной стене двора открывается преддверие самых гробниц, состоящее из большого вестибюля 45 фут. длины на 18 ширины, четырехугольно иссеченного в скале, с плоским сводом из живого грунта. Сторона вестибюля, обращенная во двор, вместо стены имела две колонны, поддерживавших свод, подобно другой иерусалимской гробнице, известной с именем Захарии. Но, потрясшее вестибюль, давнее землетрясение, может быть то самое, о котором говорит Дион Кассий (Hist. rom. 1. 69. 14) как причинившем много вреда иерусалимским памятникам, произведя большую трещину в своде вестибюля царских гробниц, вместе с тем сбросило с места поддерживавшие его колонны; только небольшой остаток верхней части одной из колонн висит доселе в потолке, грозя скорым падением. Повыше колонн проходит красивый фриз, имеющий в центре виноградную кисть, а по сторонам пальмовые ветви, триглифы и щиты, симметрически расположенные и повторяющиеся три раза. Над линией триглифов выступает карниз, сильно пострадавший от времени; точно также повреждена гирлянда цветов ниже линии триглифов. Пользуясь истертым видом рисунка, исследователи находили здесь самые разнообразные элементы: розы, пальмы и кактусы; листья дуба и лаврового дерева; сосновые шишки и гранатовые яблоки; другие видели здесь орлов и воздушных гениев; одному из путешественников чудился здесь целый триумф Вакха. И каких узоров не могли провести проливные дожди Палестины на предоставленной их власти картине? В настоящее время вестибюль царских гробниц запущен и служит в течение дня местом отдыха для овец, пасущихся в «поле царских гробниц». Под вечер я всегда заставал здесь толпу городских жителей мужчин и женщин, заходящих сюда прогулкой и целую кучу детей из немецкого приюта, с шумом обрывающих дикую павилику, расстелившуюся по внутренним стенам вестибюля. Для спокойного изучение гробниц лучшее время – утро.
Кто сходил в вестибюль царских гробниц в древнее время, тот видел себя в чистой пещерной галерее с каменным сводом, стенами и скамьями для отдыха. В южной стене вестибюля горел в нише большой светильник. Холодная вода наполняла цистерну, иссеченную среди вестибюля (ныне засыпанную). И только. Нигде не было никакого признака двери или входа в самые гробницы. Незнакомый с обычаями страны чужеземец мог бы подумать, что эта галерея с приводящими в нее дворами, составляла последнюю цель памятника, построенного, в воспоминание совершившегося здесь важного события, для того только, чтобы мимо идущий мог отдохнуть в прохладной галерее и освежиться холодной водой. Только по внимательном рассмотрении вестибюля, можно было задуматься над тем, что в то время как на западной половине пол вестибюля состоял из выровненной, цельной скалы, на восточной стороне он был сложен из больших, тщательно подобранных, каменных плит. Кто взял бы на себя труд поднять эти тяжелые камни (владельцы поднимали их помощью особенных рычагов), тот увидел бы пред собою спуск в 8 ступеней, приводящий ко входу в гробницы. Но чтобы открыть вход, нужно было сначала понять скрытую систему входа, потому что какой-либо насильственный искусственный пролом здесь был не мыслим. Система закрытия входа состояла в следующем. Огромной толщины камень, эллиптической формы, 3 футов 8 дюймов в диаметре и 1 фута 8 дюймов толщины, закрывал с внешней стороны устье входа в гробницы, т. е. мог накатываться на устье и откатываться. Для такого движение камня был иссечен особенный путь, непосредственно у стены вестибюля и параллельно ей, приспособленный к толщине эллипсоида и так плотно державший его, что тот никогда не мог сойти с своего пути или изменить свое вертикальное положение даже при сторонних усилиях. Чтобы затруднить открытие гробницы, путь эллипсоида был сделан покатым, так что при открытии нужно было катить камень снизу вверх. Кроме того, для движения эллипсоида нужно было предварительно очистить его путь, закрывавшийся особенным гладким камнем, так плотно западавшим в глубокую линию пути, что поднять его можно было только посредством давление снизу, для чего был сделан особенный, замаскированный, подземный проход под путь эллипсоида. Если предположить, что открытие входа производилось без пособия рычагов, то, даже при совершенном знании механизма закрытия гробниц, требовались соединенные усилия 20 человек, чтобы откатить в сторону налегший на устье входа эллипсоид. Путь движения, нижний проход под него и самый эллипсоид стоят доселе в том виде, в каком поставил их искусный художник.

Рисунок 31. Разрез входа в царские гробницы
Отодвижением эллипсоида, закрывавшего вход в гробницы с наружной стороны, еще не открывалось вполне устье хода. Нужно было далее открыть двери в собственном смысле, закрывавшие вход с внутренней стороны входного устья. Уцелевшие доселе остатки этих дверей, валяющиеся в камерах царских гробниц, а также свидетельства путешественников, видевших двери еще на месте, дают возможность восстановить систему гробничной двери и, следовательно, вообще древнееврейской двери. Двери царских гробниц имеют 5 футов высоты, 2½ фута ширины и 5 дюймов толщины; форма двери углевидная внизу и вверху закруглена. Иссеченная из цельного камня, дверь представляет на лицевой стороне подобие панелей деревянной двери, что дает повод думать, что первоначальною моделью каменной палестинской двери была деревянная египетская дверь. Двери царских гробниц так плотно приходились по устью входа, что, как свидетельствует Марити, видевший в 1767 г. одну из дальнейших дверей во внутренние отделение гробниц, стоя пред затворенною дверью, с трудом можно было отличить, где кончается стена и начинается дверь. На этом основании многие полагали даже, что двери царских гробниц были выкроены из того же устья входа, который впоследствии они закрывали в виде двери. Даже цвет двери, тождественный с цветом стены, давал некоторым повод к такой иллюзии, невозможной уже потому, что устье двери могло быть пробито только молотом и карпелью. Далее для того, чтобы дверь оборачивалась на оси, вверху и внизу дверной плиты с правой стороны её иссекались два толстых

Рисунок 32. Двери царских гробниц
шпиля, верхний 2½ дюймов, нижний 2 дюймов длины, закруглившихся шарообразно. Этим шпилям в правой стороне устья входа соответствовали две ямины, из которых верхние, сохранившиеся в неприкосновенной целости, имеют ⅓ фута глубины и такой же величины диаметр; нижние же, не настолько сохранившиеся, имеют 2 дюйма глубины и около 5 дюймов в диаметре. Нижняя ямина, для легчайшего движения двери, имеет форму шаровидную, тогда как верхняя – цилиндрическую. Как объясняют арабы, такие двери отпирались спиною, т. е. ставши спиною к двери и выбравши точку опору для ног, человек надавливал на левую сторону двери и отворял ее. Отворенную таким образом дверь обыкновенно подпирали, потому что устройство двери заставляло ее затворяться от собственной тяжести, между тем отворить захлопнувшуюся дверь изнутри было невозможно. Такое же устройство имели и двери частных домов древней Палестины (друзы называют такие двери helase), что заставляло жителей держать двери в течение целого дня отворенными настежь – какой обычай и доселе заметен в Дамаске и других городах Сирии. Дом с затворенной среди дня дверью в древнее время обращал на себя общее внимание. Доселе еще говорят в Палестине: «у него дом заперт», в смысле человека избегающего общества или пораженного несчастьем. У бедуинов есть предание, что когда утром отворялись большие helase древнего города, то для того собиралась целая толпа народа, и скрип поворачиваемой двери был слышен на четыре часа кругом. Ветштейн (Reisebericht 51, 78) говорит, что когда, при помощи арабов, он делал опыт над одной небольшой древней дверью за Иорданом, то происходивший от поворачивания двери шум был слышен по крайней мере на ½ часа пути. Геласы царских гробниц всегда запечатывались царской печатью. Александр Македонский, посетив гробницу Кира, запечатал ее своею печатью.
Войдем в самые гробницы. Первая камера царских гробниц представляет высокую, просторную, квадратную залу 20 футов длины и ширины, с стенами параллельными вестибюлю. Эта камера которую, для отличия назовем камерой А, не назначалась для саркофагов, а составляла тот atrium, который в Мишне называется камерой для носильщиков гроба. Небольшие ниши, иссеченные в южной, западной и восточной стенах камеры, с ясными следами горевших в них ламп, показывают, что в известные дни здесь было освещение и, вероятно, совершались некоторые молитвы, обряды и оплакивание в честь умерших. Кругом стен камеры иссечена скамья для отдохновения приходящих. Вообще квадрат камеры обделан очень правильно, особенно в своих прямых углах, хотя свидетельство некоторых путешественников, что царские гробницы внутри выполированы, неверно. Напротив, следы долота и многозубной карпели, которыми производились работы, остались на стенах не изглаженными. Кроме двери входной от вестибюля, камера А имеет 3 двери, 1 на западной и 2 на южной стороне, противоположной входу от вестибюля. Войдя в западную дверь, видите себя в квадратной камере В, имеющей 10 футов длины и ширины. И здесь, как в первой камере, вдоль стен иссечена скамья для сидения, на одном уровне с порогом двери. Каждая из стен камеры В, за исключением входной, имеет по три гробничных отделения, расположенных симметрически таким образом, что в центре каждой стороны находится большое отделение, а по сторонам его два малых. Каждое среднее отделение имеет три, высоко поднятых над полом, ложа для саркофагов, справа, слева и в глубине против входа; красивые полукруглые арки покрывают каждое из лож, а треугольные ниши над ложами, черные от копоти, показывают, что и это внутреннее отделение гробниц было посещаемо и чествуемо. Все боковые отделения представляют одиночные loculi для отдельных саркофагов, с тою особенностью, что посредине каждого из loculi иссечен небольшой желобок, как думают некоторые (Сольси), для того, чтобы в него входил соответствующий ему выступ, находившийся якобы в саркофаге, и чтобы последний неподвижно утверждался на месте. Но гораздо вероятнее, что желобки назначались для стока влаги, просачивающейся сюда в период дождей сквозь мягкую толщу маляки. В глубине каждого одиночного loculus небольшое отверстие ведет в малую заднюю камеру, назначавшуюся для сокровищ. Когда саркофаги стояли на местах, отверстие сокровищниц совершенно закрывались их массой. Исключение представляют только два loculi камеры В, из которых один вовсе не имеет сокровищницы, а другой имеет ее не в глубине, на линии входа, а в левой стороне от входа. – Но это еще не все составные части камеры В. В центральном отделении северной стороны, на оси входа, под ложем в глубине отделения есть низкий спуск, напоминающий спуски египетских пирамид, в нижний этаж гробницы, состоящий из квадратной комнаты 10 футов длины на 7 ширины; на западной стороне этой нижней камеры под аркой полного полукруга иссечено ложе для саркофага, а на стороне северной, против входа, устроены два места, возвышающиеся одно над другим в виде ступеней лестницы. Так как это нижнее прибавление к камере В более всех других частей царских гробниц удалено от вестибюля и первого входа в гробницы, то его считают главною частью во всем подземном сооружении гробниц, частью, к которой все другие отделения относятся как побочные и подчиненные. Вероятно, все это отделение занимал один саркофаг, стоявший на ложе под аркой. Что же касается до двух мест на северной стороне отделения, похожих на ступени лестницы, то это не более как полки, на которых были расположены драгоценные вещи и деньги, принадлежавшие саркофагу. Сольси нашел в этом отделении два куска разбитого большого саркофага, находящиеся теперь в Луврском музее. Судя по этим остаткам, а также по некоторым свидетельствам (Радзивил, 177), саркофаг этой камеры был так велик, что его не могли внести в отверстие, ведущее в это отделение, а должны были иссечь в самой гробнице из материала тут же находившегося.
Другие камеры царских гробниц открываются в южной стене большой камеры А, и по уровню стоят несколько ниже последней. Первая из них, вход в которую ближе к юго-западному углу камеры А и которую для отличия назовем камерою С, по величине совершенно равна камере В. Но здесь нет больших трехместных отделений, какие мы находили в камере В, но все места для саркофагов представляют одиночные loculi и иссечены, по образцу loculi камеры В, в южной и западной стене. Только сокровищниц здесь нет в loculi, за исключением двух, а один из loculi не имеет и срединного желобка для стока влаги и по ширине вдвое у́же других. Подобно камере В, и камера С имеет свой подземный или нижний этаж, вход в который влево от двери, ведущей в камеру А. По узкой лестнице о семи ступенях сходят в это нижнее отделение, по величине равное нижнему отделению в камере В, но ныне до половины засыпанное землей. Под тремя полукруглыми арками в каждой из сторон отделения (за исключением входной) расположены ложи саркофагов без полок для сокровищ, какие мы видели в нижнем отделении камеры В. И в этом отделении, по описаниям путешественников, долго валялись куски саркофагов с орнаментами цветов. Часть покрышки одного саркофага Сольси взял отсюда для Луврского музея. Только восточная стена камеры С не имеет ни дальнейших ходов, ни loculi, так как не далее 3 футов за стеною и параллельно ей проходит новая четвертая камера царских гробниц.
Вход в эту четвертую камеру D недалеко от юго-восточного угла большой камеры А. Камера D несколько менее предшествующих и имеет 6 простых одиночных loculi, которые, за исключением двух, не имеют срединного желобка и вдвое уже, чем loculi камер В и С. Что же касается сокровищниц, то ее имеет здесь только один loculus, и то не в глубине места, а сбоку, вероятно потому, что свойство грунта не позволяло здесь устройства правильной сокровищницы. Тем менее здесь могли быть большие трехместные отделения как в камере В. Восточная сторона камеры D, как граничащая близко с камерой С, не имеет loculi. Нижнее отделение камеры D, недавно открытое Сольси, по устройству совершенно соответствует нижнему отделению камеры С. – Как видно из приведённого описания, камера D была самою невместительной и самою бедной по отделке. Можно думать, что, по каким-то обстоятельствам, loculi камеры D, также как один из loculi камеры С, не равняющийся с другими по величине, не были окончены. Самою главною и богатой частью гробниц была камера В, а камера С, средняя по месту между В и D, была средней и по своему относительному значению. Камера В заключает 15 мест для саркофагов; камера С – 9; камера D – 6. Всего в царских гробницах мест оконченных и неоконченных 30. Каждая камера и каждый loculus герметически затворялись дверью, вид которой мы описали. Строго говоря, отделение царских гробниц не так многосложны, чтобы их называть лабиринтом, как это делают некоторые путешественники, сравнивающие их с Харейтунским лабиринтом в окрестностях Вифлеема, в котором действительно без Ариадниной нити можно затеряться в переходах. Если необходимо указать для царских иерусалимских гробниц какую-либо аналогию, то лучше всего их сопоставить с александрийскими катакомбами, известными под именем бань Клеопатры, с монументами в скале в вади Муса или с Крымскими пещерными храмами. Но впечатление, выносимое из этих последних, много уступает впечатлению царских гробниц, что конечно отчасти зависит и от большей силы окружающих их исторических преданий, от которых не легко отрешиться. Помню первый раз я посетил царские гробницы в большом обществе туристов, между которыми находился известный Киеву поэт С. И. Н. В робком молчании переходили туристы из отделения в отделение, засматривали в темные loculi и спускались в низшие этажи, боясь нарушить вековую тишину гробницы. «Где вы цари великие?» неожиданно прервал поэт, общее молчание, впадая в лирический тон. «Выехали», отвечал один из туристов, «кто в Луврский музей, кто в Британский, кто в другие города Европы». «Обратились во смирение», прибавил другой, пользуясь мягким славянским переводом известного места псалма, вместо точного: «обратились во истление».

Рисунок 33. Гробница царей (Кбур-ель-Молук)
Справедливость требует упомянуть здесь о новейших трудах для истории царских гробниц известного исследователя Сольси. Не смотря на то, что Робинсон и Шмит, после неудавшихся раскопок в Царских гробницах в 1838 году, положительно признали, что никаких новых открытий от этого памятника нельзя более ожидать, Сольси в декабре 1863 года, во второе свое посещение Иерусалима, решится подвергнуть Царские гробницы новому точнейшему обследованию посредством раскопок, имея в виду с одной стороны расчистить гробницы от вековых наслоений, наполнявших гробничные камеры, а с другой искать, при раскопках, какого бы то ни было ключа к разъяснению происхождения гробниц. По свидетельству Флавия, Царские гробницы должны были иметь при себе остатки особенного памятника, построенного Иродом для искупления своей вины пред гробницами, состоявшей в их ограблении. «В то время, когда Ирод, святотатственно вторгшись в гробницы, с несколькими из своих приближенных, забирал их сокровища, из одной камеры вышло пламя и опалило двух из его провожатых. Испуганный царь бежал, и, для укрощение Божие гнева, построил над вестибюлем гробницы монумент из белого камня» (Древн. ХVII, 7, 1). Чтобы найти остатки этого Иродова монумента, Сольси расчистил верхнюю площадь над гробницами, и над местом вестибюля действительно нашел искусственную площадку и на ней остатки камней, очевидно принадлежавших какому-то сооружению. Но так как монумент стоял над самым углублением большого открытого двора гробниц, то можно было ожидать, что, при позднейшем разрушении Иродова монумента, значительная часть его материала была брошена вниз в двор гробниц. Действительно, в дворе пред вестибюлем были найдены остатки орнаментов совершенно другого рисунка и стиля, чем орнаменты Царских гробниц, и большие камни, отличные от грунта гробниц. Но так как в самом дворе не оказалось никаких оснований для какого-либо сооружения, то было ясно, что камни брошены сюда сверху. По расчистке площадки пред вестибюлем можно было видеть даже пробои, которые могли произойти только от падение сверху тяжелых камней. Независимо от монумента Ирода, Сольси расчистил отчасти первый восточный двор и открыл ведущую сюда лестницу в 26 ступеней, иссеченную в скале с большими площадками. Далее были расчищены им вполне ворота, соединяющие двор восточный с западным, бывшие прежде так незначительными, что чрез них едва можно было пробраться, но по расчистке грунта оказавшиеся просторным ходом в 5½ метров высоты. Так как расчистка всего большого двора была слишком затруднительна, то Сольси расчистил только прямую линию в 2 метра ширины от ворот двора до вестибюля. В самом вестибюле, по снятии наносной земли, открыли гладко выровненный пол и три прекрасно сделанные в живой скале ступени, сводившие в вестибюль со двора. При этих раскопках нашли значительное количество древних монет, имеющих значение для истории гробниц. Во внешнем дворе, кроме позднейших монет, были найдены две еврейских монеты, ¼ сикля. Во внутреннем дворе нашли монеты Копония, римского прокуратора при Августе, Понтия Пилата от 16 года Тиверия, несколько монет хасмонейского типа с двумя рогами изобилия, несколько монет крестоносцев и позднейших турецких и египетских пиастров; в самом вестибюле нашли монету импер. Юстиниана. Все позднейшие монеты найдены в верхних слоях мусора и земли, а римские и еврейские в более глубоких.
Еще более интересны были изыскание Сольси внутри царских гробниц. Здесь исследователь имел в виду снять огромную массу земли и сору, накопившуюся в течение веков, в надежде найти между сором какие-либо древние остатки, могущие пролить свет на историю гробниц, а при благоприятных обстоятельствах повести к открытию новых камер и может быть новых саркофагов. Надежды Сольси увенчались замечательным успехом. При расчистке первой камеры гробниц А, было найдено большое количество римских гробничных принадлежностей: урны, наполненные пеплом сожженных трупов, по обычаю римского погребения, лампы, банки, известные под именем слезников, несколько остатков римского оружия, статуэтка тройной Гекаты и проч. Несколько в стороне от римской кучи было найдено около десятка скелетов, очевидно не сожженных, но сваленных сюда без порядка, и притом семитической структуры. Между скелетами найдено довольно монет, расположенных кучками и очевидно бывших при поясах одежд. Все эти монеты принадлежали без исключения эпохе предшествовавшей осаде Иерусалима Титом; это были монеты Ирода, Архелая, Агриппы 1-го и т. п.; самая поздняя из монет была чеканена римлянами во время самой осады. Эти данные давали важные выводы: 1) если еврейские скелеты свалены здесь рядом с урнами римских трупов, то это могло случиться в бурное время столкновений евреев с римлянами, и притом было сделано последними, потому что евреи не могли допустить осквернение свящ. гробницы чуждыми языческими группами и свалить без порядка, в вовсе не предназначавшейся для тел камере, кости своих сограждан, не омытыми и не одетыми в погребальные одежды, как это доказывают деньги, найденные при поясах скелетов. 2) если найденные здесь монеты принадлежат времени, предшествовавшему осаде Иерусалима Титом и только одна времени Тита; то столкновением евреев с римлянами, в котором погибли скелеты, была именно последняя война евреев с римлянами и осада Иерусалима. То обстоятельство, что урн с пеплом римским гораздо больше, чем еврейских скелетов, показывает, что в той стычке, жертвы которой уложены в камере царских гробниц, погибло больше римских солдат, чем еврейских. Это могло случиться только в начале осады, потому что в последних вылазках осажденных брали верх всегда осаждающие. Возможно, что здесь мы имеем дело с жертвами той стычки, в которой небольшой отряд римский, имея предводителем самого Тита, был настигнут на северной стороне города сделавшими вылазку евреями и в котором едва не погиб сам Тит. Чтобы предотвратить заразу от павших здесь трупов, полководец повелел трупы своего и противного лагеря похоронить вместе, причем римским воинам были возданы все почести, обыкновенные в римском погребении, а евреи просто были брошены в первую камеру древней гробницы.
Расчистка дальнейших камер дала не менее богатые результаты. В кучах земли и сору здесь были найдены так называемые алебастры для мира, известные в употреблении евреев задолго до упоминания о них в евангельской истории, особенно один замечательный экземпляр алебастрового флакона ассирийского происхождения, драгоценные безделки в роде серег круглых и продолговатых, колец и проч. Вместе с этими драгоценностями, находили обломки ящиков из мягкого известняка с четырьмя ножками по углам, с орнаментами так называемой ныне в Иерусалиме Соломоновой печати.

Рисунок 34. Соломонова печать
Так как эти ящики слишком малы, чтобы быть саркофагами, то это, вероятно, сундуки для драгоценностей, разбитые искателями гробничных сокровищ, начиная от Ирода и далее, а самые безделки – случайно разбросанные при расхищении остатки тех сокровищ, которые были в ящиках. Но всего этого для Сольси было мало. Новая камера, новый саркофаг, скрывающиеся неоткрытыми в царских гробницах, по собственному признанию Сольси, преследовали его на яву и во сне. То обстоятельство, что нижние этажи существовали в камерах В и С, казалось Сольси несомненным ручательством, что подобный нижний этаж существует и в камере Д. И действительно после многодневного рассматривания стен и пола камеры, 8 декабря 1863 года, вправо от входа в камеру, был найден замаскированный ход в нижнее отделение камеры Д, о котором мы уже говорили. Но мы не сказали еще, что в этом нижнем отделении прямо против спуска под аркой стоял огромный саркофаг, едва вмещавшийся на своем ложе; заметно было, что углы саркофага были даже несколько спилены, чтобы он мог войти под арку. Материал саркофага был серый маляки, а форма имела вид нынешних гробов, употребляющихся в Европе. На крышке саркофага были вырезаны два диска и между ними две строки еврейской надписи. Обделка саркофага не отличалась тонкостью, так же, как и вырезка надписи; можно было подумать, что саркофаг был сделан наскоро, среди чрезвычайных обстоятельств.

Рисунок 35. Надпись на саркофаге, открытом Сольси
Кроме того, крышка на саркофаге была запечатана по обычаю цементом, но только с передней стороны; в стороне обороченной к стене, была легкая щель между ящиком и крышкой. Это обстоятельство приводило к мысли, что саркофаг был уже вскрываем, конечно древними искателями сокровищ, от которых в ново-открытом отделении не нашлось никакого следа; даже остатков разбитых сокровищниц не было на полу, что доказывало, что похититель сокровищ ново-открытого саркофага, при самом грабительстве, уважал святость гробницы, может быть сам был еврей. По вскрытии саркофага, в нем нашли ясные очертание человеческой фигуры с приподнятой головою и руками, сложенными на чреслах. Фигура далеко не занимала всего саркофага и едва имела длины 1 метр. 60 сантиметров. При первом прикосновении к черепу, вся фигура исчезла как мираж; вместо полного человеческого очертания, оказалась в саркофаге только легкая линия тонкой пыли. Присутствовавшие при этом открытии арабы заметили Сольси, что саркофаг принадлежал женщине, потому что форма крышки гроба с плоскою верхней частью до настоящего времени в Палестине устроятся только для женщин; гроб мужчины должен был иметь круглую крышку.
Известие об открытии нового саркофага в царских гробницах встревожило всё еврейское население Иерусалима. «Как, священный прах Богом избранных царей будет игрушкой франка? Не позволим этого», слышалось на улицах и базарах иерусалимских. Несколько раз отряды евреев, вооруженных палками, подходили к царским гробницам, в намерении остановить раскопки и возвратить capкофаг на его прежнее место. Но местная власть была на стороне Сольси, и защитники царского праха должны были отступить. Впрочем, за право владение саркофагом Сольси заплатил местному еврейскому обществу 3,000 пиастров, после чего в памятный Иерусалиму день 20 декабря тяжело навьюченные верблюды понесли в Яффу библейский гроб, среди непритворных жалоб и слез евреев, справедливо видевших в этом удалении саркофага исчезновение с святой земли одного из последних лучей своей древней славы и значения. Чтобы предотвратить всякие сомнения европейских археологов в подлинности открытия такой важности, Сольси на месте самого открытия составил акт за подписью многих свидетелей с описанием всей истории открытия и признаков саркофага. Не смотря однако ж на эту предосторожность, в Иерусалиме скоро составились таинственные истории о чудесных знамениях, сопровождавших открытие саркофага и необыкновенных сокровищах, хранившихся в capкофаге и похищенных Сольси.
Еще одно отделение было открыто Сольси под массою щебня в вестибюле, вправо от входа гробниц. По вскрытии плотно заложенной камнем двери, нашли небольшую погребальную камеру совершенно опустошенную; саркофаг и ящики сокровищ были разбиты в куски; только одна покрышка осталась целой. Кто совершил такое святотатственное опустошение? Занятый этим вопросом и рассматривая обломки саркофага, Сольси с своими сотрудниками, к крайнему удивлению, находит в щебне листок одного иллюстрированного английского издания, клочок французской банкирской записки и кусок какого-то арабского письма. Такое открытие вызвало гомерический смех присутствовавших. Оно делало несомненных, что камера была открыта и опустошена европейцами в недавнее время. Если бы посетители, оставившие здесь от закуривания сигар лоскутки английского и французского происхождения, были только мирные исследователи, то им не было нужды закрывать снова тщательным образом открытую ими камеру; к этому мог побудить только стыд совершенного в гробнице разорения. Как видно из этого случая, жалобы на опустошение, производимые европейскими путешественниками в древних палестинских памятниках, имеют свое основание, хотя в этом виновато прежде всего само турецкое правительство, не только не заботящееся о древних памятниках своей территории, но даже не знающее счета их, вследствие чего путешественники считают памятники своею личною собственностью и делают с ними все, что им угодно. Оплошностью правительства иногда пользуются частные лица из местных жителей. Какой-нибудь эффенди, живущий в соседстве с древним памятником, объявляет этот последний своею собственностью и собирает бакшиш с любопытных путешественников; но эти владельцы вовсе не имеют в виду целости и сохранение монумента; напротив, за деньги они сами помогут помять и даже разбить памятник. Более внимания и наблюдения над древними памятниками обнаруживают местные евреи. Но, как показал пример с саркофагом Сольси, их роль в этом случае совершенно страдательная, тем более, что, при спутанности преданий, евреи иерусалимские не могут дать себе ясного отчета о значении каждого из отдельных памятников. Кстати припомнить здесь забавное происшествие, случившееся во время раскопок Сольси в царских гробницах. Мы говорили уже, что в камере А было найдено значительное число сожженных римских скелетов; многие из них были обожжены только слегка и сохранились в виде цельных частей. При расчистке гробниц, они были вынесены и ссыпаны вместе с землею в углу двора. Местные евреи заявили было жалобу против такого обращения с древним прахом, но, так как власть не принимала жалоб на французского сенатора де-Сольси, то евреи выждали окончания раскопок и с подобающею честью снова погребли в царских гробницах кости, выброшенные исследователем. Сам Сольси сделал вклад на это погребение. Но так как обожженные скелеты могли принадлежать только римлянам, то иерусалимские евреи, оказавшие, таким образом, почитание врагам своей нации и поработителям Иерусалима, очутились в чрезвычайно неловком положении пред своими европейскими единоверцами. Было, впрочем, одно обстоятельство, в котором роли Сольси и палестинских евреев в отношении к древним памятникам были поставлены обратные. В бытность Сольси в Тивериаде местные евреи предложили ему купить древний (?) надгробный памятник, найденный в тивериадском озере. Памятник погребенный в волнах священного моря!.. как было Сольси не соблазниться такою находкой. Камень был куплен за значительную сумму, передан в Луврский музей, где и записан в каталоги. В заключение всего, Сольси спохватился, что памятник имеет надпись, и что не лишнее было бы знать её содержание. Каково же было его изумление, когда гебраист Опперт, по его приглашению, прочел на камне следующее: «Здесь погребена скромная жена рабби Ицхака (да будет память его благословенна!) из Заборова (местечка в царстве польском), умершая 17 тебета 5,583 года великой эры. Да будет душа её связана в узле вечной жизни». Итак надгробная плита 1823 года христ. эры, как редкая древность, помещена на полках Луврского музея великим знатоком палестинских древностей! Рассчитывала ли когда-либо на такое бессмертие скромная русская еврейка? Да, этим обстоятельством иерусалимские евреи, благодаря Сольси похоронившие в свящ. гробницах, как величайшую святыню, кости врагов своего отечества, отомщены жестоко.
Теперь вопрос: какому времени принадлежат царские гробницы и каких царей разумеет предание в названии их царскими? Начнем с положительных данных, указанных раскопками и открытиями Сольси. Мы видели, что в первой камере А были найдены римские урны и скелеты, без порядка сваленные во время осады Иерусалима Титом. Таким образом, можно считать несомненным, что эти урны и скелеты попали сюда случайно и что, след., гробницы существовали прежде осады Иерусалима. Более решительное доказательство древности гробниц дает прах, найденный в capкофаге нижнего отделение камеры Д, или точнее состояние его, сопоставленное с состоянием скелетов времени осады Тита. Понятно, что такая или другая степень целости скелетов зависит сколько от качества местного грунта, столько и от их давности. В Египте, в Перу катакомбы и погребальные гроты хранят бальзамированные тела в продолжении 3–4 тысячелетий в том виде, в каком они были положены. Что касается Палестины, то в ней обычай бальзамировать тела прекратился вместе с патриархами; по крайней мере ни в библейских свидетельствах, ни в местных гробницах нет никаких намеков на бальзамированную мумию. Климат же и грунт Иерусалима, хотя не представляет таких благоприятных для сохранения скелетов условий, как климат Египта, возвышенности Андов и Перу, тем не менее, его нельзя назвать вообще неблагоприятным. Шварц (Das heilige Land, 212) рассказывает, что в 1847 году не так далеко от Царских гробниц, при раскопках, арабы наткнулись было на одну циклопическую гробницу, в которой нашли уцелевшие человеческие скелеты великанов поразительной величины, принадлежавшие, если не допотопному периоду, то во всяком случае периоду иевусеевского Иерусалима. Положим, что здесь на сохранение этих скелетов могли иметь место частные случайные условие глубокой циклопической гробницы. Но мы имеем пред собою скелеты, взятые из одной и той же царской гробницы. Здесь на разность в их состоянии могло иметь влияние только то, α) положены ли трупы во внутренних, закрытых от притока воздуха, камерах или в ближайших, более или менее освежаемых воздухом; β) закупорены ли трупы в саркофаги или лежат открытыми. Между тем, тогда как скелеты времени импер. Тита, найденные в первой камере царских гробниц, при своих худших условиях, как разбросанные без саркофагов, сохранились почти в целости, так что черепа, скулы и челюсти были еще тверды и зубы совершенно целы, труп внутреннего отделения той же гробницы, запечатанный в саркофаге, при первом прикосновении к нему, обратился в ничто. Как рассказывают очевидцы, это было какое-то волшебное превращение: из полной видимости человеческой фигуры, в один момент, в саркофаге осталась только небольшая горсть пыли. Очевидно процесс разложения здесь давно уже совершился; недоставало легкого движение ветра, чтобы прах развеять. Но чтобы труп до такой степени мог истлеть, ему необходимо было, при его защищенном положении, лежать много веков больше, чем упомянутые трупы времени осады Тита.
Но всмотримся ближе в этот, из вековой могилы восставший, призрак отдаленных библейских времен. По какому-то счастливому случаю, уцелели от окончательного разложения нижняя челюсть, один сустав пальца и часть бедренной кости. Эти остатки, легкие как пух и таявшие каждую минуту, были немедленно собраны и для сохранения положены в желатин. Исследования над этими частями доктора Прунер-бея в Париже показали следующее. Самая важная из частей – челюсть, к сожалению, не вполне сохранилась: именно от правой стороны челюсти осталась только часть, обнимающая первые пять зубов, левая же сторона уцелела вся, с полным рядом зубов до второго коренного; последний коренной зуб, хотя образовавшийся уже, не успел прорезаться. Вообще говоря, челюсть мала, если сравнить ее с челюстями других индивидуумов, уцелевшими от времени до Рожд. Христ. в Европе, Азии и Африке. Принимая во внимание это обстоятельство и сравнивая челюсть, а также остаток пальца и бедренной кости с ростом индивидуума, замеченным при первом вскрытии саркофага, не превышавшем 5 футов, нужно заключить, что индивидуум, открытый Сольси во внутреннем отделении царских гробниц, была женщина и притом умершая в ранних летах, если судить по прорезывавшемуся зубу, на 14 или 15 году от рождения. Женский пол индивидуума подтверждается ещё тем, что, как можно заключать из формы челюсти, подбородок у индивидуума был не совсем правильный, слегка выдавшийся, треугольный, с острым завершением, т. е. такой, какой обыкновенно встречается у женщин семитического происхождения и иногда у египтянок, между тем как семиты-мужчины чаще имеют подбородок четырехугольный. Далее, глазурь на зубах опала и обнажила стержень волокнистый и хрупкий, как и остатки других частей. В ямине подкоренных зубов и первого коренного замечены легкие следы костоеды, что заслуживает внимание, потому что мумии египетских гробниц обыкновенно представляют эту патологическую особенность. Что касается объема зубов, то здесь бросается в глаза непропорциональность между передними зубами, почти круглыми и коренными широкими. Второй коренной зуб, сохранившийся лучше всех, даже весьма широк и его передние выдающиеся оконечности весьма незаметно разделены. Все эти особенности встречаются и в египетских мумиях; особенно древние египетские зубы не отличаются от передних зубов нашего индивидуума и даже иногда имеют почти цилиндрическую форму. Наконец, как было замечено лицами, присутствовавшими при вскрытии саркофага Царских гробниц, череп индивидуума приближался по своим очертаниям к брахицефальным, между тем как семиты, и особенно евреи, были долихокефалы. Экземпляры древних еврейских черепов, собранные Картфажем, все прекрасно сложены и носят печать продолжительной культуры, поражая малою развитостью лица, сравнительно с большим черепом, между тем как древние египтяне имели овальный и укороченный череп. Все эти признаки приводят к заключению, что индивидуум царских гробниц не был чужд египетской крови, хотя не мог быть ни в каком случае чисто египетским, как это видно из малости кости, заметной, даже если взять во внимание ранний возраст индивидуума, из формы подбородка и особенно из косой узуры зубов, которая у египтян напротив всегда плоска. Эти последние черты делают несомненным еврейское происхождение индивидуума при участии египетской крови. Вернее всего, что, как заключил Прунер-бей, мать индивидуума была египтянка, а отец еврей. Яснее это можно видеть из следующих цифр, показывающих отношение челюсти индивидуума царских гробниц с одной стороны к челюсти одного бесспорно древнееврейского индивидуума из коллекции Картфажа и к челюсти одной женской мумии из фивских гробниц, с другой стороны. Длина горизонтальной ветви от подбородочной симфизы до края второго коренного зуба у индивидуума царских гробниц 55 миллиметров, у фивской мумии 56, а у индивидуума коллекции Картфажа 58. Высота подбородка без зубов у индивидуума царских гробниц 20 миллиметров, у фивской мумии 26, у индивидуума Картфажа 23. Высота подбородка с передними зубами у индивидуума царских гробниц 30, у фивского 33, у индивидуума Картфажа 36. Высота челюсти на линии второго коренного зуба у индив. ц. гробн. 17; у фивского 26; у инд. Картфажа 25. Толщина верхней части челюсти на линии второго коренного зуба у инд. ц. гробн. 8, у фивского 9., у инд. Картф. 11 миллим. Толщина нижней части челюсти на той же линии у инд. ц. гробн. 12 м., у фивского 13, у инд. Картф. 15. Отсюда видно, что челюсть индивидуума царских гробниц в некоторых (больших) пунктах ближе к египетскому женскому индивидууму, а в других ближе к еврейскому мужескому индивидууму. Но здесь не нужно опускать из виду того еще, что высокие цифры взятого для сравнения еврейского индивидуума Картфажа зависят от того, что индивидуум был мужчина и притом вполне зрелый. Взявши во внимание это обстоятельство, будем иметь полное соответствие в приведенной аналогии, и цифры индивидуума царских гробниц будут колебаться на середине между двумя другими. – Итак, на основании анатомических данных, индивидуум, открытый Сольси во внутреннем отделении камеры Д, была женщина, рожденная от брака еврея на египтянке и умершая на 14 или 15 году от своего рождения (следовательно, уже в замужестве, которое, по обычаям древнего востока, имело место прежде этого возраста), и около 2000–2500 лет до нашего времени.
Перейдем теперь к палеографическим доказательствам, данным в вышеприведенной надписи саркофага царских гробниц. Для первого взгляда очевидно, что две строки надписи сделаны двумя различными руками и принадлежат двум различным эпохам. Верхняя древнейшая рука проводит глубокие, сильные штрихи, обнаруживает грубость и недостаточное, робкое владение резцом; нижняя позднейшая рука приводит легкие линии, пишет размашисто и бойко, хотя тоже не старается сообщить равномерности буквам. Шрифт первой строки приближается к надписям Маккавейских монет, только как древнейшая элементарная форма шрифта этих монет. Точно так же вторая строка приближается к квадратному шрифту, как первобытный грубейший вид этого последнего, более древн., чем надпись дворца Гиркана (см. выше). Соединение двух различных шрифтов в надписи одного и того же саркофага объясняется тем, что нижняя строка представляет, как видно уже из равного количества букв, позднейшее воспроизведение той же древнейшей надписи первой строки с переменой вышедшего из употребления шрифта на новый и общепонятный. Некоторые в разности шрифтов надписи видели доказательство того, что саркофаг служил последовательно двум различным индивидуумам, причем нижний шрифт соответствует тому индивидууму, которого застал в саркофаге Сольси, а верхний указывает на гораздо древнее погребенный здесь прах, но по каким-то неизвестным обстоятельствам выброшенный из своего места, может быть во время вавилонского погрома. Это мнение не может быть принято, потому что обе строки указывают одно имя, и надписи вообще тожественны. Сделавши транскрипцию той и другой строки, получим следующие слова: צרה מלכה т. е. Цара (Сара) царица. По первой строке, впрочем, собственное имя нужно читать: Царан, вместо Цара, что в сущности одно и тоже. Окончание ן есть то, что в нынешней арабской грамматике называется танвин (нунование) и прибавляется иногда только для благозвучия. Например, имя известного Иудейского города, у евреев произносимое Хеврон, на одной набатейской надписи читается Хевро. Такое же значение имеет окончание имен буквой нун в гимиаритских надписях и даже в ассирийской грамматике (Osiander. Zur himjaritischen Sprach-und Alterthumskunde. Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft, 1866. S. 255. Oppert, Elements de La Grammaire Assyryenne. Journal assiatique 1860. 1. § 30.). И так на основании палеографических особенностей надписи и самого её содержания можно заключать, что в нижнем отделении камеры Д, открытом Сольси, была погребена жена одного из царей Иудейских до пленного периода, по имени Цара или Царан. Два различных произношения одного и того же имени подтверждают выведенное нами выше заключение, что, по-своему происхождению, царица была полуеврейка полуиностранка, именно полуегиптянка.
Все, что мы сказали доселе, по поводу саркофага, открытого де-Сольси в царских гробницах, есть не более как предисловие к вопросу о происхождении царских гробниц. Нам могут представить возражение, что саркофаг, при своей бесспорной древности, не связан нераздельно с гробницами и мог быть перенесен сюда впоследствии из другой более древней гробницы. Как ни кажется натянутым такое возражение, но, так как для его отклонения нет положительных доказательств, то мы должны искать других независимых оснований для решения вопроса о происхождении царских гробниц, оснований, вытекающих из самой природы гробниц.
По своему устройству «царские гробницы» самые замечательные между всеми иерусалимскими гробницами и сооружение их должно было продолжаться очень долго и стоить огромных издержек. Иссечь в скале громадные дворы в 100 футов длины и 87 ширины, устроить такие катакомбы и ложи, пред которыми все другие иерусалимские гробницы (за исключением одной), по замечанию одного путешественника, кажутся не более как птичниками, могла только самая могущественная и богатая фамилия Иудейской столицы в свое продолжительное господство. Подобные гробницы в Египте принадлежат всегда династиям, а не отдельным лицам. То, что некоторые loculi очевидно не окончены, места одних отделений не похожи на места других, еще более усиливает мысль, что сооружение гробниц было растянуто на пространстве многих поколений; по плану одного строителя сооруженные гробницы не могли бы представлять такого разнообразия в частях. Каким образом в один общий план могли войти верхние камеры с loculi и нижние с ложами совершенно противоположной конструкции? Каким образом могла образоваться в единичном сооружении такая пестрота, какую представляют loculi то с сокровищницами, то без сокровищниц, то с сокровищницами за саркофагом, то сбоку, то с сокровищницами большими, то малыми? Все это можно объяснить только разновременным происхождением отдельных частей гробницы. Сын, не владевший теми средствами, какие имел отец, и не имея драгоценных вещей унести с собою в могилу, делал себе простой малый loculus без сокровищницы, рядом с большим, наполненным сокровищами, ложем отца. Один, слишком занятый своим вечным покоем, боясь случайного осквернения своего праха, оставлял свое очередное место подле отца или брата, и зарывался глубже в этот исполинский улей, иссекая под гробницами предшественников потаенную келью для своего праха и сокровищ. Другой, занятый земными делами и вовсе не думавший о своем вечном жилище, в самый момент катастрофы, заказывал себе loculus, который посему, как сделанный наскоро, уступал другим в объеме и отделке. Могли быть и такие, которые, начавши приготовление гробницы для себя среди гробниц отцов, умирали где-нибудь далеко от отечества и их гробницы оставались навсегда неоконченными и незанятыми; или же, начав устройство очередной гробницы в семейных катакомбах, бросали её для какого-либо другого излюбленного места, в уединенном саду, под тенью задумчивого кипариса (2Цар.21:18), где их встречали счастливые минуты, воспоминание о которых наполнило всю последующую жизнь их и не отделялось даже от представления места вечного покоя. Вообще, при внимательном обозрении «царских гробниц», можно прочитать в них длинную вероятную историю чередовавшихся годов и поколений. Хотя тоже самое нужно отчасти сказать и о некоторых других иерусалимских гробницах, сооружение которых должно было простираться на целые ряды поколений, но, тогда как другие гробницы говорят собою о богатых и значительных частных фамилиях, история «царских гробниц» есть именно история царственной иерусалимской династии, как это инстинктивно умело подметить и выразить новейшее предание и название гробниц ель-Молук т. е. царскими. Уже то одно, что рассматриваемые нами гробницы, почти одни между всеми иерусалимскими гробницами, имеют сокровищницы или особенные камеры для собранных почившими богатств, остатки которых, в виде разбросанных дорогих безделок, долго находили в гробницах, показывает, что гробницы не могли принадлежать второстепенной фамилии в столице, хотя бы то княжеской или первосвященнической, потому что, по складу жизни древнего востока, степень богатства всегда соответствовала степени власти и положения в государстве. Третьестепенное лицо не имело ни средств, ни прав на сооружение такого памятника, какого не имело лицо второстепенное; второстепенному лицу общество не позволило бы затмить блеском своих сооружений первостепенное лицо в государстве. Это сочлось бы посягательством на права и преимущества власти. Уже в патриархальное время лучшее платье на меньшем брате вызывает негодование старших, имевших больше прав на отличие.
Частейшие архитектурные орнаменты портала царских гробниц, выдвигающие их из ряда других гробниц, еще более утверждают за ними название царских. Это 1) прекрасно сделанное и совершенно оригинальное изображение большой виноградной кисти в центре фриза над вестибюлем. Виноградная кисть уже в книгах Моисея указана как эмблема обетованной земли вообще, после того как еврейские соглядатаи принесли в свой стан с её пределов кисть невиданной в Египте величины; с таким же значением эмблемы земли обетованной фигурирует виноградная кисть на Маккавейских монетах и на портале самого иерусалимского храма. Но, очевидно, такого широкого значение эмблема не имела бы места на гробнице частного человека и вполне прилична только монументу царственного лица, в представлении которого мыслится вся страна. 2) Тоже нужно сказать и о рисунках пальм, симметрически расположенных на фризе по сторонам виноградной кисти. Пальма такой же символ нации Иудейской, как виноградная кисть символ страны и почвы палестинской. Изображение пальм было в храме вместе с херувимами. На римско-еврейских монетах народ Иудейский изображается под образом пальмы с надписью: Judea, или: Judea capta, – какое значение пальмы, конечно, было взято римлянами из народной еврейской символики, потому что иначе побежденные евреи не узнали бы себя в незнакомом образе. Таким образом, как символ всего еврейского народа, и пальма, подобно виноградной кисти, скорее всего могла указывать монументы народных представителей, как национальный флаг в лагере указывает всегда палатку предводителя. Далее между орнаментами портала «царских гробниц» обращают на себя внимание исследователей триглифы. Но мы видели уже в введении, что к греческому дорическому ордену иерусалимские триглифы не имеют никакого отношения. На финикийских гробницах Куклия, древнего Палео-Пафоса, принадлежащих финикийской династии Цивирадов, такие же триглифы; они употреблены и на царских памятниках Египта. Исполнение орнаментов гробницы, особенно оригинальных растительных орнаментов, не имеющее ничего подобного в греко-римском искусстве, и вообще все её устройство с замечательно сложным механизмом входа, с безукоризненною обделкой некоторых частей, совершенно искупляющих незаконченность позднейших наращений в гробнице, показывает, что над монументом истощили свое искусство лучшие национальные художники18. Итак, «царские гробницы», лучшие между иерусалимскими гробницами, принадлежали царствовавшей в Иерусалиме династии.
Какую же из царствовавших в Иерусалиме династий нужно здесь разуметь? На этот вопрос есть несколько ответов. Самая распространенная в настоящее время гипотеза, защищаемая Робинсоном, Шатобрианом, Сеппом, Пьеротти и др., относит царские гробницы к царице Абиаденской Елене, супруге Монобаза и сыну её Изату, жившим в первом веке по Р. Хр. Но, мы сказали уже, что по всем признакам царские гробницы иссекались в течение многих, или крайней мере нескольких поколений и принадлежат долго владычествовавшей в Иерусалиме династии, между тем фамилия Елены Абиаденской является в истории Иерусалима случайно и то на короткое время. Кроме того, для семейства царицы Елены царские гробницы слишком велики. Кроме Елены и Изата, несомненно погребенных в Иерусалиме (Древн. Фл. XX, 4. 3), в Иерусалиме могла иметь гробницу еще только сестра Изата Грапта, имевшая свой дом в Иудейской столице (Войн. Иуд. IV. 9, 11). Что же касается прочих членов этой фамилии, то они не имеют отношение к Иерусалиму и погребены, по всей вероятности, в Риме (Войн. VII 4. 4). Между тем, по древним обычаям, устройство гробницы должно было быть строго рассчитано по членам семейства. Строить лишний гроб для члена не существующего значило раздражать ангела смерти, у которого каждое место гробницы записано под именем известного лица, так что гробница без имени есть бесцельное и преступное обнажение недр земли, за которое ответствен народ, пользующийся этой землей. Посмотрим, однако ж, на те свидетельства, которые, по выражению Сеппа, делают непонятным каким образом можно не признать в «царских гробницах» гробницы Елены и Изата. Иосиф Флавий (Древн. XX, 4. 3) говорит, что «сын Елены, царь Абиаденский, похоронил свою мать царицу Елену и брата своего Изата в трех пирамидах, построенных его матерью в трех стадиях от Иерусалима». В другом месте (Войн. 2. V, XI, 2) тот же писатель замечает, что когда Тит подошел к Иерусалиму и во главе отряда в 600 кавалеристов приблизился к стенам, то «около башни Псефины чрез ворота, обращенные к гробнице Елены, у башни, известной под именем башни женщин, евреи сделали большую вылазку из города, устремились на римлян и преследовали их среди стен, окружавших сады». В третьем месте (Войн. V. 4. 2), при определении направления стен древнего Иерусалима, Флавий говорит, что «третья стена, начинаясь у башни Гиппики, шла на север до башни Псефины, откуда против памятника Елены, царицы Абиаденской и сына ее шла чрез царские каверны». После Флавия древнее свидетельство о гробнице Елены представляет Павзаний (Arcad. lib. VIII, с. 16): «в Иудейской области, в Иерусалиме, городе, разрушенном до основания импер. Адрианом, есть гробница Елены вся из мрамора. Гробница имеет мраморную дверь, которая отпирается сама собою ежегодно в один и тот же день и час, действием скрытого механизма и после некоторого времени снова закрывается сама собою. Тогда только можно войти в нее; во всякое другое время скорее разломили бы дверь, чем отворили». Последнее древнее свидетельство о гробнице Елены дает бл. Иероним в своей книге Epitaphium Paulae matris, говоря, что «Паула шла в Иерусалим чрез Гавею, откуда, оставив влево мавзолей Елены, вступила в город Давидов». – Соответствуют ли эти свидетельства нынешним «царским гробницам» в такой степени, как полагают Сепп, Робинсон и др.? 1) Флавий отдаленность гробниц Елены от городских стен, определяет в три стадии (τρία στάδια), а по Павзанию они были почти в самом городе ἐν πόλει Σολύμοις; между тем царские гробницы от нынешней городской стены, как увидим бесспорно стоящей на месте древней стены Агриппы, отстоят на 1140 шагов или на 15 минут пути, что составит свыше четыре стадии. 2) Положение гробницы Елены Флавий полагает против городской башни Псефины и считает ее так видно и открыто стоящей, что в отношении к ней можно было определить направление городской стены; причем городские сады тянутся уже по ту сторону гробницы Елены. Между тем башня Псефины, развалины которой существуют доселе под именем Каср-ель-Джалуд, далеко не соответствует прямой линии, проведенной от царских гробниц до городской стены, так что сопоставление Псефины и «царских гробниц» было бы совершенно не натурально; кроме того, царские гробницы скрываются по ту сторону садов, окружавших город и от городской стены вовсе не были видны. Точное определение положения гробницы Елены по Флавию сделали Шульц и Сольси. Взявши исходным пунктом Псефину (Каср-ель-Джалуд), они измерили прямую линию от неё на север в три стадии, указанные Флавием19. Окончание линии трех стадий пало как раз на одну древнюю гробницу на северо-западной стороне города на дороге, к горе Самуила, древней римской дороге в Гаваон. Хотя и эта гробница не соответствует вполне описанием гробницы Елены, но она ближе к ним, чем царские гробницы. 3) Форма гробницы Елены в описании Флавия названа «тремя совместно стоящими пирамидами», и царица Елена «была погребена в пирамидах (θάψαι ἐν ταῖς πυραμίσιν)». Таким образом, как справедливо доказывают Вильсон (Lands of the Bible 1, 42). и Авр. Серг. Норов, гробница Елены не могла иметь ничего общего с катакомбами, но принадлежала к числу наружных открытых памятников как гробница Хирама в Тире, как монолиты Авессалома и Силоамский. Не даром имя супруга Елены Мавзола стало общим именем открытых наружных памятников (мавзолеев). Предположить же гробницу Елены двухчастною, т. е. состоящей из подземных катакомб, над которыми возвышались пирамиды, невозможно уже потому, что ничего подобного нет ни в одном палестинском некрополе. Иссеченные в скалах погребальные камеры, кроме фронтона, никаких наружных пристроек в виде башней, пирамид и проч. не имеют, точно также как открытые пирамиды (напр. Авессалома и др.) не имеют катакомб. Да и как понять свидетельство историка, что Елена «была погребена в пирамидах», если пирамида служила только надгробным памятником, а местом погребения были катакомбы. Самое количество трех пирамид гробницы Елены, не натуральное при представлении их над одной и той же гробницей, объясняется только тем, что каждая из трех, так или иначе соединенных между собой, пирамид, представляла особенный саркофаг, по числу упомянутых трех лиц, погребенных в гробнице Елены, точно так же как, семь пирамид, построенных Симоном Маккавеем в Модиине, представляли один монумент из семи саркофагов по числу родственников Симона (Древн. XIII, 6, 7). Если Павзаний говорит, что гробница Елены была вся сделана из мрамора, то и это странно сказать о царских гробницах, иссеченных в живом известняке маляки. Не совсем ясно только свидетельство того же Павзания, переносящее на гробницу Елены легендарное народное сказание о таинственном механизме гробниц, по которому они однажды в год, в один определенный момент, растворялись и затворялись сами собою. По всей вероятности, это сказание перенесено Павзанием на гробницу Елены с египетских пирамид, построенных в соответствие местному солнцестоянию таким образом, что в одно известное время года восходящее солнце чрез тайное отверстие зароняло луч в глубину пирамиды на саркофаг фараона; это называлось схождением бога неба в царство Плутона. Такие же таинственные входы в область Плутона, открывавшиеся сами собою, восточные предание связывают с гробницей Кира в Персеполе и с одним храмом в Пальмире. Если Павзанию перенесение этих особенностей гробниц Египта и др. на гробницу царицы Елены важно в том отношении, что оно ставит иерусалимские гробницы в ряд величайших памятников востока, служивших чудесами древнего мира, то оно нисколько не подтверждает предполагаемого тожества гробницы Елены с царскими гробницами. Хотя последние, как мы видели, имеют также очень искусный механизм в устройстве входной двери, но эта дверь вовсе не обращена на восход солнца и имела в виду не открывать хода лучам небесного светила, а напротив закупоривать гробницу от всякого стихийного влияния. – Итак, гробницы, известные в иерусалимском предании под именем царских, не одно и тоже, что упоминаемая у древних историков гробница царицы Елены Абиадонской20.
Вторая гипотеза, которую защищал Вильямс (424) и некоторое время Тоблер, отождествляет «царские гробницы» с гробницами Ирода, упоминаемыми Флавием (Войн. V, 3, 2). Но мы знаем, что Ирод великий после своей смерти в Калирое на мертвом море, был торжественно погребен сыном и преемником своим Архелаем недалеко от Вифлеема в Геродиуме, на горе, получивший с того времени имя райской горы (Джебел-Фередис) Войн. 1. 33,9. Древн. ХVII, 8. 3. Войн. V. 12, 2. Таким образом под именем Иродовых гробниц в Иерусалиме можно разуметь только гробницы так называемых Иродиан: Фазаэла, Архелая, Филиппа, Ирода Агриппу и др. Но история этих имен такова, что с ними решительно не возможно сопоставлять лучший памятник древнего Иерусалима. Кроме того, иерусалимское предание доселе указывает особенные гробницы с именем Иродовых, около 150 шагов на запад от пруда Мамиллы. Гробницы эти открываются двором, около 20 футов длины и ширины, иссеченным в скале. В западной стене двора широкая дверь ведет в грот, состоящий из трех камер. Первая просторная камера имеет на северной стороне остаток полукруглой арки над ложем саркофага, а в стороне западной полуразрушенную дверь во вторую камеру с двумя уцелевшими ложами и одним разрушенным. В южной стене первой камеры есть еще одна низкая камера, сообщающаяся каналом непосредственно с древним бассейном, примыкавшим с южной стороны к гробницам и наполнявшимся из верхнего эфамского водопровода; этот бассейн есть Флавиев пруд змей, соседний гробницам Ирода. (Войн. V. 3, 2). Самые гробницы некогда были обширнее; в двух шагах от них на север есть хорошо сохранившаяся цистерна, как видно по аркам в её стенах образованная из камеры, примыкавшей к Иродовым гробницам. И в южной стороне двора видно отделение, принадлежавшее некогда к системе этих гробниц. В христианских преданиях гробницы Ирода назывались гротом льва, на основании одного сказания, что на этом месте было избито некогда 11,000 мучеников и, по повелению Божию, лев в одну ночь для всех их выкопал гробницы. По некоторым объяснением, этот лев был никто иной как Ирод, вызванный из своей гробницы для служения христианским мученикам. При Хозрое II также было избито на этом месте много христиан персами и иудеями, вследствие чего пруд получил название озера патриархов или святых, как говорит Вильгельм Тирский (VIII, 2). И так свидетельство Флавия о гробницах Ирода у пруда змей, подтверждаемое позднейшими христианскими сказаниями, ни в каком случае не может быть перенесено на царские гробницы. Сам Тоблер, по ближайшем рассмотрении царских гробниц и свидетельства Флавия об Иродовых гробницах, отказался от своей гипотезы об их тожестве.
Из других династий, царствовавших в Иерусалиме, осталась еще династия Маккавеев. Но, по положительным известьям, фамильная гробница этой династии была не в Иерусалиме, а в Модиине, построенная Симоном Маккавеем на высоком холме. Издалека кругом, даже с моря, можно было видеть прекрасной работы портики, с монолитными колоннами, окружавшие семь пирамид – семь замечательных по своей величине и красоте саркофагов, вмещавших останки братьев Симона: Иоанна, Иуды, Елеазара, Ионафана (убитого и погребенного, по приказанию Трифона, в Галааде, потом перенесенного в семейную гробницу Симоном) также останки отца Симона Маттафии, деда Иоанна и прадеда Симона, сына Маккавея (Древн. XIII 6, 7). Сам Симон и остальные члены этой замечательной династии, по всей вероятности, также были погребены в Модиине; по крайней мере новой фамильной гробницы в Иерусалиме они не могли затевать, особенно при том уважении и внимании, какое они оказывали всегда при жизни своему фамильному Модиинскому памятнику. Что касается Аристовула, сына Александра Ианния, то, по свидетельству Флавия, он умер в Риме от яда, но был перенесен Антонием в Иудею и положен в царских гробницах ἐν ταῖς βασιλικαῖς θήκαις (Древн. XIV, 7. 4). Под царскими здесь нужно разуметь те гробницы, которые в другом месте Флавий называет гробницами царя Александра, т. е. Ианния. В истории героев последних дней Иерусалима, об одном из них, именно Иоанне, Флавий говорит: «он защищал город со стороны башни Антонии, северного портика храма и пред гробницами царя Александра πρὸ τῶν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως μνημείων; (Войн. V. 7. 3). Что под гробницами царя Александра здесь нельзя разуметь «царских гробниц», это, кроме многих других доказательств, видно из того, что гробница Александра по описанию Флавия стояла пред самой городской стеной. По весьма вероятному предположению Шульца, гробницей царя Александра был так называемый ныне грот Иеремии, возвышающийся своим холмом прямо против городской стены и тем более заслуживавший Флавиева упоминания в истории осады Тита, что предание связывает его и с историей первой осады и разрушения Иерусалима Навуходоносором; здесь сидел пророк Иеремия пред разрушенными воротами города Давидова и плакал.
Остается последнее предположение, что царственная династия, почившая в «царских гробницах», есть династия Иудейских царей до плена вавилонского21. Если и это предположение имеет за собою не больше оснований, чем предшествующие, то «царским гробницам» не будет места в истории. Нужно знать, что ко времени до пленных Иудейских царей относит царские гробницы талмудическое предание, повторяемое позднейшими еврейскими писателями. В тракт. Erubin 16 царские гробницы называются большим гротом Седекии. Мидраш Танхума на Числ. 3 также упоминает о гробницах Седекии в 4 стадиях на север от Иерусалима. Еврейский путешественник XV века из Ливорно говорит: «недалеко от Баб-ель-Амуд (Дамасских ворот) на север находятся катакомбы Седекии, идущие далеко под землей; многие рассказывали мне, что они тянутся на полчаса пути и так просторны, что в них можно проезжать верхом на лошади с факелом в руке». Таким образом, царские гробницы, служившие еще в XV веке предметом удивления и сказок в народе, в талмудических школах носили имя последнего Иудейского царя пред вавилонским пленом. Но если даже предположить, что этот царь, вступивший на престол 20-летним юношей, немедленно занялся устройством для себя гробницы, то и в таком случае, не достаточно было бы его царствования для сооружения «царских гробниц», тем более, что это царствование, как небезопасное и выжидательное, не благоприятствовало сооружению монументальных памятников. Нужно думать, что в приведенном сказании разумеется часть вместо целого, последний из Иудейских царей вместо целого ряда царей-устроителей этого векового монумента. То обстоятельство, что Седекия не был погребен в Иерусалиме, а умер пленником в Вавилоне, не опровергает достоверности сказания. По всей вероятности возвратившиеся из плена Иудеи перенесли с собою, как некогда их предки при выходе из Египта, прах более замечательных лиц, умерших в Вавилоне. Когда Артаксеркс спросил Неемию; о причине печали заметной на его лице, Неемия отвечал: «как не быть печальным моему лицу... когда гробы отцов моих пусты?» Мне кажется, что в этих словах ни в каком случае нельзя разуметь совершенного вавилонянами опустошения и разграбления иерусалимских гробниц, потому что, при общем на востоке отвращении от осквернения святости гробниц, было бы весьма неблагоразумно со стороны Неемии напомнить Артаксерксу подобный поступок Навуходоносора, хотя бы в самом общем и неопределенном выражении. Если разорить и опустошить город мог герой и победитель, то коснуться некрополя мог только презренный хищник, человек без религии и совести. Достаточно вспомнить последствия осквернения одной гробницы Египетской для Камбиза и одной гробницы иерусалимской для Ирода. Таким образом совершенно неестественно, чтобы Неемия, обращаясь к царю с просьбой о возвращении евреев в Иерусалим, без всякой особенной надобности выставлял ему на вид варварское святотатство его предшественников. Выражение: «гробы отцов моих пусты» было сказано в том смысле, что гробницы, приготовленные отцами в Иерусалиме, стоят не занятыми, ожидая пока кости строителей их, погребенные в Вавилоне, будут положены наконец на свое место. После этого будет понятно, что, при выходе из Вавилона, Иудеи озаботились взять с собой и перенести в отеческие гробницы прах своих представителей умерших в Вавилоне: пророков, судей и проч. Тем более не мог быть забыт в Вавилоне прах царей-изгнанников, разделивших с своими подданными участь плена и порабощения. Об одном из них, именно Иоакиме, греческий переводчик 2Хр. 36, 8 (2Пар.36:8) говорит от себя, что он был погребен вместе с отцами своими, т. е. в Иерусалиме – что можно разуметь только о перенесении праха Иоакима по возвращении Иудеев из Вавилона. Таким образом и несчастный Седекия, ослепленный Навуходоносором и умерший в Вавилоне, был перенесен в царские гробницы Иерусалима, чем совершенно объяснится название общей царской усыпальницы в Иерусалиме именем Седекии, погребение которого в «царских гробницах» одно было памятно евреям по возвращении из плена. Этим объясняется и то, почему название царских гробниц именем Седекии не было всеобщим преданием и скоро, рядом с ним, встречаются другие названия и предания на счет гробниц. Когда забылось незначительное само по себе обстоятельство перенесение праха Седекии в готовые иерусал. гробницы, название гробниц именем царя умершего в Вавилоне было признано не верным и отброшено.
Другими библейскими подтверждениями тождества гробниц допленных Иудейских царей с нынешними «царскими гробницами» можно считать следующие. 1) По своей форме гробницы династии Давида называются מערה т. е. катакомбами или подземельями в кн. 2Хр. 32, 33 (2Пар.32:33); сравн. Быт.19:30, 1Сам. 24, 4. 8 (1Цар.24:4, 8). Хотя в приведенном месте Хрон., по нынешним спискам, читается מעלה возвышенность, но, очевидно, это ошибка переписчиков, потому что странно было бы выражение: «похоронен на верху гробов Давида». Чтобы избежать необходимости поправлять текст, Сольси объясняет מעלה в смысле самого почетного места в гробнице, каким должно было бы быть самое сокровенное и самое глубокое место, так что таким образом «вверху» будет значить тоже что «внизу». 2) В кн. 2Хр. 26, 23 (2Пар.26:23) говорится о царе Озии, что он был погребен не в царских гробницах, но только в том поле שדה, где были царские гробницы. Между тем в окрестности Иерусалима, кроме местности «царских гробниц», нет поля שדה(от שדה распространять), т. е. более или менее просторной равнины. За исключением местности царских гробниц, всякую другую сторону Иерусалима нужно было бы назвать בקעה, נחל, גיא, עמקно не שדה. Тем более, конечно, нельзя назвать שדה какое-либо место в самом городе, потому что этим именем обозначается именно противоположность заселенным местам (Быт.4:8. 29:2. 31:2. 34:7. 37:15). Большие погребальные катакомбы не строились в черте города ни в Египте, ни в Греции, ни в Риме. 3) Касательно погребения царей Иудейских в Библии наиболее употребительна следующая формула: «И почил с отцами своими и погребли его в городе Давидовом». Но выражение: «в городе Давидовом» нельзя понимать буквально в смысле иерусалимских улиц и площадей. Говорят же в настоящее время: «Сионское кладбище в Иерусалиме», хотя оно лежит за стеной нынешнего города. Как назвать Байково кладбище, если не кладбищем в Киеве или Монмартрское кладбище, если не кладбищем в Париже, хотя ни Байкова гора ни Монтмартр не стоят в самом городе. Техническая формула: «ויקברו בעיר דויד» похоронили в городе Давидовом получила особенное значение оттого, что она легка для произношения, вследствие сильной аллитерации, соединяющей слова יקברו и בעיר, и употребляется в таком общем виде почти везде, даже там, где требовалось бы более точное указание иерусалимской окрестности. Как сильно связана аллитерацией эта формула видно из того, что даже там, где Иерусалим уже назван по имени, прибавка: «в городе Давидовом» все-таки остается. Напр., 2Цар.14:20: «погребен в Иерусалиме, с отцами своими, в городе Давидовом». Здесь соединены три параллельные выражения, из которых каждое было бы достаточно само по себе: α) погребен в Иерусалиме, β) погребен с отцами своими γ) погребен в городе Давидовом. Мало того, формула: «погребен в городе Давидовом» употребляется о царях умерших и погребенных в Вавилоне 2Хр. 36, 8 (2Пар.36:8) по LXX. Уже это поэтическое соединение выражений показывает, что, в определении места царских гробниц, библейские первоисточники не имели в виду указывать точный пункт Иерусалима22.
Можно привести даже положительное доказательство на то, что гробницы, какие-бы они ни были, не могли быть в городской черте древнего Иерусалима. Как в настоящее время закон предписывает устройство кладбищ за городской чертой на основании гигиенических начал, так закон древнееврейский предписывал тоже самое на началах религиозных. Флавий, говоря о построении Иродом новой Тивериады среди древних гробниц, прибавляет: «чтобы убедить народ жить в этом месте, Ирод должен был ни свой счет строить дома и снабжать жителей угодьями, потому что он знал, что законам и нравам иудейским было противно жить на том месте, где прежде были гробницы и что закон признает на семь дней нечистым того, кто сядет на таком месте (Древн. XVIII, 2. 2)». Если Соломон в начале своего царствования считал осквернением святого города пребывание в нем язычницы – дочери Фараона и нарочито построил для неё особый дворец вне города (1Цар.9:24. 2Хр. 8, 11 – 2Пар.8:11), то мог ли он или кто-либо из его потомков осквернить законную чистоту города сооружением гробниц в его стенах. Тем более этого предположение нельзя допустить, даже для гробницы Давида, что, с допущением его, мы должны будем допустить целый ряд гробниц в стенах Иерусалима и весь город обратить в кладбище. О некоторых царях библейские писатели замечают, что они были погребены в городе Давидовом, но не в царских общих гробницах, а отдельно, именно упоминается семь особенных гробниц 2Хр. 21, 20, 24, 25 – 2Пар.21:20, 24, 25. 2Цар.15:7. 2Хр. 33, 20 – 2Пар.33:20. 2Цар.21:16. Всех этих гробниц нельзя было поместить в черте города уже по незначительному объему древнего Иерусалима, не говоря уже о том, что некоторые гробницы, напр., упоминаемая 2Хр. 33, 20, были расположены в садах, которые, уже решительно не мыслимы в черте города.
Фактическое возражение против нашего взгляда представляет местное предание, указывающее гроб Давида до настоящего времени на месте, входившем в черту древнего города. Именно около 100 шагов на юг от Сионских ворот нынешнего города, в бедной мечети Набу-Дауд, за железной решеткой указывают оштукатуренный саркофаг, покрытый зеленой пеленой и называют его гробом Давида; В сущности эта мечеть есть не что иное, как древняя христианская церковь, построенная на месте свящ. горницы Тайной Вечери. Между тем, по свидетельству Кварезмия, христианские иноки, жившие в этой обители до магометан, не знали гроба Давида на этом месте. Таким образом гроб Давида на холме Сиона есть чисто магометанское предание и – замечательно – возникшее тогда, когда эта часть Сиона была уже исключена из городской черты. Это предание имеет столько же реальности, сколько другое магометанское предание, переносящее, для удобства пилигримов, гроб Моисея из-за Иордана в соседство к Иерусалиму, на гору, получившую, сообразно своему новому назначению, имя Моисеевой. Конечно благочестивой вере не нужна строгая критика и кланяющиеся пред зеленой пеленой Набу-Дауд не всуе чтут память великого царя и пророка. Но наука не может предавать серьезного значение этому преданию до тех пор, пока магометане не укажут основание в его пользу, или пока не будут точно обследованы катакомбы, которые в таком случае должны быть под мечетью. Эта таинственность, которою имамы в настоящее время окружают Набу-Дауд, только заподозривает действительность их сказания. По рассказу шейха мечети, никто из самых магометан не только не был внутри катакомб Давида, но и не знает хода к ним; тот, кто дерзнул бы войти внутрь гробниц, не вышел бы оттуда живым. Впрочем, от XII века есть легенда о посещении гробниц Давида на Сионе двумя подмастерьями. Эту легенду слышал в Иерусалиме в 1130 году известный Беньямин Тудельский. Вот его рассказу: «Иерусалим окружен высокими горами; на горе Сионе находятся царские гробницы дома Давида и гробницы царей следовавших за ним. Самое место гробниц долго не было известно; но 15 лет пред сим оно открыто по след. случаю: стена церкви, бывшей на Сионе, обрушилась; патриарх поручил одному духовному лицу заняться её восстановлением из камней древней сионской стены. Были наняты 20 рабочих, которые и приступили к ломке материала древней стены. Но между рабочими было два товарища, живших весьма дружно между собой. Однажды когда один из них угостил другого и когда после этого они вышли на работу, надзиратель заметил им, что они очень опоздали и потому должны работать и в полдень, когда другие будут отпущены для полуденного отдыха. Товарищи взялись за работу, но отваливши от стены несколько камней, они заметили отверстие, ведущее в подземелье. «Дай-ка сойдем и посмотрим, сказал один из них, не клад ли какой в этой пещере». Они спустились в грот и, после долгих странствований в подземных ходах, наткнулись на величественную залу с мраморными столбами, одетыми серебром и золотом; посредине стоял стол и на нем скипетр и корона; это был гроб Давида, царя Иудейского. Влево от него покоился сын его Соломон, а далее по порядку другие цари Иудейские. Все саркофаги были закрыты, так что нельзя было видеть, что в них находится. Товарищи хотели войти в залу, но от входа повеяло таким стремительным вихрем, что они упали без чувств на землю и лежали до вечера. Очнувшись они услышали как бы человеческий голос: «встаньте и оставьте это священное место». Тогда они встали и, дрожа от страха, вышли из пещеры, явились к патриарху и рассказали о случившемся. Патриарх немедленно послал к рабби Абрааму-ель-Константин, считавшемуся в народе святым и передал ему то, что узнал от рабочих. Рабби объяснил патриарху, что в этих недоступных гротах находятся царские гробы дома Давидова. На другой день было узнано, что товарищи, бывшие в пещерах очень больны и боятся, чтобы их снова не послали в пещеру, тайна которой не должна быть открыта людям. Патриарх распорядился заложить вход в пещеру, сокрытую и до нынешнего дня». Очевидно, какое может иметь значение это наивное сказание. После веселой пирушки работают два друга, когда все кругом их спит. Наткнувшись на подземный ход, каких действительно много на Сионе, под влиянием тяжелой атмосферы подземелья, не отрезвившиеся друзья видят небывалые видение, после которых заболевают. Но здесь заслуживает внимание 1) то, что пещера была найдена в самой городской стене, тогда как в настоящее время указывают гроб Давида в той церкви, для возобновление которой брали камни из стены и которая не могла примыкать к стене, 2) то, что на открытую пещеру не обращают никакого внимание ни патриарх, ни рабби, не ставят никакого памятника, который указывал бы народу открытое место такого священного значения; вместо этого продолжают спокойно починять церковь и забывают о случившемся. 3) В зале гробницы стоят на столе золотые вещи, тогда как, по свидетельству Флавия и Иеронима, все драгоценные вещи из гробниц Давида и его преемников были забраны гораздо прежде. – И это единственное предание о существовании на Сионе, и именно, в мечети Набу-Дауд, гробницы Давида и его преемников. Нужно прибавить, что и из арабских писателей некоторые скептически относятся к Набу-Дауд. Меджирет-дин (139 и дал.) говорит: «несомненно то, что гробница Магомета в Медине, а Авраама в Хевроне; все остальные гробницы указываются на неверных преданиях».
Другое доказательство существования гробниц царей Иудейских в стенах древнего города извлекают из свидетельств Флавия о расхищении царских гробниц Гирканом: и Иродом. Вот эти свидетельства: (Древн. VII, 15, 3) «Соломон похоронил Давида в Иерусалиме и, кроме других больших расходов на погребение царя, положил с ним в гробницу несметное богатство. Как велико было это богатство можно судить по следующему обстоятельству. Прошло 1300 лет после кончины Давида как первосвященник Гиркан, осаждаемый Антиохом благочестивым, сыном Димитрия, желая избавиться от осады деньгами, но не имея их в руках, раскрыл один покой гроба Давидова и взял оттуда три тысячи талантов, из которых часть дал Антиоху. Много лет после Гиркана, Ирод царь открыл другой покой и взял великие сокровища. Но ни один из них не дошел до самых царских саркофагов, потому что они с таким искусством были сокрыты под землей, что входящие в гробницы ничего не могли заметить». (Древн. XVI, 7. I) «Ирод открыл царские гробницы ночью, из опасения, чтобы не узнали об этом в городе и вошел туда с вернейшими своими друзьями. Он не нашел здесь после Гиркана чеканенной монеты, но золотые вещи и много драгоценных украшений, которые и взял. Не довольствуясь этим, Ирод хотел проникнуть в самые гробницы (θήκαις), но при этом потерял двух проводников своих, которые, говорят, были опалены огнем, вырвавшимся из гробниц. Испуганный Ирод ушел и для умилостивления Бога построил у входа гробниц монумент из белого мрамора, стоивший больших издержек». На основании этих свидетельств полагают, что царские гробницы должны были быть в самом городе, потому что иначе в них не мог бы войти Гиркан, осажденный Антиохом в стенах города, и Ироду не было бы нужды в предосторожностях, чтобы скрыть свое посещение царских гробниц от жителей города. Что касается ограбление гробниц первосв. Гирканом, то в приведенном месте Древн. VII, 15, 3 о нем говорится только случайно. Подробный же рассказ Флавия об этом передан Древн. XIII, 8, 3. 4: «чтобы удалить Антиоха, Иудеи согласились платить ему с Иоппии и других городов Иудеи дань. Антиоху были обещаны заложники и 500 талантов серебра, из которых 300 имели в виду отдать немедленно. Антиох согласился взять заложников и, разрушив верхнюю часть стены, оставил осаду. Гиркан же, открывши гроб Давида, превосходившего всех царей богатствами, взял оттуда три тысячи талантов...». И так деньги были взяты из царских гробниц по снятии осады, в продолжение которой Гиркан едва мог найти в Иерусалиме 300 талантов23. Очевидно, что гробницы, на богатства которых Гиркан рассчитывал во время осады, не были в черте города. Что касается Иродова расхищения царских гробниц, то в свидетельстве о нем Древн. XVI, 7. 1 обращает на себя внимание то обстоятельство, что Флавий, передавши приведенный выше рассказ, считает необходимым уверять читателя, что он говорит правду («я-де священник и считаю бесчестным делом лгать в угождение царям») и обличает некоего летописца Николая за то, что тот, говоря о сооружении Иродом монумента при гробе Давида, ничего не упоминает о хождении Ирода в гробницы и похищении сокровищ («Николай де, живя при Ироде, хотел угождать царю и писал только то, что касалось его славы»). И так сказание о расхищении Иродом гробниц Давида не упоминается у ближайших к событию историков и первый раз выставлено у Флавия, и притом так боязливо, с такими интермедиями, что возбуждает собою невольное сомнение в читателе. Кроме того, судя по рассказам Флавия, Ирод также как и Гиркан, не видел самых гробниц (θῆκαι), а был только в каких-то подземельях, имевших отношение к гробницам и наполненных сокровищами. Мы указывали уже на связь восточных сказаний о закрытых в землю кладах с гробницами. Зарытое в землю сокровище принадлежит тому Плутону, который есть вместе бог мертвых и который стережет эти сокровища всеми орудиями ада. Этот огонь, вырывающийся, по Флавию, из внутренних сокровищниц в гробницах царей и убивающий двух проводников Ирода, этот вихрь в рассказе Беньямина, повергающий без чувств зашедших в гробницы рабочих, тоже двух по числу, это – обыкновенно орудие, какими и в наших народных сказаниях защищаются клады подземными гномами. Таким образом свидетельство Флавия стает в ряд сказочных, точно также как выше приведенное свидетельство Беньямина Тудельского. Может быть вместо гробниц нужно разуметь здесь какие-нибудь священные сокровищницы сокрытые под Иерусалимом. Есть легенды, что под холмом Сиона идут от сердца земли золотые и серебряные жилы и здесь переплавляются вулканами и выбрасываются на городские улицы. На основании этих легенд евреи и магометане искали и доселе ищут в иерусалимской почве сокровищ, независимо от каких бы то ни было гробниц. Но если даже рассказ Флавия о вторжении Ирода в царские гробницы имеет полную историческую достоверность, он ничего не говорит о существовании этих гробниц в самой черте города. Напротив, из того, что Ирод заботился, чтобы о его святотатстве не узнали в городе (ἐν τῇ πόλει) можно заключить также и то, что самый факт происходил вне города.
Если мы доказываем здесь, что гробницы Давидовы были не в стенах древнего Иерусалима, а вне их, то мы разумеем здесь не в собственном смысле гробницу первого из царствовавших в Иерусалиме Иудейских царей, пророка Давида, а гробницы династии Давида вообще. Что же касается гробницы самого Давида, то о ней есть много отдельных сказаний, ищущих её на всем пространстве св. земли. Прах Давида, основателя Иудейского царства, праотца, от которого должен был произойти Мессия, был слишком дорогим и свящ. прахом, чтобы не подать повода обложиться различным сказаниям не в одном только Иерусалиме. После столицы Иудейской, более всех городов Палестины имел право на хранение гроба Давидова Вифлеем, родина не только Давида, но и того потомка Давидова, который был предсказан пророками как Спаситель мира. И в самом деле, уже в Библии (1Цар.2:10) дается намек на гробницу Давида в Вифлееме следующим выражением: «и почил Давид с отцами своими и был погребен в городе Давидовом». Но отцы Давида, вифлеемлянина, могли быть погребены только в Вифлееме, который, подобно Иерусалиму называется городом Давидовым (Лк.2:4, 11). Положим, что в этом выражении, как мы показали выше, можно было бы видеть приточную формулу, на что указывает даже поэтическая игра выражение: «Давид в городе Давидовом»; но в подтверждение исторического значения приведенного текста идет целый ряд других свидетельств. Известный пилигрим Бордосский 333 года, описывая свое путешествие в Иерусалима в Вифлеем, говорит: «от Иерусалима пройдя четыре мили (римская миля в 1000 шагов геометрических), вправо от дороги мы встретили памятник, в котором погребена была Рахиль; отсюда влево две мили до Вифлеема, где родился Господь Иисус Христос; на этом месте построена базилика по повелению Константина. Недалеко отсюда памятники Иезекииля, Асафа, Иессея, Давида и Соломона с катакомбами, исписанными именами еврейских пилигримов». Евсевий Кесарийский свидетельствует: «На пути в Хеврон лежит Вифлеем, где показывают гробницы Иессея и Давида, τὸ μνῆμα Ἰεσσαὶ καὶ Δαβίδος δείκνυται». Блаж. Иероним разделяет свидетельство Евсевия, говоря в переводе его Onomasticon: «Вифлеем, город Давида, в уделе колена Иудина, в котором родился Господь Спаситель, лежит в шести милях к югу от Элии, на пути ведущем в Хеврон; там показывают гробницы Иессея и Давида». Антонин мученик (от 570 года) говорит: «Вифлеем прекрасная местность, недалеко от Вифлеема в подгородной части его лежит Давид телесными останками и Соломон; сын его в двух памятниках, David jacet in corpore simul et Solomon filius ejus». Таким образом мы имеем свидетелей очевидцев, что в первые века христианства под именем Иессея и Давида были известны гробницы в Вифлееме. И какая знаменательность! Гробница Давида у колыбели Мессии – Спасителя!
Совершенно естественно, что Давид прежде своего воцарения, или в первое время царствование до взятия Иерусалима, по обычаю страны, приготовил для себя гробницу рядом с гробницею своих Вифлеемских предков. Был ли он погребен в ней или нет, гробница носила его имя и никому другому не могла принадлежать. По древне-еврейским обычаям, все то, что так или иначе назначалось для царя, не могло переходить в употребление другого. «Никто да не дерзнет, говорится в Sanhedrin (22), сесть на лошадь, которая принадлежала царю, на стул или ложе назначавшееся для царя». Отсюда вышел обычай сжигать и уничтожать все, что осталось после смерти царя и что не могло быть положено в его гробницу, чтобы не ввести кого-либо в грех пользование царской вещью (Abodah Sarah 11). Тем более конечно место вечного покоя, и саркофаг царя были неприкосновенною святыней как для современников, так и для потомства, особенно саркофаг с великим именем Давида. Но можно сделать и ещё более решительное предположение. Давид, любивший свой отечественный город с его красивыми масличными рощами и цветущими полями, воспитавшими его детство, слышавшими первые звуки его лиры, мог завещать своему преемнику погрести себя в Вифлееме и, как говорит кн. Царств, был погребен с отцами своими Иессеем, Овидом, Воазом – этими известными людьми в Вифлееме (Руф.2:1), владевшими лучшими в городе полями и конечно самыми лучшими гробницами. Если по Деян.2:29 апостол Петр говорит в сионской горнице: «да будет позволено сказать о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня, τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν; то эти слова не доказывают существование гробницы Давида на определенном месте, как некоторые объясняют, именно на Сионе или в Иерусалиме, а говорят вообще об её известности в народе. Но уже Соломон, выросший в Иерусалиме, где он имел дворцы и сады для себя и своего семейства, не имел ничего общего с Вифлеемом, и потому о нем можно утверждать положительно, что гробницу для себя он устроил при жизни своей отдельно от Давидовой, и не в другом месте где-либо, а в Иерусалиме. Это можно заключать и из того, что Иосиф Флавий о погребении Соломона не употребляет общей своей фразы: «погребен в гробницах царей, своих предков», а говорит только: «погребен в Иерусалиме», т. е. отдельно от других царей, может быть в том самом памятнике, пользовавшемся большим уважением у евреев и носившем имя Соломонова, о разрушении которого, во время одного большого землетрясения, говорить Дион Кассий (Hist. rom. I. LXIХ, cap. 14). Название этого последнего памятника именем Соломона показывает с одной стороны, что в нем по преданию был погребен Соломон, с другой стороны, что гробницы Давида не было как в этом надгробном памятнике, так и вообще в Иерусалиме, потому что, если бы гробница Давида существовала в Иерусалиме, то в ней был бы совместно погребен и Соломон, и тогда памятник назывался бы скорее Давидовым, чем Соломоновым. Судя по свидетельству Диона Кассия о падении памятника Соломона, приведшем в ужас всех жителей Иерусалима, видевших в этом падении печальное предзнаменование для города, памятник не принадлежал к числу катакомб, а был открытым и вероятно принадлежал к категории египетских пирамид. Таким образом, если в вышеприведенных свидетельствах гробница Соломона указывается вместе с гробницами Иессея и Давида в Вифлееме, то в этом нужно видеть не более как свойственное всем народным преданиям стремление к округленности рассказа, не могущего, при упоминании об одном известном имени, умолчать о другом рядом стоящем и равно великом. Что же касается монументов вифлеемских, носивших имя Иессея, Давида и Соломона и чествованных христианскими путешественниками первых веков христианства, то, по всей вероятности, они были воздвигнуты в виде часовен на древних гробничных катакомбах кем-либо из позднейших почитателей памяти царей после вавилонского плена или в период Маккавеев.
Есть еще другие сказания о гробницах Давида и Соломона. Напр., в конце 17 века арабский путешественник, шейх Абд-ель-Ганн-бен-Исмаил-ель-Набулуси говорит о древнем предании, существовавшем на Ливане и указывавшем гробницы Давида и Соломона в Келесирии, в местности даже называвшейся именем Соломона Сулеймие, между Кабб-Елиас и небольшим источником аин-ель-Мадгин, недалеко от Загле, севернее деревни ель-Мерг24.
Все, что мы сказали доселе о гробницах Давида и Соломона, приводит к следующим выводам. 1) Видно, что предание об этих гробницах было потеряно и только впоследствии старались возобновить его, останавливаясь на местах могущих соответствовать этой цели. 2) Предание о гробницах Давида и Соломона на самом Сионском холме, господствующее в настоящее время, сходя в ряд других сказаний, ничем не доказывает своего преимущественного предпочтения. 3) По отношению к гробнице Давида это предание нужно признать стоящим гораздо ниже предания о погребении Давида в Вифлееме. 4) Гробница Соломона, не была соединена с гробницей Давида и несомненно была в Иерусалиме.
Обратимся теперь к гробницам остальных царей Иудейских. Не смотря на повторяющиеся в Библии выражение: «почил с отцами»25 (означающие не более нашего: «отошел ко отцам»), источники ясно свидетельствуют, что не все цари были погребены в одном месте. Не без значения в описании погребения царей употребляются не одинаковые выражения: «в гробницах царей», «в гробницах сынов Давида», «в гробнице своей», «в своем саду» и проч. О двух ближайших преемниках Соломона, Ровоама и Авии библейские писатели говорят только, что они были погребены в городе Давидовом, но Флавий прибавляет, что они были погребены в гробницах царей. На этом основании гробницы Ровоама и Авии можно не отделять от гробницы Соломона, т. е. от той пирамиды, о которой говорит Дион Кассий. Но Аса, преемник Авии, строитель новых городов с стенами башнями и воротами (2Хр. 14, 6. 7 – 2Пар.14:6, 7), в свое сорокалетнее царствование, при постоянной болезненности, успел приготовить себе и своему потомству новую гробницу (2Хр. 16, 14 – 2Пар.16:14). В противоположность открытой гробнице Соломона, гробница Асы состояла из подземных пещер и склепов (כרה – значит именно рыть, иссекать в глубине земли). Ложе для своего саркофага Аса тщательно обделал при жизни и сокровищницу наполнил разными драгоценными сосудами и благовониями. При самом погребении царя была зажжена большая иллюминация שְׂרֵפָה. Это богатство погребения Асы, описанное в Библии не в пример подробно, показывает, что это было не только погребение благочестивого царя, но и освящение новой гробницы для царской династии. Преемник Асы Иосафат, по свидетельству библ. источников, был погребен в гробницах отцов, т. е. конечно не в пирамиде Соломоновой, а в катакомбах Асы. Для большого соответствия погребению Асы, Флавий замечает, что погребение Иосафата было не менее первого великолепно. Следующий Иудейский царь Иорам был погребён в Иерусалиме, но не в царских гробницах, говорит кн. Хроник, как частный человек и без почестей, прибавляет Флавий. Охозия, убитый в сражении при Мегиддо, был перенесен в Иерусалим и погребен в своей гробнице с отцами, т. е. Асою и Иосафатом. Сто тридцатилетний первосвященник Иоддай за услуги народу был погребен в царских гробницах, т. е. конечно не в тех, которые были на всегда заключены после погребения Авии, а в новых гробницах, иссеченных Асою. В гробницы Асы не был далее допущен Иоас, по приговору народа, за убийство Захарии и погребен в отдельной гробнице, как свидетельствует 2Хр. 24, 25 (2Пар.24:25). Между тем по другому источнику 2Цар.12:22 Иоас был погребен с отцами своими. Это противоречие источников можно объяснить следующим образом: сорок лет царствуя во Иудее, Иоас имел время устроить для себя место в царской гробнице Асы и приготовленный им loculus навсегда остался под его именем, несмотря на то, что на самом деле в этом loculus он не был погребен по определению народа. Писатель кн. Царств, считая места в общей царской усыпальнице, мог сказать, что такой-то погребен в царских гробницах, на основании существования loculus и саркофага с его именем, не справляясь с тем был ли этот саркофаг занят или стоит пустым. Писатель кн. Хроник, пиша историю по одним письменным документам, или на основании предания о действительном погребении, мог, не противореча первому, сказать о том же царе, что он не был погребен в царских гробницах. Следующий царь Амасия, по всем источникам, был погребен в царских гробницах. Сын Амасии Осия, как прокаженный, не был погребен в царских катакомбах, а только в ближайшем к ним поле, среди своих садов. Так свидетельствуют кн. Хроник и Иосиф Флавий. Но писатель кн. Царств говорит о погребении Осии в общей царской гробнице, опять на том основании, что loculus и саркофаг Осии были в царских гробницах. Иоафам, по всем источникам, был погребен в гробницах Асы. Но об Ахаве кн. Царств (2Цар.16:20) и Хроник (2Пар.23:27) опять не согласны между собою: первая говорит о погребении его с отцами, т. е. в царских гробницах, вторая только о погребении в Иерусалиме, но не в «гробницах царей израильских». Это значить, что Ахаз, по примеру предшественников, устроил для себя место в гробницах, но это место не было им занято. Об Езекии кн. Хроник употребляет особенное выражение: был погребен в углублении гробниц сынов Давида, т. е. на особенном месте, но в гробницах ставших общими для потомков Давида со времени Асы. Книга Царств напротив употребляет только неопределенное выражение: «почил с отцами», а Иосиф Флавий ничего не говорит о погребении Езекии. Эти особенности наводят на мысль, что предание ясно свидетельствовало о погребении Езекии в общих гробницах, как говорит кн. Хроник, но что loculus и саркофаг Езекии не были на очередном месте, но занимали какое-нибудь особенное скрытое нижнее отделение, которое могло быть не замечено посетителем гробниц. Езекия был последний из царей, погребенных до плена вавилонского в гробницах Асы. Последовавший за ним Манассия, совершенно отложившийся от преданий дома Давидова, отложился и от погребения в гробницах царей Иудейских, может быть отчасти боясь примеров тех своих предшественников, которые, хотя при жизни устроили для себя места в царских гробницах, но по смерти не были в них допущены. Вместо обыкновенного приготовления очередного места в гробницах предков, Манассия в свое пятидесятилетнее царствование успел устроить себе «независимую гробницу в саду своего дома». Касательно библейских источников вообще нужно заметить здесь, что обстоятельства смерти последних царей были ближе известны писателю кн. Царств, чем писателю кн. Хроник, тогда как в истории предшествовавших царей наоборот больше частных подробностей в кн. Хроник. Тогда как писатель Хроник говорит о Манассии только то, что он был погребен в своем доме (?), а о гробнице сына его Аммона вовсе не упоминает, писатель книги Царств о том и другом царе говорит определенно, что «Манассия был погребён в саду при своем доме, саду Узза», а «Аммон был погребен в своей гробнице в том же саду Узза». Выражение о гробнице Аммона «гробница его» без обыкновенного при этом упоминания о предках, ясно показывает, что гробница Аммона, была отделена от гробницы его отца Манассии, что та и другая были одиночные гробницы. Может быть потому именно позднейший писатель кн. Хроник ничего не говорит о гробнице Аммона, что, как одиночная, притом устроенная среди домашних царских садов, она была малоизвестна в народе, а после плена совершенно забылась. Выражение же Флавия, что Аммон был погребен с отцом своим, которое как противоречащее кн. Царств, нужно было бы признать не точным, вероятно, указывает на то, что гробницы Аммона и Манассии были в близком соседстве. Одиночную гробницу имел и благочестивый Иосия. Хотя писатель кн. Хроник говорит, что Иосия был погребен «в гробнице своих отцов», но α) это выражение не ясно, потому что предки Иосии не были собраны в одной гробнице; β) в гробницах ближайших предков, отца Аммона и деда Манассии, не мог назначить место своего погребение Иосия, считавший осквернением все языческое, разоривший языческие сооружение Манассии, осквернивший языческие гробницы как великую нечистоту (2Цар.23:16) и щадивший только «гробницы людей Иеговы» (ст. 17); γ) свидетельство Хроник противоречит свидетельству кн. Царств, где в истории Иосии дважды говорится о его собственной гробнице, а не о гробнице предков (2Цар.22:20, 23:30). Наконец последние цари Иудейские Иоахаз, Иоаким, Иехония и Седекия погребены далеко от гробниц отцов, первый в Египте, три последние в Вавилоне. Замечательно, что в греческом переводе 2Хр. 36, и говорится об Иоакиме, что он был погребен с отцами своими в Ганозане. Но так как о погребении Иоакима ничего не говорится в еврейском подлиннике, так как место с именем Ганозан не известно на древнем востоке, то мы не можем придавать этому свидетельству исторического значения. Имя Ганозан, мне кажется, есть олицетворенное в город еврейское слово גְנָזִים ящик, сундук для товаров и дорогих вещей, – что будет показывать только то, что, вместо саркофага, этот царь, по свидетельству Флавия (Древн. X, 7, 3), убитый Навуходоносором и выброшенный без погребения, после поругания был положен, вместо саркофага, в товарный ящик. Впрочем, цари, умершие в плену вавилонском, по весьма вероятному предположению, были перенесены в Иерусалим по окончании плена и положены в общей царской усыпальнице Асы.
Итак, кроме гробницы Давида в Вифлееме и пирамиды Соломона в Иерусалиме, нужно отличать еще следующие гробницы Иудейских царей в Иерусалиме:
1) Гробницу Асы, иссеченную в поле в недрах скалы. Эту гробницу последовательно расширяли все преемники Асы до Езекии, хотя погребены в ней были только следующие семь царей: Аса, Иосафат, Охозия, Иоддай, Амасия, Иоафам, Иезекия. Где в Библии говорится о קִבְרֵי מְלָכִים«царских гробницах» или о «гробницах сынов Давида», там нужно разуметь всегда катакомбы, иссеченные Асою.
2) Четыре отдельных гробницы царей, не удостоенных погребения в гробнице предков: Иорама, Иоаса, Осии и Ахаза. Эти гробницы представляли одиночные большею частью небогатые склепы, недалеко от царских гробниц, в прилегавшем поле.
3) Две отдельных гробницы Манассии и Аммона. В противоположность «полю» предшествующих гробниц, эти две гробницы царей, намеренно отделившихся от усыпальницы предков, были иссечены при царских дворцах в саду, вероятно, в долине Иосафата. Название местности сада и гробниц именем Уззы, указывает может быть на того первоначального владельца, от которого местность перешла в собственность царей, или на те безобразия (Узза – этимол. безнравственный, бесстыдный), которые творились в этих садах, посвященных культу Астарты26.
4) Одиночная гробница Иосии, вероятно, также в садах Уззы.
Из всех этих гробниц наиболее соответствует нынешним «царским гробницам» (Кбур-ель-Молук) гробница Асы и его семи преемников. Как в Библии только гробница Асы называется вообще «царскими гробницами», так рассматриваемые нами гробницы в настоящее время, одни между иерусалимскими гробницами, называются «царскими». «Царским гробницам» вполне соответствует свидетельство о гробницах Асы, что они были иссечены (כרה) в поле и постепенно разветвляемы в продолжение 12 поколений. Были одни места здесь обделаны больше, другие меньше, третьи вовсе не окончены, одни имеют большие сокровищницы, другие – меньшие, третьи совсем их не имеют, то это вполне соответствует истории погребенных здесь царей от Асы до Езекии, из которых некоторые, как напр., Аса, могли положить несметные сокровища в свои гробницы, а другие умирали в бедности, как напр., Амасия, у которого царь израильский Иоас отнял все имущество, или Иоддай первосвященник, не рассчитывавший на честь быть погребенным с царями, а потому и не собравший богатств для царского погребения. Де-Сольси, более всех исследователей интересовавшийся «царскими гробницами», находил такое соответствие между ними и библейскою историей царей, что, по его мнению, loculi царских гробниц могут быть безошибочно распределены по номерам и именам царей Иудейских. Хотя мы не согласны с Сольси в мнении о происхождении царских гробниц, но так как его сортировка loculi сама по себе очень оригинальна и вызывала некогда общее внимания, то здесь не лишнее указать её сущность. Нижнее отделение камеры В, как самое почетное место во всей гробнице, есть место царя-пророка Давида, который один почивал здесь среди сокровищ, лежавших против саркофага на двух полках. В верхнем отделении камеры В Сольси насчитывает шесть гробничных мест, принадлежавших Соломону, Авии, Асе, Иосафату, Иораму. В камере С шесть гробниц распределяются так: средний loculus в западной стороне принадлежал Охозии, боковые – Иоддаю и Иоасу; средний loculus в южной стороне принадлежал Амасии, боковые – Озии и Иоафаму. Что касается нижнего отделения камеры С, соответствующего ложу Давида в камере В, то в нем устроил для себя гробницу Езекия, вместо очередного loculus в верхнем отделении. В камере Д в южной стороне средний loculus принадлежал Ахазу, а боковые loculi назначались для Манассии и Аммона; в восточной стороне loculus с сокровищницей принадлежит Иосии, а два другие застало неоконченными вавилонское пленение. В этом расписании loculi Сольси не обратил внимание на высказанные нами обстоятельства, отделяющие гробницы Давида קברי דויד от гробниц קברי מלכים остальных царей. Ни о ком из царей не говорится, что он был погребен в «гробницах Давида», а всегда: «в гробницах сынов Давида» или: «в гробницах царей». Кроме того, в своей раскладке Сольси делает огромные натяжки и нарочитые недосмотры. Чтобы не оставить пустых номеров, Сольси из 15 лож камеры В считает назначенными для саркофагов только шесть, а остальные исключает, богатому Иоафаму не дает сокровищницы и т. под.
С вероятностью об истории царских гробниц можно сказать только то, что камера В, как очевидно образованная раньше других, могла принадлежать Асе и Иосафату, а другие камеры и loculi остальным царям до Езекии. Можно допустить, что последний, так как о его гробнице употреблено особенное выражение: מערה т. е. углубленное место в гробнице, был положен, как полагает Сольси, в нижнем отделении камеры С, как в нижнем отделении камеры В была гробница первого основателя катакомб, Асы. Что касается остальных loculi, то об их замещении нельзя говорить определенно, потому что, кроме царей, здесь погребались еще другие члены царской фамилии, как и действительно найден самим Сольси женский саркофаг в новооткрытом нижнем отделении камеры D. Кстати сказать, что новооткрытый женский саркофаг, по мнению Сольси, принадлежал жене Седекии, имя которой в источниках не упоминается, но которая, по надписи саркофага, была царица Царан или Сара. Трудные обстоятельства времени не позволили Седекии заняться устройством гробницы преждевременно умершей жены, и потому она была погребена в поспешно обделанном саркофаге, с грубо вырезанною на крышке надписью, и притом в отделении, назначавшемся, вероятно, для самого царя. Как настоящий художник, Сольси готов создать целый роман из своего саркофага, открытие которого обнажило последний сокровенный угол царских гробниц, напоминающих, как говорил Ламартин, покинутую голубятню с раскрытыми окнами и пустыми гнездами27.
Немаловажным доказательством особенного значения, какое имели некогда гробницы, ныне известные в Иерусалиме под именем царских, может служить уважение, оказываемое им нынешними жителями Иерусалима, без различия религий и народностей. Иерусалимские евреи часто ходят сюда для молитв, обнимают и целуют стены гробниц, а валяющимся здесь обломкам саркофагов приписывают чудотворную силу. Недавно был у евреев обычай совершать здесь ежегодную тризну, в которой, по рассказу бывшего прусского консула Шульца, принимали участие магометане и армяне, даже армянские епископы. В ХVII веке недалеко от царских гробниц была мечеть в память какого-то чуда, имевшего отношение к гробницам (Nau. Voyage 322).
Вторая по важности гробница северного некрополя в Иерусалиме известна под именем гробниц Судей. Она лежит вправо от дороги, ведущей от дамасских ворот к горе Самуила, древней римской дороги в Гаваон, полчаса пути от города, в вади Бет-Ханина, там, где она встречается с долиной Царских гробниц, на пункте разделения вод средиземного и мертвого морей. С пункта гробницы судей прекрасный вид на долину Бет-Ханина, гору Самуила, деревню Бет-Икса, гору Кастель и северный Иерусалим.
Гробницы Судей открываются вестибюлем, иссеченным в скале, 14 футов длины на 10 ширины, со вне украшенным величественным фронтисписом, состоящим из равнобедренного с широким основанием треугольника, стороны которого обделаны четырехугольными зубчиками, а внутреннее поле заполнено рисунками цветов, лучеобразно разветвляющихся от центра треугольника к углам.

Рисунок 36. Портал гробницы судей
На углах треугольника стоят красивые тумбы, из которых две нижние хорошо сохранились, но верхняя пострадала. Дверь ведущая из вестибюля в гробницу, обращенная на запад подобно входу в царские гробницы, сделанная в самой средине большой стены вестибюля, высокая, но узкая, обрамлена орнаментом в виде желобков и на верху имеет фронтиспис, совершенно соответствующий фронтиспису над входом в вестибюль, с такими же тумбами и таким же расположением цветов в треугольнике. Здесь очевидно не рассчитывали скрыть дверь в гробницы, а напротив имели в виду привлечь на нее внимание прохожего и не затруднить вступление внутрь гробниц низким и трудным устьем входа. Ничего похожего на сложную систему закрытия, какая существует в царских гробницах, здесь нет. Изучая вход гробницы Судей, некоторые приходили к заключению, что она затворялась изнутри. Странное предположение; но к нему дают повод ямины по бокам внутренней части входного устья, как будто служившие для удержания внутренних дверных засовов. Вероятно это – прибавление позднейшего времени, когда в гробницах судей жили отшельники.
Войдя в дверь гробниц, видят себя в погребальной камере А, 20 футов длины и ширины на 8 высоты, пол которой, покрытый нанесенным тысячелетиями в гробницы песком, на один фут ниже вестибюля и порога входа. Устройство этой камеры, как и всей вообще гробницы, поражает разнообразием в подробностях плана. Сторона камеры А, влево от входа, т. е. северная, имеет единственное во всем Иерусалиме двух ярусное расположение своих loculi, очень малых сравнительно с loculi царских гробниц; в них могли положить только тело, обвернутое в саван, но не саркофаг. (Некоторым путешественникам эти loculi, по своей малости, на поминали римские колумбарии). Нижний ярус, идущий на самом уровне пола, состоит из семи четырехугольных loculi в одинаковом один от другого расстояния. Верхний ярус на высоте 4 футов от пола имеет шесть loculi, несколько больших по облому, чем нижние и слегка закругляющихся вверху. Впрочем, верхнее закругление loculi скрывается четырехугольным пазом, обрамляющим каждый loculus, так что издали loculi верхнего яруса кажутся такими же четырехугольниками, как и нижние. Верхние loculi разделены на три группы, каждая под особой слегка закругленной аркой, не похожею на сегментарные арки царских гробниц. Как бы для контраста северной стороне, истыканной отверстиями loculi, противоположная ей южная сторона камеры А, имеет только одно отверстие в виде устья двери, приводящей во вторую камеру гробниц В, около 7 футов длины и ширины и среднего человеческого роста высоты. Каждая из трех сторон камеры, за исключением входной, имеет по три loculi, подобных loculi нижнего яруса камеры А и идущих на самом уровне пола. Видно, что и здесь рассчитывали добавить впоследствии верхний ряд loculi. Восточная сторона первой камеры А имеет также только одну дверь, стоящую на оси двери от вестибюля и приводящую в камеру С, по величине равную камере В, но совершенно законченную, т. е. имеющую полных два яруса loculi, по три в каждой стороне нижнего яруса и по четыре в каждой стороне верхнего яруса, так что, войдя в камеру, видите себя окруженным со всех сторон целыми роями гробничных отверстий. Наконец западная сторона камеры А, т. е. входная от вестибюля, влево от двери в вестибюль и на уровне, соответствующем верхнему ярусу loculi, имеет один неотделанный loculus с двумя малыми нишами внутри, нисколько, впрочем, не напоминающими сокровищниц царских гробниц.

Рисунок 37. Верхний ярус верхнего отделения

Рисунок 38. Нижний ярус верхнего отделения
На крайних точках диагонали четырехугольника той же камеры А, по диагонали идущей от северо-восточного угла до юго-западного, есть два спуска в нижнее отделение гробниц. Спуск северо-восточного угла состоит из пяти ступеней, за которыми следует площадка или антишамбр нижнего отделения камер; отсюда глубоким уступом и чрез низкую дверь сходят в малую погребальную камеру D, с едва заметным выгибом свода и тремя loculi, одним в южной стороне камеры, другим в северной, третьим в стороне западной входной, параллельно упомянутой площадке. Loculus в южной стороне камеры имеет ту особенность, что во второй своей половине он расширяется и представляет подобие сокровищницы.

Рисунок 39. Нижнее северо-восточное отделение
Восточная сторона камеры D, имеет новый в одну глубокую ступень спуск в красиво обделанную камеру E 14 футов в квадрате; в каждой стороне камеры иссечена арка, объединяющая под собою loculi, которых под аркою южной и северной стороны по четыре, а под аркою восточной стороны против входа в камеру пять; последние имеют неправильное расположение, состоящее в том, что только три средние loculi иссечены на обыкновенном месте, а два боковые перпендикулярно к ним в самой раме арки, причем один из loculi имеет странную форму с расширением в глубине. – Спуск юго-западного угла камеры А, подобно первому, ведет пятью ступенями сперва на небольшую площадку в антишамбр, а потом глубокою новою ступенью в нижнюю камеру F, 14 футов в квадрате, помещающуюся целиком под камерой А, с которой она имела сообщение чрез четырехугольное, заложенное впоследствии, отверстие.

Рисунок 40. Нижнее юго-западное отделение
Камера F обделана только вчерне, и иссечение loculi, 5 на северной и 5 на западной сторонах, только что начато. Какие-то особенные обстоятельства заставили прекратить обделку камеры на половине. В стенах, за исключением западной, видны везде не заглаженные грубые следы тех же рабочих инструментов, какие мы видели в каменоломнях; даже мелких осколков от иссечения камня не позаботились вынести из камеры, так что мы застаем здесь, так, сказать, самый ход работ в гробничных камерах. Судя по состоянию камеры F, к иссечению loculi приступали после того, как камера была готова вчерне и loculi иссекались одновременно все; по крайней мере все 10 loculi камеры F доведены до одинаковой глубины.

Рисунок 41. Разрез верхних и нижних отделений гробницы судей
Таково устройство гробницы судей. Всех камер 6. Всех loculi 60, a co включением начатых 10 в камере Г, 70. Несогласие гидов касательно ярусов гробниц (которых одни насчитывают два, другие – три) объясняются тем, что одни гиды имели в виду ряды loculi, а другие ряды камер. Считая ряды loculi гробницы судей, получаем три яруса, два в верхнем отделении камер, и один в нижнем считая камеры, получим два яруса, верхний т. е. камеры А, В, С и нижний камеры D, Е, F.
В 1834 году доктор Рёзер находил, что пред вестибюлем гробницы судей существовали некогда ещё особенные пристройки из тесанного камня, на что указывали уцелевшие в стене вестибюля сводные камни с цементом. В настоящее время нет никакого следа этих пристроек, не имевших, конечно, связи с гробницами по времени происхождения. Кроме того, по рассказам прежних путешественников, в местности гробниц Судей было много цистерн и источников, больших рощей и виноградных садов, не прерывавшихся отсюда до царских гробниц. В настоящее время вполне сохранилась одна цистерна вблизи гробниц судей, а от садов и рощ осталось только несколько тощих маслин.
Какому времени принадлежат гробницы судей? В своей новейшей истории, эти гробницы были менее счастливы, чем гробницы царей и доселе не имели еще исследователя, который посвятил бы себя такому же специальному их обследованию, как специально обследовал Сольси гробницы царей, так что положительных данных для определения эпохи гробниц судей доселе не найдено. Все, что можно сказать о них, это сличить их с другими, более определенно известными, монументами востока. Фронтон гробницы судей, кроме ближайшего сходства с другой иерусалимской гробницей, известной под именем Иосафата, имеет, по общему признанию путешественников, заметное сходство с орнаментами на памятниках Ниневии и с катакомбами Бени-Гассан в Египте. С первыми он сходен в устройстве тумб по углам порталов, хотя, вместо ассирийских фигур (обыкновенно головы льва или лошади), тумбы гробницы судей имеют фигуры пальмы – этого символа иудейской нации. К порталу Бени-Гассан гробницы судей приближаются в остальных потребностях вестибюля; особенно линии четырехугольных зубчиков кругом поля фронтисписа и форма входной двери совершенно тожественны с дверью и орнаментами фронта в гробницах Бени-Гассан. Таким образом мы имеем в памятнике судей произведение архитектурной школы в Иерусалиме, соединявшей элементы ассирийского и египетского искусства под влиянием еврейского духа и вкуса. Из самой формы гробниц можно вывести следующее. 1) При всем разнообразии в устройстве гробничных камер, нельзя не замечать здесь преобладание геометрических фигур из прямых линий. Кроме квадратной формы всех камер, loculi имеют здесь четырехугольные отверстия; там, где они несколько закруглены сверху, обрамляющий отверстие паз скрывает полукруг, делая его вписанным в четырехугольник. Поле двух фронтонов представляет равнобедренные треугольники с широким основанием. Спуски в нижние отделение стоят диагонально один к другому. 2) Группы loculi представляют все числа от одного до семи. Камера D имеет в каждой стороне по одному loculus. В верхнем ряду камеры А loculi расположены в группы по две. Групп из трех loculi наиболее, так как число три было более других священно у древних28. Выдаются также и группы четырех loculi. Группы пяти можно видеть в начатых loculi камеры F. Верхний ряд loculi в камере А дает общее число шесть, а нижний – семь. Больше этого свящ. числа нет loculi в отдельных стенах. Общее число всех loculi есть самое священное историческое число 70. – Во всех этих геометрических и арифметических элементах плана гробницы судей также видно влияние Ассирии и особенно Египта, равно как и в обнаруженном строителем искусстве свободно ходить под землею без компаса.
С другой стороны гробницы судей рассчитаны на то, чтобы дать по возможности больше отдельных мест. Отсюда следует, что, в сравнении с просторными царскими гробницами, это были гробницы второстепенных и третьестепенных лиц в государстве. Тоже подтверждается и отсутствием сокровищниц и менее тщательною чем в царских гробницах обделкою как целых камер, так и отдельных loculi, хотя, подобно царским гробницам и египетским пирамидам, и храмам, гробницы судей были делом не одного поколения, а нарастали чрез постепенное и продолжительное углубление в почву. Верхние камеры была уже наполнены почившими, когда шла работа нижних камер. Сын, особенно уважавший отца, желая лечь ближе к нему, иссекает гробницу в дверной притолоке или на месте, которое должно было остаться нетронутым по общему плану камер. Гробница судей именно должна была быть семейною гробницею последовательных генераций какой-то важной фамилии. Считать её общественной гробницею каких-либо народных правителей нельзя потому уже, что у древних евреев родственные связи были сильнее всех других, и только сын мог быть стражем и хранителем праха отцов. Если могли существовать общие гробницы царей, то потому только, что царская власть была наследственной. Таким образом не может иметь никакого значения мнение Кварезмия, который приписывает рассматриваемую нами гробницу древним судьям (шофетам) израильским, принадлежавшим различным фамилиям и даже коленам (не говоря уже о том, что классический монумент гробницы судей не мог произойти в период до Соломона) и другое распространенное в настоящее время мнение, относящее эти гробницы к 70 членам синедриона (основывающееся отчасти на соответствии в числе 70 членов синедриона и 70 loculi гробницы), тем более, что число членов Синедриона, погребенных в Иерусалиме было гораздо больше 70. Если гробницы судей принадлежали лицам одного ранга или должности, то только первосвященникам или вообще правителям, удерживавшим власть за собой наследственно. По моему мнению, заслуживает внимания нынешнее арабское название этих гробниц Кбур-ель-Кодга, что не точно переводят через «гробницы судей». Кодга множественное число от единственного Кади – имя духовного лица председательствующего в мекгеме и объявляющего народу судебные приговоры. Так как значение Кади в нынешних судах соответствует председательскому значению первосвященника в древнееврейских судах, то можно заключать, что в нынешнем названии гробниц Кбур-ель-Кодга предание воспоминает первосвященников, соорудивших эти гробницы для своего дома. В таком деле, трудно допустить, чтобы так высоко поставленные в обществе фамилии первосвященников не оставили по себе гробниц с монументальным значением. Если в настоящее время указывают имамы в мечети ель-Акса гробницы сынов Аарона, то это указание столько же основательно, сколько основательны мусульманские сказание о гробнице Давида на Сионе, о гробнице Моисея недалеко от Иерусалима и др., т. е. не заслуживает ни малейшего внимания, как я уже говорил в статье о хараме. Между тем есть некоторое положительное доказательство происхождение гробниц судей от первосвященников. Полагают, что треугольник фронтисписа есть символ первосвященнического достоинства. По крайней мере несомненно то, что гробница первосвященника Анны имеет треугольный фронтиспис, представляющий вид первосвященнического кидара. – Таким образом, мы будем иметь в Иерусалиме, между главнейшими, монументами, гробницы царей, первосвященников и пророков (о последних речь будет ниже), как уже у Иерем. (Иер.8:1) эти три гробницы ставятся рядом как важнейшие. Рядом с гробницами царей ставит рассматриваемые нами гробницы и новейшее еврейское предание, соединенное с особенным к ним уважением. Главным образом уважаются у местных евреев камеры в гробницах судей; здесь часто можно найти евреев пилигримов молящихся и плачущих пред устьями loculi.
Как бы то ни было, но в гробницах судей мы имеем памятник древнееврейского допленного периода, воздвигавшийся отчасти современно гробницам царей, а из меньших памятников гробнице Иосафата, о которой мы будем говорить ниже. Порталы гробниц судей и гробницы Иосафата вероятно принадлежат одному и тому же художнику, но другому, чем портал гробниц царей. Если Прокеш (101) считает сооружение гробниц судей гораздо более древним, чем сооружение гробниц царей, то на это нет основания. Ещё менее имеет основания мнение графа де-Вогюэ, выразившегося о гробнице судей: «она имеет такое же право называться еврейскою, как гробница Сципиона имеет право называться римской»; та и другая, по Вогюэ одинаково принадлежат греческому искусству. Но сам Вогюэ сознается далее, что фронтиспис гробницы судей есть дело туземное восточное, и к греческому искусству не имеет отношения. После этого, что же остается в гробнице судей для греческого искусства, если фронт, лицевая сторона монумента, так сказать вывеска всего его характера, принадлежит евреям? Ужели loculi принадлежат грекам? Кстати заметить здесь, что, по новой системе Вогюэ, не только гробницы судей, но и гробницы царей принадлежат периоду греческого влияния на еврейское искусство, т. е. первому пли второму веку пред Р. Хр. Но эта новая система, не смотря на авторитет её виновника и её блестящее развитие, не имеет под собою твердой почвы. Взявши исходным пунктом, для рассмотрение иерусалимских памятников, классический остаток дворца Гиркана, Вогюэ произвольно группирует около него все известные иерусалимские памятники, сосредоточивая в периоде Ирода и второго храма, как в фокусе, всю силу народного еврейского гения, проснувшегося на короткое время после многовекового сна, под волшебным жезлом Ирода, чтобы со смертью этого волшебника снова заснуть на веки.
Третье по важности место между гробницами северного некрополя занимают гробницы, известные под именем Siaret-el-Iehudi, «место посещения евреев», или иначе «цадик Симон», «гробницы Симона праведного», лежащие в «поле царских гробниц», около 100 шагов на север от последних. Здесь собственно три соседних между собою гробницы. Первая из них, ближайшая от наблусской дороги, не имеет определенного имени, но по своему объему замечательнее всех остальных. Гробница открывается просторным вестибюлем, иссеченным в скале, по углам имевшим две ныне поврежденные пилястры и посредине колонну, поддерживавшую скалистый свод вестибюля. И здесь, как в гробницах царских, вход из вестибюля в камеры был замаскирован; но он обделан грубее, а от камней, закрывавших вход, нет никаких следов. Войдя в устье входа, видите себя в камере А, довольно просторной зале, служившей преддверием гробничных камер и назначавшейся для молитв, обрядов и оплакиваний умерших. Каждая сторона залы A имеет двери в отдельные камеры. Сторона западная против входа из вестибюля и на одной оси со входом, имеет четырехугольную дверь, обрамленную полукруглым пазом, приводящую в небольшую квадратную камеру В, кругом которой идут скамьи, как в царских гробницах; над скамьями со всех сторон, за исключением входной, иссечены арки, под которыми, довольно высоко от пола, сделаны параллельные стене ложа для саркофагов. В таком виде камера В очень похожа на те трехместные центральные отделения, какие мы видели в гробницах царей (кам. А). Но здесь есть еще прибавление, несуществующее в царских гробницах: при каждой из лож есть еще отдельный loculus, – что составляет оригинальную особенность, не известную в других гробницах. Южная сторона камеры А имеет также одну дверь, приводящую в камеру С, подобную камере В, с тем различием, что здесь только две арки и под ними два loculi. Дверь в северной стороне камеры А приводит в камеру D, по величине уступающую предшествующим с двумя ложами без loculi. Камера D, представляющая северную параллель камере А и вестибюлю, открывает новую ось целой анфилады новых камер. Западным продолжением этой амфилады служит камера Е, с тремя ложами и под ними тремя loculi, отличающаяся тем, что вход в нее не на горизонтальной линии с другими камерами, а идет в виде спуска, подобно нижним отделением царских гробниц. Восточное продолжение амфилады представляет проходная камера F с двумя ложами без loculi, потом камера G без loculi и лож, служащая антишамбром для трех совершенно одинаковых камер H, I, K, из которых каждая с тремя ложами; одна из камер (I), приходящаяся под вестибюлем, в настоящее время засыпана землею. – В вестибюле и в камерах есть треугольные ниши для ламп, как и в царских гробницах, и вероятно устроены по образцу последних. Вообще эта, несправедливо забытая исследователями, гробница имеет много общего с царскими гробницами: тоже господство сегментарных арок, тоже устройство двери, те же треугольники для ламп и проч. Грунт, обнимающий гробницы – очень мягкий маляки, вследствие чего стены во многих местах испорчены пробивающейся сверху водой.

Рисунок 42. Гробница Осии
Хотя описанная гробница не имеет имени, но, как показывает сходство её с царскими гробницами, строителем её был кто-либо из царей, следовательно, из тех, которые не могли получить места в общих царских гробницах. Ближе всего здесь можно вспомнить Осию, который, после поражения неизлечимою проказой, как нечистый, должен был оставить начатое им приготовление своего ложа в общих царских гробницах и строить новую гробницу в соседнем поле. Если Флавий (Древн. IX, 10, 4) говорит, что Осия имел одинокую гробницу в своих садах, где он, оставив сыну государственное управление, провел в уединении последние годы жизни; то это не противоречит местности описанных гробниц и доселе еще богатой маслинами, а в прежнее время тщательно возделываемой, как это показывают огромные цистерны поблизости, может быть ископанные тем же Осиею (2Хр. 26, 10 – 2Пар.26:10). Во всяком случае для садов с гробницей Осии трудно найти более соответственное место «в поле царских гробниц». Их нельзя предположить по ту сторону царских гробниц ближе к городу, потому что там уединение больного царя было бы постоянно нарушаемо близостью города и соседних общественных садов и гульбищ. Но кому бы ни принадлежала рассмотренная гробница, она явилась в своем нынешнем виде не в одно время. Камеры F, G, Н, I, К, не имеющие loculi, принадлежат совершенно другому периоду, чем первые камеры.
В 30 шагах на восток от описанной гробницы, которую пусть позволит читатель называть гробницей Осии, есть другой вестибюль, заделанный в настоящее время каменной стеной с железной дверью. Эта дверь скрывает за собой от случайных осквернений драгоценную для нынешних евреев гробницу Симона праведного. Вестибюль ее не имеет никаких орнаментов за исключением целого ряда ниш. Самые гробницы состоят из трех камер одинаковой величины (которую можно назвать средней в иерусалимских гробницах), следующих одна за другой на одной оси и двух боковых, отделяющихся от второй камеры. Гробница Симона в позднейшее время была обращена в цистерну, и доселе ещё виден идущий от вестибюля по восточной стороне первой и второй камер желобок для стока дождевой воды в третью камеру прямой оси, служившую резервуаром. Тоблеру заметно не понравилась гробница Симона, в которой он нашел грубое исполнение и ничего достойного похвал, расточаемых ей Сеппом29. Но кажущаяся грубость отделки внутренней стороны гробницы Симона, также как гробницы Осии, зависела от не совсем удачно выбранного грунта. Наружный же вид высоко поднимающейся над вестибюлем, гладко и ровно обделанной скалы гробницы, отделающейся выступом от остального бокового грунта, даже очень величествен. – В вопросе о происхождении этой гробницы предание нынешних евреев обнаруживает такую настойчивую определенность, наследованную от предшествующих веков, что было бы совестно высказывать здесь какие-либо сомнения. Каждую пятницу и накануне всех праздников и новолуний иерус. евреи собираются сюда для молитвы и входят в гробницы не иначе, как предварительно омывши в цистерне лице и руки. Матери приносят сюда детей, первый раз стригут им здесь волосы и, смотря по весу волос, раздают такую или другую милостыню бедным. Но особенное торжество бывает здесь в 23-й день после Пасхи, день памяти Симона праведного. Сюда выходит все еврейское население города с музыкой и песнями и проводит день около гробницы под тенью маслин в благочестивых разговорах. Пилигримы, приходящие сюда, обыкновенно расписываются на стенах гробницы великого основателя новой синагоги, современника великого Александра. Очень вероятно, что, вместе с Симоном, здесь погребены некоторые из ближайших учеников его.
Шагов 30 далее на восток от гробницы Симона встречаем третий вестибюль с только что начатой камерой. Судя по началу, гробница должна была быть очень богатой и красивой. Пространство, отделяющее эту неоконченную гробницу от Симоновой и Симонову от Осиной было некогда расчищено и представляло большую площадь, средоточием которой была гробница Симона. – На север от группы этих гробниц, на прилегающей возвышенности, разбросано еще несколько безымянных гробниц грубой отделки, то с ложами, то с loculi. Еще далее на север в версте от Иерусалима под деревней Шуафат есть мало известная, но интересная древнееврейская гробница с именем ель-Мессанэ, состоящая из вестибюля и погребальных камер с loculi (ныне обращенных в овчарни). Вестибюль был украшен колоннами, в настоящее время не существующими, пилястрами, одна из которых уцелела, фризом, приближающимся к дорическому и карнизом напоминающим Ионический. Стены вестибюля покрыты сетью простенков, скрывающих стену и характеризующих большую часть монументов века Августа (к которому веку кажется можно отнести этот памятник). Самая стена вестибюля не иссечена в живом грунте скалы, а сложена из тесаных камней больших и малых, расположенных симметрически таким образом, что на каждом длинном прямоугольнике нижнего ряда лежат два квадрата верхнего ряда, по длине равные прямоугольнику; в следующем ряду их снова покрывает длинный прямоугольник и т. д. (см. рисун. в введ.)
Последней из выдающихся гробниц широко раскинутого северного иерусалимского некрополя представляет безымянная гробница, у Сольси названная гробницей Елены. Она лежит на пути из Иерусалима к гробницам судей, несколько выше так называемых холмов пепла. Пред входом в гробницу иссечен небольшой двор, в настоящее время совершенно засоренный. Устье входа обрамлено красивым пазом и на верху имеет ныне разбитый орнамент фронтисписа. Внутренность гробницы состоит из двух камер, входной А, красиво иссеченной, со скамьей вдоль стен назначавшейся для посетителей и собственно гробничной камеры В, в которую ведет малая дверь в северо-западном углу камеры А. Положение камеры В на углу первой показывает, что строители имели в виду окружить входную залу рядом других гробничных камер, но по обстоятельствам их план не был приведен в исполнение.

Рисунок 43. Портал гробницы убитого
В позднейшее время эта гробница была обращена в цистерну, как показывает отверстие в потолке камеры В. Сольси считает это отверстие древним спуском в гробницу из «трех пирамид Елены», основание которых виделось ему на расчищенной площадке над камерами. О действительном происхождении этой гробницы свидетельствует надпись с правой стороны над входною дверью, к сожалению, так пострадавшая, что из двух строк её можно прочитать только два слова.

Рисунок 44. Надпись гробницы убитого
По транскрипции этой надписи получаем от первой строки המשכב הזה «гроб этот...», от второй строки שחט убит... Может быть надпись хотела сказать о каком-либо иерусалимском герое, павшем при защите отечества. Но важнее то, что в ней, вместо обыкновенного еврейского קבר «гробница», употреблено не встречающееся в еврейских надгробных надписях משכב «место лежания или покоя»; это выражение найдено только в финикийской надписи на гробнице Езмунацара, царя сидонского, (открытой в Сидоне 19 января 1855 года). По шрифту надпись однородна со всеми надписями, находимыми в Иерусалиме, т. е. представляет переход от финикийского шрифта к квадратному, и не могла явиться на иерусалимском памятнике позже императора Адриана.
Несколько ближе к городу от «гробницы убитого» (для отличия мы принимаем это название из надписи) по той же дороге от горы Самуила, новый ряд древних гробниц. Из них ближайшая к дороге состоит из грубо иссеченного вестибюля и трех камер, обращенных впоследствии в цистерны и плохо сохранившихся. Одна из камер имеет окно, соединяющее ее с вестибюлем и конечно сделанное в позднейшее время. На северо-восток от этой гробницы шла целая система гробниц вероятно современных между собою, но почти исчезших. В последнее время здесь брали камень для города и, пользуясь тем, что скала при гробницах была уже обделана, выбирали постепенно стены вестибюлей и гробничных камер, так что от многих гробниц остались только следы отдельных loculi. Еще далее на северо-восток отсюда встречается одинокая полузасыпанная гробница с вестибюлем и двумя камерами, полными ящериц, и много других частию вскрытых, частию еще закрытых и ожидающих любопытных европейцев, гробниц рассеяно по пространству северного некрополя в бледных выступах невысоких скал среди бледных масличных рощ. К несчастию иерусалимские каменщики, добывающие материал исключительно в этой местности доселе и не имеющие над собою никакого контроля, постепенно продолжают сносить один за другим эти памятники, соблазняясь тем, что грунт выбранный для древней гробницы всегда высшего достоинства и не требует новой поверки прочности материала. Будем надеяться, что общество иерусалимских евреев, воздвигающее в настоящее время новую богадельню на север от русских построек, среди древнего северного некрополя, будет иметь ближайший надзор над древними памятниками этой местности.
* * *
II. Некрополь восточный
Некрополь восточный или кедронский занимал ущелье кедронского потока и обращенный к Иерусалиму склон горы Елеонской и горы Соблазна. Гробницы этого некрополя представляют две категории: α) категорию открытых монолитов и β) категорию катакомб. К первым принадлежат: Силоамский монолит, гробница Захарии и Авессалома; к вторым: гробницы пророков, гробницы Иакова, Иосафата, Богоматери и другие.
Силоамский монолит, самый древний между иерусалимскими монолитами, лежит при входе в силоамскую деревню с северной стороны, и напоминает собою прислонившийся к скале небольшой восточный дом с плоской крышей. Четырехугольник монолита отделен от скалы с южной, западной и северной стороны, но на стороне восточной сливается с скалой. Вполне же отделанной можно назвать только западную стену монолита, имеющую вход во внутренность памятника. Входное устье представляет удлиненный четырехугольник, с двумя квадратными выемками, иссеченными по углам. Легко можно заметить, что этот вход некогда был гораздо ниже и увеличен уже впоследствии. При этом увеличении погибла древняя надпись, бывшая над прежним низким входом: остались только верхние концы нескольких букв древнееврейского или финикийского шрифта. Над дверью проведен египетской формы карниз и широкий пояс, обрамляющий верхнюю площадку или плоскую крышу монолита. Вот точнейшие измерение фасада монолита по Сольси: высота двери 1 метр, 50 сантиметров; широта двери 70 сант.; от двери до карниза 50 сант.; широта карниза 20 сент.: от карниза до верхнего пояса 40 сант., высота пояса 28 сант.; длина крыши от фронта до скалы 6 метров, 23 сент.; широта крыши 5 м. 16 сант. Выступ карниза из отвеса стены 12 сант.; выступ верхнего пояса 26 сант. – Внутренняя часть памятника не менее проста. Чрез устье двери в 30 сантим. толщины входят сперва в узкий четырехугольный вестибюль 92 сант. длины, потом чрез малую низкую дверь в камеру, иссеченную в живом грунте и представляющую квадрат 2 м. 43 сант. В стенах восточной и северной, около 80 сант. над полом, иссечены две небольшие ниши неизвестного назначения. И только. Никаких следов гробничных лож или loculi.
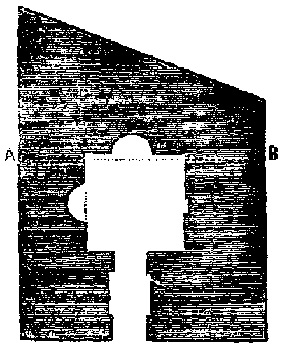
Рисунок 45. План Силоамского монолита

Рисунок 46. Разрез по линии А и В.
Здесь прежде всего представляется вопрос: был ли монолит гробницей или каким-либо другим памятником? Сольси находил, что это был храм, построенный по египетскому образцу и египетскому божеству супругой Соломона, египтянкой, не желавшей расстаться в Иерусалиме с культом своей матери. Для такого мнения Сольси приводит только одно основание, что «гробница не могла бы иметь места в царском саду Соломона». Но кто не знает, что именно в садах и устраивались у древних гробницы людьми состоятельными. Если же предположить, что это была царская гробница, то ничто не мешало ей стоять и «среди царского сада», хотя это выражение будет не точно, потому что до силоамского монолита сад не мог достигать, а шел, как и теперь частью идет, ниже и южнее. Кроме того, будучи достаточно обделан для гробницы, монолит слишком прост для храма, особенно для монументального храма египетской царицы, и совершенно уединен по своему положению, как памятник мало или почти непосещаемый; обращенный фронтом к обрыву, монолит доступен только с задней стороны от силоамской деревни. Но что монолит носит на себе египетский характер, против этого нельзя спорить. Его наружная отделка так сходна с обделкой египетских гробниц и храмов, что, имея пред глазами один силоамский монолит, можно вообразить себя в стране фараонов. С этим согласно и арабское предание, называющее этот памятник «гробницей египетской царицы», а долину, в которую смотрит памятник, «долиною фараона» – вади фараун. Недавно открыт Боттою один ниневийский памятник в Корзабаде так поразительно сходный с силоамским памятником, что в строителях их нельзя не видеть учеников одной школы египетского искусства в передней Азии. Если же происхождение Корзабадского памятника исследователями отнесено за семь веков до Р. Хр.; то к этому же времени мог принадлежать и монолит силоамский, или даже к еще более раннему, потому что влияние египетского строительного искусства на Ниневию шло чрез Иудею. Некоторый намек на древность монолита можно видеть и в нынешнем сказании иерусалимских евреев, что памятник принадлежал пророку Обадии, хотя это имя выбрано здесь весьма неудачно, потому что бл. Иероним (Коммент, на Авд. 1) видел гробницу этого пророка в Севастии, вместе с мавзолеем пророка Елисея. В V и VI веках христианства в этой гробнице, как и в других иерусалимских гротах, жили отшельники; они расширили вход и стерли надпись гробницы; ниши в восточной и северной стенах служили вероятно престолом и жертвенником домашней церкви. В настоящее время силоамский монолит перешел в собственность Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, по стараниям о. начальника миссии, архимандрита Антонина. Ставши русским, памятник вступил в новую фазу своего векового существования. Из заброшенного, неопрятного силоамского амбара (какую роль монолит исполнял еще с прошедшего века) памятник стал чистым, опрятным, огороженным стеной и как будто приготовленным для священнодействия святилищем. Самые феллахи силоамские, считавшие памятник своей собственностью и не раз оскорблявшие заходивших к нему путешественников, совершенно укротились. Узнавши в путешественнике русского, они даже предупредительно укажут дорогу к памятнику и расскажут историю обращения памятника в русскую собственность, которую историю легко понять по часто повторяющимся словам: москов. архимандрит... Кстати заметить, что после покупки памятника Русской Миссией, общество иерусалимских евреев заявило протест, что это священная собственность их отцов, гробница пророка Обадии, и не могла быть продаваема. Но уважительное отношение к памятнику со стороны новых владетелей скоро переменило неудовольствие евреев в совершенную признательность.
Гробница Захарии лежит на север от силоамского памятника в Иосафатовой долине и у арабов известна под именем Qobr zudjet Faraun – «гробница жены фараона». Подобно силоамскому памятнику, гробница Захарии представляет иссеченный из скалы четырехугольник 5½ метров длины и ширины в основании. Но она отличается от первого тем, что отрезана от скалы со всех сторон, так что между скалой и памятником со всех сторон образовался широкий разделяющий проход, заполненный новейшими гробами евреев, считающих великим счастием быть погребенными в соседстве гробницы великого праведника. Впрочем, и в памятнике Захарии главное внимание строителя очевидно обращала только западная сторона, одна обделанная надлежащим образом, тогда как другие стороны обделаны только вчерне. Второе внешнее отличие памятника Захарии от силоамского состоит в том, что, вместо плоской крыши, он имеет пирамидальную вершину (единственное основание арабского названия гробницы именем жены фараона), представляющую одно целое с корпусом памятника и в подобной форме нередко встречающуюся в памятниках передней Азии: такую вершину имеет известный гермельский памятник на Антиливане, упоминаемый Павзанием, памятник между Аргосом и Тиринтом, надгробный памятник лернский вблизи Епидавры и друг. Но самое главное отличие памятника Захарии как от Силоамского, так и от всех вообще иерусалимских памятников то, что он не имеет входа в гробничные камеры; по крайней мере доселе этот вход не найден. Великий праведник должен был почить под этой пирамидой, если его гроб остался неприкосновенным, в то время, когда, все другие иерусалимские гробницы были вскрыты и опустошены. Были попытки раскопок вокруг памятника со стороны многих искателей древних сокровищ; но никакого намека на дверь или спуск не оказалось. В своей загадочной неприступности гробница Захарии опять напоминает упомянутый сейчас гермельский памятник на Антиливане, выдержавший сильные пробы, глубоко израненный молотами туземцев и европейцев, но не открывший хранящегося под его тенью саркофага. Может быть гермельский памятник, одиноко стоящий среди дикой пустыни и сам собой выражающий определенную идею расписанными на его стенах сценами из охотничьей жизни, и не имеет под собой гробницы; но памятник Захарии, стоящий среди некрополя и не выражающий никакой особенной идеи, без саркофага не имел бы смысла. Открытие этой гробницы будет торжеством для Иерусалима и конечно внесет новую страницу в иерусалимскую историю и археологию.

Рисунок 47. Гробница Захарии
В архитектурном отношении памятник Захарии богаче силоамского орнаментами. Каждая сторона его имеет две суживающиеся кверху колонны, две полуколонны и по углам две пилястры. Как колонны и полуколонны, так и расстояние между ними не имеют математической соразмерности в измерениях. Пилястра на левом углу обращенной к городу стороны памятника имеет 56 сантим. ширины; приставленная к ней полуколонна 30 сант.; на правом углу той же стороны пилястра имеет 54 сент., а её полуколонна 28 сант.; колонны имеют одна 56 сант. в диаметре, другая 58; расстояние между колоннами и полуколоннами равняется 93, 94, 88 сент. Три другие стороны имеют ещё менее правильности в расположении своих украшений. Капители колонн и полуколонн приближаются к ионическим и имеют над собой линию выемок, похожих на небольшие ниши, встречающиеся часто на колоннах малой Азии. Капители пилястр гладки с орнаментом чаш внизу. Обделка капителей закончена только в западной стене монолита; во всех других стенах капители не закончены. Над капителями идет простая гладкая архитрава, затем египетский карниз 30 сант. Высоты и пояс. – Вид памятника производит впечатление глубокой древности; один поэт путешественник назвал его «старцем, съёжившимся от бремени лет». Египетский карниз и верхняя пирамида покрылись мхом. Землетрясение откололо весь северо-восточный угол, причем трещина пришлась по одной из колонн северной стороны; впрочем, отколотый кусок еще держится на месте. Скала, окружающая монолит, возвышается отвесными стенами и заслоняет его со всех сторон, за исключением западной. В южной стене скалы видны ниши для ламп.
Трудно сказать что-либо решительное о времени происхождения памятника Захарии. Предания, касающиеся его, так разнообразны, что только сбивают с толку исследователей. В IV веке было предание, передаваемое пилигримом 333 года, что монолит Захарии есть гробница Исайи. Беньямин Тудельский передает предание, называющее его гробницей Осии. Арабское предание называет его гробницей жены фараона; а еврейское – гробницей первосвященника Захарии. Последнее предание принято большинством исследователей и считает памятник искупительною жертвой, вознесенной убийцами первосвященника для умиротворения невинно пролитой крови. Намек на существовавший в Иерусалиме памятник Захарии можно видеть в Мф.23:29–35, где говорится о сооружении фарисеями гробниц пророков и об «украшении памятников праведников»; между тем в числе этих праведников поименован у евангелиста из еврейской истории только Захария, сын Варахиин, убитый между храмом и жертвенником. Какого рода было упомянутое здесь «украшение памятника праведника», доселе еще можно видеть в некоторых местах стен монолита, особенно в закрытых от дождей углах, где уцелела древняя штукатурка огненно-красного цвета, покрывавшая некогда весь монолит. Таким образом памятник Захарии напоминал невинно пролитую кровь праведника самим своим цветом, который на иерусалимском солнце должен быть гореть необыкновенно ярко. В талмуде (Sanhedrin 96, 2. Gittin 57, 2) передастся поразительная агада о крови Захарии: «Небузарадан, пришедши в Иерусалим, увидел там кровь, которая кипела и не переставала. «Что это значит»? спросил он жителей Иерусалима. Те, стыдясь своего преступления, отвечали полководцу, что это кипит кровь жертв, закаляемых в храме. Небузарадан приказал сделать при себе опыт, но кровь заколотых при нем животных остается совершенно спокойной. Когда, после этого, Небузарадан с угрозами стал спрашивать о причине кипения крови, ему сказали, что это кровь одного священника и пророка, убитого за то, что он предсказывал разрушение Иерусалима. Тогда князь сказал: «я умиротворю эту кровь», и приказал привести к себе иерусалимских раввинов и избил их на камне в Кедронской долине; но кровь Захарии продолжала кипеть и волноваться. Небузарадан приказал привести из школ всех учеников раввинских, назначавшихся быть учителями народа и их избил на том же месте, так что число всех убитых было девяносто четыре раза десять тысяч, и кровь, пролитая в долине, дошла до крови Захарии, во исполнение слов Ос.4:2: «и кровь до крови достигнет»; но кровь Захарии продолжала кипеть и волноваться. Тогда Небузарадан подошел и сказал: «о Захария, Захария! Я убил ради тебя лучших между ними; хочешь ли ты, чтобы я убил всех»? В ответ на это кровь Захарии успокоилась, а удивленный Небузарадан принял Иудейство». Под кровью Захарии, до которой достигает здесь кровь убитых в кедронской долине, едва ли можно разуметь что-либо другое, кроме стоявшего над кедронской долиной и горевшего цветом крови памятника убитому первосвященнику Захарии, воздвигнутого иерусалимлянами на вечный укор себе и своему потомству. Мщение со стороны крови Захарии состояло в том, что все великие убийства, совершавшиеся в Иерусалиме его поработителями, имели место именно в кедронском потоке у подножия памятника Захарии, так что выражение: «кровь убитых дошла до крови Захарии» было очень удачной метафорой. Возможно, что и Небузарадан считал себя обязанным отомстить за кровь предсказателя его побед и падения Иерусалима и убийства, о которых говорит приведенная агада, были действительными убийствами. Что же касается кипения крови, то на востоке и доселе верят, что невинно пролитая кровь выжигает место, где она проливается и дымится до тех пор, пока не будет совершено отмщение. У иерусалимских евреев до позднейшего времени был обычай во время большой засухи совершать общественные молитвы о смягчении палящего солнечного огня у памятника Захарии. Не этот ли кровавого цвета памятник имел в виду и Тертуллиан, говоря о крови Захарии виденной им в Иерусалиме?
Есть еще другие мнения о времени происхождения монолита Захарии. Вогюэ, основываясь на ионических колоннах памятника, считает его между монументами последнего времени пред Р. Хр. Но, мы говорили в введении, что прототипы колонн греческих орденов существовали на востоке задолго до их появления в Греции. Кроме того, в рассматриваемом памятнике колонны, по всей вероятности, были сделаны впоследствии; первоначально же памятник Захарии имел только украшение силоамского монолита, т. е. на гладких стенах египетский карниз и над ним плоский пояс. Что здесь были позднейшие прибавления и притом прибавления довольно небрежные, это видно из того, что колонны задних сторон оставлены полуотделанными и требуют ещё новых работ по обделке памятника. Между тем трудно предположить, чтобы первоначальный художник, каким был строитель памятника, мог передать потомству свое произведение в такой небрежной и незаконченной отделке. Этот строитель, как видно из египетского карниза, древнейшего орнамента памятника, принадлежал к той же египетско-ассирийской архитектурной школе, что и строитель монолита силоамского. Если Вильямс выразился в своем исследовании, что памятник Захарии принадлежит ко времени предшествующему только императору Константину, то здесь же он приводит такие соображение, по которым памятник должен отойти в самую глубокую древность.
Около ста шагов на север от монумента Захарии стоит еще один весьма замечательный полумонолит, известный под именем памятника Авессалома. Своею нижнею частью и её отделкой он похож на памятник Захарии; подобно последнему, он иссечен в живой скале и с южной, восточной и северной сторон окружен погостом. И здесь, как в памятнике Захарии, каждая сторона четырехугольного корпуса монумента украшена двумя иссеченными коническими колоннами по средине и двумя пилястрами с премыкающими к ним двумя полуколоннами по углам. И капители колонн здесь такие же низкие, похожие на ранец, с ионическими завитками; только кордона из ямин или ниш здесь нет под капителями. Эта нижняя часть, или собственно корпус Авессаломова памятника, представляет куб 6 метров, 80 сант. высоты и ширины в каждой стороне, хотя в настоящее время заваленная камнями южная и восточная чисть погоста дают ей меньшую видимую высоту. Угловые пилястры имеют 557 миллиметров ширины, а колонны в диаметре 480 миллиметров и из отвеса стены выступают на 380 миллиметров. Среднее расстояние между отдельными колоннами 950 мил. Над ионическими капителями идет несуществующий в памятнике Захарии дорический фриз, украшенный 14 триглифами и 13 чашами в метопах между триглифами. Далее над фризом следует египетский карниз, совершенно подобный карнизу монолита Захарии. Но весь этот монолитный куб представляет только нижнюю часть монумента, служащую основанием второй, уже не монолитной, но сложенной из огромных тесаных камней и в размерах меньшей чем нижняя (именно 6 метров 33 сант. высоты и ширины в каждой стороне); небольшой карниз и гладкий гзымс служат единственными орнаментами этой второй части монумента. На второй части возвышается третья цилиндрическая часть, сложенная из малых гладких камней и имеющая диаметр равный ширине каждой из сторон второй части. Верхняя часть цилиндра имеет новый очень красивый, иссеченный из камня, карниз, представляющий вид слабо сплетенного каната. Наконец четвертая часть, венчающая памятник, представляет круглую покрышку с шпицеобразной верхушкою. Весь этот памятник издали очень похож на нашу небольшую деревенскую колокольню; нужно прибавить только крест на шпице, вместо резного пальмового венка, окружающего вершину и составляющего последнее внешнее украшение памятника, который имеет всего от основания до вершины 16 метр. 30 сант. высоты. Не большой, но свежий и красивый куст, выросший над карнизом второй части монумента и, как говорят старожилы, неизменяющий своего вида уже в течение многих лет и действительно фигурирующий на всех существующих рисунках и фотографиях памятника, дает приятную точку отдохновения для глаза.

Рисунок 48. Разрез памятника Авессалома

Рисунок 49. План памятника Авессалома
Если памятник Захарии доселе не обнажил своей внутренней части, то внутренность памятника Авессалома обнажена с незапамятного времени. Отверстие ведущие внутрь в настоящее время видны со всех четырех сторон памятника; но наиболее удобное и, как видно, первоначально назначенное для входа во внутреннее отделение памятника, есть отверстие южной стороны, имеющее 1 метр. 125 милл. высоты и 93 сантим. широты, так что пройти чрез него можно только на четвереньках. Внутренность монолита представляет небольшую, некогда тщательно обделанную четырехугольную камеру; в настоящее время стены её носят глубокие следы молотов, искавших скрытых в стенах сокровищниц. На плоско выглаженном потолке видны два концентрических круга – египетские символы вечности. В северной и западной стороне камеры сделаны большие арки и под ними ложи для саркофагов, в настоящее время сильно изуродованные. В восточной стене арка меньше и под нею небольшая полка вероятно для сокровищ. Под каждой из арок в настоящее время сделаны сквозные пробоины какой-то позднейшей наглой рукой. В юго-восточном углу камеры, иссеченная в монолитной стене памятника, лестница ведет в верхний неотделанный ярус, освещающийся двумя отверстиями; десятки ящериц, испуганных человеческим появлением, устремляются в отверстие. Вообще, как внутренний, так и внешний вид памятника Авессалома представляет тяжелую картину свежего опустошения и вместо надписей имен путешественников весь испещрен более или менее свежими царапинами от ударов камнями. Как известно, памятник Авессалома несет на себе проклятие, павшее на голову непокорного сына Давидова. Каждый проходящий мимо еврей или магометанин считает своею обязанностью поднять первый попавшийся камень и швырнуть им в безмолвные стены монумента. Это безумное обыкновение не лишне иметь в виду посетителю гробницы. Однажды мне случилось быть внутри памятника как целый рад увесистых камней посыпался на него сверху с Елеонской горы: караван магометанских пилигримов возвращался с горы Моисеевой и подведенный имамом к монументу, усердно заплатил свою дань обычаю. Ещё худшее рассказывали мне про одного англичанина, который, сидя в западном отверстии камеры, получил вдруг в затылок сильный удар камнем, заставивший неосторожного путешественника несколько недель носиться с раной. На допросе виновный отвечал: «я не надеялся, что благовоспитанный франк будет сидеть в гробнице человека проклявшего своего отца, и бросил камень по обычаю, стараясь даже не смотреть на памятник». По счастью, иерусалимские христиане не разделяют такого взгляда на памятник сына Давида.
Какому времени принадлежит памятник Авессалома? Большей частью относят его к эпохе Ирода великого, основываясь на присутствии между орнаментами памятника элементов классических орденов Греции: дорического ордера в конических колоннах и триглифах и ионического в капителях. Но, независимо от этих элементов, памятник имеет еще совершенно противоположные, именно египетский карниз и гзымс. Кроме того, как мы говорили уже, конические колонны и фризы с триглифами были известны на востоке с незапамятных времен. В Египте дорический орден может считаться туземным. Фриз с триглифами есть на памятнике времени Сезостриса в Абу-Симбел; такой же фриз украшает многие вавилонские алтари и проч. «Чем менее фриз стоит в соотношении с колоннами», говорит Браун, «тем сооружение древнее». Но в настоящем случае отношение капителей колонн и фриза есть именно отношение противоположности, еще более увеличиваемой прибавлением египетского карниза. Видел ли кто подобную смесь элементов в настоящем греческом монументе? Это могло быть делом только художников, не знавших греческих школ искусства и произведено под влиянием египетско-ассирийского искусства. На юг от древнего Карфагена есть два надгробных памятника, совершенно похожих на памятник Авессалома, состоящих также из нескольких ярусов и украшенных ионическими колоннами, хотя отношение к греческому искусству они вовсе не имеют. Другое возражение: против древности памятника основывают на том, что камни верхних частей его не имеют выпусков, отличающих вообще древнееврейские сооружение. Но и памятник царя Хирама в Тире, несомненно принадлежащий финикиянам, имеющим одну архитектурную систему с евреями, представляет только слабые выпуски, и то не на всех камнях. Дело объясняется тем, что, при кладке верхних частей монумента Авессалома, имели в виду подделываться под нижнюю монолитную часть и, следовательно, нарочито сглаживали линии, разделяющие отдельные камни, чтобы представить видимость цельной скалы. Но здесь имеет место еще особенное предположение, что только нижняя монолитная часть памятника принадлежит древнейшему периоду, а верхняя сложенная из тесаных камней прибавлена уже впоследствии. Как ни неприятно нам разлагать прекрасный монумент подобным образом, но мы должны это сделать в виду того, что в Иерусалиме нет памятника, который был бы одновременно и монолитным, и составным. И древний Египет разделял сооружение из тесаных камней и монолиты из цельного гранита. Ко времени прибавки верхних частей и башни относятся и выделка колонн на стенах нижней фундаментальной части. Кроме того, памятник имел особенные украшения еще более поздние, но ныне несуществующие, именно был обложен как внутри, так и совне, мраморными плитами, доказательством чего служат следы гвоздей на стенах; один гвоздь в потолке внутренней камеры, державший накладную плиту, доселе остался на месте. Присутствие особенной обшивки на памятнике подтверждает свидетельство Флавия, что памятник Авессалома был из мрамора, т. е. обложен мрамором. Но выше этих не вполне определенных архитектурных доказательств стоят ясные исторические свидетельства о памятнике Авессалома. Мы сейчас упомянули о свидетельстве Флавия. Это свидетельство (Древн. VII, 10, 3) читается так: «прежде своей смерти Авессалом воздвигнул себе в царской долине мраморный столп, в расстоянии двух стадий от Иерусалима, который и назвал монументом Авессалома, говоря: когда погибнет мое потомство, тогда по крайней мере в памятнике будет памятно имя мое». Не нужно забывать, что это свидетельство почти в таком же виде повторяется в 2Сам.18:18 (2Цар.18:18)30. Флавий прибавляет только замечание о его местоположении и его внешнем виде. «И называется памятник мавзолеем Авессалома даже до сего дня», заключает библейский писатель. Эти слова можно повторить и в настоящее время; даже до сего дня этот памятник называется именем Авессалома. Или наоборот: до сего дня называющийся в Иерусалиме именем Авессалома памятник есть тот самый монумент, который, по свид. кн. Самуила и Флавия, был построен Авессаломом. Прежде всего, если, как думают, указываемый ныне памятник не тот, о котором говорится в источниках, то какой из других иерусалимских памятников более соответствует этому имени? Не говорите, что памятник по давности мог бесследно исчезнуть, так что всякие искания его бесполезны. Почти все иерусалимские памятники, бывшие во время Иосифа Флавия, в неприкосновенной целости сохранились до настоящего времени, особенно такие монументальные памятники, каким был памятник Авессалома, долженствовавший, по собственным словам его строителя, обессмертить имя сына Давидова. Некоторые хотели думать, что место 2 кн. Самуила, говорящее о памятнике Авессалома, представляет позднейшую глоссу; но α) в контексте речи это место очень натурально: сказавши, что убитый в Ефремовым лесу Авессалом был брошен в глубокую яму, и над ним была наметана огромная куча камней, писатель продолжает: «а между тем Авессалом еще при жизни приготовил себе памятник...», β) если это место есть вставка, то во всяком случае она древнего происхождения, т. е. до заключения и издания канона, и притом передает отдаленное предание еврейской истории. Но, собственно говоря, для нас даже не нужно, чтобы это свидетельство было слишком древним, потому что, чем оно позднее, тем более вероятности о его соответствии с нынешним преданием. И для того, чтобы имели полное значение слова: «памятник называется именем Авессалома до сего дня», должно было пройти значительное время между ними и сооружением памятника. Далее, что касается Флавия, повторяющего библейское свидетельство о памятнике Авессалома с прибавлением топографического указания о его положении; то мы спросили бы здесь тех исследователей, которые относят происхождение рассматриваемого монумента ко времени Ирода Великого: мог ли Флавий, как ни не точен он бывает в своих показаниях, отнести ко времени Авессалома памятник недавний, сооружение которого было еще памятно многим из жителей Иерусалима? А что Флавий разумеет именно тот памятник, который и в настоящее время носит имя Авессалома, это как нельзя более видно из его описания. Памятник Авессалома по Флавию лежал «в царской долине». Но какая другая иерусалимская долина имеет право на название царской, если не та, в которой были царские сады и которая доселе называется именем царя Иосафата, т. е. если не долина, в которой стоит нынешний памятник Авессалома? Памятник по Флавию лежал «в двух стадиях от Иерусалима». Хотя по нынешней дороге от Гефсиманских городских ворот до памятника Авессалома будет 40 метрами больше двух стадий, но что Флавий, определявший пространство по одному глазомеру, имел в виду приблизительно этот пункт, видно из того, что вершину Елеонской горы, отстоящей на субботний путь от Иерусалима (Деян.1:12), Флавий определяет в пять стадий т. е., опять несколько меньше действительного расстояния, между тем памятник Авессалома лежит ближе, чем на половине пути от Иерусалима до вершины Елеона. Таким образом, определивши для себя не точно расстояние до вершины Елеона пятью стадиями, Флавий неизбежно сделал ошибку и в определении расстояния до Авессаломова памятника. Если Шварц число 2 стадий Флавия переменяет на 200 и «царскую долину» памятника Авессалома превращает в Иорданскую долину, где погиб Авессалом; то это произвол, противный преданию. Хотя Авессалом умер далеко от Иерусалима, но, как говорит предание, Давид, глубоко скорбевший о смерти сына, перенес его труп в нынешнюю гробницу Авессалома в Иерусалим. Это тем вероятнее, что гробница была устроена Авессаломом при жизни на память потомству, след. не в Иорданской пустыне, чтобы случайно погибший там Авессалом погиб именно у своей гробницы. Но, как мы уже сказали, первоначальный памятник Авессалома не был вполне тем, что он теперь, и Сепп обнаруживает большое увлечение, относя нынешний вид памятника до-Соломоновскому периоду. Сложность его сооружения допускает мысль о позднейших прибавлениех к первоначальной форме памятника. Первоначальным монументом Авессалома была нижняя монолитная часть, не отличавшаяся от силоамского монолита. В нынешнем же виде памятник Авессалома мог явиться пред самым временем вавилонского плена; по крайней мере после плена вавилонского нельзя указать времени для происхождения памятника, а период Ирода для этого слитком поздний. Что касается того могли ли Иудейские цари обратить внимание на памятник преступного Авессалома, чтобы заняться его исправлением и украшением, то нужно знать, что нынешнее презрение евреев к памяти Авессалома не было разделяемо их предками. В раввинских письменных памятниках Авессалом всегда уважается как сын Давида. В каббалистической книге thorath adam (97, 1. 2. 3) Авессалом хотя находится в преисподней, но его не смеют коснуться мучители, потому что он сын Давида. Кроме того, ниши для ламп, видные в скале против памятника Авессалома, показывают, что эта гробница пользовалась некогда теми же чествованиями, что и другие гробницы.
Есть еще особенные предания о монументе Авессалома. Пилигрим 333 года называет его гробницей Езекии; но это уединенное христианское сказание скоро было совершенно оттеснено древнееврейским. У нынешних арабов памятник Авессалома называется тантура-Фараун – шапка Фараона, что, с одной стороны взято из особенной формы памятника, а с другой указывает на иноземных строителей его, так как для древних жителей Палестины все иноземное было египетским или фараоновым, как для русского народа все иностранное было немецким.
Итак, три монолита Кедронского некрополя представляют три отдельных фазы в сооружении монументальных памятников древнего Иерусалима. Самую древнюю фазу представляет Силоамский монолит; её можно назвать египетской. Вторую фазу представляет гробница Захарии; судя по нынешнему виду памятника, ее можно назвать фазой египетско-ассирийской, с преобладанием египетских элементов над ассирийскими. Третью фазу представляет памятник Авессалома; судя по нынешнему виду памятника, эта фаза была ассирийско-египетской с преобладанием ассирийских элементов над египетскими. Если монолит Силоамский принадлежит времени Соломона, а гробница Захарии среднему времени в истории царей, то памятник Авессалома в нынешнем его виде может быть помещен в последнем времени пред вавилонским пленом, по крайней мере не ранее Ахаза, со времени которого по 2Цар.16:10–18 иерусалимские художники обращаются более к ассирийским образцам, вместо господствовавших прежде египетских.
Категорию катакомб восточного некрополя открывают гробницы пророков Кубур-ель-Анбиа, расположенные не доходя до вершины Елеонской горы прямо против юго-восточного угла харама. Два больших тутовых дерева почти единственных на всей Елеонской горе, указывают место гробниц пророков своею яркой зеленью, очень заметной между бледной зеленью Елеонских маслин. Довольно крутой натуральный спуск трех метров ширины чрез темное устье ведет в образованную самой природой ротонду А, не представляющую никакой искусственной обделки, за исключением большого отверстия, пробитого в скалистом своде ротонды. Предположение Сольси, что это отверстие было сделано впоследствии путешественниками для освещения гробниц, очень наивно; отверстие имеет смысл только в том случае, если оно сделано строителями подземелья, которому освещенная отверстием ротонда служит антишамбром. Ротонда или антишамбр имеет 7 метров в диаметре и 3 метра высоты и лежит в твердом пласте миззи, тогда как большая часть других иерусалимских гробниц лежат в низшем пласте маляки. Соответственно необыкновенному круглому преддверию гробниц пророков, самые гробницы имеют единственное и исключительное устройство. Представьте себе два диаметра, под прямым углом пересекающие ротонду, один от входа, т. е. с севера на юг, другой с востока на запад. В направлении этих диаметров идут от ротонды, как радиусы от центра, иссеченные в скале коридоры средней ширины 1 метр 60 сантим. и высоты 3 метров. Южный радиус имеет длины 9 метр, и по мере приближения к южному концу постепенно расширяется. Такую же длину имеет и западный радиус, но вход в него от ротонды в настоящее время засыпан. Радиус восточный несколько короче первых и открыт на всем протяжении. Как радиусы, эти коридоры чем дальше уходят от ротонды, тем более расходятся, между собой, так что крайние точки коридоров отстоят одна от другой на 25 метров. Эти крайние точки радиусов соединены между собою особыми коридорами, идущими в виде сегментов и образующими вместе правильный полукруг, описанный около антишамбра. В этой периферии, и именно в внешней стороне её, иссечены, почти в равном один от другого расстоянии и несколько ниже уровня коридора, 26 просторных loculi и между ними две камеры, одна прямо против южного радиуса 2 метр. 20 сант. ширины на 3 метр. 80 сант. длины с ложем и сокровищницей, другая на западной половине периферии 20 метр. 30 сант. длины и ширины с 5 loculi, по уровню выше пола периферии, так как встреченный здесь слой кремени помешал правильному устройству камеры на уровне первой и всех loculi. Внутри этой крайней периферии с камерами и loculi, радиусы коридоров пересекаются еще с одним полукругом без камер и loculi, причем между внутренним полукругом и внешним проведен еще один радиус, не достигающий впрочем до антишамбра. Таким образом, мы получаем два концентрических полукруга, описанных около ротонды вестибюля и соединенных с нею четырьмя радиусами. Полукруги и радиусы сделаны математически правильно, за исключением западного угла, где кремнистый грунт помешал правильности фигуры, вследствие чего полукруги вышли слитыми. К этому правильному древнему полукругу впоследствии имели в виду прибавить второй полукруг, чтобы образовать из памятника целый замкнутый круг.

Рисунок 50. Надпись в коридоре гробницы пророков
Прежде всего взялись продолжить восточную часть внутреннего полукруга, но, по искусству нового строителя, пошли рыть, вместо выгнутой, прямую линию; чтобы поправить ошибку начали снова работу в другом направлении ближе к центру круга, но опять неправильно; дойдя до места, где, по соображению с первой законченною частью, должна была быть верхняя северная точка круга, строитель хотел провести внешнюю орбиту для новой части полукруга; но, проведя линию на значительное пространство и не умея найти под землей внешней орбиты первого полукруга, с которой ему нужно было встретиться, бросил непосильную работу. Это позднейшее неумелое прибавление, при первом взгляде, легко отличить от древнейшего полукруга. – Коридоры гробницы пророков везде обложены хорошо сохранившимся цементом и пестреют именами путешественников, особенно еврейских. Между этими именами и надписями заслуживают внимание две надписи: еврейская и древнегреческая. Впрочем, гробницы пророков не пользуются у местных евреев таким уважением, какого следовало бы ожидать, судя по их имени и каким пользуются другие гробницы.

Рисунок 51. Гробницы пророков
Не много сказали доселе исследователи о происхождении и истории этого замечательного иерусалимского лабиринта. Лучшие из исследователей, Шульц, Крафт, Сольси свои выводы о лабиринте ограничивают тем, что отождествляют его с скалою περιστερεών (голубятнею), о которой говорит Флавий (Войн. V. 12, 2). «Тит, проводя вокруг Иерусалима линию осадных работ, направил их по склону Елеонской горы до скалы περιστερεών и соседнего с ней холма, возвышающегося над силоамской деревней». Перистереон, говорит Шульц, означает здесь гробницу со множеством ниш, напоминающих птичьи гнезда. «Для древних, прибавляет Мислин, гробовые келии были гнездами, откуда души, по распадении земной оболочки, под образом птицы вылетают в небесные пространства. «Действительно в латинском языке слово columbarium употреблялось о гробах с нишами для урн; но, я не знаю, употреблялось ли в этом смысле и греческое περιστερεών. Кроме того, к описанию осадных работ Тита гробницы пророков не могут иметь отношение. Какой смысл могло иметь указание на сокрытое, никому из римских солдат неизвестное подземелье, там, где требовалось выбрать видный пункт, с которым нужно было сообразоваться при работах? Да и зачем было инженерам Тита так высоко на Елеонскую гору поднимать линию осадных работ, чтобы потом спускаться до Силоама? Далее голубятня или скала (πέτρα) голубятни упоминается Флавием в позиции между Елеонской горой и холмом Силоамской деревни, – что совсем не применимо к гробницам пророков. Несколько ниже я покажу, что настоящая голубятня Флавия доныне существует среди Кедронского некрополя, недалеко от силоамского монолита. Но если даже справедливо, что Флавий в истории осады Иерусалима римлянами упоминает под именем голубятни нынешние гробницы пророков, то это свидетельство не представляет особенной важности, потому что и без него едва ли кому-либо придет в голову относить лабиринт ко времени после разрушения Иерусалима римлянами.
Определению происхождения гробниц Пророков может помочь только самый вид их и устройство. Среди других гробниц иерусалимских, гробницы пророков представляют совершенно оригинальное и притом тенденциозное сооружение, для которого напрасно искали бы мы модели в древнееврейской архитектуре. Никто не станет отвергать, что для евреев освященная законом и обычаем форма сооружений была четырехугольная; допускалась круглая арка, круглая колонна, но круглое здание, не имеющее измерений длины и ширины, в понятиях евреев считалось языческим образцом. Тоже самое нужно сказать и о гробницах, которые, как видно из приведенного выше законного определения об их устройстве, должны были ограничиваться четырехугольными камерами. Форма гробниц пророков, ротонда, окруженная полукругами, слишком ясно напоминает древние языческие храмы, посвященные Ваалу – солнцу, напр., финикийский храм о котором говорит Гекатей и который состоял из концентрических кругов, описанных вокруг одного колоссального круглого священного камня; такой же формы древние храмы найдены в древней Фракии, в разных местах северной Африки и проч. Как ни опасаюсь я за свой одиночный голос в решении вопроса о таком замечательном древнем памятнике, как гробницы пророков, но я не могу не высказать своего решительного мнения, что так называемые гробницы пророков вовсе не предназначались быть гробницами при своем первоначальном сооружении. Это – подземное святилище Ваала, воздвигнутое одним из язычествовавших Иудейских царей в честь Ваала. Круглая ротонда – образ самого солнца, а идущие от неё к перифериям радиусы, – это животворные солнечные лучи. Самое отверстие в своде ротонды имело целью открыть вход небесному светилу в это посвященное ему жилище. Что это место языческого богослужения первоначально не было гробницами, видно и из того, что здесь только один коридор имеет локулы и то, как кажется, позднейшего происхождения, а прочие все коридоры пусты. Притом самое положение гробниц пророков на высоте горы, выше остального некрополя, выдвигает их из ряда гробниц. Видно, что это языческое святилище хотело объявить соперничество культу иудейскому своим положением против храма Иеговы и на высшем пункте, командующем всем городом. Замечательно, что по Кварезмию (Elucid. terr. sanct. 11, 319), возвышенность гробниц пророков есть именно та гора соблазна, на которой было капище Молоха. Мне кажется, что под капищем Молоха или Ваала, построенным в Иерусалиме Соломоном, нужно разуметь нынешние гробницы пророков. Только много позже вавилонского плена этот подземный храм Ваала был обращен в гробницы, и, как говорит предание, в гробницы пророческие. Некоторые думают, что именно этот лабиринт нужно разуметь под гробами пророческими, устроенными фарисеями и упоминаемыми Мф.23:29; Лк.11:47. Конечно, когда дело идет о памятниках, не имеющих за собою ясной истории, не следует опускать самых отдаленных аналогий, какие могут быть сделаны по их поводу; но приписать фарисеям полное сооружение этих гробниц не возможно потому уже, что их форма была положительно противна установившемуся в то время образцу гробниц, описанному в мишне. Кроме того, под фарисейскими гробницами пророков, упомянутыми в Евангелии, нужно разуметь отдельные одиночные памятники в честь отдельных пророков, каковы напр. были упомянутые Иеронимом мавзолеи пророков Елисея и Авдия в Севастии. Между тем рассматриваемые нами гробницы слишком велики, чтобы быть отдельным памятником какого-либо из пророков. Скорее можно согласиться, что loculi в гробницах пророков были сделаны для некоторых из так называемых сынов пророческих, а не тех древних «избитых израильских пророков», о которых говорится в приведенном месте Евангелия. По другим преданиям это – гробницы то Осии прокаженного, то Манассии и Аммона. Возможно, что имена последних двух царей упоминаются преданием не случайно, и что эти цари участвовали в культе Ваала, совершавшемся в этом лабиринте. Доктор Клярке (Travels 11. 1. 577) считал гробницы пророков подземными магазинами, которые доселе известны на востоке. Но любопытно было бы знать, где Клярке видел подземные магазины такого затейливого устройства? Самые замечательные из подземных магазинов, оставшихся от древней Палестины, находится к окрестностях Бейт Джибрина и Дер-Дюббана, но они очень просты и часто состоят из одних натуральных гротов. Скорее гробницы пророков могут быть сравниваемы с так называемыми малыми лабиринтами египетскими.
Вторая по величине из катакомб восточного некрополя известна под именем гробницы Иакова. Вход в нее (низкий и грубо иссеченный) в северной стене скалы окружающей монолит Захарии. Сначала вступают в темный и грубо обделанный коридор 5 метр. 55 сант. длины, 2½ широты и высоты. Только за коридором следует вестибюль гробницы, представляющий просторную галерею 5 метр. 90 сант. длины на 2 м. 98 сант. ширины. Фронтовая (западная) открытая сторона вестибюля обращена на Кедронскую долину, хотя по причине обрыва не имела непосредственного подхода со стороны долины. Две колонны 48 сант. в диаметре и по углам две пилястры (расстояние между колоннами и пилястрами колеблется между 1 м. 45 сант. и 1 м. 45 сант.) служат украшением открытой стороны вестибюля. Кажется, что между колоннами была некогда решетка или перилы, ограждавшие открытый вестибюль; но крайней мере на стволах колонн и пилястр видны ямины и вырезки, показывающие, что здесь имели место какие-то перекладины. Колонны имеют простые дорические капители 69 сант. ширины и 24 сант. высоты. Над капителями возвышается архитрава и дорический фриз с 9-ю триглифами в наклонном положении, вероятно рассчитанном на то, чтобы исправлять действие расстояния на глаз зрителя, наблюдающего фронт памятника с глубины Кедронской долины. В глубине вестибюля сделана скамья для приходящих, а в стенах и даже в одной пилястре вырезаны ниши для ламп. Кроме упомянутого на южной стороне вестибюля, есть еще другой на северной стороне, ведущей по крутой, ныне засыпанной, лестнице на верхнюю площадку над вестибюлем, занятую новейшими могилами31.
Войдем теперь в самые погребальные камеры чрез малую дверь в восточной стороне вестибюля. Первая камера А, с грубо обделанным потолком, имеющая 5 м. 30 сант. длины и 3 м. 80 сант. ширины, служит только преддверием гробничных камер, окружающих ее со всех сторон. Примыкающая с восточной стороны камера в 3-х м. 30 сант. ширины на 3 м. 45 сант. длины имеет 3 loculi и одну сокровищницу, соединяющуюся с камерой не перпендикулярным, а косым устьем. Примыкающая с северной стороны камера (представляет квадрат в 4 метра и три loculi без сокровищницы. С южной стороны к антишамбру А примыкает не камера, а узкий проход D в виде коридора с скамьей для сидения и также с тремя loculi.

Рисунок 52. Гробницы Иакова
Как гробницы камеры, так и вестибюль служат в настоящее время ночным приютом для пастухов с стадами овец, отчего здесь целые кучи навоза и стены везде черны от разводимых здесь огней. Но в течение дня гробницы совершенно безмолвны и пусты. Благочестивые путешественники избирают вестибюль гробницы Иакова для уединенных размышлений о суете земных вещей. Редкий день не встретите здесь прислонившейся к колонне фигуры европейца, в задумчивости измеряющего глазами стелющуюся перед ним Иосафатову долину. По христианскому преданию в галерее этой гробницы Иисус Христос по воскресении своем явился своему брату по плоти, апостолу Иакову, скрывавшемуся здесь без пищи и питья в скорби от смерти Спасителя. По другим преданиям здесь был погребен апостол Иаков, после того как он был сброшен с крыла церковного и побит камнями. По свидетельству Григория Турского (De glor. mart. 1. 27), «ап. Иаков был погребен у подошвы Елеонской горы, в гробнице, которую он сам устроил себе, рядом с гробницей Захарии и Симеона (?)» Во время крестовых походов в Иосафатовой долине была капелла ап. Иакова с надписью:
Urgent Alphaei natum sine lege Judaei,
Causa necis sit ei nomen amorque
Dei. Alphaei natus de Templo praecipitatus
Huc fuit allatus et devote tumulatus...
Но если давшее имя гробнице предание о погребении здесь ап. Иакова и верно, то все еще будет не решенным вопрос, кем первоначально устроена гробница, потому что такой богатый памятник, на таком видном месте, с галереей и сокровищницами должен был принадлежать, если не царскому, то какому-либо весьма значительному семейству в городе. Арабы, по-своему обыкновению, и этот памятник относят к Фараону и называют его «диван Фараона» – Диуань-Фараун. Происхождение гробницы, носящей в настоящее время имя Иакова, определилось древнееврейской надписью, открытой на архитраве гробницы. Хотя, надпись замечена только недавно, но её место на высоте архитрава, глубина и цвет букв показывают бесспорно её весьма древнее происхождение, хотя и не одновременное с гробницей. Вот эта надпись:

Рисунок 53. Надпись на архитраве гробницы Иакова
Транскрипция надписи будет следующая:
זה קבר וה.... לאלעזר חניה יועזר יהודה שמעון יוחנן בני יסף בן .....ב סף ואלעזר בני חניה ....ם בני חזיר
То есть: «Это гробница... Елеазара, Хании, Иоазара, Иуды, Симеона, Иоханана, сынов Иосифа сына... и Елеазара, сынов Хании,... семейства Хезира». Итак гробница принадлежит семейству Хезира, может быть того самого, который происходил от третьего сына Аарона Елеазара и получил при Давиде семнадцатую чреду священству (1Хрон. 24, 15 – 1Пар.24:15). Что касается до остальных имен потомков Хезира, названных в надписи, то Симеон, Иоазар и Елеазар могли быть три родственника Ирода великого, являющиеся под этими именами один за другим в первосвященническом достоинстве от 10-го года пред Р. Хр. до 7-го года по Р. Хр. Хотя Флавий называет отца их Боэтосом, но известно, что со времени Селевкидов было в обычае у евреев носить два имени, одно национальное еврейское, а другое греческое; так Александр Яннай назывался еще Ионатан, царь Антигон – Маттафия, первосвященник Ония – Менелас, первосвященник Иоаким – Алким и проч. Таким же образом и отец Елеазара и Иоазара мог иметь еврейское имя Иосифа, как его называет надпись, кроме греческого имени Боэтос, упомянутого Флавием. Что касается времени появления самой надписи, то она могла быть сделана только прежде разрушения Иерусалима Титом, потому что после этого времени евреи не жили в Иерусалиме, за исключением времени восстания Бар-Кохбы, когда евреям было не до памятников и надписей. Чтобы определить другой пункт времени, раньше которого не могла явиться надпись, нужно обратиться к самому характеру надписи. Шрифт её стоит на средине между квадратным и финикийским. Буквы א, ל, ע, ר имеют уже полную квадратную форму; другие буквы не имеют определенной формы; буквы ב, ז, י, נ имеют еще полную финикийскую форму; последняя из них имеет особенный вид начальный, когда она соединяется с другой следующей буквой и особенный вид конечный. Буква ש имеет такую же форму как в арамейских и набатейских надписях века предшествующего христ. эре. Между тем трудами новейших ориенталистов найдено, что квадратный шрифт вышел из арамейского чрез целый ряд преобразований, из которых одно между последними представляют надписи времени Птолемеев в Египте (камень Карпентрас, ватиканский камень, папирус Блакас). Но, так как эти арамейские надписи, найденные в Египте, не восходят далее второго века пред Р. Христовым и, так как в 170 году пред Р. Хр. в Палестине была именно такая переходная система шрифта, как показывает надпись во дворце Гиркана, то и надпись гробницы Иакова нужно относить к этому же времени. Она могла быть сделана одним из трёх первосвященников, родственников Ирода, погребенных в этой гробнице и, вероятнее всего, последним из погребенных здесь членов семейства Хезира.
В восточной стене скалы, окружающей памятник Авессалома, есть иссеченная в склоне Елеона катакомба, известная под именем гробницы Иосафата, в настоящее время не доступная и заваленная камнями. Рассказывают, что вход в гробницу был свободен до 1842 года. В это время один католический миссионер, роясь в гробнице, нашел в ней манускрипт Пятикнижия и, как это всегда бывает у западных путешественников, секретно увез его в Европу. Узнавши об этом похищении, местные евреи подняли бурю, писали, предлагали большой выкуп за священного пленника, но безуспешно. Зато, в наказание всем путешествующим франкам, гробница, в которой был найден свящ. манускрипт, закрыта навсегда. Не нужно думать, впрочем, что найденный в гробнице Иосафата манускрипт, мог принадлежать тем лицам, которые первоначально были погребены в гробнице и представлять документ, равный по значению книге законов, найденной в гробнице Нумы Помпилия или еврейскому списку Евангелия Матфея, найденному в гробнице апостола Варфоломея на острове Кипре. Вследствие особенного уважения к гробнице Иосафата, позднейшие евреи считали за большую честь устроить свои гробницы в её соседстве, при чем в дар свящ. гробнице приносились тефилим и таллес ново умершего и особенно бывший в его употреблении список Библии, на том основании, что царь Иосафат был большим ревнителем просвещения еврейского народа (2Хр. 17, 7. 8 – 2Пар.17:7, 8). Один из таких позднейших списков был найден в 1842 году. – Самое имя Иосафата дано гробнице преданием произвольно, потому что царь Иосафат, по 1Цар.22:50, был погребен не отдельно, а в гробнице своих отцов, т. е. в царских гробницах. Более древние путешественники приписывали эту гробницу то Симону праведному, то Иосифу. Может быть имя Иосафата возникло в предании только благодаря созвучию его с именем Иосифа, а имя Иосифа явилось по тесной связи его с именем Иакова, наложенным преданием на соседнюю гробницу. Во всяком случае гробница, известная под именем Иосафата, иссеченная в погосте за памятником Авессалома, позднее последнего. По рассказам прежних путешественников, проникавших в гробницу Иосафата, она имеет вид капеллы, с фресками на стенах, но не имеет ни лож, ни loculi. Особенно богат и замечателен её ассирийский портал, напоминающий портал гробницы судей с тумбами и особенным головным украшением из цветов, встречающимся в среднеазиатской скульптуре.
Самый северный пункт Кедронского некрополя представляет священная для христиан гробница, вмещавшая в себе некоторое время пречистое тело Богоматери и известная в народе под именем Гефсиманского вертепа. Подобно гробницам святых в римских катакомбах, гробница Богоматери преобразована снятием окружавшей её скалы, вследствие чего из пещеры, бывшей в подошве горы, образовался открытый монумент, монолитная часовня, которую в настоящее время покрывают своды огромного, построенного крестоносцами, храма, заменяющие римские катакомбы над гробницами святых и мучеников. Нужно полагать, что обделка пещеры гроба Богоматери в часовню произошла в одно время с подобною же обделкою гроба Господня, т. е. во время Константина великого, и вероятно сделана тем же строителем. Самая гробничная камера Богоматери небольшая, без loculi, но с одиночным ложем, подобно гробу Господню, если верить преданию, то к этой камере, стоящей в настоящее время уединенно, примыкала с восточной её стороны вторая камера, служившая преддверием гробницы, но она была снята при обделке гробницы, точно также как, и по свидетельству Кирилла иерусалимского, был срыт и антишамбр гроба Господня. Но, тогда как строители храма гроба Господня скоро поняли ошибку и снятый антишамбр был снова построен на своем первоначальном месте, гробница Богоматери осталась в том виде, в каком обстроили ее при Константине, и только одно предание продолжает настаивать на том, что гробница должна была быть полнее. От антишамбра гробницы Богоматери указывают в настоящее время только скамью, на которой было положено тело пред внесением его в самую гробничную камеру. Если, таким образом, антишамбр был на восток от камеры гроба, то нынешний спуск в грот храма не соответствует первоначальному подходу к гробнице; равным образом из двух нынешних отверстий, ведущих в камеру гроба, первоначальным было боковое меньшее отверстие. Что же касается второго, ныне главного, отверстия, то его не могло быть потому уже, что двух входов в одну гробничную камеру никогда не делалось. Оно прибавлено было с целью приспособления камеры к форме алтаря, чтобы иметь дверь в западной стене. Сравнительный уровень гробницы Богоматери в ущелье Кедронской долины, превосходящий по глубине все известные гробницы кедронского некрополя, говорит за древность этой гробницы, одиноко выступающей из-под спуда наносных слоев, покрывших дно долины. Нужно думать, что под наносной землей потока сокрыто много других неизвестных гробниц32. По обычаю древнееврейских гробниц, гробница Богоматери имела цистерну, в настоящее время принадлежащую абиссинцам.
В актах Эфесского собора упоминается о гробнице Богоматери и евангелиста Иоанна в Эфесе. Вероятно, здесь нужно разуметь какую-нибудь часовню, сделанную в память погребения Богоматери, (как такие часовни устроились и в других местах), потому что о подлинной гробнице Богоматери в Гефсимании мы имеем целый ряд решительных свидетельств. Иероним (Ep. 30 de assumt. р. 127) говорит о гробнице пресвятой Девы в долине Иосафата между горой Сион (?) и Масличною. Григорий Турский (De glor. martyr. 1. 27) говорит о сооружении этой гробницы св. Иаковом, первым епископом иерусалимским. У св. Иоанна Дамаскина, по поводу гробницы Богоматери, приводится следующий рассказ: «императрица Пульхерия, построив в Царьграде церковь в честь Богоматери и зная о существовании её гробницы в Иерусалиме, на месте известном под именем гефсимании, хотела перенести св. тело Богоматери в свою церковь и по этому поводу обратилась к патриарху иерусалимскому Ювеналию, бывшему тогда на халкидонском соборе; но патриарх объяснил царице, что гроб гефснманский пуст, но что почитание гробницы относится к воспоминанию кратковременного пребывание пресвятой Девы среди могильной тени». По Бернарду, в X веке церковь гефсиманская над гробом Богоматери была разрушена так, что дождь свободно падал сквозь полуразрушенные церковные своды на гробницу. Готфрид Бульонский одною из первых забот для себя, по завоевании Иерусалима, поставил возобновление этой церкви и устроение монастыря при церкви. Монастырь этот был разрушен в 1187 году Саладином, но церковь уцелела до настоящего времени в том виде, в каком она была построена крестоносцами в начале XII века. Самая погребальная камера была обложена во время крестоносцев золотом и серебром и имела следующую надпись:
Hic Iosaphat rallis; hinc est ad sidera callis.
In Domino fulta fuit hic Maria sepulta:
Hinc exaltata coelos petit inviolata,
Spes captivorum, via, lux et mater eorum.
По обеим сторонам широкой лестницы, ведущей в погребальный Гефсиманский вертеп, есть несколько отдельных капелл, связывающих с собой исторические предания. Три из капелл называются гробницами Иосифа обручника и родителей Богоматери Иоакима и Анны. Подлинность этих последних гробниц некоторые исследователи считают спорной, на том основании, что уровень, на котором они лежат, несообразно высок, сравнительно с уровнем гроба Богоматери, хотя соединение упомянутых гробниц вокруг гробницы Богоматери вполне основано на древнем обычае устроения гробниц близких или родственных лиц совместно. По свидетельству Вильгельма Тирского, в одной из упомянутых капелл 17 сентября 1161 года была погребена королева Мелисанда, дочь Балдуина II, жена третьего иерусалимского короля.

Рисунок 54. План Гефсиманской пещеры
С конца прошедшего века погребальный вертеп Богоматери принадлежит грекам и армянам, сменившим стражу францисканцев при гробе Богоматери. Глубокий сумрак, царствующий в вертепе, переносит мысль к первым векам христианства и подземным храмам катакомб и оставляет глубокое впечатление. Гробница Богоматери пользуется общим почитанием жителей Иерусалима не только христиан, но и магометан. Особенно часто можно встречать здесь молящихся магометанских женщин. А праздник Успения Богоматери в Иерусалиме празднуется также торжественно как Пасха. Всю ночь на кануне праздника кедронский поток и Елеонская гора горят кострами и оглашаются песнями и музыкой.
Еще одна замечательная древнееврейская гробница восточного некрополя была открыта в прошедшем году известным исследователем палестинских древностей Клермон-Ганно, выше Силоамской деревни на вершине горы Соблазна. Во всем иерусалимском некрополе это самые высокие гробницы по грунту и больше чем все другие гробницы напоминают пророческое обличение против некоего строителя гробницы на высокой горе Ис.22:16. Но, по своему высокому положению, гробница имеет грунт не твердый, затруднявший обделку. Оттого камеры здесь не большие и низкие; loculi грубо отделаны и имеют различную величину, большею частью несоразмерно большую, так как, при их иссечении, сам собою обваливавшийся грунт расширял loculi, независимо от плана строителя. Гробницы открываются небольшим двором А, иссеченным в камне и сложены из двух частей: α) южной части в южной стене двора, состоящей из вестибюля и одной гробничной камеры в 2½ метров длины и ширины со скамьей кругом стен и 9 loculi по три в каждой стене, за исключением входной (в противоположной от входа стене камеры loculi сделаны не параллельными, а расходящийся линиями, и β) восточной, состоящей из двух ярусов верхнего (одной камеры С – 3½ метров длины на 2½ ширины) с пятью неправильно расположенными loculi и нижнего (камера D – 3 метров длины на 2 ширины) с двумя loculi. В восточной части гробниц Ганно открыл 25 малых ящиков около ½ на ¾ метра длины, сделанных из камня маляки, одни без орнаментов, другие с орнаментами так называемой у нынешних жителей Иерусалима Соломоновой печати; некоторые из саркофагов выкрашены красной краской.

Рисунок 55. Гробницы на горе Соблазна, открытые Ганно
Внутри саркофагов были найдены кости, сложенные сюда уже по истлении трупов в loculi, и значительно сохранившиеся, но быстро рассыпавшиеся по вскрытии саркофагов. Все открытые саркофаги имели надписи еврейские или греческие, хорошо сохранившиеся, но сделанные скорописью и таким тонким резцом, что некоторые штрихи едва заметны; одна из надписей не вырезана, а написана краской. При двух надписях есть грубое изображение семисвечного светильника и какой-то особенной символической фигуры. В шрифте есть буквы древнееврейские маккавейских монет; самех, пи, мем, хет, иод, бет пишутся по-финикийски; другие буквы принадлежат к квадратным. По содержанию надписи представляют большей частью собственные имена, особенно часто повторяются имена: Иуда, Иоханан, Симеон, Елиезер, Исмаэл, и (дважды повторено) имя Иисус. При именах иногда указывается должности: коген (священник), софер (писец). Но особенно часто надпись начинается евлогиею: Шлом–Цион! (мир Сиона). Что касается самого текста надписей, то М-р Ganneau взял с меня слово не публиковать их в русской печати дотоле, пока они не будут изданы парижской академией надписей. Но до настоящего времени нет известий об их парижском издании. Полагаю, что их можно будет поместить в приложении к отчету. Все саркофаги в настоящее время вынесены из гробницы и расставлены на крыше соседнего дома Абу-Сагуда-Эффенди, владельца гробниц и саркофагов. М-р Ганно пытался купить саркофаги; но эффенди ценит их неимоверно дорого. Около 20 подобных же ящиков или малых саркофагов с остатками человеческих костей феллахи нашли ¼ часа на северо-запад от Иерусалима в одной гробнице с loculi. Самый больший из ящиков имел 2 фута 4 дюйма: в саркофагах были стеклянные слезники и на одном саркофаге надпись Ἰώσηφος (см. Leipz. Illustr. Zeitung. 1866. 15 Декабря). – Особенности шрифта еврейских надписей показывают, что саркофаги Ганно принадлежат последним векам пред Р. Хр. Что же касается греческих надписей, то одни из них могут считаться современными еврейским, а другие бесспорно христианского времени; при одной надписи есть даже изображение креста.
Говоря о гробницах восточного некрополя, нельзя обойти молчанием гробниц христианского периода, открытых на Елеонской горе начальником русской духовной миссии в Иерусалиме, архимандритом Антонином. Выискивая места для предполагавшихся русских построек на Елеоне, о. Антонин нашел и приобрел на восточной половине Елеонской вершины место с развалинами большого древнего храма. Остатки колонн и красивой работы фризов показывали, что храм имел красивую и богатую отделку. Но особенно замечательными оказались остатки мозаического пола, часть которого в том виде, как они были найдены, сохранена и составляет украшение нового дома, воздвигнутого на этом месте о. Антонином. В полу большой залы дома можно видеть уцелевшее мозаическое изображение, представляющее в центре овна в сиянии; его окружают две птицы, петух и утка, три рыбы, две виноградные кисти и еще какой-то плод; кругом широкий бордюр обрамляет четырехугольник изображения. Значение этого символа кажется очевидно: вокруг Агнца, внемлющего грехи мира, собрались представители всей видимой природы, хотя выбор их довольно оригинален. Другой подобный мозаический остаток можно видеть в другой комнате дома. Под восточной частью огромного пространства с остатками мозаики найдены о. Антонином три гробницы. Первая гробница, спуск в которую в настоящее время вошел в залу с символическим изображением, состоит из склепа с шестью ложами, сделанными в виде яслей и так тесно примыкающими одно к другому, что разделяющие их стенки едва имеют толщину четырех или пяти дюймов. Вторая усыпальница, на одном уровне с первой, в настоящее время образует вид галереи при восточной стене дома о. Антонина. Она имеет вход с южной стороны, украшенный фронтисписом в виде треугольника, среднее поле которого имеет изображение креста. Двумя ступенями сходят в большую четырехугольную камеру с приниженным сводом, поддерживаемым, кроме стен, двумя столбами. На одной оси с входом идет узкий проход, разделяющий камеру на две части, занятые тесно примыкающими одно к другому ложами в виде яслей. Некоторые из лож еще не тронуты; они покрыты каменными плитами и замазаны цементом. Сойдя шагов 20 вниз, на юг от этой второй гробницы, находим еще одну усыпальницу, состоящую из натуральной, почти неотделанной, пещеры, разделенной невысокими стенами на квадратные пространства, наполненные доселе костями. Очевидно сюда приносили истлевшие остатки из верхних гробниц, когда в этих последних нужно было очистить место новым телам. К пещере приделан длинный узкий коридор и антишамбр с армянской надписью в полу, содержащей стих из церковной песни. Стоит упоминания, что к двум первым гробницам с северной стороны непосредственно примыкают две древние крещальни, представляющие иссеченные в скале четырехугольные ямы около 10 футов длины на 5 ширины и 12 высоты, обложенные штукатуркой и имеющие на стенах большие изображения креста. Так тесно были связаны для древних христиан два великие момента жизни: смерть телесная и смерть ветхого человека в водах христианского крещения! Нужно полагать, что воздвигнутое о. Антонином русское здание на Елеоне заняло место какой-то древней обители, подвизавшейся в деле обращения в христианство иноверных. Густота лож в гробницах указывает, что обитель была очень людна, а армянская надпись указывает самых обитателей места33.
Подобную открытым о. Антонином гробницу находил на западном склоне Елеона, недалеко от гробниц пророков, Тоблер (Dritte Wanderung nach Palästina S 346); она состояла из двух камер, иссеченных в скале, с ложами, занимавшими все пространство камер в порядке гробниц, открытых о. Антонином; даже направление лож было такое же, т. е. с запада на восток. Много и других одиночных гробниц христианского периода скрывается на Елеоне между древнееврейскими памятниками. У самой церкви Вознесения был открыт склеп с саркофагом из железного огромного ящика, по ошибке принятый местными евреями за саркофаг пророчицы Хульды. На стене склепа вырезаны следующие слова: ΘΑΡΣΙΔΟΜΕΤΙΛΑΟΥΔΙΣΑΘΑΝΑΤΟΣ т. е. «Надейся Дометилла! Никто не бессмертен». Было ли это изречение современным саркофагу и обращено к нему, или оно представляет сентенцию кого-либо из благочестивых посетителей гробницы, подобную заметным здесь же куфическим надписям арабских посетителей гробницы, неизвестно.
Весь западный склон горы Елеонской некогда был усеян пещерами и древними гробницами, в которых жили отшельники V-го и VII-го веков. По свидетельству бл. Иеронима (Comm. in Ephes. VI) отшельники занимались здесь, кроме молитвы и богомолья, переписыванием древних замечательных произведений человеческой мысли. Здесь, по предложению Иеронима, был сделан список диалогов Цицерона. Здесь Руфин составил свою «жизнь св. отцов», этот замечательный памятник пустынножительской ревности V века и проч. Между тем восточный склон Елеонской горы, вместо еврейских и христианских, имеет римские гробницы времени осады Иерусалима Титом, состоящие из одиночных камер с малыми нишами в стенах, вмещавшими в себе то, что Вергилий (Eneid. III. 301) называет dapes et tristia dona, т. e. урны с пеплом трупов сожженных по римскому обычаю, слезники, вазы и проч. Вероятно эти гробницы принадлежали десятому легиону Тита, занимавшему позиции на Елеонской горе (Войн. Иуд. V, VII, 5). – Таким образом восточный некрополь заключает в себе памятники древнееврейского, языческого и христианского мира. Подобного разнообразия нет ни в одном из других некрополей не только Иерусалима, но и всей Палестины.
Между памятниками восточного некрополя уцелел еще один, не принадлежащий к категории гробниц и, по всем признакам, соответствующий той скале (πέτρα) голубей, о которой говорит Флавий и которую, как мы видели, некоторые напрасно думали найти в гробницах пророков. Скала голубей лежит при северном входе в Силоамскую деревню, прямо против Силоамского монолита. Она представляет собою выступающую из отвесной горы монолитную башню камня миззи около 8 метров высоты, позолоченную временем и гладко обсеченную со всех сторон, за исключением восточной, которою она соединена с горою. Башня не имеет доступного для человека входа; на высоте 4 метров она истыкана со всех сторон большими и малыми отверстиями для птиц, может быть теми самими, о которых говорится Ис.60:8 под именем голубиных окон, Aruboth. Внутренняя часть голубятни, имеющая 3 метра длины на 2½ ширины, очевидно в позднейшее время была расширена и обращена в человеческое жилище; на западной стороне голубиное отверстие обращено в красивую высокую дверь, в которую входили не иначе, как при пособии веревочной лестницы. Какие жильцы избрали для себя это воздушное жилище, можно догадаться по двум крестам, иссеченным над дверью; это были христианские отшельники. В настоящее время владетелем голубятни считает себя один Силоамский феллах; когда мы с Финкельштейном взобрались внутрь этого гнезда, оно было наполнено соломою и отрубями.
Известно, что древние восточные народы удаляли голубей из жилых зданий и отводили им места всегда за городскою чертою. Древние персы, говорит Геродот (1, 138), гнали и преследовали одинаково прокаженных и белых голубей. Точно также и по предписанию талмуда (Bava bathra с. 2, 5) можно было заводить голубятню не ближе 50 локтей от городской черты. Большею частью для голубятни избирали места среди гробниц, часть отделанной скалы при вестибюлях. О существовании таких голубятен на Елеонской горе есть следующее свидетельство талмуда (Taanith 69. 1): «на Елеонской горе росли два дерева; под одним из них было четыре пещеры, в которых продавались предметы необходимые для законного очищения в храме; под другим разводились голуби для женской очистительной жертвы; ежемесячно их продавали здесь на 40 сиклей». Обыкновение устроять голубятни среди кладбищ вызвало впоследствии веру в тайную связь и содружество между умершими и голубями: голуби служат посредниками между отошедшими в гробницы и оставшимися в живых. В настоящее время иерусалимские голуби оставили некрополь и переселились в город в общество живых, особенно на площадь харама.
ΙΙΙ. Некрополь гинномский или Тофет
Некрополь гинномский или Тофет не считается у пророка Иеремии между действительными иерусалимскими кладбищами, но указывается как место будущего некрополя, к которому обратятся в несчастные времена, когда два древнейший места погребений окажутся недостаточными, чтобы вместить всех умерших (Иер.19:11). Царские сады бывшие в до-пленный период у подошвы горы гинномского некрополя препятствовали утверждению здесь общенародного кладбища. Если могли быть здесь какие-либо гробницы, то только царские, или же, как думает Сольси, гробницы, уцелевшие от иевусейского периода Иерусалима. Но уже в первое время по возвращении евреев из вавилонского плена пророчество Иеремии о погребении на Тофете не имело препятствий к исполнению, так как царские сады в этом месте были заброшены и культ Молоха, имевший на Тофете свой жертвенник, навсегда исчез из Иерусалима. Некоторые из исследователей относят весь гинномский некрополь к христианскими временам, основываясь на том, что многие из гробниц этого некрополя имеют греческие надписи, изображение крестов, следы христианской живописи во внутренних камерах и проч. Но одного взгляда на эти гробницы достаточно, чтобы убедиться, что гробницы этого некрополя почти все были переделываемы в позднейшее время и расширяемы чрез снятие боковых лож, расширение входов и проч. Есть и положительные свидетельства, что, начиная с V века хр. эры, в опустошенных предшествующими разрушениями гробницах гинномского некрополя селились отшельники, отвоевывавшие эти приюты у шакалов, гиен и змей. Известно, что императрица Евдокия, супруга Феодосия великого, обращалась к аскетам, жившим в гротах гинномской долины, из которых некоторые гроты были в то время так малы, что в них нельзя было стать прямо, а нужно было всегда стоять на коленях или держаться согнувшись (Evagrii. Hist. Eccles. 2, 21). Последнее обстоятельство заставляло иноков расширять свои гробничные келии и изменять их первоначальный вид. Некоторые гробницы при этом были приспособлены к потребностям христианского богослужения и обращены в подземные капеллы и церкви. В XIII веке многие из гробниц, вместо своих первоначальных имен, называются по именам подвизавшихся в них христианских святых (напр. гробницы Онуфрия, Гонория). Христианским отшельникам принадлежат и греческие надписи на гробницах, соблазняющие в настоящее время многих путешественников, напр., наичаще повторяющаяся надпись: τῆς ἁγίας Σιών, не имеющая никакого отношения к гробницам и погребению и, конечно, сделанная отшельниками, оплакивавшими опустошение святого Сиона»34. Между тем древнееврейские надписи, как не соответствовавшие новому назначению гинномских гробниц в это время были уничтожены. Риттер свидетельствует, что между гробницами этого некрополя он видел еще валявшиеся куски камней «с надписями еврейскими и финикийскими». Точно также Клярке на гробницах различал еще следы сглаженных древнееврейских надписей. По оставлении некрополя отшельниками, с XIV века он сделался местом погребения христианских пилигримов. Но с прошедшего столетия его гробницы снова отняты у мертвых и заселены, но уже не св. подвижниками, а феллахами, устроившими в гробничных камерах приюты для своих бездомных семейств. Ещё в настоящее время в одной гинномской гробнице живет арабское семейство, а несколько других гробниц служат стойлами овец и амбарами; гробничные камеры наполнены пометом и грязью; стены и потолки черны от огней, разводимых здесь в холодные ночи.
Как на замечательную особенность гинномских гробниц указывают на их ближайшее сходство, почти тожество, с гробницами этрусков, описанными Альбертом Ленуаром, особенно с одним некрополем, занимающим большую долину Кастель-д’Акко, недалеко от Чивита-Веккия (см. Braun, Geschichte der Kunst 1, 446). Нет возможности объяснить, какое отношение могло быть между гробницами этрусскими и иерусалимскими. Но что здесь имели место какие-то особенные отношения, можно заключать из этого уже, что Риттер (31) в гинномском некрополе, между другими не существующими теперь подписями, находил и этрусские (?).
Некрополь гинномский занимает место древнего Тофета, уступ делаемый горою злого совещания на её северном склоне, обращенном к южной части горы Сиона. Стоя на этом уступе зритель видел пред собою Сион с его крепостью и Морию с её святилищем, отделенные от него страшною долиною геенскою, проходящею под самым некрополем. Впрочем от геенской долины занятый некрополем уступ уединен отвесною стеною нижней части горы злого совещания, точно также как такая же стена скалы отделяет его и от верхней части горы, так что, таким образом, место некрополя было со всех сторон ограждено самою природою и спасавшиеся здесь отшельники могли чувствовать себя отрешенными от мира. – Гинномский некрополь, по указанным причинам, сохранился хуже других; от многих гробниц уцелели только отдельные loculi и полуразрушенные камеры. Уцелевшие гробницы, как я сказал, были переделываемы и напоминают более катакомбные капеллы и часовни, чем гробницы; только в углу где-нибудь уцелевшее ложе или устье loculus обличают первоначальное назначение грота. Вообще говоря, гробницы гинномского некрополя, не могут быть сравниваемы с важнейшими иерусалимскими гробницами; это были, как говорит пророк, «гробницы сынов народа» т. е. низшего класса. Впрочем на восточной стороне некрополя есть несколько гробниц с орнаментами. Рассмотрим сперва восточную, важнейшую часть гинномского некрополя, потом западную.
На самой средине гинномского некрополя и на самом высоком пункте его стоит большое четырехугольное здание около 30 шагов длины на 20 ширины, известное под именем Гакельдама «цена крови». По преданию идущему от времени бл. Иеронима (прежде Иеронима Евсевий ошибочно полагал Гакельдаму на северной стороне Иерусалима), это здание стоит на поле скудельничьем, купленном ценою 30 сребреников, о котором говорится Мф.27:7, 8; Деян.1:19. По своему сооружению нынешняя Гакельдама принадлежит двум различным эпохам. Нижняя, глубоко вросшая в землю половина его, частью иссеченная в скале, частью сложенная из больших камней с выпусками, принадлежит древнейшей и, конечно, еврейской эпохе. Верхняя же часть строения, с её стрельчатыми сводами, принадлежит периоду крестоносцев, когда Гакельдама была исправлена и поступила во владение госпиталя Иоаннитов. В начале 17 века Гакельдама, по описанию Кварезмия, принадлежала армянам, получавшим большие деньги за позволение погребать здесь христиан всех вероисповеданий. Кто не рассчитывал быть погребенным в Гакельдаме, покупал из её области горсть земли и завещавал положить её в свой гроб, так как в народе ходило верование, что земля Гакельдамы имеет особенную силу разлагать тело без остатка в течение 24 часов. Долгое время эту землю вывозили на кораблях в Европу и продавали за баснословную цену. По свидетельству Клярке, ещё в начале нынешнего столетия здесь погребали пилигримов; но в настоящее время Гакельдама совершенно оставлена на произвол времени; часть северной стороны её зимою 1874 года размыта дождем. Посещение внутренней части Гакельдамы, лежащей на 20 футов глубины и не имеющей никаких следов лестницы, затруднительно; обыкновенно наблюдают внутренность этой исполинской гробницы чрез два отверстие её на восточной и западной стороне. На стенах гробницы можно различать изображение крестов и армянские надписи в значительном числе. В нижних частях здания есть древнееврейские loculi и даже целые, иссеченные в скале, камеры. Пьеротти открыл примыкающую к зданию Гакельдама большую систему гробничных камер особенного устройства. По еврейскому преданию, передаваемому Жерамбом (1, 321) в этой катакомбе был погребен Иуда предатель, так как она назначалась именно для лиц, не имевших собственных гробниц. Тот же Жерамб передает, что в Гакельдаме одновременно с христианами погребались и евреи – караиты. Не знаю, откуда могло быть заимствовано такое свидетельство.

Рисунок 56. Гробницы Гакельдамы
Вторая по важности из гинномских гробниц лежит около 80 шагов на восток от Гакельдаме и известна под именем грота Апостолов, так как, по преданию идущему от 14 века, в этой гробнице скрывались апостолы во время взятия Спасителя иудеями. Большая каменная лестница и дорожка, иссеченная в скале, вели от грота апостолов в глубину геенской долины. Первоначально эта гробница имела 5 камер с loculi и нишами, но в позднейшее время камеры были частью расширены отшельниками частью соединены вместе, так что образовалось только две камеры, из которых первая имеет на стенах большие изображения апостолов. Гробница предваряется открытым вестибюлем, на стенах которого можно видеть византийские фрески. Но особенно замечателен фриз над входом в вестибюль, состоящий из семи диглифов, между которыми 8 метопов имеют различные рисунки: виноградные кисти, круги с радиусами, концентрические круги и др. Эти орнаменты показывают, что гробница принадлежала значительной в Иерусалиме фамилии. Христианское предание, приписывающее устроение этой гробницы царице Елене, не может быть принято потому уже, что оно само себе противоречит, считая в тоже время эту гробницу местом убежища апостолов. Возможно, что имя Елены имело связь с переделкою первоначальной гробницы в капеллу, посвященную имени апостолов. Эта гробница чаще других гробниц посещается христианскими пилигримами, о чем свидетельствует множество христианских имен на стенах.
На средине между Гакельдама и гротом апостолов, иссеченный в скале спуск ведет по ступеням к обрамленному пазами порталу третьей из главнейших гробниц некрополя с фронтисписом треугольника, имеющего пустое поле внутри. Сквозь полукруглое устье входа, засыпанное настолько, что в него можно войти только á quatre pattes, входят в первую залу – преддверие гробничных камер – с потолком, иссеченным в виде купола, лежащего на полуколоннах. Каждая из стен залы, за исключением входной, имеет 2 двери в отдельные камеры, которых, таким образом, 6 и которые вместе имеют 14 гробничных лож в форме яслей. Одна из боковых камер, выходящих на южную сторону первой залы, имеет еще спуск в нижний ярус, состоящий из 3 малых камер, наполненных до настоящего времени человеческими костями. Рассказывают, что до 1838 года и все верхние камеры этой гробницы были наполнены скелетами и черепами, по осмотре которых оказалось, что в каждой камере находился особенный вид черепов; камеры правой западной стороны имели черепа эфиопской расы, камеры левой стороны – монгольские, камеры южные – европейские. И так это – одна из еврейских гробниц, обращенных в христианские для погребения пилигримов. Так как черепа и скелеты, находившиеся здесь, далеко превышали количество гробничных лож, то, очевидно, при христианских погребениях не приспособлялись к древнему устройству гробниц. Христианскому времени принадлежит и штукатурка, покрывающая гробничные камеры. Но что особенно замечательно в этой гробнице, то это способ закрытия входа. Образующий род навеса, камень 2 футов 8 дюймов длины на 10 дюймов толщины висел над самим устьем входа; подобно двери, он поворачивался на оси снизу вверх так что, описавши полный полукруг, он из навеса обращался в дверь, закрывающую устье входа. В настоящее время я не нашел этого камня, описанного Тоблером; но две ямины, в которых оборачивалась ось камня, целы и имеют одна 2½ дюйм, другая около 5 дюймов глубины. Эту гробницу считают тем памятником первосвященника Анны, у которого, по Флавию (Войн. V. 12, 2), осадная линия Тита сходила в долину источника и затем поворачивала на гору, где стоял лагерем Помпей. Недалеко от памятника Анны нужно полагать и загородный дом тестя его Каиафы, по преданию, бывший на горе злого совещания.
Несколько ниже грота апостолов и гробницы первосвященника Анны, также на восток от Гакельдамы, встречаем двор, иссеченный в скале, с группою трех гробниц. Одна из этих гробниц (в северной стороне двора), состоящая из одной камеры с лестницею и 5 loculi, имеет над входом следующую греческую надпись:
| ΘΗΚΗΔΙ | ΗΓΟΥΜ..... | |
| ΑΦΕ… | + | ΜΟΝΑСΤΗΡS |
| ΘΕΚΛΑS | ΤΟΥΒΕΡΙΑC.... | |
| ...ΕΡΑΙ | ΤΟΥΓΕΟΡΓΙΟΥ+ |
По наиболее вероятному чтению «отдельная гробница Феклы, честной игуменьи Тивериадского монастыря Георгия». Конечно, прибывшая из Тивериады на поклонение в Иерусалим игуменья не могла иметь своей собственной гробницы и была положена в одну из пустых древнееврейских гробниц. Другая из этой Группы гробниц (в восточной стороне двора), также состоящая из одной камеры с loculi была обращена в келью отшельниками и имеет даже окно на геенскую долину; в настоящее время здесь амбар. Третья из группы и, очевидно, главнейшая с обрамленным пазами порталом и нишами для ламп, состоит из трех камер с loculi. Двойная штукатурка на стенах показывает, что эта гробница долго служила келиею и имела живых обитателей. И теперь ещё она занята одним арабским семейством, считающим своею собственностью почти половину гинномского некрополя.
Наконец на самом восточном краю некрополя обращает на себя внимание гробница с высоким вестибюлем, наполовину заделанным камнями и большою камерою, некогда служившею церковью, с уцелевшим в потолке изображением всевидящего ока. Эта гробница также имеет живых обитателей и пред фронтом большие гряды арбузов.
Идя на запад от Гакельдамы – срединного пункта некрополя, встречаем, прежде всего, группу полуразрушенных гробниц, в настоящее время известных у арабов под именем Фердус-ер-Рум (рай римский), а в XIV веке называвшихся гробницами св. Онуфрия. Устройство их следующее. Открываясь, подобно всем гробницам гинномского некрополя, с севера, она имеет, по прямой оси с севера на юг, три камеры, постепенно понижающиеся по уровню; первые из этих камер имеют еще по две боковых камеры, так что всех камер гробницы 7; каждая камера имеет по два ложа в виде яслей. Особенного внимание заслуживает обделка двери в первой камере фронтисписами в виде треугольников с широкими основаниями и тумбами на вершине. По свидетельствам от XVII века, в этой гробнице совершались вселенские панихиды за всех христиан, умерших в Иерусалиме. – Оставив следующую за гротом Онуфрия безымянную, засыпанную гробницу, по рассказам арабов, имеющую три камеры, идя на запад, встречаем далее в выдавшейся на север скале одиночную гробницу, которую Клярке (Holy Land 4, 554) назвал гробом Спасителя, (после того, как он перенес весь город Давидов на гору злого совещания). Эта одиночная гробница действительно имеет сходство с нынешним гробом Господним; но гробниц подобного простого устройства можно найти не один десяток в окрестностях Иерусалима; это доказывает только, что Спаситель благоволил найти смертный покой в одной из самых обыкновенных в Иерусалиме гробниц. Между тем, чтобы между этими одновидными гробницами найти гроб Господень, нужно обратиться к народному преданию и евангельскому свидетельству, полагающему место погребения Спасителя близко к городским воротам, где бывало много проходящих что не может относиться к этому пункту. (Ин.19:20, 41). – Хорошо сохранилась и, кажется, не была тронута гробница следующая далее на запад с довольно грубо, но прочно обделанным вестибюлем и 3 камерами, идущими на одной оси и с loculi. – Наконец на самой западной границе гинномского некрополя, там где в настоящее время чрез геенскую долину идет дорога, соединяющая некрополь с Сионом обращает на себя внимание высоко поднятая над дорогою гробница, известная у путешественников под именем немецкой гробницы. Десять грубо иссеченных исполинских ступеней приводят в одиночную гробничную камеру с 3 ложами. Над входом в гробницу читаем следующую надпись:
+ ΜΝΗΜΑΔΙΑΦΕ
ΡΟΝΘΕΚΛΑΜΑΡΟΥ
ΛΦΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ.
То есть: «гробница отделенная Фекле дочери Марульфа Германца». Само собою памятно, что это лицо только сменило более древних обитателей этой гробницы. Самая камера была в позднейшее время изменена и расширена, и притом так неумеренно, что в одном углу стена гробницы пробита насквозь. Лестница, ведущая к этой гробнице также позднейшего происхождения; при её постройке даже была срыта древняя гробничная камера с loculi, следы которых можно видеть на ступенях. Гинномский некрополь оканчивает на этой западной стороне большая цистерна и на самом углу некрополя иссеченный в скале грубый вид мумии, приветствовавшей путешественника входившего в черту некрополя.
Чтобы кончить с гинномским некрополем, нужно привести ещё здесь несколько надписей, ныне не существующих, записанных прежними путешественниками. Около 150 шагов на восток от немецкой гробницы был вестибюль с надписью:
ΜΝΗΜΑΔΙΑΦΕΡΟΝ...
...ΡΟΜΗCΤΗCΑΓΙΑCCΙΟΝ
То есть: «гробница отделенная... для римлян. Святого Сиона». Другая, в настоящее время разрушенная, гробница имела надпись:
ΜΝΗΜΑΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΑΤ ... ΕΓΥΗ
ΝΟCΟ ΚΟΜΙΝΤΟΥ ΠΑΤΡΟC....
ΑΓΟΟΥ...
Робинсон и Шульц в одной разрушенной гробнице находили следующий остаток еврейской надписи:
כיום......................
שנה......................
ממשלת אדוני המלך
IV. Группа Ер-Романие или некрополь южный
Группа Ер Романие или некрополь южный лежит около одной версты на юг от источника Рогель, там где вади ен-Нар, представляющая южную ветвь кедронского потока, соединяется с вади-Каттун, идущею между горою соблазна и вифанскою возвышенностью. Группа состоит из 6 гробниц, общей особенностью которых можно считать то, что все они имеют ход с севера и, за исключением одной, вестибюль закрытый с высокими воротами. Главная гробница группы, купленная в настоящее время о. Начальником русской миссии в Иерусалиме, архимандритом Антонином, известна в местных преданиях под двумя именами: Дер-Ессиние и Романие. Широкий вход без всяких орнаментов ведет в длинный и высокий вестибюль, в котором, на оси первого входа, небольшое полукруглое устье открывает вход в огромных размеров залу А без loculi, но со скамьями кругом для сидение; это – то, что мишна называет камерою гробовщиков и посетителей гробниц. Обделка камер безукоризненно чиста и правильна даже в углах, которым не легко дать надлежащую прямоту при вырубке в камне. Зала А имеет 3 двери. Первая дверь в южной стороне залы, на оси входа в гробницы, ведет в узкий коридор (10 шагов длины, 3 метров высоты и 1 метра ширины), ведущий в погребальную камеру В, по обделке напоминающую камеру царских гробниц и имеющую на восточной и западной стороне по 3 loculi и, кроме того, в стороне, обращенной к камере А, два loculi по сторонам коридора. Южная сторона камеры В, противоположная входу, на самой оси входа, имеет дальнейший ход, по длине и ширине равный первому коридору, но по высоте вдвое меньший, так что пройти в нем можно только низко согнувшись. Этот проход приводит в камеру С, меньшую предшествующей, с гладкими стенами без лож и loculi, с разбросанными на полу остатками человеческих костей. Не легко определить, какое назначение имела эта последняя камера. Но несомненно то, что погребальной камерой она не была, а человеческие кости попали сюда случайно в позднейшее время. Нельзя назвать её также и сокровищницей, потому что в таком случае она непременно имела бы ниши или полки. Остается одно предположение, что камера С представляет только антишамбр к особенному дальнейшему подземному отделению, спуск в которое доселе не был замечен под массою грязи, покрывающей пол. О. Антонин имел намерение заняться расчисткою этой гробницы в Сентябре 1874 года; но прошедшие в это время в Иерусалиме слухи о закрытии духовной миссии в Иерусалиме заставили его отложить свое намерение. Но возвратимся в первую залу А. Восточная и западная стены этой залы также имеют коридоры, подобные коридору южной стороны, ведущие в камеры D и Е, из которых каждая имеет 11 loculi, по 3 в каждой из сторон противоположных входу и по 2 в стороне входа параллельно коридору. Таково общее устройство этой гробницы, размерами вестибюля и камер превосходящей все иерусалимские гробницы, даже царские, но уступающей последним в обделке подробностей; особенно ощутительно здесь отсутствие всяких орнаментов в портале и простое устройство входа. Рассказывают, что недавно ещё в вестибюле гробниц ер-Романие валялись остатки закрывавших входы каменных дверей самого простого устройства. Даже обыкновенных в других гробницах ниш для ламп здесь нет. Вот снятый мною план гробниц ер-Романие, сколько мне известно, доселе ещё никем не изданный.

Рисунок 57. Гробницы Ер-Романие (Иосии)
Какому времени и каким строителям принадлежат эти гробницы? Отдаленность гробниц ер-Романие от города была причиною того, что у исследователей иерусалимских памятников они вовсе не упоминаются. Сам Тоблер наивно признается, что он заглянул только в первую залу этой гробницы, а других камер не осматривал за неимением огня (?), но что гробница поразила его своею громадностью, а замеченное им в стене изображение креста (которого впрочем я не нашел нигде) подтвердило для него верность предания, называющего гробницу монастырем Ессиние, дер-Ессиние (Tobler. Topogr. von Jerus. 11, 418). В этом названии меня заняло не указание на позднейшее обращение гробницы в христианскую обитель, а собственное имя Ессиние, созвучное с именем Иудейского царя, гробница которого именно могла быть на этом месте. Мы видели уже, что, по ясному свидетельству 2Цар.22:20, 23:30, о гробнице Иосии можно говорить отдельно от общих царских гробниц. Если кн. Хроник и Флавий, вопреки этому свидетельству, говорят о погребении Иосии в гробнице отцов, т. е. Аммона и Манассии; то это противоречие источников об ясняется в настоящем случае тем, что названные цари имели отдельные гробницы, но устроенные в одном месте, в южной части царских садов, а потому называвшиеся одним именем. Если с одной стороны отвержение всего языческого, удаляло Иосию от языческих гробниц Аммона и Манассии, то с другой стороны обычай страны и родственное чувство могли заставить его устроить свою гробницу по крайней мере в соседстве с гробницами отца и деда. Что скажут исследователи, знакомые с иерусалимскими памятниками, если я решусь отождествить библейские гробницы Манассии, Аммона и Иосии с группою гробниц южного некрополя, а сейчас описанную мною гробницу, известную в иерусалимском народе под именем Дер-Ессиние35, припишу благочестивому царю Иосии? Если мало этого созвучия имени памятника с именем Иудейского царя, созвучия, которого никогда не следует оставлять без внимания, когда дело идет о памятнике, не имеющем за собою определенной истории; то можно присовокупить к этому созвучию другое созвучие имени тех садов, в которых, по источникам, были царские гробницы последних Иудейских царей, садов Узза. Кроме того, как я уже заметил, гробница Дер-Ессиние имеет ещё другое название ер-Романие «гробница гранатового дерева». Так как в настоящее время в окрестности гробниц растут только маслины, то это название указывает на древние гранатовые сады, отенявшие гробницы. Если кому-либо покажется расстояние от города до гробниц слишком большим, чтобы до них могли простираться царские сады Иерусалима, то на это нужно заметить, что с одной стороны выше этого пункта мы не встречали гробниц, которые с равным правом можно было бы назвать «гробницами царских садов», с другой стороны царские сады должны были доходить до группы гробниц ер-Романие, при которой кедронская долина соединяется с долиною Каттун, идущею на восточной стороне горы соблазна и несомненно (как доказывают остатки древних цистерн) бывшею под царскими садами; царские сады Уззы доходили до Дер-Ессиние по прямой линии на юг, отсюда поворачивали снова на север в другую параллельную вади. Если, таким образом, описанная гробница была гробницею благочестивого Иосии, то понятно почему древние отшельники выбрали её для монастыря и места общественных молитвословий, как она и доселе называется. Но кому бы ни принадлежала гробница, её строитель должен был владеть очень большими средствами, так как иссечение в живой скале этой исполинской катакомбы должно было занять тысячу рук на целые десятки лет. С другой стороны строгая выдержанность и порядок в плане гробничных камер показывают, что строение её не было растянуто на такой продолжительный период времени, как царские гробницы.
Вторая из группы гробниц ер-Романие была заложена в еще более обширных размерах, чем предшествующая; двор предваряющий гробницы и вестибюль с скамьями поражают своим величием. Но устройство внутренних камер только что было начато. Кто-то из отведенных в плен иудейских правителей оставил векам свой монумент неоконченным. В настоящее время эта гробница обращена в овчарню. – Третья гробница группы состоит из закрытого вестибюля, в котором два хода: один в южной, другой в северной стороне; первый ход ныне заложен арабами и я не имел случая в него войти, второй ведет в четырехугольную камеру, в каждой стороне которой по 2 loculi. – Наконец четвертая гробница группы имеет вестибюль открытый, но по средине поддерживаемый четырехугольным из живой скалы столбом; в вестибюле два дальнейших хода, один прямо против столба ведет в камеру с 9 loculi, второй вправо от первого – в камеру с 3 ложами под арками и с 2 loculi. Эта последняя гробница по уровню лежит под гробницею Дер-Ессиние и также предполагалась к покупке о. Антонином.
Следуя на юг от группы четырех гробниц ер-Романие чрез гору, встречаем деревню Бет-Сагур-ель-Адиа новейшего происхождения, но окруженную древними гробницами, также, конечно, принадлежавшими Иерусалиму. Одни из этих гробниц служат овчарнями, другие разрушены временем и враждебною арабскою рукою. Одна из них на северной стороне деревни имеет надпись, к сожалению до такой степени слизанную дождями, что списать её нет возможности; можно заметить только что шрифт её был квадратный. Около 5 минут на юг от деревни, в вади ель-Ом-Дшебер, встречается опять много полуразрушенных гробниц с следами еврейских квадратных надписей, прочитать которые едва ли есть человеческая возможность; бо́льшая часть гробниц имеет здесь по две камеры то с ложами то с loculi. Особенно замечательна тщательная отделка входов в эти гробницы. Эту часть древнееврейского некрополя арабы называют гробницами мира, мокгарет-ес-саляг.
V. Некрополь голгофоский или западный
У древних римлян западная сторона города, обращенная к царству тмы, поглощающему солнце, считалась стороною несчастий, так что главные городские ворота могли быть обращены на восток, север, юг, но никогда на запад. Для римского полководца было бы преступлением, при устройстве лагеря, сделать его открытым на западную сторону; это значило бы накликать убийства и смертность на свою армию. Только авгур своим заклинательным посохом (lituus) проводил от своего шатра таинственную линию на запад в поле за лагерь. Такое же значение получила западная сторона Иерусалима в период римского владычества. Тогда как все другие стороны города имели триумфальные священные ворота, западная стена имела одни «судные ворота», чрез которые вел путь наказания и смерти, и за которыми было расположено место публичных казней. Известно, что, по древнему обычаю и законодательству Моисея, наказание преступника смертию должно было совершаться за стеною лагеря или города (Чис.15:35; 1Цар.21:13; Деян.7:35; Евр.13:11), точно так же как по римским законам место суда должно было лежать вне городских стен (Cic. leg. II, 23. Plaut. mil. glor. II, 46). В самом Риме площадь суда была пред воротами Collina и Esquilina. И во всех больших римских городах, как Кельн, Трир и др., при Капитолиуме находилось марсово поле, на котором исполнялись судебные смертные приговоры; в первые века христианства это были театры мученичества. Иерусалим в этом отношении не представляет исключение. Пред западными воротами суда недалеко от города (Ин.19:20, 41, 42) находилась иерусалимская марсова площадь с холмом, по самому имени своему напоминающим римские капитолии. Если, по объяснению евангелиста, Голгофа значит «место черепа» κρανίου τόπος; то, по этимологии Диона Кассия, капитолии καπετώλιον есть тоже что κεφαλαῖος, место головы, иначе потери головы или обезглавление, подобно тому как от нем. Kopf голова происходит köpfen обезглавить, как от лат. jugulum горло происходит jugulare удавить. Фальмеройер ошибочно полагал, что местом погребения Спасителя была не какая либо особенная площадь или некрополь, а городское предместие, на одной из улиц которого Спаситель и был погребен, как погребают в настоящее время по обычаю магометан, в саду, прилегавшем к дому, потому что близость праздника Пасхи не позволяла искать места для погребения Распятого на настоящем некрополе. Осуждение и смерть Спасителя вовсе не были случайным и необыкновенным явлением пред праздником. Ежегодно около этого времени приходил в Иерусалим начальник области из Кесарии для окончательного решения накопившихся уголовных дел, так что смертные казни пред Пасхою были в Иерусалиме обыкновенны (Sanhedrin 89, 1), а для погребение казненных было отведено на самой марсовой площади особенное место, представляющее особенный некрополь, и притом место вне города, так как у евреев и закон и обычай запрещали всякое погребение на городских улицах.
Начиная от нынешних русских построек до западной стены древнего Иерусалима шел легкий склон горы с запада на восток, неровный, с небольшими скалистыми бугтами и натуральными пещерами. Но, не доходя около 100 локтей до городской стены, этот склон представлял небольшую площадку или, лучше сказать, котловину, окруженную почти со всех сторон скалистою стеною в 20 футов высоты и имевшую 150,000 квадр. футов, при 760 футах окружности. На восточной стороне котловины в виде мыса выступал скалистый холм, имевший не более 15 футов высоты над площадью котловины, но обращавший на себя внимание по своему виду, напоминавшему человеческий череп. Это была Голгофа, настоящий естественный эшафот для публичного наказания преступников. Как большая часть холмов местности, Голгофа имела в себе натуральную пещеру, в которую, вероятно, бросались трупы казненных и из которой позднейшие сказания сделали какую то мировую пещеру, краеугольным камнем которой служит череп Адама, найденный якобы здесь невредимо сохранившимся, точно также как, по римским скаканием, в глубине скалы Капитолийского холма была найдена голова (отсюда имя холма Капитолий) одного царя предсказателя, по которой предсказывали сивиллы, что Капитолий будет некогда главою (caput) царства и мира. В западной стороне котловины, имевшей менее высокий и крутой спуск, были иссечены две гробницы. Одна из них очевидно принадлежала зажиточной фамилии, была сделана по образцу большей части иерусалимских гробниц, т. е. имела вестибюль и за ним гробничную камеру с 3 loculi в стороне против входа и 4 в боковых сторонах. По своему грунту миззи эта гробница отличалась от других иерусалимских гробниц, которые все (за исключением так называемых «гробниц пророков», как мы видели, вовсе не назначавшихся быть гробницами) иссечены в более мягком и удобном для работ грунте маляки. По особенностям каменного пласта выбранного для гробниц, гробничной камеры нельзя было сделать на горизонтальной линии, и её сделали с покатым полом; грунт не позволял сделать и сокровищницы на обыкновенном месте за loculi; её сделали в полу гробничной камеры в виде особенного подземного отделения, закрывавшегося каменною плитою. Видно, что владелец, купивший это место для своих гробниц, был человек чужой в Иерусалиме, и притом находился в особенных обстоятельствах, если он решился на покупку места, неудобного не только по близкому соседству с театром публичных казней, но и по самому свойству грунта. Но этой гробницы, известной в настоящее время под именем «гробниц Иосифа и Никодима» было недостаточно для большого семейства владельца. И вот последний устраивает новую гробницу, и притом, вследствие негодности окружающего грунта котловины, избирает часть скалы ещё более близкую к Голгофе, отстоящую от неё всего на 120 футов, но за то удобную по грунту маляки и лежавшую по уровню на 4 фута ниже первой гробницы. Уже был сделан антишамбр новой гробницы и первая гробничная камера вчерне, как Провидение остановило дальнейшую выделку loculi и погребальная необделанная камера с наскоро приготовленным одиночным ложем сделалась гробницею Того, Кто во всю жизнь не имея где подклонить главы, не имел собственной усыпальницы и для своего краткого смертного покоя. Что гроб Господень имел не loculi, а простое ложе в виде скамьи, это видно из того, что Мария, придя к гробнице и наклонившись к низкому входу в пещеру, увидела «двух ангелов, сидящих на месте, где лежало тело Иисуса (Ин.20:5, 11, 12) – чего нельзя было бы сказать о loculus. В нынешнем виде ложе гроба Господня поднято над полом гробничной камеры на 2 фута высоты, имеет длины 6 футов 4 дюйма и ширины 3 фута. Несколько далее на восток от этой гробницы, по обычаю устроения некрополей, была цистерна, во время смерти Спасителя не имевшая воды. В нее по преданию были брошены кресты Спасителя и распятых с Ним разбойников, вероятно, по особенной поспешности погребение, потому что, по раввинскому предписанию, орудие казни должно было быть погребено вместе с казненным. «Камень, которым убита кто либо, дерево, на котором кто либо повешен, меч, которым кто либо обезглавлен, веревка, которою кто либо задушен, должны быть погребены вместе с казненными (Sanhedrin 45, 2)»36.

Рисунок 58. Первоначальный вид Голгофского некрополя
Со времени Робинсона часто повторяются возражение против подлинности нынешнего гроба Господня. Главным образом эти возражение основываются на том, что нынешняя голгофская местность для округленности города должна была и во время жизни Спасителя входить в черту города, как она входит в настоящее время; след. древний некрополь здесь не мог быть. Мы увидим ниже, что, по позднейшим открытиям, направление древней городской стены на западной черте города может быть указано самым точным образом, и по этому направлению гроб Господень не только не входил в черту города, но отстоял от неё вдвое дальше того промежутка, который древнееврейские учители считали необходимом для расстояние между городскою стеною и гробницею. По Schemitta Vejobel (гл.13:2) это расстояние должно быть не менее 50 локтей. Между тем от гроба Господня до остатков линии западной городской стены (так называемой второй) не менее 100 локтей. Самые гробницы, известные в настоящее время под именем гробниц Иосифа и Никодима и гроба Господня некоторым казались не еврейскими а христианскими по своему устройству и характеру. Это положительно не верно. Между всеми находимыми до настоящего времени древнехристианскими гробницами ещё не найдено ни одной с loculi. Между тем гробницы Иосифа не только имеют loculi, но даже расположены в точности по правилу рабби Симеона: «нужно сделать грот 8 локтей длины на 6 ширины и внутри его иссечь коким: 4 справа, 4 слева, три против входа....; пред входом же нужно сделать притвор 6 локтей длины на 6 ширины; коким же должны быть 4 локтей длины на 7 пядей высоты и 6 ширины». Все эти цифры строго удержаны в гробнице Иосифа; что касается притвора или антишамбра, то он очевидно существовал, но снят при построении храма Воскресения, так как на его месте должна была проходить стена. Если же таким образом гробница Иосифа несомненно древнееврейского происхождения, то на каком основании для другой соседней с нею гробницы искать особенного христианского происхождения? Если гроб Господень имеет ложе, а гробница Иосифа loculi, то такого рода разности в гробницах одного времени встречаются не редко; даже в одной и той же гробнице вместе с loculi встречаются и ложи. Нет слова, что от первых веков христианства осталось много христианских гробниц, не отличающихся по устройству от гроба Господня; таких гробниц много найдено на островах Кипре, Мальте, даже в Риме. Но такого устройства гробницы могут считаться общераспространенными; они были известны в самые ранние периоды еврейской истории. Со времени же христианства этот вид гробниц, получивший освящение в гробе Спасителя, сделался образцом для всех христианских гробниц, вследствие чего существовавший прежде, одновременно с этим видом гробниц, другой вид с loculi был навсегда оставлен. Если бы, как многие думают, христиане случайно начали указывать гроб Господень в нынешней гробнице этого имени; как в первой попавшейся на глаза гробнице, имевшей некоторое соответствие с описанием евангельским, как говорит Робинсон; то для этого избрали бы скорее гробницу соответствующую с законным фарисейским предписанием, вместо этой гробницы общего и неопределенного стиля.

Рисунок 59. Разрез Гроба Господня
Спрашивается ещё: могли ли первенствующие христиане забыть место смерти и погребение Спасителя, чтобы впоследствии нужно было искать его между иерусалимскими гробницами? Когда импер. Траян спросил в Вавилоне о том доме, в котором умер Александр македонский, чтобы принести жертвы памяти героя, ему тотчас его указали, несмотря на то, что Вавилон, со времени Августа, был совершенно оставлен жителями и только несколько иудейских семейств скрывалось между его развалинами. Могли ли христиане менее помнить гробницу своего Спасителя, за которого они с радостью жертвовали жизнию, чем эти иудеи помнили место смерти чуждого им героя? Когда апостол Павел учил новых христиан: «если Христос не воскрес, тщетна проповедь наша, тщетна и вера наша (1Кор.15:14)»; могли ли слушавшие его христиане не спросить и не узнать о том гробе, из которого воссияла христианская вера, – что тем легче было сделать, что между ними были свидетели погребения Спасителя, которое ни для кого не было тайною из городских жителей (Мк.15:47). Разве не говорит не только об известности в народе, но и о высоком значении этой гробницы то обстоятельство, что импер. Адриан, для нанесения удара христианской вере, отнимает у христиан гробницу Спасителя, приказывает засыпать наносною землею театр смерти и погребение Богочеловека, т. е. Голгофу и примыкающую к ней котловину с гробницами? На образованной таким образом насыпи был построен над местом Голгофы храм и статуя Астарты или Венеры, а на месте гроба Господня была поставлена статуя Юпитера. От времени Антонина Пия осталось две монеты с изображением языческой часовни на месте Голгофы; на ней представлена Астарта, держащая в правой руке человеческую голову. Что касается Юпитера, поставленного на месте гроба Господня, то это, вероятно, как говорит Сульпиций Север (Hist. Sacra II), был египетский Сепариз, чувственный образ восстающего от смертного сна Озириса. Но уже эти языческие образы, статуя смерти и статуя возрождения и воскресения, поставленные на месте действительной смерти и действительного воскресения Богочеловека, предохраняли от забвение засыпанную гробницу, так что, когда импер. Константин великий изъявил намерение построить храм на месте гроба Господня, ему указали это место без затруднений. По свидетельству Евсевия (Vita Const. I, 111. c. 26), Константин великий срыл храм Венеры, снял насыпь, сделанную Адрианом и открыл гроб Господень в совершенной целости. К сожалению, однако ж, во время Константина великого первоначальный вид гроба Господня был много изменен. Прежде всего, чтобы сообщить гробнице форму часовни, её отделили от скалы, как гробницу Богоматери в Гефсиманском вертепе. Потом, так как гробница занимала много места в воздвигнутой над нею базилике, сняли антишамбр гробницы, так что погребальная внутренняя камера стояла одна среди снесенной кругом скалы. Вот что говорит об этом св. Кирилл иерусалимский: «входной грот в гроб Господень был иссечен в скале, как и в других местных гробницах, но в настоящее время его нет более, потому что он был срыт при украшении храма (Catech. XIV)». Мы глубоко чтим ревность строителей храма по украшению св. гроба; но не можем не сказать здесь, что пресвитер константинопольский Евстафий, которому, как говорит Иероним, было поручено от императора, не щадя средств, украсить место страданий и смерти Богочеловека, сделал бы гораздо более, если бы не касался внутренности гробниц и обе камеры, т. е. антишамбр и камеру гроба, оставил в их первоначальном виде. Простой серый камень (маляки) св. гроба, в своей наготе мог бы говорить христианскому чувству не менее, чем он говорит в новой округленной форме под золотыми и мраморными обшивками. Ошибка пресвитера Евстафия скоро была понята и снятый антишамбр снова был пристроен. – О нынешнем виде св. гроба и храма Воскресения будет речь ниже.
Но гробница Иосифа и Никодима и гроб Господень не были единственными в этой части иерусалимского некрополя. По свидетельству Флавия, в соседстве с этими гробницами была ещё важная гробница первосвященника Иоанна. Приступая к осаде сионской крепости, Тит нашел самым удобным пунктом для нападения на неё «место около памятника первосвященника Иоанна, так как против этого памятника стена сионской крепости не была так высока, как с других сторон, и так как кроме того отсюда открывался путь к другому укреплению – Антонии (Войн. V. VI, 2)». Это описание вполне соответствует позиции нынешней местности храма Воскресения, занявши которую Тит имел справа сионскую крепость, слева Антонию. Ещё яснее положение памятника Иоанна указывается Флавием в Войн. Иуд. V, XI, 4. Занявши уже намеченную им позицию, «Тит назначает X легион для работ на восточной стороне миндального пруда, а XV легион в 30 локтях далее при гробнице первосвященника Иоанна». Таким образом гробница Иоанна была несколько на запад от пруда миндального (ныне Биркет-хамам-ель-батрак). Ещё раз гробница Иоанна упоминается в Войн. VI, 11, 10, где говорится, что «некто иудей Ионафан, выйдя из ворот города, вызывал римлян на единоборство у гробницы первосвященника Иоанна». Что касается личности первосвященника Иоанна, которому принадлежал памятник, то, по мнению Сольси, это был пятый первосвященник после вавилонского плена, сын Иуды, внук Елиазиба, брат Иаддуя, встретившего в Иерусалиме Александра великого; следовательно памятник по этому мнению был сооружен за 4 века до Р. Хр. Но это мнение опровергается свидетельством Berachoth 29, где строитель этого памятника причисляется к секте саддукеев. Не могла эта гробница принадлежать и известному фарисею Иоанну-бен-Саккаион, пережившему осаду Иерусалима. Может быть здесь нужно разуметь того Иоанна из рода первосвященнического, о котором говорится Деян.4:6. – В настоящее время место около пруда миндального густо застроено, так что никаких следов гробницы не может быть заметно. Очень вероятно, что, кроме неё, под нынешним христианским кварталом Иерусалима, между прудом и храмом Воскресения, засыпаны и другие неизвестные древние гробницы, принадлежавшие к голгофскому некрополю.
* * *
Заслуживают внимания, наконец, новейшие еврейские кладбища в Иерусалиме. Главное еврейское кладбище, представляющее один из обширнейших в мире некрополей, занимает всю местность древнего восточного некрополя на западном склоне Елеонской горы от гробниц пророков до дна кедронского потока. Вся эта местность так густо усеяна надгробными плитами, что, по выражению одного поэта путешественника, для наблюдающего с сионского холма она представляется окутанною целым роем видений. Но, замечательно, что этот некрополь, как видно из описаний его от предшествующих веков, остается всегда в одних и тех же пределах, не смотря на ежедневные его наращения. Осыпающийся наносный грунт западного склона Елеонской горы постоянно надвигается сверху вниз к руслу кедронского потока, особенно во время зимних дождей, вместе с тем и весь новый некрополь незаметно сносится к подножию горы, таким образом если в течение летнего сезона некрополь поднимется к вершине горы, то после каждой зимы непременно осядет и сократится. Многие десятки надгробных плит зимними дождями сносятся в самое русло потока, где или заносятся песком или забираются жителями Силоама. Кроме того, силоамские феллахи нередко берут плиты и с свежих гробниц, и евреям приходится ежегодно тратиться на большие бакшиши, чтобы обезопасить могилы своих умерших от арабских нападений. Нынешние еврейские гробницы состоят не из пещер и катакомб, как древние, но из ям обыкновенно 2½ футов глубины, куда тела кладутся без гробов; только сверху над телом наскоро набрасывается из камней свод, чтобы, как говорит Вергилий, molliter ossa quiescant; устье могилы всегда закрывает известковая плита с надписью имени, месторождения и возраста умершего, с прибавлением короткой эвлогии, обыкновенно следующей: «да будет душа его связана в узле вечной жизни». Некоторые из гробниц подарены длинными произведениями местных поэтов, имеющими предметом похвалу мудрости, когда надпись относится к мужчине, или скромности, когда дело идет о женщине. Самые древние из этих надписей принадлежать только половине XVII века и занимают самую нижнюю часть некрополя, ожидая своей очереди быть вытесненными в русло потока давлением верхних, новейших могил. По указанием надписей большая часть гробов принадлежит пилигримам, прибывающим в Иерусалим к смертному часу в надежде на обещание раввинов, что в долине Иосафата не только червь, но и самый ангел суда не посмеет коснуться умершего. Быть погребенным в св. земле, говорят рабби Аарон и рабби Ицхак Зангар, то же, что быть погребенным под алтарем. Когда одного дряхлого еврея спросили, что заставило его на 76 году жизни прибыть в Иерусалим, он отвечал: «мне не 76 лет, а два дня, потому я живу только с той минуты, когда приобрел себе гроб в Иерусалиме». Есть свидетельства (см. Wilde, 2, 364), что в XVII веке транспортом были присылаемы в Иерусалим из Европы чрез Яффу целые тысячи умерших, для погребения их в долине Иосафата, По свидетельству путешественников XVI века среди этого некрополя было одно священное место, на котором неугасаемо горела лампада и на котором ожидали первого явление в Иерусалиме Мессии (Радзивил 358).
Христианский новейший некрополь занял важный пункт древнего Иерусалима, самую вершину Сиона, около места Тайной Вечери так называемого гроба Давида. Что касается магометанского некрополя, то главная его часть прилегает к площади харама от Гефсиманских ворот до колонны суда; второе магометанское кладбище на северной стороне Иерусалима у грота Иеремии (это место известно под именем Сагера земля суда); третье магометанское кладбище у пруда Мамиллы и так называемых Иродовых гробниц. Есть много отдельных магометанских уэли как в городе так и в окрестности.
* * *
Топография Иерусалима. Остатки стен древнего города
Определение топографии древнего Иерусалима представляет Иосиф Флавий в сочинении Войн. Иуд. V. IV. I. «Город Иерусалим, там где он не окружен непереходимыми оврагами, огражден тремя стенами, а где защищен оврагами, имеет одну стену. Он построен на двух холмах λόφων, обращенных лицом один к другому ἀντιπρόσωπος; и разделяемых долиною, в которую сходят дома с обоих холмов уступами, ἐπάλληλοι κατέληγον. Из двух холмов города холм, на котором стоял верхний город, несравненно выше и длиннее. Другой холм, называемый Акрою ἄκρα, на котором стоит нижний город, покат на обе стороны и подобен неполной луне. Против него лежал третий холм, который от природы был ниже Акры и некогда отделялся от неё другою широкою долиною. Но впоследствии, когда царствовали асмонеи, долина была засыпана землею – так как асмонеи хотели город соединить с храмом – и возвышение Акры срыто, чтобы чрез него можно было видеть храм. Долина же, разделяющая холм верхнего города от холма нижнего, называемая тиропеон ἡ τῶν τυροποιῶν, достигает до источника силоамского. Совне два первые холма окружены глубокими долинами и, по причине крутых скатов, неприступны».
Первый из указанных здесь двух холмов древнего Иерусалима, заключавший верхний город, можно полагать бесспорно на нынешнем Сионе37. Но описание второго холма, как оно ни кажется определенным, при перенесении его на нынешнюю карту Иерусалима, порождает множество недоумений, которых не могло одолеть доселе никакое остроумие исследователей. Со времени Брокарда (Locorum terrae.... cap. VIII) нижний город или Акру Флавия обыкновенно полагали на север от сионского холма, на нынешнем христианском квартале Иерусалима, а долину тиропеон проводили от Яффских ворот по нынешней улице Давида, вдоль северной границы Сиона, затем на северо-западном углу последнего в прямом направлении на юг к силоамскому источнику. Но это объяснение в новейшее время встретило сильных противников в лице Вильямса, Шульца, Крафта, Риттера, Тоблера, Сеппа, Пьеротти и др. Выставлялись именно следующие возражение. 1) «На северной стороне Сиона нет долины, которая отделяла бы от верхнего города предполагаемую Акру». Это возражение имеет более видимую, чем действительную основательность. Если в настоящее время на северном склоне Сиона нет заметного углубление, то, как показали раскопки (о которых скажем ниже), оно было в древнее время. При этом не нужно забывать, что, начинаясь от нынешних Яффских ворот, долина могла не быть сразу глубокою, а её название у Флавия φάραγξ (обрыв) могло оправдываться южным продолжением её, где она действительно переходит в ущелье. Совершенно излишне предположение Тоблера, что с северной стороны Сион был отделен искусственным рвом, там где недоставало обрыва естественного; описание Флавия не дает повода к такому предположению. 2) «На северной стороне Сиона не достает отдельного холма λόφος для Акры; местность представляет здесь оконечность большой возвышенности, простирающейся далеко за черту города на северо-запад, оконечность, которая, взятая отдельно, не могла назваться холмом, каким Флавий называет Акру, а взятая в своей целости, т. е. со всею северо-западною возвышенностью, будет выше Сиона, а не ниже его, как определяет Акру Флавий». Основание этого возражения справедливо. Но, спрашивается, почему не могла назваться холмом нижняя выпуклость возвышенности, врезывающаяся в черту города с севера и городскою стеною отделенная от остальной части возвышенности. Называется же у Флавия отдельным холмом города гора храма, хотя она была только южным продолжением Везефы. Если Мория и Везефа могли быть названы отдельными холмами, потому что они были уединены от окружающей местности отдельными стенами, то на этом основании и нижнюю часть возвышенности, лежащей на северной стороне Сиона, можно было рассматривать отдельно и назвать низшею в сравнении с Сионом. Это даже требуется определительным выражением Флавия об Акре ἀμφίκυρτος (имеющий форму полумесяца), характеризующим именно боковую выпуклость холма, а не его полное очертание; к другим холмам Иерусалима этот эпитет не может быть приложен. Точно также только о склоне горы на северной стороне Сиона можно было сказать, что он лежит прямо против (ἀντικρύ) горы храма. 3) «По Флавию оба холма города, то есть Сион и Акра, окружены глубокими оврагами, делающими город неприступным. Между тем если под вторым холмом разуметь холм на северной стороне Сиона, то он не только не будет отделен оврагом с своей западной и северной стороны, но сам будет представлять нижний уступ горы, возвышающейся непосредственно за городскою стеною». Это возражение предотвращает отчасти Робинсон (Paläst. 11, 52) замечанием, что выражение: «два холма» синекдотически употреблено у Флавия вместо «весь город», так как далее Флавий говорит именно о недоступности города вообще, –хотя во всяком случае это выражение будет не точно. Где бы ни ставить Акру, она не будет окружена со всех сторон оврагами, так что Вильямс и Крафт, настаивающие на буквальном понимании естественной недоступности Иерусалима, как с других сторон, так и со стороны Акры, создают лишние трудности и для своих собственных объяснений положение Акры. 4) «Флавий говорит, что с холмов Сиона и Акры террасовидно сходили в лежащую между ними долину городские здания, между тем такому представлению препятствует стена с тремя башнями Ирода, проходившая по северной стороне Сиона». Это возражение основательно, но оно будет стоять против всякого другого предположения о холме Акры, потому что крепостная стена окружала Сион со всех сторон. Более других в настоящем случае оправдывалось бы отождествление Акры с южною частью горы храма, действительно террасовидно сходящею в долину против горы Сиона; но мы увидим, что это предположение не может быть принято. Если наибольшие противники положение Акры на северной стороне Сиона, Вильямс, Шульц, Крафт полагают ее на «северной стороне» храма, то к этому пункту ещё более неприложимо замечание Флавия о городских зданиях, сходящих террасами с холмов верхнего и нижнего города в лежащую между ними долину. Нужно предположить одно из двух: или признать не точность у Флавия и террасовидность расположения городских зданий допустить только на одном из холмов, или же предположить, что на обоих холмах здания могли сходить в долину не до самой глубины её, а только в верхних частях холмов двумя тремя уступами, тем более что и употребленный Флавием термин καταλήγω не указывает спуска до глубины долины; этот термин, в сочетании с частицею εἰς, употреблен Флавием в другом месте (§ 2), при определении отношения третьей стены к кедронской долине, хотя эта стена вовсе не сходила в глубину потока. 5) «По Флавию долина между вторым и третьим холмом, т. е. Акрою и горою храма, была засыпана Маккавеями, вследствие чего храм был соединен с городом; таким образом здесь не может разуметься холм лежащий на северной стороне Сиона, так как его до настоящего времени отделяет от Мории заметная долина». Это возражение нельзя не признать основательным, потому что в самом деле засыпанною долиною Флавия нельзя признать существующую доселе долину, отделяющую Морию от западного холма города. Возражение не устраняется и предположением Робинсона (N. Forsch. 10), что первоначально эта долина представляла глубокий овраг и Маккавеями была засыпана только отчасти. Если в раскопках, сделанных в этой долине, найдены остатки древних сооружений, то это ничего особенного не доказывает, потому что такие остатки находят под всем Иерусалимом. Даже более, эти остатки говорят противное тому что в них желают видеть, потому что они доказывают, что здесь был не глухой овраг, который Маккавеи нашли нужным засыпать, а застроенный квартал города, который едва ли даже была возможность засыпать. С другой стороны, засыпав только часть долины, Маккавеи не достигли бы своей цели соединения холмов; и Флавий не оговаривается, что засыпана была одна только часть долины.
Недостаточность оснований в пользу положение Акры на холме, лежащем на север от Сиона, заставила других археологов искать второго иерусалимского холма в других местах. Некоторые полагали Акру на южном склоне Мории. Уже на карте Зибера и Гримма нижний город, который, по Флавию, лежал на холме Акры, показан на юго-восточном склоне Сиона и западном Офела. Точно также Раумер по крайней мере для одной части Акры назначает южную половину горы храма. Особенно защищают это мнение Ольсгаузен и Унруг. И нужно сказать, что оно имеет за собой некоторые основания. 1) Флавий не причисляет Офела к верхнему городу и между тем говорит, что он был окружен стеною, обнимавшею всю эту местность до силоамского источника. 2) Склону Офела и юго-восточному склону Сиона, с долиною разделяющею их, имя нижнего города соответствует более, чем всякой другой части Иерусалима. 3) Тиропеон Флавия здесь в собственном смысле может назваться оврагом, а сходящие в долину склоны дают те обращенные лицом одни к другим уступы, которыми Флавий определил отношение холмов верхнего и нижнего. 4) В истории осады Иерусалима Акра и нижний город, с принадлежавшими к ним строениеми часто связываются с Офелом и источником Силоамским, что заставляет предполагать об их близости. Напр., по Войн. V. 6, 1, Симон, кроме верхнего города и части древней стены, шедшей от Силоамского источника, занял Силоамский источник и нижний город, между тем как Иоанн завладел святилищем и Офелом. По Войн. VI, 6. 3, римляне сожигают святилище, Акру (с архивом, судилищем и дворцом Елены) и Офел. По Войн. VI, 7, 2, римляне сожигают нижний город и обращают в пепел все до Силоама. Когда верхний город был занят римлянами, иудеи ищут спасение в бегстве к Силоамскому источнику и Акре (Войн. VI. 8. 4 ср. 7, 3. 8, 5). – Но с другой стороны некоторые черты в описании Акры у Флавия совершенно противоречат этому пункту. Офел ни в каком случае не мог быть назван, как называется Акра у Флавия, возвышающимся над горою храма, а главное никогда не мог отделяться от горы храма глубоким оврагом, который впоследствии нужно было засыпать Маккавеям. Далее на Офеле нет места для высоких стен и башен, построенных Антиохом Епифаном на Акре, а также для крепости ἄκρα при холме, давшей, по свидетельству Иосифа, имя Акрополя этой части города (Древн. XII. 5. 4).
Другие полагали Акру на северной стороне площади храма (Вильямс, Шульц, Крафт). Это предположение соответствует тому, что, по 1Макк.1:36, 6:18. ср. 4:41, Акра была вблизи храма и командовала его площадью. Часть города на северной стороне храма легко могла быть избрана для городского Акрополя и крепости. Но, с другой стороны, здесь также не возможно найти место для нижнего города, как на южной части горы храма для Акры. Может быть имя нижнего города относить не к холму на северной стороне горы храма, известному под именем Везефы, но к соседнему склону другой западной горы? Но это будет противоречие свидетельству Флавия, что Акра образует нераздельное целое с нижним городом и что они совместно отделяются от верхнего города тиропеоном. Далее, верхний город здесь не будет ἀντιπρόσωπος с Акрою, а будет смотреть на него косо одним северо-восточным углом и отделяться от Акры будет не одною, а двумя долинами и одним холмом (и действительно на плане Пококка Акра простирается на два холма и разделяется на восточную и западную). Далее здесь, также как и на южной стороне Мории, нельзя найти долины засыпанной Маккавеями. Место соединения этого холма с площадью храма не только не было оврагом, который нужно было засыпать, а напротив было возвышенностью, которую нужно было сносить, что и сделал, по свидетельству того же Флавия, Ирод. Тем более странно искать здесь с Крафтом двух долин, одной между Акрою и Мориею, другой между Акрою и Везефою. А между тем это необходимо потому что, по Флавию, на север от площади храма был четвертый квартал города Везефа, с своею особенною стеною и с своим особенным холмом. Вильямс и Шульц слишком смело выходят из последнего затруднения, помещая холм Везефу, как четвертый квартал Иерусалима, далеко на север, за чертою нынешнего города. Мы увидим ниже, что самое большое расширение древнего Иерусалима не переступало нынешней городской черты. – К Вильямсу и Шульцу приближается по смелости предположение и Сепп (Jerusalem II, X), помещающий Акру на том же холме Везефы, по на другой западной его половине, выше дамасских ворот, где ныне мечеть Mulawieh. Созвучие последнего имени с именем Милло (2Сам. 5, 9. – 2Цар.5:9 и 2Цар.11:27) привело Сеппа далее к перенесению на Везефу и Давидом укрепление Милло, чему, по-видимому, благоприятствует то обстоятельство, что LXX в некоторых случаях переводят еврейское מִלֹּא чрез ἄκρα. Овраг, засыпанный Маккавеями, по топографии Сеппа, есть долина идущая от дамасских ворот на юг, раскопки которой кстати показали, что в первоначальное время её глубина была очень значительна и без преувеличения могла назваться у Флавия оврагом. Таким образом Сепп разрывает Иерусалим Давидов на две части, разделяемые холмом, лежащим на север от Сиона, по мнению Сеппа, не входившим в состав города. Это не натурально и противоречит древним преданиям, помещавшим Милло Давида на южной части Сиона38. Что же касается долины идущей от дамасских ворот, то обнаруженные раскопками слои покрывающего её мусора не могли принадлежать Маккавеям уже потому, что в них между прочим найдены Византийские колонны, мозаика и другие следы позднейших веков.
Эти неудачи в определении положение Акры, соответствующего во всем описанию Флавия, заставили Тоблера (Topogr. 1, 34. Dritte Wanderung 227) искать Акры на самом Сионе. По его мнению, Акрою была восточная половина сионского холма, а разделяющим Сион и Акру тиропеоном была почти незаметная в настоящее время долина, идущая по нынешней улице Егуди с севера на юг и разделяющая Сион на две части: западную и восточную. Такому мнению, говорит Тоблер, соответствует то, что верхний город и Акра в таком случае будут стоять лицом к лицу один к другой и здание обеих частей города будут террасовидно сходить вниз до самого дна долины; что восточная половина т. е. Акра и только она одна, а не западная, или собственно Сион, будет стоять против третьего холма или горы храма и отделиться от него глубоким оврагом; что, при некотором принижении грунта восточной стороны Сиона, эта часть города могла противопоставляться верхнему городу, т. е. западной половине холма, оставаясь в тоже время Акрою (возвышением ); что по отношению к горе храма Акра в таком случае может назваться ближайшим пунктом и командующим местностью святилища, т. е. будет, соответствовать Акре сирийской, построенной в Иерусалиме Антиохом; что, по Древн. VII, 3. 2, Давид соединил нижний город с верхним общею стеною; что, при осаде Иерусалима Титом, Акра упоминается только тогда, когда уже весь город был в руках неприятеля, за исключением сионской части; что оба холма города Сион и Акра в таком случае будут по самой своей природе неприступны. Таким образом, заключает Тоблер, только нынешний сионский холм был городом в собственном смысле; все другие части были его предместья.
Нужно сказать, что это мнение не без остроумие примиряет многие положение Флавия, в особенности положение касающиеся известных трёх стен Иерусалима, потому что у Флавии нигде ясно не говорится, что первая стена принадлежала собственно верхнему городу, вторая Акре и нижнему городу, как третья новому строению или Везефе. Мало того, юго-восточный уклон первой стены у Флавия описан так, что дает повод заключать о принадлежности его не верхнему городу, а нижнему. И у талмудистов название Акра или חקרא употребляется о сионском холме (Megillah taanith с. 2); и LXX укрепление Милло, бывшее на Сионе называют ἄκρα. Но, с другой стороны, гипотеза Тоблера возбуждает много непроходимых противоречий. 1) Совершенно не натурально, чтобы нижний город лежал на Сионе. Понижение, представляемое сионским холмом на восточной стороне слишком незначительно, чтобы его можно было различать как противоположность верхнему городу. 2) Гора на восточной стороне очень круто обрывается и не позволяет думать, что по её откосу мог сходить в долину нижний город; с другой стороны, долина на высоте сионского холма, которую Тоблер называет Тиропеоном, слишком ничтожна, чтобы сделать верхний город περίκρημνος. Таким образом Тоблер разрушает ясные границы верхнего города и в его пределе плохо строить Акру. Впрочем для крепости сирийской, также называющейся Акрою, избранное Тоблером место идет хорошо, и может быть эта крепость действительно была на Сионе. 3) Акра Тоблера с своим ничтожным отделением от Сиона не имеет права назваться отдельным холмом. Здесь нельзя указать ничего похожего на Флавиев овраг, проходивший между Сионом и Акрою до Силоама. Сам Тоблер в третьем своем путешествии (227 и дал.) нашел невозможным указать Флавиев овраг на Сионе, хотя это и не заставило его отказаться от своей теории. 4) Тоблер отпускает из виду название холма Акры ἀμφίκυρτος, вовсе не идущее к восточной части Сиона, особенно в сопоставлении с эпитетом первого холма ἰθύτερος 5) Часто упоминающийся у Флавия мост, соединявший гору храма с Сионом, в гипотезе Тоблера делается невозможным, потому что храм и Сион будет разделяться Акрою. 6) В истории осады Тита есть пункты, не приложимые к плану Тоблера. Как объяснит Тоблер то, что завладение верхним городом считается ещё далеко неконченым по занятии Акры и сожжении его главных зданий, если, как выходит из его предположения, Сион и Акру окружала одна общая стена?
Таким образом ни одно из возможных предположений на счет Акры не совпадает с подробностями описания Флавия. В особенности же все исследователи становятся в тупик пред показанием этого историка, что нижний город должен быть одно и тоже с Акрою сирийцев, построенною Антиохом и что Акра, где бы ни предполагать её, должна ныне представлять тот вид, какой она получила после срытия крепости сирийцев и холма, на котором она стояла и по заполнении долины, отделявшей её некогда от горы храма. Так как подобного холма и подобной долины нельзя найти в Иерусалиме, то нельзя ли предположить неверность в самом описании Флавия. И в самом деле. Уже для первого взгляда кажется странным, каким образом акрополь, занимающий обыкновенно самые возвышенные пункты городов, мог быть в нижнем городе. Положим Флавий оговаривается, что холм Акры некогда был высок, даже выше горы храма и понижен асмонеями; но, если бы даже это было справедливо, им оправдывалось бы название Акры только для горы храма, но не для Сиона, который всегда оставался выше Акры. Что описание Акры у Флавия есть не более как его собственная фантазия, видно из следующего: 1) если предположить, что нижний город в первый раз явился таким по срытии холма Акры, то значит прежде его не было. Если же не было нижнего города, то не могло быть и верхнего, между тем как сам Флавий в других местах уже во время Давида считает в Иерусалиме верхний и нижний город. 2) Способ, каким совершается срытие по Древн. XIII, 6, 7, именно что Акрополь был «сравнен с землей», противоречит другим местам того же Флавия, где говорится, что холм был только «принижен»; назвавши холм срытым до основания, Флавий продолжает указывать на него как на существующий. 3) Нельзя указать достаточного мотива к срытию холма. В Древн. XIII, 6, 7 указан только тот мотив, что Акра была осквернена пребыванием в ней врагов, сделавших много зла иудейскому народу. Но было бы положительною глупостью срыть крепость, служившую опорою всего города и даже всей страны из-за того только, что некогда помещался в ней неприятельский гарнизон. Трудно представить каким образом умный практический Симон мог придти к этой мысли, а ещё более каким образом этим мотивом можно было «три года» поддерживать рвение народа, «день и ночь трудившегося» над разрушением своей собственной крепости и её холма. Ещё страннее другой мотив срытия Акры, указанный в Войн. V. 4. 1: «чтобы гора храма казалась выше и выступала над Акрою». Откуда могла вдруг придти такая мысль народу? И для кого хлопочет народ открывая вид на храм?. Если для того, чтобы сделать храм видным для городских жителей, то с высокого холма он мог быть виднее, чем со срытой возвышенности. Если здесь имелось в виду открыть вид на храм сторонним зрителям с пунктов вне городской черты; то для чего такой жребий пал на одну Акру; отчего уже вместе не срыть было и Сион, высочайший пункт города, заслонявший храм с юга и запада? Очевидно мы имеем дело здесь не с историческим фактом, как ни стараются что доказать Вогюэ и др., а с гипотезою позднейшего писателя, построенною на основании весьма не точных сведений. По свидетельству более достоверного исторического документа, 1Мак.13:50 и дал. 14:36, Маккавеи вовсе не срыли крепость Акру, но сделали с нею нечто противоположное: «по удалении сирийского гарнизона очистили Акру от нечистот, освятили её при торжественном ликовании народа и поместили в ней иудейский гарнизон, а укрепление храма «при Акре» назначили резиденциею первосвященника – князя Симона». И так крепость и холм Акры, по свидетельству Флавия срытый и сравненный с долиною, по свидет. 1 кн. Макк., остается неприкосновенным и после Маккавеев.
Это противоречие рассказа Флавия с свидетельством 1 кн. Макк., указанное уже Михаэлисом, Робинсон (Neuere biblische Forch. 106) старается примирить тем предположением, что в кн. Макк. говорится о первом времени по занятии Акры, прежде 3-го года Симона, когда известным надписанием на медной доске была увековечена деятельность Симона, а Флавий, игнорируя это первое время, имеет в виду позднейшее время между 3 и 8 годом Симона, когда, при лучших обстоятельствах для города, Акра могла быть совсем срыта и вместо неё построена другая крепость на северной стороне храма. – Но, не говоря уже о внутренней невероятности такого предположения, нужно заметить здесь следующее. 1) Когда противоречие в рассказе древних писателей объясняется тем предположением, что один из них умолчал об известном факте, потому что вполне сосредоточился на другом, скоро затем последовавшем факте, тогда как другой писатель обратил внимание более на пропущенный первым факт и на нем сосредоточился, обходя совершенно то, что заняло первого; то для этого предположение нужно α) чтобы факты были параллельные один другому и один к другому приводящие; β) нужно чтобы они были одного характера, а не противоположного и потому вызывающего на размышление; γ) нужно чтобы эти факты были незначительны и чтобы пропуск их не мог быть пробелом в рассказе. Прилагая этот критерий к данному случаю, находим невозможным пропуск в 1 кн. Макк. такого важного в истории Иерусалима факта, как срытие и уничтожение одного из его холмов и, следовательно, находим исторический излишек или вымысел у Флавия. 2) Связанное с срытием Акры восстановление другой крепости на новом месте (на севере храма), которое Робинсон находит в рассказанном 1 кн. Макк. (1Мак.13:53) «укреплении крепости храма при Акре», связано с занятием Акры во 2-м году Симона, по 1Мак.13:51, следовательно его нельзя относить к предполагаемому позднейшему срытию Акры.
Одновременно с Робинсоном, Крафт старался примирить противоречие между Флавием и кн. Макк. противоположным способом. Именно, по его мнению, Флавиево срытие холма имело место прежде, а рассказываемое в 1 кн. Макк. повое укрепление крепости чрез три года после. При этом Крафт хочет сделать больше чем Робинсон, избежать предположения положительных пропусков в том или другом источнике; по его мнению все дело здесь в том, что один источник говорит глухо о том, что другой передает в подробностях, отсюда выходит видимое противоречие. На Флавиево срытие холма намекает и 1 кн. Макк., когда говорит, что Симон построил «сильную крепость храма при Акре»; между тем крепость при храме могла считаться сильною только по срытии высокого, командовавшего храмом, холма Акры. Если в другом месте кн. Макк. говорится, что Симон «вновь укрепил» Акру, то и это показывает, что она была, как говорит Флавий, прежде срыта и, сделавшись таким образом неопасною для храма, но продолжая иметь значение для нижнего города, была укреплена заново, – что согласно и с положительным свидетельством Флавия (Древн. XV, 11. 4), что Маккавеи «возобновили» вблизи храма, и именно на северной стороне её, ἀκρόπολις, который они называли βαρεῖς. Короткое сообщение 1 кн. Макк., что «укрепленная сирийцами Акра чрез три года по её занятии иудеями была снова укреплена», Флавий только распространяет своим рассказом, что сирийская крепость, по её опасной для храма близости, сначала была разрушена, причем была срыта и высота скалы, на которой она стояла, а долина между нею и храмом засыпана, так что вновь построенная крепость лежала глубже и дальше от храма чем первая.
Как ни искусна эта аргументация Крафта, она далеко не искупает погрешностей Флавия и сама держится на целой нити противоречий. 1) Совершенно произвольно Крафт греческое ὠχύρωσε 1 кн. Макк. (1Мак.13:53, 14:37) принимает в значении «вновь укреплять», чтобы видеть намек на предшествовавшее срытие холма. 2) ещё более произвольно Крафт навязывает Флавию отождествление Акры с крепостью храма, βαρεῖς; или Антониею, на что у Флавия нет никаких намеков. Даже более, Флавий отвергает это, говоря, что Акра лежала в нижнем городе и первоначально отделялась от храма глубокою долиною, между тем как Антония всегда стояла на самой горе храма. И кн. Макк. говорит об укреплении горы храма «при Акре», следовательно отличном от Акры. 3) если Крафт укрепление горы храма 1Мак.13:5 и срытие Акры полагает в первом году Симона (скорее бы во втором) а новое укрепление Акры в третьем (1Мак.14:37) или даже по прошествии трех лет; то он смешивает время построения похвальной доски Симону (3-й год) 1Мак.14:27, 37 с временем помеченного на доске события восстановления Акры, которое, понятно, должно было иметь место раньше для того уже, чтобы быть опубликованным в 3-м году Симона, как заслуживающее памяти потомства дело. 4) В главном месте описания Иерусалима у Флавия говорится, что Акра была срезана совершенно и сравнена с долиною; какое же право имеет Крафт предполагать, что она была только уменьшена, и каким образом на ней можно было снова строить Акрополь?
Главным пунктом, о который спотыкаются все примирители Флавия и 1 кн. Макк. служит положение крепости сирийцев, которая, по Флавию; лежала в нижнем городе, а по 1Мак.1:33, 2:31, 7:32, 14:36 в городе Давида, т. е. в верхнем городе. Напрасно Робинсон думает объяснить это противоречие тем, что под городом Давида 1 книга Макк. разумеет вообще Иерусалим, а не верхний город. В таком случае чем объяснит Робинсон то, что имя Иерусалима и города Давидова в кн. Макк. являются одно при другом там, где определяется положение крепости сирийцев в Иерусалиме (1Мак.2:31 в Иерусалиме, в городе Давида), а там, где крепость, как известная, противопоставляется стране вообще, говорится только: «Акра в Иерусалиме, или просто Акра (6:26. 9:53. 10:32. 11:21. 13:49)? Употребление термина: «в городе Давида» только в связи с горою сирийцев, было бы не понятно, если бы он означал тоже что Иерусалим. Очевидно он обозначал только часть Иерусалима, и, следовательно, только гору Сион. И так крепость Сирийцев по 1 кн. Макк. была не в нижнем городе. – Но Флавий стоит в противоречии не только с 1 кн. Макк., но и с своим собственным более раним словоупотреблением. Слово ἄκρα = ἀκρόπολις вероятно заимствованно им из александрийского перевода библии, где оно несколько раз употреблено вместо еврейского מִלּוׄאт. е. для обозначение южной части Сиона. Флавий, систематически отвергая имя Сиона, называет Акрою первоначально Сион вообще и крепость евусеев на Сионе, т. е. то, что впоследствии он называет верхним городом. Этой первоначальной Акре в истории взятие Иерусалима Давидом противопоставляется у Флавия «нижний город». Это – первое подозрительное обстоятельство, потому что библейские источники в истории взятия Иерусалима ничего не говорят о нижнем городе. В кн. 2Сам. 5, 6 и 1Хр. 11, 4 (2Цар.5:6 и 1Пар.11:4) говорится, что Давид, предваренный о трудности завладения Иерусалимом, оповестил в своем войске, что тот, кто первый взойдет на крепость, будет её комендантом и что эта честь досталась Иоаву, сыну Саруи. Между тем Иосиф Флавий разделяет занятие Иерусалима на два акта: 1) первоначальное занятие нижнего города Давидом, 2) занятие Акры Иоавом. С этим Флавий связывает свободный рассказ, что Давид, по изгнании евусеев, возобновил Иерусалим и назвал его городом Давида, или, как он точнее выражается в другом месте, акру с нижним городом соединил одною стеною, чтобы образовать одно целое, которое он назвал городом Давида, тогда как со времени Авраама он назывался Солима. Здесь Флавий допускает две неточности: α) произвольно вносит в рассказ имя нижнего города, не упоминаемого источниками, вероятно для противоположности Акре, дающей понятие верхнего города; β) имя города Давидова, принадлежавшее по 2Сам. 5, 9 (2Цар.5:9) только одной крепости, произвольно расширяет на весь Иерусалим верхний и нижний, вопреки ясному свидетельству другого источника 1Хр. 11, 7. 8 (1Пар.11:7, 8), где говорится, что Давид занимается исключительно только названною его именем крепостью, а остальной город отдает в распоряжение Иоава. Как могло случиться, что Флавий назвал Акрою нижний город и перенес её на другой холм, который, для соответствия имени нижнего города, заставил Маккавеев срыть, войдя в противоречие с самим собою и вымышляя целую историю её срытия, об этом можно сделать следующую догадку. Первое место, в котором Флавий упоминает Акру в этом новом смысле есть Древн. XII, 5, 4, где говорится об укреплении Акры Антиохом. В 1Мак.1:33 отношение Антиоха к Акре определяется так: «он обстроил город Давидов стеною высокою и крепкою и башнями крепкими и сделал из него Акру». У Флавия это обстоятельство передается: «он обстроил Акру в нижнем городе, потому что она была высока и командовала святилищем; поэтому он укрепил ее высокими стенами и башнями и поставил в ней македонский гарнизон». Здесь во 1-х прибавлена глосса: «в нижнем городе», на которую источник не давал права; во 2-х вставлено объяснительное предложение: «потому что она была высока и командовала святилищем». При первом чтении этой цитаты, делается очевидным, что предложения собраны здесь насильственно. Первая и главная ошибка Флавия состояла в том, что он отделил от древнего города Давидова Акру сирийцев и представил ее особенною частью города. Этого было достаточно, чтобы – так как древний Иерусалим состоял только из двух частей верхнего города и нижнего – поставить Акру в нижнем городе, этот последний окружить высокими стенами и башнями, потом эту искусственную высоту перевести в натуральную высоту холма, эту последнюю сделать более высокою, чем площадь храма и, наконец, для выхода из противоречия действительности, срыть все это сооружение. Таким образом построенная Флавиям Акра, как противоположность верхнему городу, обращается в ничто, вместе с историческими данными, на которых она основывается, и вместе со всеми новейшими гипотезами о положении Акры, выведенными на основании свидетельства Флавия.
Если, таким образом, вопрос о втором холме Иерусалима очищен от ложных объяснений, то положение его все-таки остается необъясненным, между тем вычеркивать совершенно этот холм из карты древнего Иерусалима, не смотря на погрешности Флавия, невозможно, потому что в таком случае окажется пробел в топографии города. Скорее всего, что тот холм, который имеется в виду у Флавия под чужим именем Акры, мог лежать на север от Сиона, также как четвертый холм Иерусалима лежал на север от горы храма. Ближайшим образом объяснится этот вопрос в определении положения и направления стен древнего Иерусалима, много раз падавших и восстававших, подобно стенам древнего Рима.
* * *
Иосиф Флавий упоминает о трех иерусалимских стенах, разновременных по происхождению и окружавших различные части города. Первая и самая древняя стена окружала часть города, лежавшую на холме Сиона и шла со всех сторон над обрывом, уединявшим возвышенность холма. Мы говорили уже, что в настоящее время заметного обрыва на северной стороне Сиона нет и что это служит предметом возражений против тождества нынешнего сионского холма с Сионом Давида. Но раскопки показали, что нынешний холм Сиона некогда был уединен и с северной стороны.
При расчистке места для нынешней латинской патриархии было найдено, что лежащий здесь под насыпною землею живой грунт имеет по направлению на юг, т. е. к сионскому холму гораздо более резкий спуск, чем нынешняя его поверхность, именно 10 сантиметров отвесного склона на каждый метр. Несколько далее на юг от патриархии и, следовательно, ближе к Сиону первобытный грунт имеет ещё более крутой скат. На месте большой греческой богадельни, построенной патриархом Кириллом, найденный на глубине 10 метров живой грунт давал склон с севера на юг 14 сантиметров на каждый метр. Ещё далее на юг у подошвы так называемой башни Давидовой живой грунт, сокрытый под нынешнею базарною площадью на глубине 8 метров, не имел склона с севера на юг. Под англиканскою церковью Христа, лежащею прямо против башни Давида, на глубине 11 метров был найден подземный водосточный канал, шедший с запада на восток, конечно по ложу древней долины, хотя живого грунта на этом месте не было найдено; только в нескольких метрах на юг от англиканской церкви натуральная скала появляется снова и уже дает склон не с севера на юг, а обратно с юга на север. Самая низменная часть долины соответствовала нынешней Давидовой улице, идущей от яффских ворот до ворот харама Баб-ес-Синеле. Когда идете этою улицею с запада на восток, возвышение грунта с правой вашей стороны ясно заметно для простого глаза, наприм., в переулке представляющем южное продолжение христианской улицы; с левой же стороны возвышение живого каменного грунта можно замечать вокруг пруда хаммам-ель-Батрак и далее на голгофском некрополе. Древний же грунт самой улицы Давидовой наглядно можно определить по упомянутому нами открытию в греческом монастыре Иоанна Крестителя, примыкающем к этой улице. Здесь под нынешнею церковью открыта потонувшая под песком и мусором древняя церковь VI или VII века, некогда бывшая над землею, как показывают её окна и двери. Порог этой подземной церкви на 8 метров ниже помоста нынешней церкви. Но, чтобы от этой подземной капеллы добраться до основного первобытного грунта, нужно спуститься ещё на такую же глубину, так что засыпанная глубина долины в этом пункте превышала 16 метров. Вообще же долина на северной стороне Сиона имела глубину около 30 метров для наблюдателя с вершины сионского холма и около 20 для наблюдателя с северного пункта пруда хаммам-ель-Батрак. Малый поперечник показывает, что долина была сжатою. Ещё в средние века путешественники легко отличали долину на северной стороне Сиона. «От башни Давида», говорит Брокард, пилигрим 1280 года, «вдоль северного склона Сиона до площади храма идет долина, отделяющая Сион от нижнего города и Мории». – И так исследование грунта на северной стороне Сиона и свидетельство древнего путешественника показывают, что холм, известный в настоящее время под именем сионского, был уединен долинами со всех сторон, не исключая и северной, ныне не имеющей заметной долины.
Стена, окружавшая сионскую крепость, с северной стороны шла несколько на юг от улицы Давидовой и параллельно ей на склоне холма 30 локтей над долиною (по Флавию) по прямой линии от нынешней цитадели до Мегкеме. От этой стены уцелело несколько замечательных остатков. Прежде всего – так называемая башня Давида, одна, из трех башен построенных Иродом в виде прибавления к древней Давидовой крепости, пощаженная Титом при разрушении Иерусалима (Войн. VI. 9. 1). Как все другие иерусалимские памятники, она была в позднейшее время реставрирована и ныне входит как составная часть в арабскую цитадель.
Нынешняя арабская иерусал. цитадель (Ель-Калаа) представляет группу пяти больших башен с неизбежным минаретом и занимает неправильный четырехугольник, по Вильсону, 500 футов длины на 340 ширины, окруженный со всех сторон широким и глубоким рвом. Нижняя часть цитадели даже в настоящее время, может с успехом выдержать продолжительное время артиллерийский огонь; но верхняя позднейшая надстройка, как и все, что построено арабами, находится в плохом состоянии. На западной площадке цитадели, обращенной за черту города и известной под именем батареи салютов, расставлены небольшого калибра пушки, не бывшие в употреблении со времени египетской войны и, в случае осады города, по выражению Вильсона, более опасные для тех, кто ими будет пользоваться, чем для тех, против кого они будут направлены. В цитадели устроены квартиры для артиллеристов, а в башне с минаретом – пороховой склад, представляющий, в руках турецких чиновников и офицеров, серьёзную опасность опять таки не для внешних врагов, а для города и самой цитадели. Финкельштейн рассказывал мне следующее происшествие из новейшей истории иерусалимской цитадели: два года тому назад несколько арабов варили чечевицу недалеко от Яффских ворот, против батареи салютов. По случаю горящая головня скатилась в ров и чрез несколько минут оттуда послышались сильные вспышки пороха; один, другой, третий удар, и наконец густой дым с запахом пороха пошел по долине. По городу прошла ужасная тревога.... Местные власти, по поводу этого события, долго рассуждали о европейских агентах в Палестине вообще и поджигателях в частности и ожидали важных политических новостей, а между тем случай произошел единственно от того, что порох в складе сложен небрежно, по выражению Финкельштейна, как простой песок и кругом крепости рассыпан в большом количестве. Если на этот раз несчастье сошло с рук, прибавил Финкельштейн, то оно не сегодня так завтра повторится снова и крепость непременно взлетит на воздух, потому что, не смотря на этот урок, правительство не обратило никакого внимания на состояние порохового склада.

Рисунок 60. Иерусалимская цитадель (Ель-Калаа)
а) башня Давида (Фазаэл);
б) Гиппика.
с) Казармы Ибрагима-паши.
Древнейшую часть цитадели представляет её северо-восточная башня, известная под именем башни Давида39. Во всю высоту окружающего её рва она имеет обложенный камнем откос, стоящий на обделанной четырёхугольником скале; над откосом возвышается четырехугольная стена древней крепости, над которою выше идет арабская надстройка. Откос, или часть башни во рву крепости, принадлежит древнееврейской архитектуре; это легко заметить, не смотря на то что время и плохое содержание крепости повредили его во многих местах. Камни откоса, большие и широкие, имеют, при малых легких выпусках, гладко выполированную поверхность, так что на откос крепости не легко было взобраться, между тем как с другой стороны, по своему уклоняющемуся от отвеса положению, он почти без вреда мог отталкивать от себя удары стенобитных машин, всегда приспособлявшихся только к вертикальной площади стен. Возвышающийся над откосом четырёхугольник древней стены крепости имеет 29 футов высоты и состоит из тести рядов позолоченных временем камней миззи древнееврейской системы; каждый нижний ряд выступает из-под верхнего, по измерением архитектора Тобоа, на 0,025 метра. Отдельные камни дают от 13 до 15 футов длины, от 4 до 4½ ф. ширины и 3½ высоты. Выпуски камней имеют 6 дюймов ширины и обделаны чисто. Среднее же поле лицевой стороны представляет почти везде не вполне законченный вид; по местам в камнях видны небольшие четырехугольные ямины (большею частью по две в камне, редко по три и по одной) не совсем понятного значение. Обыкновенно полагают, что эти ямины служили знаками до какой глубины нужно было обтесывать камни; по это не верно, потому что ямины всегда очень глубоки, даже более глубоки, чем боковые выпуски и регулирующая линия (см. введение). Да и странно было бы, что строители, поставив значки для обделки камней, не воспользовались ими. Один из известных иерусалимских драгоманов объясняет путешественникам эти ямины как следы стенобитных машин Тита. Объяснение очень наивное, потому что ямины, очевидно, были иссечены долотом. По наибольшей вероятности ямины эти были сделаны при перенесении сюда камней из силоамской каменоломни (к царским пещерам камни башни Давида не имеют отношения); вероятно в них вставляли особенный камнедвигательный снаряд. Но так как камни приносились к месту крепости из каменоломни уже готовыми и так как крепостная стена не требовала такой безукоризненной чистоты в отделке каждого камня, как стена храма, то, по положении камней в стену крепости, архитекторы не озаботились сгладить рябивших стену ямин, тем более, что для этого, вследствие большой глубины ямин, требовалось бы заново обделывать всю лицевую сторону и выпуски всех камней. Камни древней части башни Давида сложены в ряды без цемента; только в тех местах, где стена очевидно выдержала починку, вместе с уменьшением материала, вносится и цемент. По общей системе древневосточных укреплений, башня Давида не имела открытых дверей и окон. Хотя некоторые из камней нижних рядов башни кажутся несколько стертыми, как камни порогов и косяков, но это слишком слабое основание для того, чтобы различать здесь (как делают некоторые исследователи) заложенные окна и двери. Входа в древнейшую часть башни Давида нужно искать во рву крепости, откуда подземным ходом входили под здание и поднимались колодезеобразным выходом, как в подземном ходе нынешней цистерны ель-Борак. Над древнею частью башни Давида идет, как я сказал, новейшая арабская надстройка с камерами и прочной работы цистерною питающеюся от дождей. В одной из этих камер показывают миграб Давида, где, по преданию, царепророк сложил многие из своих псалмов. При сооружении арабской надстройки башни не церемонились с материалом и брали первые попавшие под руку камни из древних развалин города, гладкие камни римские вместе с выпусковыми древнееврейскими и друг. Неприятное впечатление производит также то, что свою новейшую надстройку арабские строители не сумели подогнать под отвесную линию древнейшей нижней части, но углубили в стену. Платформа башни Давида – один из лучших пунктов для общего обозрения города и окрестностей. Здесь красуются две старинные пушки и по пятницам развевается флаг белого полумесяца на красном фоне. Мы сказали уже, что так называемая башня Давида, т. е. древнейшая часть цитадели, есть одна из трех Иродовых башней; теперь прибавим, что всего вероятнее она есть Иродов Фазаэл, напоминавший фаросскую башню с маяком, считавшуюся чудом древнего мира; величина её измерений совпадает с указанными Флавием 40 локтями (20 метров) длины и ширины Фазаэла.
Вторая по важности между башнями цитадели лежит на запад от башни Давида (Фазаэл) у самых Яффских ворот города и соответствует Иродовой башне Гиппике. Но от её древних стен не осталось камня на камне. Нынешние стены башни, упирающейся в Яффские ворота, сложены арабами на месте и из развалин древней башни; большая часть камней обделаны арабским боссажем. Внутренность башни состоит из камеры с огивною аркою и цистерны, получавшей воду из пруда Биркет-Мамилла, подземный канал от которого входил в цитадель под Яффскими воротами. – Остальные башни иерусалимской цитадели – позднейшего происхождения, хотя сложены из остатков древнего материала; здесь есть камни римские, крестоносцев, арабские; есть камни вырванные из древних сводов и обломки колонн. В некоторых местах, особенно в южной башне, работа напоминает верхнюю надстройку на юго-западном углу харама. Откосы этих позднейших частей цитадели сложены по образцу древнего откоса башни Давидовой, но из малых камней гладкой поверхности. Впрочем Вильсон находил и здесь под новейшею накладкою откоса остатки древнееврейской облицовки. Южная часть рва, окружающего цитадель, служит в настоящее время помойною ямою, а остальные отданы солдатам под огород, кроме северо-западной части, поросшей кактусом. Самое дно рва представляет везде насыпной грунт, а натуральной скалы нигде не видно. На северо-восточном углу рва, выходящем на улицу Давида, против магазина Спитлера, видятся заложенные ворота, представляющие вероятно выход из большого подземного коридора, идущего от харама до цитадели. – На одной из башней цитадели есть древняя куфическая надпись, без сомнения имеющая отношение к истории цитадели, но, к сожалению, доселе не прочитанная. В Иерусалиме нет человека знающего вышедшее из употребление куфическое письмо. По моему предложению взялся было за эту надпись известный в Иерусалиме Альбенго, титулующий себя ancien interprète au service de la France en Afrique, автор сочинения Lois et coutumes suivies dans le pachalik de Jérusalem, но безуспешно40.
На восток от башни Давида и цитадели, на новой улпце Канатир-мар-Ботрос, в 1863 году, были открыты две фортификационные башни, стоящие на северном склоне Сиона, на прямой линии от цитадели к хараму. Башни имели высоты 12 метров и были сложены из огромных квадратов; в промежутке между башнями на протяжении 18 метров шла соединительная куртина. В нижней части одной из башен найдены ворота, показывающие, что здесь был сход в долину, имевшую в этом пункте около 12 метров глубины. Одна из башен в позднейшее время была обращена в цистерну. Несомненно, что и эти две башни принадлежат северной стороне стены окружавшей Сион, называющейся у Флавия первою стеною. От этого пункта стена, по описанию Флавия (Войн. V. 4, 2), «продолжалась на северной стороне Сиона до Ксистуса и соединялась с зданием судилища». Ксистус, по Витрувию (V, II), значит площадь и аркады, под которыми упражнялись гимнасты зимою. Без Ксистуса или гимназиума но обходился ни один из более или менее значительных городов грекоримской империи. Ксистусы мы застаем в Антиохии, Апамеи, Геразе и проч. В Иерусалиме гимназиум для телесных упражнений и игрищ был построен при Антиохе Епифане первосвященником Иасоном, братом Онии. По 2Мак.4:7–14 иерусалимский гимназиум был воздвигнут при самом холме Сиона и притом недалеко от площади храма, – что служило большим соблазном для жрецов, со времени устроения гимназиума, потерявших ревность по своим обязанностям и в самые часы жертвоприношений являвшихся на играх палестры в модных шляпах с широкими полями. Остатки аркад гимназиума Иасона можно видеть при подъёме на занятую еврейским кварталом сионскую часть города с улицы Давидовой. Аркады шли с севера на юг и были сложены из грубых неотделанных камней не еврейской работы. Если гимназиум был построен первосвящ. Иасоном, служившим Геркулесу, а не Иегове (2Мак.4:19, 20), если от присутствовавших на зрелищах в гимназиуме требовалось иметь на себе греческую одежду (ст. 12); то нет ничего удивительного что и самое здание строилось без всякого участия местных архитекторов. Для нас эти остатки греческого гимназиума важны тем, что ими определяется положение сионской городской стены в этом пункте. Так как, по ст. 12, гимназиум был под самою чертою верхнего города, то городская стена шла непосредственно за уцелевшими арками с южной стороны. Наконец крайний пункт северной сионской стены, шедшей от башни Гиппики, по Флавию, был дом судилища βουλευτήριον, соответствующий, как мы видели, подземельям Вильсона под нынешним Мегкеме. Таким образом направление северной части сионской стены Иерусалима может быть определено со всею точностью от башни Гиппики на западе до площади харама на востоке.
Если с северной стороны сионского холма была только незначительная долина и городская стена шла по склону холма, то на южной и частью на восточной стороне холм давал крутой и глубокий обрыв. При сооружении крепости спуск обрыва в этих последних пунктах был обделан в виде отвесной стены, служившей естественным основанием крепости, так что не только для древних завоевателей, но и для нынешнего осадного искусства город в этом месте был бы неприступен. Высоту натуральной стены холма в настоящее время трудно определить, потому что вдоль подошвы холма легли толстые массы позднейших наслоений, поднявших дно геенской долины и сокрывшей первоначальную высоту холма. Только в недавнее время работы по устройству протестантского кладбища в Иерусалиме, приютившегося на юго-западной оконечности Сиона, открыли, на пространстве более 500 футов, древний крепостной вал свыше 100 футов высоты иссеченный в живой скале. Специальные раскопки грунта в этом пункте производятся с прошедшего года англ. архитектором Модзле. В раскопанной земле встречается много остатков древней посуды, пращные шары и отдельные камни сброшенные сюда с вершины холма. В верхней части живой стены холма найдена целая система цистерн, из которых одни (древнейшие) не имеют никакого цемента, другие (позднейшие) имеют римский цемент. От цистерн в различных направлениях идут водосточные желобки, проводившие воду в башни крепости. Между прочим найдены здесь основание какого-то здания не имевшего отношения к крепости, и обращенного ребром к валу. Модзле считает его остатком той Тивериевой бани, которая была, по преданию, на южной стороне Сиона и которая всей южной части Сиона дала имя Хаммам Таберийе. На самом юго-западном углу холма в отвесно обделанной стене или основании крепости найдена древняя лестница, о которой говорится Неем.3:15, представляющая то, что в нынешней фортификации называется редюит, теналь, вообще так называемые мышиные проходы. Лестница шла под прямым углом к стене и приводила к «малой двери Иевусеев», бывшей на юго-западном углу крепости. Открывая осажденным в крепости путь к сообщению с загородной местностью, эта узкая и крутая лестница не могла принести пользы осаждающим; целая армия неприятельская здесь могла быть задержана каким-нибудь десятком стражей41.

Рисунок 61. Остаток древней стены на юго-западном углу Сиона
Начиная от протестантского кладбища, древний крепостной вал виден еще на некотором расстоянии на восток, потом скрывается под позднейшими наслоениями и появляется только против источника Неемии (Рогел), откуда вал поворачивал на север и соединялся с описанною выше северною стеною Сиона. Нужно полагать, что эта обделка южной и восточной стороны сионского холма в виде живой монолитной крепости принадлежит Иевусейскому Иерусалиму. По крайней мере этот вал не соответствует направлению первой Иудейской стены окружавшей Сион с востока. По Флавию сионская стена переходила на Офел и соединялась с восточным портиком храма, так что, таким образом, вал, уединяющий Сион с востока в виде отвесной стены, был уже без значения по построении первой стены и входил в черту города. – Сионская стена, по описанию Флавия, была укреплена 60 башнями, расположенными на северной стороне (как видно из расстояния двух недавно открытых башен ) в расстоянии 25 метров одна от другой; в таком случае на северной стороне всего было 21 башня. Остальные 39 башней были расположены на западной, южной и восточной сторонах в расстоянии почти вдвое большем, так как эти стороны сами по себе были неприступны. Нападений на Сион можно было ожидать только с севера. Неизвестно с которой стороны вторгся в Иерусалим Иевусеев полководец Давидов Иоав; но нападение на Сион Ассириян, Тита, Готфрида Бульонского были с севера. Всего сионская стена имела 2,500 метров.
Построенная Давидом и его ближайшими преемниками первая или сионская стена Иерусалима скоро оказались тесною для жителей Иерусалима. Посему правительство отвело под городские здание склон другой горы и долину на север от Сиона и на запад от горы храма. Новая часть города, возникшая здесь в виде предместья к Сиону, во время Езекии была уже так значительна, что нужно было подумать о включении и её в состав города чрез обнесение новой стеною. Эта новая стена, строившаяся от Езекии до Манассии (с 728 до 644 года до Р. Хр.) есть то, что у Флавия называется «вторая иерусалимская стена»42. Вопрос о положении этой второй стены в новейшее время сделался предметом оживленных споров, так как к археологическому интересу здесь привошел интерес апологетический: определять положение второй стены значит решать вопрос о подлинности или неподлинности гроба Господня. Если вторая стена шла на восток от нынешнего храма Воскресения, то гроб Господень будет лежать вне черты древнего Иерусалима, что составит важнейшее доказательство его подлинности соответственно свидетельству апостола (Евр.13:12) о распятии Спасителя вне врат города. Если же вторая стена шла на запад от храма Воскресения, то место гроба Господня придется в черте древнего города, чем подлинность св. Гроба будет поставлена в сомнение. В частности здесь нужно определить западную и северную границу этой части древнего города, потому что на восточной и южной стороне она соприкасалась с харамом и Сионом и, следовательно, не имела нужды в новой стене.
Робинсон, Тоблер, Унруг и другие исследователи полагают, что западная линия второй стены должна была представлять прямое продолжение западной стены сионской, т. е. начинаться от северо-западного угла сионской крепости или Яффских ворот и идти по черте нынешней городской стены до Дамасских ворот. И в доказательство ссылаются на следующие обстоятельства. 1) «Начинать вторую стену не от северо-западного угла, а от средины северной стены Сиона, т. е. образовать пустой угол между двумя стенами, вместо того, чтобы закруглить городскую черту с этой стороны, было бы противно законам стратегики». Это возражение имело бы силу, если бы здесь шло дело о топографии новейшей европейской крепости. Но вторая иерусалимская стена была построена не в каких-либо особенных стратегических соображениях, а для того только, чтобы прикрыть от случайных нападений новообразовавшуюся на север от Сиона часть города, и должна была пройти там, где кончились городские строение. Сообразуясь с правилами нынешней стратегики, мы могли бы опровергать подлинность всей иерусалимской крепости и всех вообще палестинских крепостей, строившихся всегда в затишье от ветров, на более или менее выдающихся холмах, окруженных высокими горами, т. е. под самим огнем нынешних орудий. По плану, сделанному Сольси, древний Иерусалим в настоящее время мог быть разгромлен и взят менее чем в полчаса. Таким образом совершенно бесполезно в вопросе о древней крепостной стене выставлять на вид требование нынешней стратегики. 2) «Если вторая стена начиналась не от северо-западного угла Сиона, то верхний город на западной половине своей северной стены был бы открыт, т. е. защищался бы одною первою стеною, между тем Флавий говорит, что более доступная, т. е. северная сторона Сиона защищалась не только первою, но и второю стеною». Это возражение устраняется тем, что слабейшею стеною Сиона Флавий разумел не всю северную часть первой стены, а только восточную её половину, потому что западная половина с своими тремя колоссальными башнями: Фазаэл, Гиппика и Мариамна не могла назваться слабою. Самое построение этих трех башен Иродом на северной стороне сионской стены имело значение только в том случае, если эта часть крепости не была закрыта второю стеною. 3) «Пруд Езекии, существующий до настоящего времени под именем пруда бань патриарших, по Ис.22:11, лежал между двух стен, т. е. между северною стеною верхнего города и второю стеною, следовательно лежал внутри города, и 2Цар.20:20 говорит, что сооружением этого пруда Езекие имел в виду обезопасить жителей водою на случай осады, какая цель уничтожалась бы, если бы вторая стена шла ниже и след. если бы пруд оставался вне города». Но выражение Ис.22:11, что пруд Езекии лежал «между двух стен» совершенно одинаково объясняется предположить ли пруд в черте города или вне его, потому в обоих случаях описываемый в этом месте встречею первой и второй стены угол будет одинаков и будет стоять в одинаковом отношении к пруду. А чтобы пруд лежал внутри города, этого прямо не сказано. 4) «В кн. Неем.12:31 и дал. говорится о двух хвалебных хорах, которые с пением обходили по стене Иерусалима, начиная от ворот нынешних Яффских на северо-западном углу Сиона; один хор пошел по стене к югу, другой по стене к северу, чтобы сойтись на восточной стороне города; это обхождение возможно только при предположении, что вторая стена представляла правильное продолжение западной стены Сиона». Но, строго говоря, шествие хвалебных хоров не имеет отношения к тому, шла ли стена в том или другом месте, прямою линиею или углами, точно также как выражение Флавия, что вторая стена «окружала город» не дает права назвать эту стену круглою в собственном смысле (Робинсон). 5) «По Флавию вторая стена начиналась от ворот Геннат; но эти ворота возможны только при крайней западной башне сионской крепости». Это возражение не имеет, никакой силы после упомянутого нами открытия двух башен на среднем пункте северной стены Сиона, на нынешней улице Канатир-мар-Ботрос, из которых одна имеет ворота, может быть именно ворота Геннат.
Нахождению второй стены помогло российское императорское консульство в Иерусалиме, приобретшее в свою собственность примыкающее к храму Воскресения и погребенное под древними развалинами место на восточной стороне храма, на углу базара и малой улицы, ведущей к Коптскому монастырю. При покупке места консульство надеялось найти на нем остатки базилики Константина великого. Это ожидание подтвердилось. Открытые из-под мусора колонны и другие архитектурные орнаменты доказывают, что бывшее здесь сооружение принадлежало веку импер. Константина. Ясно можно различать между развалинами даже площадки и ступени пропилей, которые, по свидетельству Евсевия, окружали базилику. Но это еще не вся археологическая важность этого пункта. Определивши в остатках базилики пропилеи и паперть, граф Вогюэ, производивший раскопки этого места, с удивлением заметил, что ось паперти и ось пропилей не стоят между собою в прямоугольном отношении. Понятно, что такое уклонение от общего архитектурного закона могло произойти только от особенных причин. По ближайшем рассмотрении стен оказалось, что строители пропилей воспользовались бывшим на этом месте остатком древнееврейской стены, в приспособление к которому нарушили правильность отношений между частями базилики. Древнееврейский остаток стены идет в этом пункте с севера на юг, и по своему материалу соответствует стене плача; те же выпуски, та же обделка лицевой стороны, таже величина камней и даже тот же сорт камня маляки, взятый из царских пещер. Но так как этот остаток до последнего времени был закрыт от внешних влияний землею и мусором, то он сохранил гораздо больше первоначальной свежести, чем стена плача. Что этот остаток был внешнею городскою стеною, и имел значение крепости, это видно из укрепляющих его контрфорсов на противоположной городу стороне, напоминающих контрфорсы крепости хевронской. По замечательному случаю, при первоначальной расчистке этого места русским консульством, были найдены здесь метательные камни и пращевые пули, принадлежавшие, вероятно, Иудейским защитникам Иерусалима. Но и это ещё не всё. Около 15 метров на юг от описанного древнееврейского остатка стены и на прямой линии с нею уцелел остаток монументальных ворот, состоявших из большой центральной арки, и двух боковых. Общий вид ворот и их орнаменты ясно показывают их римское происхождение. Капители пилястр совершенно сходны с некоторыми римскими капителями, сохраненными в мечети Омара. Хотя эти ворота не современны упомянутому остатку стены, но едва ли можно сомневаться в том, что и они принадлежали иудейскому Иерусалиму. Как обращенные лицом к Голгофе, они могут считаться теми судными воротами, которыми Спаситель был выведен из города на распятие. По крайней мере на такое название они имеют гораздо более права, чем то, что до настоящего времени указывали под именем древних судных ворот Иерусалима, перекинутую чрез улицу широкую арку, не имеющую никакого отношения к городской стене и ничем не напоминающую ворот. Новооткрытые судные ворота, подобно упомянутому остатку стены, входили как составная часть в пропилеи Константина. Небольшие ниши для ламп, иссеченные в стенах ворот и небольшой крест на капители принадлежать строителям пропилеи. В июле 1874 года эти ворота были расчищены Mr. Ганно, но без определенных результатов.
Другие остатки второй стены Иерусалима можно видеть в восточной стене монастырских развалин, принадлежавших рыцарям Иоаннитам, ныне подаренных турецким правительством Его Высочеству, наследному принцу Прусскому. Один из этих остатков состоит из нескольких рядов древнееврейских камней, очевидно тронутых с своих первоначальных мест; между них попал один новейший, камень, для отличия получивший от строителя особенную метку, букву A времени крестовых походов. Другой древний остаток в области Иоаннитов уцелел на юго-восточном углу, выходящем в базар зернового хлеба. Таким образом западная сторона второй стены Иерусалима, начинаясь от ворот Геннат или двух башен, открытых на улице Канатир-мар-Ботрос, шла по линии восточной стены монастырской ограды Иоаннитов, судных ворот и остатка древней стены в развалинах базилики Константина великого. Следовательно, Голгофа и место Гроба Господня были за чертою древнего Иерусалима43.
Что касается северной линии второй стены, то, как я уже имел случай заметить, она определяется подземным проходом, открытым Пьеротти, или Стратоновою башнею Флавия. Так как этот проход должен был упираться в городскую стену, то последняя проходила несколько выше монастыря Ecce homo и австрийского приюта. Все протяжение второй стены было 620 метров.
В последний век пред Р. Хр. население Иерусалима переступило и вторую стену и образовало новую подгородную часть Иерусалима с именем Везефа (новый город). Чтобы обезопасить от нападений неприятелей и эту новую часть города, Ирод Агриппа, в 12 году по вознесении Иисуса Христа, начал постройку новой, по счету Флавия, третьей стены Иерусалима. Громадность закладки этой стены, возбудившая подозрение императора Клавдия, была причиною того, что работы по сооружению были приостановлены и потом наскоро приведены к концу только Агриппою II. С постройкою третьей стены, вторая стена потеряла значение и очутилась внутри города, потому что, хотя новая часть города раскинулась собственно на северной стороне храма, но, по плану Ирода Агриппы, третья стена должна была расширить город и на запад; таким образом и место голгофского некрополя в это время вошло в черту города. Положение третьей стены соответствует западной и северной стороне нынешней иерусалимской стены.
Вот свидетельства Иосифа Флавия о положении третьей стены. «Третья стена, начинаясь от башни Гиппики, идет к северу до башни Псефины; на северной же стороне направляется против гробницы Елены, царицы Абиаденской, матери царя Изата, проходит чрез царские пещеры до угольной башни против места, называемого гробом валяльщика; наконец, соединясь с древнею стеною оканчивается в долине Кедрон.... Если бы эта стена была доведена до конца по тому плану, по которому она была начата, Иерусалим был бы непобедимым, потому что камни, из которых начали построение стены имели 20 локтей длины на 10 ширины; под них нельзя было подкопаться; их нельзя было двинуть с места машинами. Самая стена имела ширины 10 локтей и высоты 20 локтей; но, конечно, она была бы возведена выше, если бы построению её не помешали обстоятельства. Третья стена имела 90 башен, из которых каждая была 20 локтей широты и в расстоянии 200 локтей одна от другой. Самая замечательная между башнями была башня Псефины на северо-западном углу, против которой стоял лагерем Тит. Башня Псефины имела высоты 70 локтей; с неё при восхождении солнца можно было видеть Аравию и самые отдаленные окраины Иудеи до моря. Башня была восьмиугольная (Войн. V. 4, 2. 3)». – После разрушения Иерусалима Титом уцелевшие основания третьей стены были избраны Адрианом для Элии капитолийской, между тем как до основания разоренная сионская стена была причиною того, что южная часть верхнего города была исключена Адрианом из городской черты.
И так главным пунктом третьей стены Флавий полагает башню Псефины, лежавшую на север от Гиппики и защищавшую всю третью стену, как Гиппика служила главною защитою первой стены. У евреев именем Псефины (от ψῆφος шарик) называлось всякое здание, украшенное мозаикою (под этим именем доселе ещё известна мозаика у арабов). Кроме того именем псефины или псефасы был известен у евреев камень жребия, которым подавали голоса на жизнь или смерть осужденных, также род азартной игры гладкими камешками и пращевые каменные пули. Может быть это последнее значение подало повод к новейшему названию башни Псефины именем Голиафа, хотя к этому названию могла привести и необыкновенная высота башни, с вершины своей открывавшей вид на всю Иудею до Аравии с одной стороны и средиземного моря с другой. Ничего не может быть странного в том, что башня Псефины, возбуждавшая, по Флавию, общее удивление своим видом, была украшена мозаикою.

Рисунок 62. Развалины башни Псефины (Каср-ель-Джалуд)
Развалины башни Псефины существуют доселе и известны в Иерусалиме под именем башни Танкреда или башни Голиафа, Каср-ель-Джалуд. Они лежат на самом северо-западном углу городской стены против греческого монастыря св. Василия. Развалины имеют около 8 метров высоты и принадлежат, как видно из приложенного рисунка, какому-то восьмиугольному зданию (восемь углов можно видеть в А В С D Е F О Н). В стороне развалин, обращенной к городу, был некогда всход, от которого осталось несколько больших камней. Сторона северная, в противоположность другим, представляет почти прямую линию. В развалинах уцелели две квадратных залы с двумя отверстиями в потолке и с стрельчатыми арками временя крестовых походов. Таким образом оправдывается предание, называющее развалины башнею Танкреда. Но что башня Танкреда была восстановлена на месте древнееврейской башни, это видно из того, что многие камни в основании стен, имеют чисто еврейскую обделку и так велики, что Тоблер (Dritte Wanderung 236) сначала считал их натуральною скалою. А что эти древнееврейские камни не перенесены сюда с другого места, это видно из их обделки на углах, приспособленной к месту, которое они занимают теперь. Сам Робинсон, не угадавший значение развалин Каср-ель-Джалуд, делает однако ж замечание (11. 114), что «уходящие в массу развалин, три ряда больших, обделанных выпусками, камней принадлежат древнееврейской башне». На особенное назначение этого пункта в системе сооружений древнего Иерусалима указывают канал и подземные своды, идущие отсюда до храма Сан-Сальвадор, а также остатки мостовой, заметной ныне на западной стороне развалин, вдоль нынешней городской стены; мостовая вероятно сделана римлянами и сходна с римскою мостовою на берегах Тира и Сидона. В развалинах Каср-ель-Джалуд и в примыкающей к ним древней ныне покинутой мечети, построенной на том месте, где Сегал-ед-Дин ворвался в город и отнял его у христиан, указывают даже остатки древних орнаментов Псефины, в виде широкого фриза, обделанного листьями кактуса в три ряда; сверху над листьями идут малые завитки, соединенные по два основаниями. С того времени, как эти остатки были указаны Зальцманом, никто не сомневался в их древнееврейском происхождении. И так развалины Каср-ель-Джалуд в своем основании принадлежат древнееврейскому Иерусалиму и, следовательно, башне Псефине, бывшей, по Флавию, именно на северо-западном углу Иерусалима. Для построения монументальной башни это именно один из самых удобных пунктов; он представляет высшую точку так называемой Акры и нижнего города. Этому пункту совершенно соответствует и замечание Флавия, что с 70 локтевой (36 метров ) высоты Псефины можно было видеть всю Иудею до Аравии и средиземного моря; даже если башня была на одну треть ниже цифры Флавия, с неё можно было видеть море средиземное и мертвое.
Второй замечательный остаток третьей иерусалимской стены можно видеть в нынешних дамасских воротах. Когда входите в башню дамасских ворот со стороны города, прямо пред собою будете видеть из-под новейшей полуопавшей штукатурки сегмент древних ворот, сложенный из больших камней и имеющий 16 фут. ширины. Эта ныне заложенная арка, потонувшая в землю до архивольты, служила боковым ходом древних ворот, состоявших из трех пролетов. Ворота защищались двумя башнями с лестницами в стенах. Нынешние ворота дамасские стоят на засыпанных мусором древних воротах, так как, по общему обычаю древности, ворота не уничтожались при разорении города, а если и разорялись, то вслед за тем немедленно возобновлялись победителями. Евреи называла эти ворота воротами Везефы, римляне porta neapolitana, крестоносцы porta sancti stephani; арабы Bab-el-amud, ворота колонны; европейские путешественники называют их дамасскими. На южной стороне цистерны, находящейся пред дамасскими воротами, на глубине 26 футов под нынешним порогом ворот найдена скала с остатком древнейшей цистерны, стоявшей в связи с бывшими на этом месте еврейскими44 воротами.
Третьим остатком третьей стены, окружавшей Везефу, служит крепостной ров или траншея, окружающая нынешний город с северной и отчасти восточной стороны, от дамасских ворот до Гефсиманских. Траншея везде иссечена в скале и имеет 25 футов ширины и 20–30 футов глубины, независимо от глубоких наслоений, образовавшихся в течении веков на дне рва и поросших масличными деревьями. На эту траншею намекает Тацит (Hist. V, II), говоря, что два холма города Иерусалима искусственно обрезаны и окружены рвами. Но и без этого свидетельства едва ли можно было бы отнести такой исполинский ров к позднейшей истории Иерусалима. Работы по иссечении его, по своей трудности, равнялись египетским работам в Сиенах. На северной стороне города эта траншея имела назначением не только не допускать неприятеля к городской стене, но и отрезать занятую городом часть холма от остальной возвышенности, идущей на север к гробницам царей. Оттого, кроме рва обыкновенной широты пред городскою стеною, здесь был сделан гигантский проход около 100 футов шпроты, разделяющий так называемый ныне грот Иеремии и северное мусульманское кладбище от городской черты. Этот ров служил вместе каменоломнею для третьей городской стены. Впрочем третья стена имела ещё особенную каменоломню в самом гроте Иеремии, огромные подземелья которого доселе ещё наполнены полуобделанными камнями и столбами иссеченными в скале, хотя здесь нельзя различать, как в царских пещерах, следов инструментов на стенах, покрытых белым цементом, показывающим, что грот Иеремии некогда служил человеческим жилищем.
Из других доказательств тождественности направления третьей стены Флавия с направлением нынешней городской стены от дамасских ворот до Гефсиманских можно указать то, что нынешняя стена проходит чрез царские пещеры, что Флавий говорит о стене Агриппы. Ошибочно некоторые под царскими пещерами σπήλαια, чрез которые Флавий проводит третью иерусалимскую стену, разумеют царские гробницы. Для обозначения гробниц у Флавия употребляются выражение: μνημεῖα, τάφος, θῆκαι, и никогда σπήλαια. Не без значения и то обстоятельство, что вторые северные ворота нынешнего Иерусалима в иерусалимских преданиях носят имя Ирода, т. е. Ирода Агриппы, строителя третьей городской стены; это значит, что на этом месте были древние ворота в собственном смысле Иродовы. В нынешнем своем виде ворота Ирода, или по-арабски Баб-ес-Сагери (ворота цветов) или Сатира (ворота стражи упом. в кн. Неемии) не имеют никаких следов древности. В течении последних тридцати лет они были заделаны и открыты только в Августе 1874 года для удобства в сношениях городского начальства с лагерем, стоявшим в то время за городом против ворот Ирода.
Трудным пунктом в определении направление третьей стены служит только то, что, по приведенному описанию Флавия, она соединялась с первою в долине кедронского потока; это значит что на восточной стороне город имел две стены: стену харама и в весьма недалеком расстоянии от неё другую, собственно городскую, стену. На существование особенной городской стены на востоке, независимой от стены харама, Флавии делает намек и в другом месте Войн. IV. 4. 6. 7; V, 1. 1, где он говорит каким образом Зилоты, осажденные на площади харама врагами, занимавшими город, соединяются с идумеянами, пришедшими к, ним на помощь. Зилоты воспользовались тем, что в одну ненастную ночь стражи городских ворот, испуганные случившимся тогда землетрясением, укрылись в домах, – вышли из харама, дошли до городских ворот, сломили запоры ворот и введи своих сообщников на площадь харама чрез город. Все это было бы излишне, если бы восточная стена харама не имела пред собою еще другой собственно городской стены. Так как стены и ворота харама были в руках Зилотов, то последним ничего не стоило бы ввести к себе идумеев чрез золотые или другие какие-либо ворота харама, выходившие в кедронский поток. Между тем, чтобы выйти из храма за городскую черту, Зилоты должны были ещё сломать городские ворота, бывшие в руках их врагов. Тацит также говорит, что иерусалимский храм, кроме своей стены, был закрыт городскою стеною. Тоже подтверждает и ряд талмудических свидетельств, собранных у Лигтфоота (Centuria chorographica. Math. Proem, с. 37). Между тем, с другой стороны, свойство грунта этой местности, обрыв кедронского потока за стеною харама представляет невозможным существование пред восточною стеною харама какой-либо другой стены; предположить же, что стена проходила в самой долине потока ненатурально.
Со времени появление исследований Робинсона многие искали следов третьей иерусалимской стены на север от нынешней городской стены, в «поле царских гробниц», относя Карс-ель-Джалуд, остатки в дамасских воротах и траншею пред нынешнею городскою стеною к остаткам второй иерусалимской стены Манассии. Единственным, по-видимому, серьёзным основанием для этой теории может быть только то, что Иерусалим, заключенный в нынешней своей черте был слишком мал, чтобы вмещать в себе миллионное население древнего Иерусалима. Сознавая важность этого возражение, мы не можем однако ж из-за него закрыть глаза на грунт возвышенности, расстилающейся за северною стеною нынешнего Иерусалима, свободный от наслоений, всегда оставляемых разрушенными частями города и имеющий, напротив, тот светло-коричневый цвет, который в Палестине безошибочно указывает девственную почву полей и огородов, но не городов. Ничего похожего на остаток городской стены в этом «поле» нет. То, что Робинсон на своей карте означил как след третьей стены на северо-запад от города, недалеко от русских построек, именно основание четырех квадратных башен между двумя линиями стены, есть остаток преториума Тита в лагере, бывшем против Псефины, откуда император делал наблюдение над осажденным им Иерусалимом. Продолжительная осада римлян позволяла сделать большие военные сооружения кругом города; их находили при постройке дома русской миссии; против Турбет-ес-Сагера доселе виден след римского карре и проч. Вдоль северной стены Иерусалима есть даже следы римской дороги и мостовой. Кроме римских остатков в разных пунктах этой местности есть следы древнееврейских сторожевых башен. Но что эта местность была сплошь заселена и образовала отдельную часть города, Везефу Флавия, это, повторяю, можно говорить только закрывши глаза на свойство местного грунта.
Чтобы кончить с иерусалимскими стенами, следует упомянуть о нынешней стене окружающей Иерусалим, построенной султаном Сулейманом в 1534 году и в точности соответствующей стене, защищавшей Иерусалим во время войн крестоносцев. Нынешняя иерусалимская стена имеет 4–5 футов ширины на 18–35 футов высоты и от Гефсиманских ворот до яффских, т. е. на северной и восточной стороне города, стоит на месте древней иерусалимской стены, представляя собою возобновленную третью стену Флавия. Начиная от ворот Гефсиманских до башни Лаклак (аистов), образующей северо-восточный угол города, нынешняя иерусалимская стена представляет новое сооружение с отдельными еврейскими, впрочем небольшими, камнями, Раскопки Варена в разных пунктах у основание этой части стены показали, что нижняя часть её, потонувшая под новейшими наслоениями, представляет цельные остатки древнееврейской стены. Древнееврейскому периоду принадлежит также траншея, уединяющая эту часть стены. От башни Лаклак до царских пещер стена имеет такой же характер с прибавлением около пруда значительного остатка римской стены, оставшейся от Элии Адриана и древней цистерны в крепостной траншее против третьей башни от северо-восточного угла. У царских пещер городская стена стоит на отвесно обделанной скале 30 футов высоты, отрезанной от возвышенности Сагира, с которою некогда она представляла одно целое. От царских пещер до дамасских ворот крепостной ров совершенно засыпан выбрасываемым сюда из города мусором. Кучи мусора по ту и другую сторону дамасских ворот представляют целые горы, грозящие скоро сравняться с высотою ворот и покрыть их собою, подобно тому как масса древнего мусора покрыла нижние дамасские ворота или ворота под дамасские, от которых только вершина видна в стене нынешних ворот. От дамасских ворот до северо-западного угла города стена стоит на древнем основании и ограждена тем же древним рвом Агриппы, наполненным мусором, обломками камней и проч... Вдоль этой стены видны остатки древнеримской дороги. У яффских ворот сплошной слой мусора совершенно засыпал ров более чем на 30 футов глубины; в течении одного 1874 года на моих глазах значительная часть генномской долины пред яффскими воротами была засыпана землею и сором и образовала широкую площадь. Далее от яффских ворот и цитадели до сионских ворот стена представляет смесь разнообразного материала: римских камней, арабских камней, крестоносцев; между камнями лежат выдавающиеся из стены стволы древних колонн; в одном месте смотрит из стены мраморная плита, поднятая вероятно с дворцового или храмового помоста. Такой же разнообразный материал представляет и часть стены между сионскими воротами и гнойными; здесь особенно много отдельных римских камней, так как по этой линии проведена городская стена первый раз Адрианом, а древнееврейская стена Сиона шла гораздо южнее; по этому здесь нет и крепостного рва. На углу, где южная стена поворачивает на север есть башня ель-Кебрид (башня зажигательных спичек), при которой входит в черту города водопровод нижнего уровня, стоящая на основании древнеримской башни, засыпанном мусором до такой степени, что его нет возможности рассмотреть. От башни ель-Бебрид до двойных ворот, ведущих в подземелье ель-Акса, нынешняя иерусалимская стена снова имеет много древнееврейских камней. На юго-западном углу этой стены уцелел далее большой древнееврейский остаток нескольких рядов камней первой еврейской системы; во эти камни лежат так не натурально, так перемешаны с малыми позднейшими камнями, что отвергают всякую мысль о том, что они лежат в первоначальном виде и на первоначальном месте. Мне кажется, что эти остатки камней первого периода представляют здесь след иерусалимского Милло, той громадной иерусалимской башни, построение которой Соломоном было причиною возмущения против него Иеровоама (2Цар.11:26). Что под библейским Милло нельзя разуметь, как некоторые думают, простую земляную насыпь или вал, это видно из того, что он называется ещё бет-Милло, дом-Милло, как этим же именем называется башня Сихемская (Суд.9:6, 20)45. От двойных ворот почти до самих Гефсиманских городская стена есть вместе внешняя стена харама, о которой мы уже говорили.
Нынешняя иерусалимская стена имеет много башен, но они едва выступают над стеною и расположены не в одинаковом одна от другой расстоянии и потому не могут считаться реставрациею древних иерусал. башен. Именно, от золотых ворот до северо-восточного угла в настоящее время 5 башен; от северо-восточного угла до ворот Ирода 3; от ворот Ирода до дамасских 5; от дамасских до северо-западного угла 5; от северо-западного угла до яффских ворот 5; от яффских ворот до гнойных 10; от гнойных до золотых нет ни одной башни. Башни имеют платформы с амбразурами, но без пушек; между башнями есть переходы и площадки с лестницами. – Городская стена имеет в настоящее время 6 открытых ворот: на севере дамасские ведущие в Наблус, Назарет и Дамаск, иначе ворота колонны, баб-ель-амуд, самые красивые и самые укрепленные и Иродовы или ворота цветов, баб-ель-Загери; на востоке ворота Гефсиманские или ворота св. Марии, баб-ситти-Мариал, на юге ворота гнойные или африканские, баб-ель-Мокгарибе и ворота сионские или Давидовы, баб-ель-неби-Дауд; на западе ворота яффские или хевронские, баб-Халил. Все ворота охраняются часовыми и, за исключением яффских, на ночь запираются. Ключи иерусалимской крепости представляют предмет высших желаний и ежедневных молитв иерусалимских евреев, доселе не потерявших веры, что святой город, не смотря на все политические препятствия, перейдет некогда в их владение. По этому поводу в Иерусалиме рассказывают следующий случай. июля 8, 1861 года, в день, когда в Иерусалиме узнали о смерти султана Абдул-Меджида и о воцарении Абдул-Азиса, бывшие в Иерусалиме израильтяне в праздничных одеждах, с соблюдением местного этикета, представились тогдашнему иерусалимскому губернатору Сурайе-паше, прося передать им ключи города Иерусалима, право на которые они, как древнейшие владетели Иерусалима, якобы получили с воцарением нового повелителя в Стамбуле. Паша попросил депутацию пообождать ответа и между тем созвал совет из обыкновенных своих помощников по управлению: муфтия, кади и др. Заключение совета было совершенно в пользу евреев; совет признал, что самые древние, а потому и самые законные владетели Иерусалима ни кто другой, как только евреи и что воцарение нового султана дает им право на ключи города, которые были переданы им следующим оригинальным способом. Комендант местного гарнизона Саид-паша, сопровождаемый несколькими офицерами и большою толпою любопытных, направился в еврейский квартал Иерусалима, при вступлении в который был встречен торжественно новою депутациею израильтян, которые сопровождали его с громкими восклицаниями до дома главного иерусалимского раввина. Последний встретил посольство у ворот своего дома. Паша, в присутствии публики, приветствовал раввина и передал ему драгоценные ключи св. города. Последовало угощение посольства в гостиной раввина вареньями, кофеем и наргилле. Затем когда паша поднялся, чтобы сделать прощальный салям дому раввина, последний, с выражением глубочайшей благодарности возвратил коменданту ключи с словами: «я боюсь, что таких драгоценных вещей, как эти ключи, я не с умею сохранить у себя». Таким образом евреи были владетелями ключей Иерусалима в 1861 году, 8 июля с 3 до 4 часов по полудни!.. Впрочем иерусалимская крепость в настоящее время не представляет пункта даже посредственной важности между укрепленными городами Сирии. Когда Наполеону Бонапарту, занимавшемуся укреплением Яффы и Акры напомнили о крепости иерусалимской, маршал улыбнулся и сказал, что эта археологическая крепость не входит в его обсервационную линию. В 1874 году в Стамбуле возник даже вопрос о совершенном срытии иерусалимской стены, приведший в ужас местных евреев, увидевших в этом оскорбление памяти царя пророка Давида, молящегося: «да созидаются стены Иерусалима»!
После сделанного нами обозрения трех стен Иерусалима, становится понятною не довольно ясная сама по себе история взятия Иерусалима Титом. Восьмого апреля (xanthicus) Тит, тогда ещё только военачальник римский, подступил к Иерусалиму по дамасской дороге. Оставив армию в 30 стадиях от города, он с 600 всадников отправился на рекогносцировку местности по направлению к дамасским воротам, не доходя которых повернул направо к башне Псефины, на площадь, ныне занимаемую русскими постройками и командующую городом с запада. В это время отряд Иудеев вырывается северными воротами из города и нападает на Тита, около гробницы Елены Абиаденской. Римляне были смяты и Тит спасся только благодаря своей личной храбрости и потом быстроте своей лошади. Скоро затем все римское войско приблизилось к городу. Центр армии занял возвышенность, отстоявшую на семь стадий от дамасских ворот, представляющую прекрасный пункт для общего обозрения Иерусалима и его окрестностей и получившую с того времени имя Scopus, как у Гомера назван наблюдательный пункт древней Трои; только десятый легион обошел город и занял позицию Елеонской горы.
Восемь дней было посвящено на вырубку садов, рощей и вообще на устранение препятствий приближению к стенам города всей армии, и только 14 апреля Тит с половиною войска занял ту самую позицию против башни Псефины, на месте нынешних русских построек, изучение которой в начале едва не стоило ему жизни. Намерением Тита было взломать третью стену против гробницы первосвященника Иоанна, между Псефиною и башнею Гиппики, так как в этом пункте ров пред стеною был менее глубок и часть города, обнимавшая голгофский некрополь, была менее населена, – и потом, проникши в новый город, атаковать сионскую крепость в пункте между тремя башнями Ирода и второю стеною, так как в этом пункте ущелье, окружавшее со всех сторон холм Сиона, было менее глубоко. После одиннадцатидневных работ стенобитными машинами, римляне успели сделать пролом в третьей стене и завладели новым городом. Но здесь Тит увидел, что намеченный им пункт для нападения на сионскую крепость был защищаем ещё второю стеною, которая отсюда перпендикуляром шла на север, так что делая приступ к сионской стене римляне должны будут отражать ещё нападение с левой своей стороны, с высоты второй стены. Поэтому Тит изменил свой план и прежде занятия первой или сионской стены, решился взять вторую стену, защищавшую Акру(?) и нижний город. Чрез пять дней Тит овладел угловою башнею второй стены ценою страшного кровопролития. Однакож Тит не хотел врываться в узкие извилистые улицы нижнего города, а удовольствовался только разрушением всей северной стороны второй стены до башни Антонии, между тем как западная сторона стены с её башнями была занята римским легионом, имевшим защищать приготовительные работы для дальнейшей осады. После 4 дней отдыха, 12 мая (artemisius) Тит задумал две атаки: на Сион и Антонию. Для первой атаки были сделаны две насыпи чрез уединявшую Сион долину: одна возле миндального пруда (хамам-ель-батрак), другая на 15 метров выше, возле гробницы первосвященника Иоанна. Для атаки Антонии был засыпан большой ров, известный под именем пруда Струфион, бывший на западном углу Антонии. Первая атака была гибельна для римлян; в то время как римские стенобитные орудия были приближены к стене, обрушились подземные мины, подведенные осажденными, многие римляне погибли, а остальные отступили. После этой неудачи на созванном Титом военном совете, было положено остановить на время атаку крепости, но предварительно оцепить и взять в руки весь город систематически посредством валов со всех сторон. В три дня город был окружен большим валом в 39 стадий длиною с 13 редутами. Линия вала начиналась на «поле ассирийском», т. е. на месте русских построек, где была главная квартира Тита; отсюда она окружала северную сторону города, пересекала кедронскую долину, потом шла на юг, поднимаясь на склон Елеонской горы, достигала до силоамской деревни, при которой сходила на запад в долину источника, опять поднималась на возвышенность гинномского некрополя, мимо гробницы первосвященника Анны, затем поворачивала на север, чрез местность, на которой некогда стоял лагерь Помпея, проходила чрез колонию, называвшуюся «дом гороха», мимо гробниц Ирода и соединялась с главною квартирою. По сооружении этого вала, Тит, оставив на время Сион в покое, сосредоточил свои силы на укреплении Антонии, атаковал его в четырех пунктах разом и чрез пять дней успел сделать брешь и занять крепость. После падения Антонии прошло ещё 36 дней кровопролитных сражений прежде чем вся площадь харама была занята и храм был сожжен; оставшиеся иудеи сокрылись в нижний город, который хотя, как мы сказали, был уже открыт с разрушением второй стены на севере, но ещё не был занят римскими солдатами. Хотя, таким образом, значительная часть Иерусалима была теперь взята, но занятие сионского укрепления представляло ещё столько трудностей, что Тит решился заключить перемирие с осажденными. На мосту Робинсона были открыты переговоры воюющих сторон, не приведшие впрочем ни к чему, так как осажденные заявили упорное желание держаться до последней крайности. Тогда Тит, тогда уже новый император, дал повеление разграбить и опустошить уцелевший доселе нижний город; все имущество жителей было разграблено, а здания как частные так и общественные сделались добычею пламени. Остался не разрушенным один только верхний город или сионская крепость. Её атаковали теперь римляне в двух пунктах: на прежнем месте с северной стороны четыре легиона, а все остальное войско с площади Ксистус. Осажденные держались ещё 18 дней и наконец 8 сентября (gorpiaeus) Сион пал. Все его стены и башни были разрушены, за исключением трех больших башен, стоявших на северо-западном углу Сиона, пощаженных Титом на память величия разрушенной им Иудейской столицы.
Иерусалимские кварталы. Площади. Улицы. via dolorosa. Дома. Сады
Площадь нынешнего Иерусалима представляет неправильный ромб, наибольшая диагональ которого идет от северо-восточного до юго-западного угла и имеет 4,795 английских футов. Северная сторона города имеет 3,930 футов; восточная 2,754 фута; южная 3,245; западная 2,086 футов длины. Вся площадь города равняется одной квадратной английской миле, т. е. почти подольской части Киева.
Весь нынешний город разделяется на четыре квартала по различию вероисповеданий: квартал магометанский, квартал еврейский, квартал христианский и квартал армянский. Сюда нужно прибавить предместие Иерусалима, которое можно назвать европейским кварталом города.
Магометанский квартал, харет-ель-Мослемин, больше всех остальных и занимает две трети города; он разделяется на две части, из которых большая граничит на юге с улицею Давида, на западе с улицею дамасскою, на севере и востоке с стеною города, и населена главным образом магометанами; только в южной части квартала есть евреи, а в западной христиане в незначительном числе. По историческим сведением эта часть города была заселена магометанами уже в 15 веке. (Scholtz 271). Другая часть мусульманского квартала Иерусалима лежит в древней долине тиропеон между склоном Сиона и западною стеною харама (стеною плача) и известна под именем африканского квартала, харет-ель-Мокгарбе. Это самая грязная и нездоровая часть города и занята мусульманами только для того чтобы не допустить иноверцев селиться вблизи харама, хотя в настоящее время сюда уже проникли евреи до самой стены плача. Во время крестовых походов африканский квартал был занят кожевенными заводами. – Мусульманская часть Иерусалима, при своем значительном объёме, заселена менее других частей и имеет много пустопорожних мест, поросших кактусами, напр., у гнойных ворот африканского квартала; на севере, выше Гефсиманских ворот, сеть даже целое поле засеваемое ячменем.
Еврейский квартал, харет-ель-Егуди, занимает восточную половину сионского холма и окружен с запада армянским кварталом, с севера и востока магометанским кварталом, с юга стеною города. В этих границах еврейская часть Иерусалима описывается уже во время крестовых походов. (Беньям. Тудел. 41). Положение еврейского квартала можно бы назвать вообще здоровым, если бы его не портила чрезвычайная скученность населения, еще более увеличивающегося от большого числа еврейских пилигримов, ищущих убежища всегда у своих единоверцев. Впрочем в последнее время известным в Иерусалиме Монтефиоре устроена для еврейских пилигримов большая богадельня загородом, по ту сторону гинномской долины против Сиона, а другая с прошедшего года строится на северной стороне города, недалеко от русских построек.
Христианский квартал, харет-ен-Нассара, занимает северо-западную часть города и окружен с запада и севера городскою стеною, с востока улицею дамасскою и магометанским кварталом, с юга улицею Давида и армянским кварталом. Длина восточной пограничной линии квартала 1,600 футов. Своим центром квартал христианский имеет гроб Господень, подобно тому, как магометанский квартал имеет центром святилище харама. Кроме христиан и именно: греков, итальянцев, французов, коптов и армян, здесь живут и магометане около дамасских ворот и если не живут то имеют свои лавки евреи. Эта часть города считается христианскою собственностью от 1063 года, когда, чрез посредство импер. Константина Мономаха, христиане получили от египетского халифа право «занимать четвертую часть города безраздельно, чтобы жить там по своим законам под властью патриарха». Границы христианского квартала в указе халифа определены так: «от западных ворот Давида (яффских) чрез угловую башню Танкреда до северных ворот Стефана по линии стены города; внутри города христианские жилища не должны переступать улицы, идущей от ворот Стефана до контор меняльщиков на юг и отсюда на запад до ворот Давида». Этими словами ясно очерчен нынешний христианский квартал Иерусалима. Впрочем, не смотря на этот указ, христиане не могли помешать магометанам проникнуть в их черту. Минарет малой мечети Омара, возвышающийся ныне против самой колокольни храма Воскресения и соперничающий с нею в высоте, напоминает христианам, что они здесь не полные хозяева. Эта мечеть, по преданию, построенная на месте молитвы Омара, известна в народе под именем мечети десяти. В предотвращение столкновений христиан с магометанами, неизбежных при таком близком соседстве храма Воскресения и мечети, мудрый Омар завещал, чтобы молящихся в мечети никогда не было более десяти; одиннадцатый, пришедший сюда для молитвы, должен немедленно удалиться. В гигиеническом отношении христианский квартал Иерусалима может назваться здоровым только в своей южной, более возвышенной, части; северная же сторона его, сходящая к дамасским воротам, нездорова.
Армянский квартал, харет-ель-Арман, занимает западную часть Сиона, и окружен с севера улицею Давида и христианским кварталом, с востока еврейским кварталом, с юга и запада городскою стеною; населен главным образом армянами, которые имеют здесь два монастыря; но здесь живут также христиане других вероисповеданий и в небольшом числе евреи и магометане. Под именем армянской эта часть города известна только с начала нынешнего [XIX] столетия. Медшир-ед-Дин в XII веке называет это место сионским кварталом Иерусалима. Положение квартала самое бойкое, красивое и здоровое во всем Иерусалиме (впрочем не в Марте и Апреле, когда квартал бывает наполнен богомольцами из армян). Единственный в стенах Иерусалима сад, стоящий этого имени, принадлежит этому кварталу.
Во всех кварталах земля разделена на вакуфы, принадлежащие большею частью церквам и мечетям: вакуф-руми собственность греческого монастыря, вакуф-франджи, собственность латинского монастыря, вакуф-ель-харат собственность Омаровой мечети. Собственности частной очень мало и то не личной, а собирательной, состоящей во владении нескольких семейств. (См. Отчет о мерах к улучшению быта русских поклонников в Палестине. 49).
Нынешнее разделение Иерусалима по кварталам соответствует тем частям, на которые разделялся город в последнее время пред своим разрушением римлянами. Квартал магометанский занял всю местность древней Везефы; квартал христианский есть то, что Флавий назвал Акрою; кварталы еврейский и армянский лежат в черте верхнего города Давидова. Император Адриан разделил римский Иерусалим или Элию подобно западному Риму на семь кварталов: 1) харам с его площадью; 2) гору Сион или нынешний армянский квартал; 3) додекапилон на месте крепости Антонии; 4) базарную площадь, где он построил большую крытую улицу с галереями; 5) тогдашний еврейский квартал, занимавший часть нынешнего; 6) христианский квартал с храмом Афродиты на Голгофе и 7) новое строение на Везефе. Полагают, что это именно римское разделение Иерусалим сохраняет в раввинских преданиях, где он обыкновенно именуется семихолмным (см. Tanchuma 52, 2). Но мне кажется, что название семихолмный как в раввинских сказаниях, так и вообще в человеческих преданиях должно быть принимаемо всегда в значении круглого счета многих холмов города. Ни один из тех городов, которые у древних назывались семихолмными, не был таковым в собственном смысле. Если бы раввины в буквальном смысле сосчитали холмы Иерусалима, они назвали бы его tripolis, как содержащий гору Божию (харам), гору царскую (Сион ) и гору народа (Акру)46.
* * *
Площади. Не нужно думать, что в Иерусалиме могут быть площади в европейском смысле выражения; самая большая из иерус. площадей не шире новых киевских скверов пред зданием театра и у золотых ворот. Тем не менее площадей в Иерусалиме насчитывают довольно. 1) Площадь пред фронтом храма гроба Господня, вымощенная квадратным камнем; здесь продаются крестики и разные вифлеемские изделия из перламутра. 2) Площадь на восточной стороне иерусалимской цитадели, известная под именем маукаф. Это нынешний иерусалимский тиропеон; здесь продаются каждое утро молоко, масло, сыр и проч., также фрукты всякого рода и дрова, т. е. мелкие хворостины, принесенные сюда на головах феллашек из Силоама, Горнего, Лифты, Абугоша и друг. соседних деревень. 3) Площадь бойни, ель-маслах, в еврейском квартале, на улице ель-Егуди, довольно большая, но чрезвычайно грязная. Во время крестовых походов бойни иерусалимские лежали на север от улицы Давида вероятно там, где и доселе мясной ряд. 4) Площадь на крайней восточной улице еврейского квартала, для Иерусалима очень хорошая и, судя по её местоположению над Ксистусом, очень древняя. 5) Площадь у ворот сионских внутри города, сук-ед-Джома; здесь, как и у ворот дамасских совне, каждую пятницу бывает торг рогатым скотом, всегда очень тихий. В XV веке рогатый скот продавался в Иерусалиме только в африканском квартале у юго-западного угла харама, т. е. недалеко от того места, где продавались жертвенные животные во времена ветхозаветные (овчих ворот). Но с начала настоящего [XIX] столетия площадь ель-Джома постоянно описывается как обыкновенное место продажи мулов, лошадей и рогатого скота. 6) есть ещё крошечная площадь в христианском квартале, на которую входят с улицы ель-Гаддадим. Это и все площади. Если Раухвольф говорит, что внутри Иерусалима есть большие и широкие площади, то он вероятно разумеет пустопорожние места, которых действительно много в магометанском квартале от ворот Ирода до Гефсиманских. Но эти места не заняты постройками не по назначению, а случайно, от того, что новый магометанский Иерусалим не успел еще разрастись до окружающих его стен, а потому и не могут назваться нарочитыми площадями. Известно, что магометанские поселения разрастаются очень туго. Если к магометанскому кварталу прибывает новый жилец, то он скорее всего купит не землю для постройки нового дома, а чью-нибудь уже готовую крышу, или воздух над улицей, в котором он перекинет чрез улицу арку и устроит приют для своего гарема. Единственною большою площадью Иерусалима может считаться только Харам-Эш-Шериф, которого впрочем Раухвольф к числу площадей не относит; это прекрасное место для гуляний в городе с свежим воздухом, зеленью, фонтанами, вечною музыкою в соседних казармах и вдобавок с воздушным шаром мечети Омара. Но, к удивлению, мусульмане не любят проводить здесь время, а христиане не имеют на то права, а потому площадь харама, за исключением урочных часов молитвы, совершенно пуста.
* * *
Улицы. Об улицах иерусалимских было высказано много отдельных замечаний. Одним они казались достаточно большими и широкими, другим слишком малыми и узкими; третьи (Диксон) совсем отвергали существование в Иерусалиме улиц, понимаемых в обыкновенном смысле этого выражения. Это, конечно, зависело от того, как кто смотрел на улицу. Если под улицей разуметь то, что римляне называли platea (собственно plantea от planus ровный) или немецкую Gasse (стройный ряд, шеренга); то таких улиц нет в Иерусалиме. Хотя на многих планах Иерусалима, начиная от древнейшего плана Марини Санудо до новейших Шульца, Вильсона и Пьеротти, улицы показаны выровненными под шнур и пересекающимися под прямыми углами; но в действительном Иерусалиме улицы переплетаются зигзагами и нигде не встречаются под прямыми углами и не идут параллельными линиями. Если под улицею разуметь французскую улицу, la rue, в смысле места схваток, суматохи (от гл. ruer) или даже просто в смысле движения, шума; то таких улиц теперь нет; арабы схватываются только вне города, а мирные жители собираются только у кофеен, и то большею частью только для того, чтобы посидеть неподвижно на прилавке. Если под улицей разуметь итальянскую strada, место выстланное мостовою и усыпанное песком, то такие улицы есть в Иерусалиме в нестрогом смысле. Правда многие улицы вымощены известняком, но уже ни в каком случае не выравнены под движение колес; рядом с неумеренно большим выглаженным от времени камнем (сорта миззи), брошенным среди улицы и заградившем ее, лежит мелкий осколок какули, почти совершенно рассыпавшийся и оставивший по себе более или менее глубокую и опасную яму... Сколько известно, мостовые Иерусалима не исправлялись с 1841 года, когда они были заново вымощены; только некоторые улицы слегка были исправлены в 1869 году к приезду австрийского императора. Наконец, если под улицей разуметь то, что дается русским названием её, в смысле свободной площади пред фронтами (у–лица̀) зданий, то такие улицы менее всего возможны в Иерусалиме, где здание имеют вид неприступных башен с фронтами обращёнными внутрь дворов. Иерусалимские улицы, говорит Шатобриан, это лабиринт коридоров, в которых нужно ходить с компасом и, главное, с большим вниманием к свойствам мостовых. Впрочем те ужасы, какие воображались на улицах Иерусалима Диксону (Святая земля. Перевод Кутейникова. Стр., 197) относятся более к области фантазии.
Независимо от сказанного, протяжение иерусалимских улиц неровно по причине холмистой местности города; улицы то поднимаются то опускаются, особенно идущие с запада на восток. Самые крутые улицы принадлежат христианскому и еврейскому кварталам; на некоторые всходят по лестницам. Улицы идущие с севера на юг имеют более ровное протяжение, напр., улица армянского монастыря, улица христианская, улица ель-Егуди. Широта иерусалимских улиц колеблется между 4 и 16 футами. На многих улицах эта широта разделена между пешеходами и всадниками, именно по средине улицы проходит ров 6–8 футов широты для ослов, лошадей и верблюдов, а по сторонам узкие в 2 ф. ширины тротуары для пешеходов. Но, понятное дело, широта средней части улицы, едва достаточная для прохода осла, далеко недостаточна для навьюченного верблюда, занимающего в таком случае собою всю ширину улицы, так что проходящие по тротуарам должны искать спасение в магазинах и лавках. При такой малой широте, улицы Иерусалима очень душны в летнее время, особенно в долине на западной стороне харама, где, при самых сильных ураганах, проходящих над городом, царствует совершенный штиль. Улицы христианских святынь можно назвать опрятными; но в зимнее время все вообще улицы наводняются грязью, происходящею от того, что плохой материал многих домов раскисает, особенно цемент, состоящий большею частью из простой. глинистой грязи. Зимою 1874 года многие десятки иерус. домов размокли и обвалились и развалины их, обратившись в грязь, сделали почти непроходимыми улицу Давидову, via dolorosa и др., Общий вид иерус. улиц прекрасно воспроизведен в картине Бонна (Bonnat) «улица в Иерусалиме»; трудно отчетливее передать местный колорит улицы в Иерусалиме и возможные на ней проблески восточной жизни.
Нужно полагать, что нынешние иерусалимские улицы как в своем общем характере и впечатлении, так и в своем направлении соответствуют улицам древнего города. Не говоря уже о том, что улицы вообще трудно изменяют свои направление и в народных сказаниях олицетворяют собою самую глубокую древность (напр., в французской пословице: vieux comme les rues), не говоря о том, что иерус. улицы, по крайней мере со времени крестовых походов, удерживают одни и те же имена, – есть положительные свидетельства о тожестве направления древних и новых иерус. улиц. На улице у здания немецких диаконисс, на глубине 30 футов, были открыты недавно ряды древних зданий, фронты которых соответствовали направлению нынешней улицы. На многих других улицах основанием новейших зданий служат уцелевшие ряды камней древнееврейских зданий, выравненные под нынешнее течение улицы. Древнееврейский мост, соединявший главную улицу Акры с воротами харама (арки Вильсона) и доныне служит соединением улицы Давида с харамом. Точно также все большие улицы Иерусалима направляются, как направлялись и древние улицы, к городским воротам, которые без всякого сомнение стоят на месте древних городских ворот. Исключение представляют только мелкие улицы африканского квартала, принадлежащие новейшему времени и не соответствующие напр., воротам Барклея, (хотя в древнейшее время это место могло не быть застроенным частными домами, как принадлежавшее площади Ксистус). Точно также и по характеру не много отличались от нынешних древние улицы, казавшиеся узкими и неправильными для самых современников (Войн. Иуд. V. 8. 1). Что же касается мостовых, то они были несравненно лучше в древнем Иерусалиме, состоя частию из выравненного естественного грунта. (на Сионе живая скала) частью из искусственной накладки из черного и белого камня (Ср. Древн. VIII, 7, 4. XVI, 5, 3); в некоторых пунктах соединением цветов камня составляли мозаичную мостовую (лифостратон). Укладка мостовых была так удовлетворительна, что но ним свободно могли проходить экипажи, чего нельзя сказать о нынешних улицах. Ещё в четвертом веке колесницы употреблялись в Иерусалиме (Григ. Нисск. Epist. de iis qui adeunt Jerosolyma в S. H. Heidegger dissert. de peregr. relig. 1671). Но уже в шестом веке они заменяются носилками для высшего класса общества и верховыми лошадьми для всех классов вообще. Так у Иоанна Мосха (гл. 33) читаем, что когда патриарх Феодор был однажды несен на носилках на улицах Иерусалима и когда при сем он предложил одному сопровождавшему его пресвитеру сесть на его носилки, а ему уступить лошадь, пресвитер отвечал, что сану патриарха соответствуют носилки а верховая езда не прилична, также как ему не годится сесть на носилки. Со времени утверждения в Палестине арабов, верховая лошадь стала единственным средством езды для всех званий и состояний, полов и возрастов. Впрочем и в настоящее время на больших улицах стоит только немного исправить мостовую, чтобы можно было ездить в экипажах, по крайней мере с не меньшим удобством, чем на улицах Константинополя и Каира.
Всех улиц в нынешнем Иерусалиме насчитывают 170; их будет больше, если при всякой перемене направления считать новую улицу. Между отдельными улицами заслуживают упоминания следующие: 1) Улица Давида идущая от яффских ворот с запада до ворот харама Синсле на востоке; у местных арабов она имеет еще другие название: улица цитадели (Sekket-el-Kalaa), улица большая (Kebir) и проч. В библейское время она была известна под именем „улицы источника и царских купален“, бывших за яффскими воротами, см. Неем.8:16. На самой средине улицы Давида в нее упираются с северной стороны три крытые базара, параллельные между собою, из которых один служит мясным рядом (как во время крестоносцев), другой называется улицею пряностей, а третий базаром золотых вещей или иначе дворянскою улицею (сук-ель-хаваджа). – 2) Улица дамасских ворот, тоже что в кн. Неем.8:16 „улица ворот ефремовых“, самая длинная из всех иерусалимских улиц, идет с севера (от дамасских ворот) на юг, где она упирается в улицу Давида не далеко от харама. 3) Улица Иудейская, ель-Егуди, в еврейском квартале, идущая с севера от улицы Давидовой на юг к воротам сионским. Название этой улицы Иудейскою, т. е. Иудейскою по преимуществу – потому что в Иерусалиме каждая древняя улица, собственно говоря, имеет право на такое название – показывает, что здесь была одна из главных промышленных и торговых артерий столичной Иудейской жизни. Это как нельзя более подтверждается её положением в главной части древнего Иерусалима (в верхнем городе) и при том в самом центре его. Существование на этом месте древнейшей иерусалимской торговой улицы с магазинами доказано новейшими раскопками. При постройке новой еврейской синагоги на северо-восток от малой мечети el-Omari, на глубине 15 футов, была найдена расчищенная скала – уровень древнего Сиона. На этом первобытном уровне, вдоль нынешней мечети и синагоги и в направлении нынешней улицы, было отрыто совершенно засыпанное наносною землею длинное, но узкое здание из квадратных камней библейской древности, имеющих 5–6 футов длины и ширины. Обделка камней была так тщательна, что они казались сросшимися, хотя не были связаны никаким цементом, как в циклопических сооружениях. Весьма значительная длина этой постройки при широте не более 16 футов, а также ряд дверей выходивших на улицу, при отсутствии окон, показывают, что это сооружение в своем первоначальном виде служило для лавок и магазинов и составляло часть базара одного из древнейших в мире. Один из местных евреев, посвящавший меня в древности еврейского квартала Иерусалима, называл эту постройку, на основании какого-то предания, соломоновыми пекарнями. Если это предание имеет за собою какое-либо основание, то мы находимся на иерусалимском forum pistorium, улице хлебопеков, упоминаемой в кн. Иеремии (Иер.37:21). – 4) Улица христианская, харет-ен-Нассара, самая красивая и людная улица с лавками галантерейных вещей и магазином книг и древностей Шапиры. Но заслуживающего изучения здесь ничего не видно. Древняя улица проходившая на этом месте, которую также можно было назвать улицею христианскою или лучше улицею пилигримов, лежит, по крайней мере в южной своей половине, на глубине 50 футов под нынешнею. По средине христианской улицы от неё отделяется крытый переулок, ведущий к храму гроба Господня, наполненный лавками восковых свечей. – 5) Заслуживает упоминания ещё небольшая крытая улица или лучше базар Сук-ель-Каттанин – улица, хлопчатой бумаги – идущий с запада на восток и упирающийся в одни из западных ворот харама, на линии мечети Омара. Этот, заброшенный ныне, прекрасный образец арабской архитектуры XIV века, построенный при Магомете – бен-Калаун, стоит на месте пяти притворов при купели Вифезда; в его стены вошло много древне-еврейских камней с выпусками и весь он построен на массах древнейших развалин.
Но самая замечательная между иерусалимскими улицами есть без сомнение via dolorosa (λυπηρὰ ὁδος, Tarik-el-alam) страстный путь – каким именем она называется у всех путешественников, начиная с 16 века, и в уличной надписи на здании сионских сестер милосердия. Улица идет с востока на запад и как все большие улицы Иерусалима прерывается на своем пути в долине нижнего города, у нынешнего австрийского приюта, улицею дамасскою, так что для дальнейшего следования по ней нужно от австрийского приюта пройти около 50 шагов на юг дамасскою улицею, затем первый поворот вправо на возвышенность Акры и будет вторая западная половина страстного пути. Первая или восточная половина страстного пути, от римских заложенных ворот, около 45 шагов восточнее казарм (святое крыльцо) до австрийского приюта, имеет 550 шагов длины и 16 футов ширины; это самая чистая улица в городе и хорошо вымощена. С левой южной её стороны начиная от святого крыльца идут казармы, малая мечеть дервишей и целый квартал развалин, закрытых от улицы высокою стеною. С правой стороны улицы против казарм стоит огромное и красивое здание французской общины „сионских сестер милосердия (dames de Sion)“, несколько разрушенных зданий, под которыми Ганно открыл пещерный квартал древнего Иерусалима и величественный австрийский приют. Вторая половина страстного пути имеет 450 шагов длины и 10 футов ширины; она не так хорошо содержится и плохо вымощена. Частнее: от места называемого домом Пилата до арки Ecce homo 100 шагов; от арки до места, где указывают встречу с Симоном Киринейским 245 шагов; отсюда до места, где предполагают дом св. Вероники 350 шагов; от дома Вероники до судных ворот 300 шагов.
Спрашивается теперь: в какой степени нынешнее направление страстного пути соответствует той улице, по которой был проведен Господь Иисус Христос от дома Пилатова до Голгофы? Для того, чтобы отвечать на этот вопрос, нужно прежде всею определить исходный пункт его преторию Пилата. Недавно доктор Сепп (Jerusalem und das heilige Land. I. 160 и дал.) высказал и с жаром защищал мнение, что претория Пилата могла быть и была только там, где был дворец царей до-вавилонского плена, т. е. в Сионе, и именно в соседстве с цитаделью Давида, где ныне армянский сад – потомок садов, осенявших дворы Пилата. Главным основанием для Сеппа послужило то, что таково было мнение писателей времени крестовых походов: Антонина, Егезиипа, Епифания, Иоанна Вюрцбургского и др. Mons Sion, говорит Иоанн Вюрцбургский, ubi erat praetorium Pilati, nuncupatum lithostratos, hebraice autem Gabatha. Если же претория Пилата была на Сионе, то и страстный путь или место следования Спасителя до Голгофы должно идти с юга на север чрез нынешнюю армянскую и христианскую улицы. К происхождению такого предания послужило вероятно то, что, со времени занятия Иерусалима магометанами, страстная улица и место осуждения Спасителя отошли в магометанский квартал и сделались почти недоступны для христиан. Но так как с этими местами были связаны с древнейшего времени многие священнодействия, от которых не могли отказаться иерусалимские христиане, то предстоятели церкви вынуждены были избрать другое место с посвящением воспоминанию осуждения Спасителя и избрали его в часта города, где уже была христианская церковь и где издавна указывалось место представления Спасителя пред Каиафою. Между тем прежде времени крестоносцев и магометанского господства в Иерусалиме претория Пилата указывалась не на Сионе, а вблизи харама и страстный путь в направлении с востока на запад (См. Golgotha von Tobler 76). Император Гераклий, возвратившись из Персии с св. крестом, прошел страстный путь таким образом: „от золотых ворот до дома Пилата, отсюда улицею покоя, чрез страстные ворота, стоявшие повыше моста в долине страстной улицы, потом чрез улицу ручья, улицу пальмовых дерев к южной платформе храма гроба Господня“. (См. Planographie von Jerusalem von Tobler. 4) Хотя в настоящее время не все отмеченные здесь пункты могут быть указаны, но тем не менее очевидно, что здесь разумеется направление с востока на запад, приблизительно соответствующее нынешнему страстному пути. И с другой стороны со времени по окончании крестовых походов идут непрерывные свидетельства путешественников об уцелевшей претории Пилата на северо-западном углу харама и о via dolorosa в направлении от восточных ворот города до западных или судных. Таким образом отдельные свидетельства нескольких путешественников периода крестовых походов о претории Пипита на Сионе и страстной улице в юго-северном направлении мы можем оставить без внимания, как возникшие случайно, при особенных обстоятельствах города и его христианского населения. Точно также мало-основательны и другие основания Сеппа в пользу средневековой страстной улицы, что, напр., Флавий нигде не упоминает о существовании претории на северо-западном углу харама (а о претории Пилата на Сионе разве упоминает?), что места там было мало для лифостратона и форума и т. под.
Что касается самого дома Пилата, то уже в 4 веке от него указывали только небольшой остаток развалин. Позднейшие владетели Иерусалима, следуя общему на востоке обычаю строить храм на месте древнего храма, дворец на месте древнего дворца, возобновили преторию Пилата или, лучше сказать, из его развалин построили группу новых зданий, для местопребывания иерусалимских пашей; в настоящее время она обращена в казармы. Новейший арабский стиль этих зданий не подлежит сомнению; но легко заметить также, что при постройке его пользовались готовым древним материалом. Очень много камней в основании здания принадлежат крестоносцам; их легко отличить по диагональной обсечке лицевой стороны камней.
Гораздо более внимания заслуживает другой древний остаток на страстном пути, известный с 16 века под именем арки Ecce homo. В течении многих веков эта арка была на половину засыпана развалинами соседних зданий. Но в 1858 году, когда примыкающая к арке с северной стороны земля была куплена новооткрывшеюся тогда католическою общиною «сионских сестер милосердия», с согласия Высокой Порты, были начаты работы по очищению этого места. По снятии прилегавших сюда безобразных развалин – вероятно остатков средневекового приюта – была очищена арка до своего основания, причем оказалось, что с северной стороны (пролет арки открыт на восточную и западную стороны) к ней примыкает другая меньшая арка, составлявшая с нею одно целое. После этого возник вопрос: не было ли подобной боковой арки и с южной стороны главного прохода, ныне принадлежащей монастырю дервишей Узбекийе? Один престарелый имам монастыря заявил по этому поводу, что побочная арка действительно была и с этой стороны, но что она была снята назад тому 50 лет при перестройке монастыря дервишей. Таким образом открылось римское происхождение арки Ecce homo и она была отнесена к категории триумфальных ворот, с ближайшим отношением к триумфальной арке Тита в Риме. Далее по ближайшем изучении окружающего пространства оказалось, что в первоначальном своем виде эта трехчастная арка стояла уединенно и на значительное пространство не была заслоняема ни каким другим строением. Между тем площадь кругом арки была заботливо выложена огромными правильными известковыми плитами 4 футов длины, 2½ ширины и 2 толщины. Эта мостовая лежала на 6 футов ниже уровня нынешней страстной улицы и простиралась 36 футов на север от арки; вероятно такое же протяжение она имела и с других сторон, не входящих в черту земли сестер милосердия и оставленных без расследования. Чрез эту площадь, на оси центральной арки ворот и по направлению нынешнего страстного пути, шла большая дорога для лошадей и экипажей, вымощенная такой же величины камнями, но имеющими особенную искусственную обделку верхней поверхности, между тем как вне линии этого триумфального пути камни мостовой были только гладко обсечены без украшений. Не смотря на то, что вся мостовая имела очень прочный вид и что она выдержала бывшее здесь большое средневековое здание, развалины которого были снесены при расчистке мостовой, архитектор Пьеротти, строивший монастырь сестер милосердия, усомнился в прочности грунта под мостовою и по вскрытии её нашел, что она лежит на грудах мусора и мелких развалин древне-еврейского периода; только на глубине 20 футов ниже мостовой нашли живой не тронутый грунт, состоявший из скалы маляки. Чем дальше на север раскапывали мостовую, тем ближе находили живую почву, так что самый северный конец мостовой упирался в отвесно обсеченную скалу, ту самую, по которой проходила вторая стена Иерусалима.
Таким образом не осталось сомнения, что иерусалимская триумфальная арка, построенная на развалинах древнего Иерусалима, принадлежит ко времени после разрушения города Титом. На том основании, что она имеет ближайшее сходство с аркою Тита в Риме, построенною в память победы над тем же Иерусалимом, Сепп заключил и об одновременном происхождении их от того же императора – победителя Иерусалима, прославившегося своими монументальными сооружениями и завершившего самый Колизей – это чудо из римских чудес. Другие приписывали арку Ecce homо императору Адриану, приходившему в Иерусалим чрез 43 года после Тита, для подавления вспыхнувшего здесь мятежа и разрушившего в Иерусалиме молитвенные дома евреев; упоминаемый в Chronicon Paschale (1,474) τρικάμαρον Адриана в Иерусалиме, по их мнению, есть ничто иное как трехчастная арка Ecce homo. Может быть это мнение имеет основание и император Адриан (но не Тит, потому что в таком случае об арке упомянул бы Флавий) на развалинах павшего Иерусалима воздвигнул памятник своей и Титовой победы; может быть даже этот памятник был именно триумфальными воротами и стоял на месте нынешней иерусалимской арки. Но что иерусалимская арка в нынешнем своем виде восстановлена позже Адриана, это видно из того, что многие сводные камни арки взяты из каких-то других, тоже римских, памятников и имеют латинские и греческие надписи, между которыми особенно заслуживает внимания полустертое имя позднейшего римского императора: autocrator Aurelius47. Вообще можно сказать, что иерусалимская арка построена не позже третьего или начала четвертого века по Р. Хр., так как от первых трех веков осталось много подобных памятников как на западе (арка Септимия Севера и Константина в Риме имеют такое же устройство) так и на востоке (таких монументов много в Хауране; их называют Калибэ). Очень вероятно предание, идущее от 15 века, что арка Ecce homo есть памятник победы не язычества над Иудейством, а христианства над Иудейством и язычеством, и построена равноапостольною Еленою (См. Georges Lengherrand от 1485 года), прибавим от себя, на месте арки τρικάμαρον Адриана. Так как место арки приходилось недалеко от дома Пилата, то она скоро соединилась в народном сказании с историею осуждения Спасителя, и стала трибуною, с которой Пилат показал его народу48. Это сказание верно в том смысле, что нынешняя иерусалимская арка служит общим показателем места осуждения Спасителя. Что же касается частных пунктов в определении страстного пути Господа Иисуса Христа, то они, к сожалению, не могут быть с точностью указаны. Нужно помнить, что подлинная via dolorosa лежит на глубине 30–40 футов под нынешнею улицею этого имени, где она засыпана древнейшими и новейшими развалинами. Само собою разумеется, что этим вовсе не должно ослабляться впечатление, вызываемое в христианине этим путем смерти и воскресения. Слои песка и мусора, сокрывшие древний свящ. памятник, тоже что историческая сень, в которую облекаются событие по истечении веков; в далекой исторической сени великое событие и явление сияет еще лучезарнее, тогда как вблизи это самое явление, вследствие именно своей лучезарности, может быть не так видно и оценено. Те, кто ходил подлинною via dolorosa, разве сознавали её значение также живо и глубоко, как сознаем мы, от которых она сокрылась под 40-футовым наслоением песка, щебня и мусора.
Арка Ecce homo представляет полный полукруг двух с половиною метров толщины параллельно оси улицы и трех метров в радиусе. подобно триумфальной арке Тита в Риме, она имеет сверху позднейшую надстройку, именно небольшую комнату о трех окнах, ныне жилище одного дервиша. В настоящее время с улицы видна не вся арка; северный конец её, а также уцелевшая из побочных арок вошли в стены здание сестер милосердия; главный престол монастыря утвержден под самою аркою (боковою). Как место осуждения Спасителя прекрасная нынешняя церковь Ecce homo есть жилище безмолвия: на дощечке у алтаря посетитель храма читает запрещение: Silence. Самое богослужение совершается здесь вполголоса; орган звучит едва слышно; обитательницы обители – сестры милосердия появляются и исчезают в церкви не производя ни малейшего шороха. Вообще впечатление, оставляемое монастырем Ecce homo превосходно, особенно если сравнить его с грустным впечатлением, выносимым из храма гроба Господня с его нескончаемым шумом и толкотнею...
Заключением страстной улицы на западе служили судные ворота, πόρτα τῆς κρίσεως, porta judiciaria, выводившие из города на дорогу в Гаваон. Как остаток этих ворот указывали на базаре ес-Семани, который идет с юга на север к дамасским воротам и в который выходит западный конец страстной улицы, толстую, высокую колонну розового мрамора, выдающуюся из стены одной лавки, под тенью сикомора. Но в недавнее время открыты несколько на юг отсюда, на земле принадлежащей русскому консульству, вполне сохранившиеся древние ворота римского происхождение, имеющие гораздо больше прав на признание в них древних судных ворот (см. об этих воротах выше)49.
* * *
Дома. Построение домов в Иерусалиме обусловливается следующими тремя причинами. 1) Восточный обычай предписывает каждому домовладельцу держать свое семейство, особенно женский персонал его, в совершенном заключении. В соответствие сему фронтовая сторона иерусалимского дома всегда обращена внутрь двора, так что с улицы вы видите только глухую стену, не дающую никакого понятия об устройстве здания. Чтобы ещё более скрыть домашний очаг от постороннего взгляда, иерусалимские туземцы всегда почти строят дома в два этажа, из которых нижний предназначается для прислуги и рабочего скота, а верхний для членов семейства. Только в африканском квартале есть одноэтажные дома. С другой стороны самые высокие здания можно видеть на западной стороне Везефы и у пруда хаммам-ель-батрак. 2) Недостаток ключевой воды в Иерусалиме и предуказанная народу еврейскому ещё Моисеем (Втор. II. 11) необходимость наполнять домашние цистерны «небесною» дождевою водою служат причиною того, что здесь дом никогда не подгоняется под одну крышу, но в своем верхнем этаже разбивается на группу отдельных комнат, имеющих обыкновенно, вместо крыши, куполы, поверхность которых может принять наибольшее количество дождевых капель. Куполы обыкновенно имеют формы полных полукругов; редко они бывают принижены или колоколообразны. Иногда крыши бывают и плоские с легким склоном внутрь двора; в таком случае они соединяют необходимое с приятным: служа, подобно куполам, площадью для собрания воды, они служат также местом вечернего препровождение времени и отдыха. Вся группа крыш располагается вокруг цистерн, расположенных в центре двора, который они окружают со всех сторон. Такое расположение комнат в одиночку, сообщающее двору очень живописный вид, часто напоминающий собою целый маленький городок, зимою бывает весьма неудобно. Проливные дожди затрудняют сообщение между отдельными комнатами; чтобы пройти из залы в столовую или спальню, нужно вооружаться зонтиком и калошами. Кроме того, каждая отдельная комната редко бывает достаточно защищена от дождя: при отсутствии крыльца или передней и при плохой системе дверей, дождь часто хлещет чрез порог в жилые комнаты. Чтобы не заливало водой комнаты, в двух-трех шагах от порога пол бывает приподнят на 2–3 фута. 3) Третья причина, обусловливающая характер частных иерусалимских зданий, заключается в свойстве строительного материала. Не смотря на то, что в окрестностях Иерусалима много прекрасного строевого камня, арабы выбирают всегда для своих построек самый худший сорт камня какули, который по своей мягкости не требует таких трудов при отделке, как высшие сорта камня. Даже иерусалимская городская стена султана Сулеймана, где она построена не из развалин древней стены, имеет материал какули. Нетвердость этого материала, легко насыщающегося дождевою влагою, в соединении с весьма плохим цементом, служит причиною недолговечности иерусалимских домов. Уже скоро после постройки дома, его поражает то, что в кн. Левит (Лев.14:33, 48) называется чумою жилых зданий, под которою нужно разуметь ничто иное, как усилившуюся плесень стен, происходящую от цветения селитры, заражающего воздух и вредящего здоровью жителей; от большого накопления свойственной камню какули селитры стены крошатся и скоро падают. Для поддержания слабых стен домов служат в Иерусалиме особенного устройства полуарки, перекинутые чрез улицу и поддерживающие одновременно два vis-a-vis стоящие дома. Для сводов и куполов в настоящее время пользуются особенного рода черепицею, в большом количестве приготовляемою здешними гончарами. – От плохих новейших домов резко отличаются здание уцелевшие от предшествующих веков, обложенные мрамором и спаянные свинцом вместо цемента (таково, напр., здание дамасской архитектуры, служащее ныне резиденциею паши, дом на улице Давида, называемый местными жителями дворцом царицы Хульды или Елены и др.), а также здание построенные европейскими архитекторами, таков напр. австрийский приют на страстном пути, построенный из превосходного сорта маляки, выполированного (в портале здания) так гладко, что его можно принять за мрамор. Нужно надеяться, что эти красующиеся уже в Иерусалиме образцы европейских построек разовьют в местном населении потребность прочных здоровых жилищ и европейские архитекторы займут место древних левитов изгонителей чумной эпидемии из городских стен и домов.
Внутренность домов иерусалимских не представляет ничего замечательного и ничем не напоминает той волшебно-роскошной арабской отделки, какою восхищаются путешественники в Дамаске и Каире. Комнаты всегда квадратны, не высоки, за исключением комнат под куполами, и темны; окна хотя и существуют, но они всегда закрыты густою деревянною сеткою, так что свет проходит только чрез дверь, которая в верхних этажах домов никогда не затворяется. В стенах комнаты делаются ниши, заменяющие шкапы и комоды. Пол выложен известковыми плитами, покрываемыми коврами. Печь устраивается очень редко. Обыкновенно в комнате, около открытой двери, помещается большой горшок с угольями, на которых варится пища. Дым, наполнив комнату, уносится сквозным ветром. Часто можно видеть огонь разложенный просто на крыше дома. Впрочем пожаров в Иерусалиме, по совершенному отсутствию пищи для огня в домах, не бывает. Страшный пожар храма Воскресения в 1808 году только один и помнят иерусалимские старожилы50 В подражание Дамаску иерусалимляне держат зелень в дворах, хотя очень скудную, обыкновенно на террасах верхнего этажа между комнатами на насыпной земле. Но, повторяем, красивых домов и дворцов, в древнем арабском вкусе, Иерусалим не имеет. Дворы и приемные во дворце иерусалимского паши (в западной половине via dolorosa) пусты и имеют только незначительные европейские украшения. Другие богатые иерусал. дома отличаются от обыкновенных только тем, что имеют над дверьми и окнами надписи из Корана, выведенные черною или кирпичною краской, а также разные рисунки в роде горшков с цветами, кистей винограда и других плодов, что всегда служит признаком, что хозяин дома посещал Мекку. Кто не исполнил этой обязанности правоверного мусульманина, тот не имеет права на эти украшения. Кроме того в магометанском квартале Иерусалима можно встречать привешенные к наружным дверям домов, в качестве талисманов против дурного глаза и эпидемических болезней, черепа лошадей или верблюдов, напоминающие характерные лошадиные головы на крышах нижне-Саксонских местностей, составляющие предмет культа, особенно чтимого Вендами. Эти странные украшение фронтов иерусалимское предание связывает с известным библейским эпизодом истребления ассирийского лагеря ангелом пред яффскими воротами Иерусалима.
Что касается образа построения до-пленного Иерусалима, разрушенного Небусар-Аданом и после-пленного сожжённого Титом, то, как видно из отрывочных древних свидетельств, он не много отличался от нынешнего. Вот общее замечание о постройке частных древне-еврейских зданий в кн. Ис.9:9: «если черепицы не устояли, то заменить их квадратными камнями (маляки или миззи); если сикоморы порублены, то заменить их кедрами». Здесь очевидно сопоставляются два одновременно существовавшие способа постройки худший и лучший. Ещё в настоящее время многие домики африканского квартала построены из суковатых балок сикомора и высушенных на солнце черепиц, или иначе не обожженного кирпича. Особенно часто такие мазанки встречаются в малых городах и селах Палестины, лежащих в долинах, где температура не доходит до точки замерзания. Лучший строевой лес Иерусалим получал только с Ливана: даже сикоморы можно было найти не ближе Иорданской долины. Тем не менее древний Иерусалим не был тем каменным городом, каким описывают его средневековые путешественники51 и каким можно назвать его теперь. Уже для того, чтобы он мог быть сожжен Титом, нужно чтобы он не был построен исключительно из камня. Крыши древних иерусалимских зданий были большей частью плоские, следовательно также из деревянных балок. В Палестине, говорит бл. Иероним (на Пс.101), где были написаны и истолкованы свящ. книги, дома имели δώματα, что римляне называли «solaria или medianae, т. е. плоские крыши». Но, как видно из нескольких уцелевших древне-еврейских памятников, были в употреблении и крыши со сводами, сложенные из тесаного маляки (напр. в древнем базаре, открытом в еврейском квартале). Эта трудная кладка из больших плит маляки несколько позже была заменена особым, ноздреватым и легким, слоистым известняком, получившим название akkad, сводный камень, или же мягким камнем какули, употребляемым отчасти для этой цели и ныне. Своды иерусалимской церкви св. Анны, относящиеся к одиннадцатому веку, выведены из akkad, между тем как её стены и арки имеют квадраты маляки. Весьма вероятно, что с введением в употребление слоистых плит akkad вошли во всеобщее употребление в Иерусалиме куполы, так как квадраты маляки слишком тяжелы для этого. Расположение отдельных комнат в домах древнего Иерусалима было разбросано, подобно нынешнему, и разделялось на несколько этажей. Так благочестивая Павла выбирает для себя в Иерусалиме келию в «нижнем этаже» (Иерон. Epitaph. Paulae). Касательно других особенностей в частных постройках древнего Иерусалима заслуживают упоминания несколько архитектурных намеков талмуда. Напр. в мишне Maaseroth III, 5, говорится о חצר הצורית дворе тирском, в Bava bathra III, 6 говорится о סולם הצוריлестнице тирской, противопоставляемой лестнице египетской סולם מצרי, также об окнах тирских חלון הצורית, противопоставляемых окнам египетским חלון המצרית. Из связи речи в приведенных местах видно, что дворы, лестницы и окна тирского образца были шире и больше, чем дворы, лестницы и окна носившие имя египетских. Это подтверждается свидетельством Флавия (Войн. II. XVIII. 9) о необыкновенной красоте тирских зданий, архитектуре которых подражали другие города, напр. Птоломеида. Отсюда можно заключить, что и в Иерусалиме дома богатых владельцев, строившиеся на широкую ногу, следовали тирской системе постройки52. Что же касается египетской системы, то к ней относили древнейший род построек массивных, но не удобных, может быть даже пещерных.
* * *
Сады и места прогулок. Самым любимым местом вечерних прогулок для жителей нынешнего Иерусалима служат оливковые рощи, лежащие на север от городских стен в огромной котловине, образуемой северным продолжением Елеонской горы с востока и возвышенностью русских построек с запада. Начиная с 4 часов вечера вся эта местность бывает усеяна публикою всякого рода. Здесь под тенью маслин встретите и местных эффенди, сидящих в чинном молчании, и простых дородных мусульман с трубками и без трубок, и группы солдат ищущих приключений, и франков, неизбежно следующих всегда за потоками толпы. Но особенно много здесь женских групп; всякая не стесненная особенными заботами иерусалимлянка, христианка ли она или мусульманка, непременно выйдет сюда под вечер с семейством. Мало нужды, что здесь нет дорожек и грунт везде усеян острыми камнями, по которым балансировать нужно большое искусство; такие пути везде в Палестине и к ним не привыкать местному уроженцу. Кому лень выходить за городские ворота, тот взбирается на городскую стену, но непременно со стороны обращенной на север, и отсюда любуется закатом солнца, и группами гуляющих. Что влечет сюда именно публику? Отчего не устроить гулянья на Елеонской горе: откуда вид обширнее и куда путь чище? Отчего не отправиться в так называемую Никифорию, на юго-западной стороне Иерусалима, по ту сторону гинномской долины, где даже нарочито сделана большая и удобная улица для гулянья под защитою маслин? Отчего мусульманам не гулять на площади харама, где, особенно в первую половину лета, замечательно много зелени и где достаточно простору для многих тысяч гуляющих? В этом случае, как и в многих других привычках и условиях жизни нынешних обитателей св. города, высказывается отдаленное предание библейского Иерусалима, главные гульбища которого были именно здесь за северною стеною города. Самые ворота, выводившие в эту местность из древнего города, назывались воротами садов (Геннат). Пруд Езекии, лежавший за воротами Геннат, скрывался в миндальной роще и сам носил имя миндального. Так как сады в Иерусалиме не могли в течение всего года сохранять зелень и прохладу без искусственных орошений, то на всем пространстве северных садов Иерусалима были построены огромные бассейны для собрания дождевой воды, большая часть которых сохранилась до настоящего времени. Нужна заметить однако ж, что садов общественных в собственном смысле древний Иерусалим не имел. То, что называлось «большим садом» или «Кармелом» Иудейской столицы, было группою небольших садов, принадлежавших отдельным фамилиям, так что для вечерней прогулки каждое семейство выходило в свой сад, под свою смоковницу. Как никто не обходился без фамильной гробницы, так никто не мог жить и без фамильного сада: самые гробницы часто строились в тех же садах, так что выходя на гулянье в свой сад иерусалимлянин вместе с тем исполнял обязанность молитвенных посещений усыпальниц своих предков. Для увеличения наслаждения от своих прогулок богатые жители Иерусалима, здесь же в садах принимали холодные ванны, для которых устроялись особенные отделения при цистернах. Это был общий обычай востока и в Иерусалиме был известен не менее, чем в Вавилоне. 2Сам. 11. 2 (2Цар.11:2). Дан.13:15 по LXX. Впрочем дорожек в садах не было, и воздух наполнялся не благоуханием цветов, наполняющих наши сады, а простым запахом полезных садовых и огородных растений. Упоминаемый в мишне сад с розанами, в котором фиги могли продаваться без обложения пошлиною, был более рынком, чем садом и притом принадлежал уже новому Иерусалиму. Сады имели особенные названия, иногда по именам владельцев (напр., в Библии упоминается красивый сад некоего Уззи), иногда по своему качеству, так в предании известен сад масличный, гранатовый, сад огурцов, орехов и проч.
На восточной стороне Иерусалима также был сад, но он имел другое значение и другой вид. Это были масличные рощи, принадлежавшие святилищу, неогороженные и всем доступные; главным образом в них находили приют бедные пришельцы, приходившие в Иерусалим на праздники. В народе эти масличные рощи53 были известны под именем гефсимании, ныне ель-Джесманиэ (маслобойня) – название случайное, перенесенное на всю эту местность от одной пещеры, в которой была устроена давильня для добывания масла из собиравшихся здесь маслин. Самая пещера эта, кроме времени собирания маслин, была пуста: здесь проводили иногда ночи бедные пришельцы. По преданию в этой пещере провел Господь Иисус Христос часы томления и муки душевной пред предательством Иуды (хотя в евангелии не говорится, чтобы Он входил в это время в какую-либо пещеру). В настоящее время эта пещера переделана в капеллу и называется гротом агонии (antrum agoniae); она имеет 27 шагов длины (с запада на восток) и 14 ширины и сохраняет свой первоначальный вид натуральной пещеры; отверстие в куполе, ныне служащее окном, некогда было устьем, которым ссыпали маслины в давильню. Во время Иеронима над этою пещерою стояла церковь. Собственно «Гефсиманским садом» ныне называется обнесенное высокою каменною оградою, четырехугольное пространство (160 футов длины), лежащее в нескольких шагах на юг от грота агонии и заключающее в своих стенах восемь масличных дерев, самых старших между деревьями Елеонской горы, имеющих в окружности 18, 20 и даже более футов, – что свидетельствует о тысячелетнем существовании их. Здесь указывают скалу, где спали апостолы во время последней молитвы Спасителя, и место, где Иуда выдал поцелуем своего Учителя; последнее описывается у путешественников предшествующих веков заваленным мелкими камнями, которые бросали сюда мимо проходящие, как ныне бросают евреи в памятник Авессалома54. Доминиканец – страж Гефсиманского сада разделил его дорожками усыпанными песком и засеял цветами, с которыми не мирится представление евангельского «Гефсиманского сада».
На южной стороне Иерусалима также были сады, но они отчасти принадлежали царям и потому не были доступны для народа, отчасти были посвящены языческому культу жертвоприношения детей в честь Молоха, и потому были тяжелы для народных воспоминаний и не посещались. Многие жители Иерусалима имели сады в окрестностях Иерусалима. Сады царя Соломона предание указывает в 3-х часах пути на юг от Иерусалима (Bestan Solomoni) в вади Артас. По описанию древних путешественников, это была самая цветущая и возделанная местность в окрестности Иерусалима. Еще в 17 веке вифлеемские францискане брали отсюда огромное количество салата, редьки, моркови и других огородных овощей; здесь росло много розмарина, розовых и др. кустарников, кроме винограда, фиговых и масличных дерев (Legrenzi I. 189). В настоящее время это место совершенно одичало; растут в небольшом количестве гранатовые и масличные деревья, да в изобилии лук и чеснок. Но самая местность смотрит все ещё уютно и заманчиво, как она смотрела во дни Соломона. Высокие горы, тесно окружающие её долину и ныне как некогда продолжают держать её в заключении и делают ее именно «запечатанным садом»55.
В своей истории иерусалимские сады разделяли участь самого города. В то время, как падали городские стены и башни, не могли уцелеть и сады окружавшие город. Если некоторые путешественники думали видеть в маслинах Гефсиманского сада те самые деревья, под тенью которых отдыхали Иисус Христос и его апостолы; то это предположение не находит для себя подтверждение в истории города. По Древн. ХIII. 4. 3 уже Помпей уничтожил много садов в окрестности Иерусалима. А император Тит (Войн. VI, 1. 1) уничтожил всю растительность на 90 стадий вокруг всего Иерусалима. Таким образом нынешние масличные деревья Гефсиманского сада и рощи на северной стороне Иерусалима представляют уже позднейшие отпрыски библейских садов. В последнее время, с расширением европейского предместья Иерусалима за русскими постройками, разбито много, прекрасных новых садов, которые в скором времени будут напоминать рощи древнего Иерусалима. И с каким восторгом встречаются жителями города эти новые сады! Небольшой палисадник пред зданием русской миссии имеет ежедневно гораздо более посетителей, чем в обыкновенное время все сады Киева.
Монументальные христианские памятники в Иерусалиме
Храм Гроба Господня. Мы упоминали, что пред входом в храм гроба Господня устроена площадь или платформа; она имеет около 55 футов в квадрате и выложена плитами маляки. Восточная половина этой платформы лежит на подземных сводах римского полукруга, принадлежащих древнему большому подземному ходу, выходящему из под храма и теряющемуся в направлении к тиропеону под улицею пальмовых ветвей. Некогда платформе предшествовал большой портик, следы колонн которого сохранились доселе. В настоящее время платформа со всех сторон окружена высокими стенами, в которых помещаются церкви и капеллы различных вероисповеданий. На южной стороне платформы греческий монастырь принадлежащий Гефсимании. На восточной греческий монастырь Авраама, армянская церковь св. Иоанна и коптская капелла Ангела. На западной стороне три греческих церкви: св. Иакова, св. 40 мучеников (в этой церкви заслуживает внимания прекрасная крещальня) и церковь св. Иоанна, приходящаяся под колокольнею, возвышающеюся на северо-западном углу платформы. На северной стороне платформы латинская капелла агонии, греческий придел св. Марии и вход в храм гроба Господня. Фасад храма Гроба, принадлежащий по своей обделке XII веку, имеет неправильное расположение. Кажется, что по первоначальному плану предполагалось сделать тройной вход во храм из трех арок, которые должны были занять всю стену храма выходящую на платформу. Но тот план не был выполнен, и вместо тройных сделаны двойные ворота с стрельчатыми арками. В настоящее время осталась действующею только одна западная половина ворот, а восточная заделана, после того как её пространство было занято входною лестницею на Голгофу. Аркады ворот образованы из трех архивольт, украшенных тонкой работы листьями и опираются на группы колонн, капители которых представляют византийское подражание коринфскому стилю, Одна из колонн имеет трещину, из которой по преданию некогда вышел св. огонь и с которою местное верование связывает чудесную силу исцеляющую зубную боль. Иерусалимские христианки приносят сюда каждый выпавший зуб и бросают в трещину с молитвою о новом зубе. Притолоки ворот служат полем для барельефов, представляющих сцены из евангельской истории: воскресение Лазаря, вход Господень в Иерусалим и Тайную Вечерю, также ряд неопределенных рисунков в виде фантастических животных, птиц и растений, впрочем работы очень чистой и отчетливой. Весь фасад венчается карнизом, сделанным в древнем вкусе, по образцу византийского карниза золотых ворот. Повыше карниза смотрят на платформу два стрельчатых окна с отделкою не отличающеюся от отделки ворот.
Кроме описанного южного входа, храм гроба Господня имел некогда ещё два боковых хода, ныне заделанных и совершенно забытых. На улице христианской видна западная дверь храма, принадлежащая XII веку, некогда вводившая с улицы в верхнюю галерею ротонды, над гробницами Иосифа и Никодима. Другой забытый ныне древний ход, открытый Вильсоном на восточной стороне храма между греческой капеллой Лонгина сотника и армянскою капеллой разделения риз; Но с того времени, как храм Гроба перешел в руки турецкого правительства, обратившего посещение храма в статью государственных доходов, боковые ворота навсегда заделаны и вход в храм возложен только с платформы.
Вот отворяются тяжелые клетчатые ворота святилища. Переступив его порог, вы видите с левой стороны место возлежания турецких привратников, веротерпимость которых Диксон (стр. 313) сравнил с веротерпимостью англичан, хотя трудно понять, кто кому делает честь в этом сравнении. Прямо пред собою вы видите камень миропомазания, миззи, около 7 футов длины и 3½ ширины, на котором было положено пречистое тело Спасителя по снятии со креста и помазано ароматами. С правой стороны у вас будет Голгофа.
На Голгофу всходят ныне двумя крутыми лестницами каждая в 18 ступеней. Вершина горы представляет площадку в 40 футов длины и ширины и разделяется на две части, образующие две капеллы: капеллу распятия, принадлежащую грекам и капеллу пригвождения ко кресту, принадлежащую латинянам. В глубине первой капеллы на выдающейся части скалы, три ямины обозначают по преданию место крестов Спасителя и двух разбойников. Ямины представляют треугольник, базис которого образуют кресты двух разбойников, а вершину крест Спасителя, стоявший несколько ниже по отношению к первым. Крест разбойника, бывшего по правую руку Спасителя и известного у арабов под именем Lass-el-emin, правый разбойник, стоит на северном углу треугольника, крест разбойника левого на южном, а крест Спасителя на западном; таким образом Спаситель на кресте, как и в гробнице, был обращен лицом к западу. Ямина креста Христова имеет один фут глубины и ½ фута в диаметре. Ямины же крестов разбойников заложены и их место обозначают только черные кружки на мраморе. В расстоянии 5 футов на юг от места креста левого разбойника видна обделанная в серебряную рамку, известная историческая расселина горы, по преданию образовавшаяся в момент смерти Спасителя и доходящая до самого основания Голгофы. Эта расселина, которую уже в IV веке указывал Кирилл иерусалимский в доказательство совершившихся здесь великих таинств, служит лучшим доказательством не подложности этого места. Её обследовал самым тщательным образом в 1865 году штутгартский профессор геолог Оскар Фрасс, имевший целью проверить мнение одного датского архитектора., что нынешняя Голгофа не есть первобытная натуральная скала, но сложена искусственно, в позднейшее христианское время, из больших необделанных масс камня, долженствовавших придать возвышению вид настоящей горы. Вопреки этому, ни на чем не основанному, предположению, проф. Фрасс нашел что α) грунт Голгофы принадлежит к пласту земной коры миззи и однороден с грунтом ближайшей к нему местности; камень миропомазания, гробницы Иосифа и Никодима принадлежат к тому же земному пласту. β) Вся Голгофа представляет цельную скалу, за исключением искусственно сделанной пещеры (капелла Адама)56, не имеющую никаких жил, вообще ничего похожего на разветвление кристаллизации около различных центров. γ) Только одна большая расселина существует в горе, идущая от востока к западу и разделяющая Голгофу на северную и южную половины. Не будучи похожа на „щель между искусственно сложенными большими каменными глыбами“, вся она имеет вид насильственного пролома живой скалы и может быть отнесена к категории земных трещин, образовавшихся вулканическим путем. Она не только рассекает возвышенность Голгофы, но и врезывается глубоко внутрь земли; направление её можно наблюдать, кроме вершины Голгофы, ещё в капелле Адама, потом в капелле обретения св. креста; большая трещина в скале Офела, при выходе силоамского канала, также имеет связь с трещиной Голгофы, раскраивающею таким образом Иерусалим на две части северную и южную. δ) Но так как грунт Голгофы (миззи) принадлежит к самому твердому грунту местности, то для его расщепления нужно предположить слишком сильный вулканический напор, и при том напор необыкновенный, потому что подземное давление всегда ищет выхода для себя в более мягких и уступчивых пластах земной коры. К этому нужно прибавить, что в своем первоначальном виде Голгофа была выше, в диаметре больше и притом постепенно переходила из круглой формы в четырехугольную. В XIV веке её описывают как полукруглую; в XV как двенадцатиугольную: в XVI и XVII десятиугольную; и XVIII шестиугольною, а ныне она четырехугольна; особенно много она была обсечена с северной и западной стороны; только на восточной стороне она мало тронута и легким склоном соединяется с соседней скалой (Golgotha von Tobler, 191). И независимо от этих нарочитых обломок и сокращений Голгофы, её объём с древнейшего времени постоянно сокращали приходящие сюда богомольцы, выкалывавшие кусок за куском священную скалу57, пока нынешняя мраморная обкладка, закрывшая скалу, не положила конца этому расхищению.
Пройдя около 40 шагов на северо-запад от подошвы Голгофы, мимо камня миропомазания, входим в ротонду гроба Господня, имеющую около 50 футов в диаметре и окруженную 18 массивными столбами, поддерживающими верхнюю галерею, состоящую из 18 аркад. В центре ротонды стоит памятник, украшающий место погребение Спасителя мира и снаружи имеющий вид пятиугольной часовни, 20 футов длины на 14 футов ширины, обложенной иерусалимским мрамором св. креста и поддерживаемой колоннами, на которых красуется в виде венца купол, не достигающий высоты Голгофы на 13 футов58. Основанием этого монумента служит самый гроб Господень, а моделью мартирионы, т. е. часовни и капеллы, созидавшиеся в первые века христианства на гробах святых в римских катакомбах, отчего вся базилика Константина великого над гробом Господним называлась Martyrion или Confessio. Для того, чтобы из пещерного грота, хранившего мощи святого, сделать открытый памятник, для совершение в нем христианского богослужение и для собрание верующих, римские христиане снимали массы туфа катакомб (в пещерах которого были гробницы святых) и таким образом пещера принимала вид монолитной часовни: для удобства посещений часовни и совершение в ней богослужения внутренность её расширялась, а ложе саркофага обделывалось под алтарь. Подобным же образом и пещера гроба Господня была преобразована в открытый уединенный памятник снятием окружавшей её скалы. Самая значительная часть скалы была снята на северной и западной стороне пещеры, особенно на западной, противоположной гробничному выходу, где снятием скалы образована широкая траншея более 9 футов ширины, – как это можно видеть в лежащей на западе от Гроба камере сирийской миссии, устроенной в западной стене траншеи, и приделе гробниц Иосифа и Никодима. Нужно заметить, что при этой первоначальной обделке монумента гроба Господня, стенки пещеры как внутри, так и снаружи, были слишком глубоко и неосторожно обтесаны. Затем их много повредили богомольцы, откалывавшие от священной скалы целые куски камня в продолжение многих лет. Такое неблагоговейное отношение к пещере гроба Господня было наказано тем, что когда, при одном из разрушений храма, купол ротонды обрушился на Гроб, его тонкие стенки не выдержали и обвалились. От первоначальной пещеры Гроба осталось только гробничное ложе, входное устье и нижняя часть стен около 3 футов толщины и 6 футов высоты. Сепп ошибся говоря, что вся камера Гроба, не исключая и входного устья, сложена уже из тесанных камней; живая скала маляки доселе видна во входе из под опавшей штукатурки. Что касается антишамбра, который, по древне-еврейскому обычаю, должен быть предварять погребальный грот, то, по свидетельству Кирилла иерусалимского, он был снят ещё при первоначальной отделке Гроба, во время Константина Великого. Так называемый ныне придел Ангела59, предшествующий пещере св. Гроба, равно как и вся верхняя часть самой пещеры, были восстановлены в нынешнем их виде после страшного в истории храма гроба Господня 1808 года. К глубокому сожалению это восстановление памятника гроба Господня сделано далеко не с тою тщательностью, какой требовало бы величие и святость места. Напрасно строивший его архитектор так настойчиво старался увековечить свою неспособность к созиданию монументальных памятников изображением своего имени как в самой пещере, так и во многих других местах храма60. Особенное внимание здесь обращает на себя то, что внутренний вход в пещеру Гроба, представляющий остаток первоначальной пещеры, не стоит в прямоугольном отношении к другим стенам. Очевидно, что придел Ангела пристроен не на месте первоначального антишамбра. Если архитектор сообразовался при этом с расположением храма, которое по-видимому соответствует нынешнему положению придела Ангела, то и это не извиняет его, потому что не св. Гроб существует для храма, а храм для св. Гроба. Самая толщина стен в капелле Ангела неодинакова: на северной стороне 2½ фута, на южной 2 фута, между тем как стены в капелле: Гроба имеют 5 футов толщины. Ещё более портит вид монумента бедная деревянная коптская капелла приделанная и нему с задней стороны, так что весь памятник состоит из трех частей: придела Ангела, камеры Гроба и... коптской капеллы. Живопись и другие украшение св. Гроба очень бедны, особенно если взять во внимание те неисчислимые пожертвование, которые льются сюда со всех концов христианского мира. Главное украшение, памятника представляют 43 лампады, из которых 13 греческих, 13 латинских, 13 армянских и 4 коптских, день и ночь освещающих внутренность гроба Господня. Это неугасающий свет веры в подлинность места, в виду которого какими странными парадоксами кажутся ни на чем не основывающиеся мнения частных исследователей, указывающие для поклонение христианам разные другие пункты в окрестности Иерусалима под именем гроба Господня, – мнение Клярке о гробе Господнем на «горе злого совещания» на южной стороне Иерусалима, мнение Ото Тения о гробе Господнем и Голгофе пред дамасскими воротами за северной стеной нынешнего города, мнение Робинсона о Голгофе и гробе Господнем пред яффскими воротами на западной стороне нынешнего города, мнение Барклея о Голгофе и гробе Господнем пред Гефсиманскими воротами на восточной стороне нынешнего города в кедронской долине, мнение Фергюссона о гробе Господнем на Мории в пещере скалы мечети Омара, мнение Ноака о Голгофе в северных пределах Галилеи в окрестностях Сафеда.
Прямо против входа в памятник гроба Господня расположена греческая церковь Воскресения, занимающая центральное место всего храма и замечательная по правильности своей архитектуры, богатству своих украшений и иконам византийского вкуса. Вокруг церкви Воскресения идет тёмный проход, в котором указываются разные священные места, имеющие отношение к голгофской истории. Входя в проход с северной стороны, встречаем место где Спаситель по воскресении явился Марии Магдалине и латинскую капеллу, в которой указывают камень, к которому был привязан Иисус Христос. В одной из примыкающих сюда комнат францисканцев полом служит живая скала в том виде пакт, она была обсечена при проведении траншеи вокруг пещеры гроба Господня. Нельзя не прибавить, что на сводах этой части храма находится помещение одного мусульманского эффенди, фамилия которого считает своею собственностью северную часть крыши храма гроба Господня со времени Саладина. Окно гарема эффенди смотрит в ротонду храма, и тяжело бывает видеть выглядывающие сюда гаремные лица, созерцающие под своими ногами христианские процессии и лениво слушающие католическую музыку... Пройдя северную часть прохода, известную под именем аркад Девы, встречаем греческий придел темницы Спасителя, в которой Он был заключен пред распятием, потом капеллу Лонгина сотника – еврейского воина, прободшего копьем ребро Спасителя и, по преданию, спасавшегося в этом гроте после обращения в христианство. В последней капелле указывают часть скалы, отбитой от Голгофы при её обделке. Далее идут капелла разделения риз и капелла тернового венца. Между последними двумя капеллами, в юго-восточной части прохода, широкая каменная лестница о 28½ ступенях сводит в капеллу св. Елены, принадлежащую армянам и, как кажется, вовсе не пострадавшую от пожара 1808 года. Хотя за штукатуркой не видно построение стен в капелле, но кажется вероятным, что они иссечены в живой скале. Четыре массивных колонны с коринфскими капителями, по мнению Вагюэ, принадлежащими первоначальной базилике равноапостольной Елены, поддерживают приниженный купол венчающий капеллу и освещающий её своими окнами в амбразурах. Два алтаря капеллы посвящены благоразумному разбойнику и св. Елене. Самое место обретения креста лежит еще ниже. Спуск к нему, в юго-восточном углу капеллы, состоит из 13 ступеней, из которых нижние иссечены в скале. Камера обретения креста, имеющая около 25 футов длины, 20 ширины и 16 высоты, представляет собою расширенную и обделанную натуральную пещеру, нижняя часть которой лежит в пласте миззи. Свод этой пещеры-цистерны когда-то был поврежден и в одной половине обрушился; впоследствии его восстановили из прекрасно обделанных камней. В этой восстановленной части свода были сделаны три отверстия, служившие устьями цистерны. Близкое соседство другой действующей цистерны сообщает постоянную, влажность стенам пещеры св. креста и отягощает и без того густую атмосферу. Одинокая лампада едва мерцает в полумраке.... Иссеченная в скале скамья при западной и южной стене пещеры зовет отдохнуть уединившегося сюда путешественника. Особенно часто можно здесь найти молящиеся женские фигуры. Жаль только что вражда религиозных партий, прорывающаяся на каждом свящ. пункте Палестины, прорвалась и в этом подземном уголке и охлаждает религиозное внимание пилигрима. «Вот место, где лежал крест Господень», говорит пришельцу греческий проводник, указывая на левую сторону пещеры, принадлежащую грекам. «Неправда», говорит проводник из партии латинян, «истинный крест был найден здесь, на правой стороне (принадлежащей латинянам), а на левой (греческой) найдены разбойнические виселицы... Первый христианский памятник на месте гроба Господня и Голгофы был начат в 326 году, по повелению Константина великого и окончен в 335. По описанию Евсевия (Vit. Const. III. 33), он состоял из базилики, дворов и портиков, которые шли до самой городской стены Манассии и упирались в неё. При рассмотрении остатков древних стен Иерусалима, мы упоминании уже об остатках портиков Константиновой базилики, слившихся с древнееврейскою городскою стеною на земле ныне принадлежащей русскому консульству. Не имея в виду описывать подробно устройство этой базилики61, мы остановимся только на памятнике гроба Господня, построенном Константином, носившем имя Анастасис. Самое полное представление о памятнике гроб Господня в базилике Константина дает находящийся ныне в баварском национальном музее в Мюнхене рельеф из слоновой кости, представляющий сцену пред гробом Господним после воскресения Иисуса Христа. Этот замечательный рельеф был найден в ризнице одного древнего Собора, куда он попал не известно каким образом из Константинополя, и издан доктором Сеппом. Картина представляет местность гроба Господня и Голгофы в не вполне расчищенном ещё виде. Груды камней наполняют всё пространство нынешней ротонды а в глубине фона возвышается Голгофа неровными уступами. Памятник гроба Господня стоит между грудами камней и имеет форму римских колумбарий. Он представляет две части. Нижняя часть, отделанная в цилиндрическую форму, обнимает самую пещеру Гроба. К ней подходят по двум, иссеченным в скале, высоким ступеням. По высоте она ниже человеческого роста и сложена из систематически расположенных квадратных камней в кладке напоминающей стены так называемого пруда Вифезды. В стенах расположены ниши, в которых стоят статуи, и одна из статуй, фигурирующая на левой стороне входа, представляет фигуру самого императора Константина. Вероятно на правой стороне стояла статуя матери Константина, но её заслоняет фигура ангела, сидящего у входа в памятник на камне и благовествующего воскресение Христово трем женщинам, стоящим поодаль среди камней. Широкий фриз из листьев аканфа венчает нижнюю часть памятника. Верхняя часть также круглая но меньшего диаметра, вместо глухих стен, имеет систему полукруглых арок, опирающихся на коринфские колонны. Повыше арок на стене видны медальоны, изображающие вероятно членов царской фамилии, потом аканфовый фриз и купол, посредине которого возвышается ваза с яблоком. Кроме того из боковой части купола выходит, фигурирующее обыкновенно на римских саркофагах, символическое дерево с плодами; в ветвях дерева две птицы, и одна держит в клюве яблоко62. На задней стороне памятника виднеются испуганные фигуры двух стражей Гроба; двое других стражей лежат на уступе горы, поверженные видом вышедшего из гроба Спасителя, восходящего, с свитком нового завета в руках, на гору и приемлющего руку Бога-Отца виднеющуюся из облака. Из этого рассмотрения мюнхенского рельефа видно, что художник, создавший его оригинал, жил во время существования Константиновой базилики в Иерусалиме, если не в самое время её сооружения и что он сам видел и изучил памятник гроба Господня, существовавший в базилике. За древность его картины говорят все самые мелкие подробности исполнения. Художник очевидно жил в ту пору, когда римские обычаи ещё были в полной силе. Если он вводит в картину четырех римских воинов как стражей Гроба, то, по Полибию, из этого числа воинов всегда составлялась простая римская стража. Если своим стражам художник дает в руки копья и лишает их щитов – этой необходимой принадлежности римских воинов, то это совершенно соответствует тому, что римский часовой у классиков называется обыкновенно hastatus (вооруженный копьем) и что Тит Ливий (XLIV. 33) говорит о неуместности щита в вооружении стража, потому что «закрывшийся щитом человек легко может заснуть». Подобная верность возможна только у художника знакомого с римскими обычаями не по одному преданию. И христианские элементы в картине обличают первоначальный период иконописания. Художник не имел еще пред глазами определенно выработавшегося типа для задуманной им картины воскресения и смешал два несоединимых момента: восстание из гроба и вознесение на небо. Лицо восходящего на небо Спасителя слишком юно, и оно одно только имеет сияние, между тем как в позднейших картинах ангел при гробе и жены мироносицы также имеют сияние. Идея бессмертия, выраженная деревом жизни, питающем птиц (которые изображают собою отделившиеся от тела, парящие души), также представляет особенность древнейшего искусства; в позднейшее время эту идею обозначает всегда крест Христов на гробнице, поправший жало смерти. Что касается фигурирующего на рельефе памятника гроба Господня, то он так соответствует описанному Евсевием (Vit. Const. III, 33) divinum monumentum базилики Константина с одной стороны и характеру архитектуры того времени с другой, что в ого подлинности не может быть сомнение. Художник, повторяем, несомненно был в базилике Константина и снял вид памятника с натуры. Так точно описать скалистый грунт, среди которого возвышается памятник, мог только очевидец. Что художник был в Иерусалиме, это доказывают еще удивительно точно и мастерски воспроизведенные восточные костюмы жен мироносиц – простые сарафаны и длинные с головы до ног спускающиеся покрывала. И лица мироносиц – самые типические палестинские лица. Можно думать, что занимающая нас картина была сделана в Иерусалиме, по заказу самой царицы Елены, кем-либо из придворных художников, посланных в Иерусалим для работ в строившейся базилике.
Сооружение Константина великого на месте гроба Господня и Голгофы было совершенно разрушено в 614 году Хозроем II царем персидским. Но, благодаря старанием жены победителя – христианки и сестры греческого императора Маврикия, инок Модест, впоследствии патриарх иерусалимский, мог если не возобновить базилику Константина в её громадных размерах, то обстроить отдельные малые святилища на Гробе, Голгофе, месте обретения креста и на месте камня миропомазания. Памятник Модеста на гробе Господнем видел Аркульф в 670 году (De loc. sanct. 1, 2). Он называет его ротондою или круглым зданием, в средине которого находилась гробничная камера из цельной скалы обделанной в круглую форму63. (Этот памятник послужил моделью для отделки мечети Омара и его священной скалы). Погребальный грот был так низок, что свод его можно было достать рукою; впрочем он не был тесен; девять человек могли одновременно здесь молиться. Ложе Гроба возвышалось над полом на 3 пяди и имело длины 7 футов. Вся ротонда была одета мрамором и венчалась золотым крестом, сменившим символическое дерево памятника Константина. Сооружение Модеста на св. местах Иерусалима были совершенно разрушены халифом Гакемом в 1010 году и чрез 38 лет возобновлены по плану Модеста повелением императора Константина Мономаха. О состоянии памятника гроба Господня в XII веке мы имеем свидетельство очевидца игумена Даниила, описывающего Гроб следующими словами: «Гроб Господень яко печерка мала иссечена в камени, двери имуще малы, якоже может человек влезти, на колену поклоншеся, възвыше есть малого мужа и всямо̀ окачна (весь окатом); 4 лакоть в долину и в широту. Влезячи же в печерку ту дверцами теми малыми, на десной стороне есть место, яко лавица засечена в том же камени печерном; и на той лавици лежало тело Господа нашего Иисуса Христа; и есть и ныне лавица та святая покрыта досками муроморяными; и суть на стороне проделаны 3 оконца кругла, и теми оковци видеть святый тей камень; и ту целуют вся христиане. И висит в Гробе Господнем 5 кандил великых с маслом с древяным, и горят беспрестани кандила та святая, не угасит их никтоже ни в день ни в нощь. Лавица же та святая, идеже лежало тело Христово, есть в долину 4 лакоть, а в широту два локти, а възвыше полтора локти. Пред дверьми же неверными лежит камень, 3-ю стоп вдале от дверец тех печерных; на том камени ангел седя явился женам мироносицам и блоговести им Христово воскресение; и есть печерка та оделана яко амбон красным миромором и столпци мироморяны ж стоят около, числом их 12. Вверху же над печеркою тою создан яко теремец красно на столпцех, и вертек ему сперт кругло и сребряными чешуйками позолочеными покован; и на верху же того теремца стоить Христос сребрян сделан, яко в мужа вболеи есть, и то суть Фряжи сделали и поставили. Суть же дверци трои у теремца того учинены хитро яко крестьцы; теми бо дверцами влазять людие к Гробу Господню. Да то есть Гроб Господень был печерка та якоже то написах, добре испытав от сущих ту издавна ведущим святая си места». В 1130 году крестоносцы строят новый храм, снова соединивший разделенные Модестом святилища. Путешественник 1280 года Брокард находил грот Гроба снаружи обложенным мрамором, а внутри имевшим стеною живую скалу, которую отскабливали богомольцы. Со времени крестовых походов неотделима от памятника Гроба коптская капелла на западной стороне его; о ней упоминает уже Иоанн Вюрцбургский. В XVI веке при Карле V и сыне его Филиппе в Европе распространился слух о печальном состоянии гроба Господня; по этому поводу проповедник Франц Варгас собрал большие пожертвования, на которые памятник Гроба был построен новый, а прежний совершенно снят по своей ветхости. Новый памятник был построен по образцу древнего колумбариума, но с сохранением всех особенностей средневековой архитектуры. Памятник 16 века оставался нетронутым в основных частях до пожара 12 октября 1808 года64.
Что касается церковно-религиозного духа, веющего в настоящее время над гробом Господним и той совершенно особенной жизни, какая заключена в стенах его храма, то об этом вопросе слишком много сказано уже русскими путешественниками, чтобы нам нужно было его касаться. Нигде в другом пункте мира так ясно не рисуется характер церкви христианской, как церкви ещё воинствующей, как у гроба Господня. Этот Гроб, вещественный ковчег нового завета, слишком дорог для каждого отдельного вероисповедания, чтобы при нем не имели места напряженные стремления к разного рода преимуществам и неизбежные затем столкновения и споры, и чтобы можно было удалить от св. Гроба чуждую воинскую стражу. Но если эти споры не редко доходящие до крайностей, оскорбляют святость места, то её бесконечно больше оскорбляет противоположное равнодушие и холодные улыбки, с какими смотрят на эти споры, протестанты.... У Диксона (Святая Земля стр. 314, 315) отношение протестантов к гробу Господню формулировано в следующих словах, вложенных им в уста одного сведущего бея: подходя к св. Гробу протестант не целует его, не зажигает свечи и держит себя совершенно как мусульманин, привлеченный любопытством, а протестантский священник как мулла...

Рисунок 63. План храма гроба Господня
| А. Площадь или платформа пред входом храма. | E. Голгофа (верхняя площадка). |
| B. Греческий монастырь. | F. Ротонда 18 столбов или площадь вокруг памятника гроба Господня. |
| C. Колокольня. | G. Памятник гроба Господня. |
| D. Капелла Богоматери семи болезней. | Н. Капелла латинян. |
| K. Арки Девы. | 10. Расселина скалы. |
| L. Соборный греческий храм Воскресения. | 11. Вход в капеллу Адама. |
| M. Подземная церковь св. креста. | 12. Камень миропомазания. |
| 13. Место стояния св. жен. | |
| *** | 14. Придел Ангела. |
| 15. Камера св. Гроба. | |
| 1. Правая половина входных ворот заделанная. | 16. Камень средоточия земли. |
| 17. Алтарь св. Марии Магдалины. | |
| 2. Левая половина ворот действующая. | 18. Ризница латинян. |
| 3. Место возлежания турецких привратников. | 19. Монастырь францисканский. |
| 20. Темница Спасителя. | |
| 4. Лестницы ведущие на Голгофу. | 21. Капелла Лонгина сотника. |
| 5. Капелла пригвождения ко кресту. | 22. Капелла разделения риз. |
| 6. 7. Алтарь латинский. | 23. Капелла обретения св. креста. |
| 8. Придел распятия. | 24. Место, где был найден св. крест. |
| 9. Ямина креста Христова. | 25. Капелла поругания и тернового венца |
* * *
Памятник вознесения Господня и другие памятники на горе Елеонской. По древнему преданию, основывающемуся на Деян.1:12, местом вознесения Господня была вершина горы Елеонской, возвышающаяся на 175 футов выше Сиона, на 600 футов выше дна кедронской долины и на 2623 фута выше уровня средиземного моря. Вещественным знаком совершившегося здесь чуда с древнего времени указывали отпечатленный на скале след человеческой стопы как последнее прикосновение к праху пречистой ноги Спасителя возносившегося на небо. Император Константин великий, строивший храм на месте воскресения, не оставил без памятника и этого места. По описанию Евсевия (Vit. Const. III, 40), памятник Константина на месте вознесения представлял ротонду с открытым вверху куполом; в центре ротонды была скала с отпечатком человеческой ступни; последний, по свидетельству Иеронима, был обращен ad orientem, unde oritur sol justitiae. Разрушенный персами, памятник Константина на Елеоне был снова построен Модестом в VII веке, снова разрушен Гакемом и снова возобновлен крестоносцами в форме равностороннего восьмиугольника, имевшего в окружности 225 шагов. Сооружение крестоносцев было разрушено в 1187 году и в начале XIII века заменено ныне существующим памятником. Нынешний памятник, обращенный в мечеть, представляет также восьмиугольник, но неправильный; диаметр проведенный с севера на юг имеет 100 футов 3 дюйма, а с запада на восток только 76 футов 3 дюйма; северная сторона восьмиугольника имеет 30 футов 4 дюйма, юго-западная 27 футов, 9 дюймов и т.;׳. Восьмиугольник стен замыкается цилиндрической наставкой, на которой возвышается купол. Капители и базисы колонн, стоящих на углах восьмиугольника, сделаны из белого мрамора в романском вкусе. На месте примыкавшего некогда в памятнику вознесения средневекового аббатства, принадлежавшего августинскому ордену, стоит ныне монастырь дервишей65, с минарета которого прекрасный вид на Иерусалим и его окрестности66. Только однажды в год дервиши позволяют христианам совершать богослужение на месте вознесение Господня. Посещение же места вознесения возможно во всякое время.
Вещественный памятник, отметивший уже в первые века христианства место вознесения, служит лучшим опровержением всех возражений против подлинности этого места, опирающихся главным образом на свободно толкуемом месте Лк.24:50, 51. Никакого отношения сюда не имеет то, что по Joma fol. 39, 1, вблизи Иерусалима была еще другая гора с именем Елеонской. Не только другая, была еще и третья гора этого имени в Самарии.
Кроме памятника вознесения Господня, на Елеонской горе было много других христианских памятников, церквей и часовен. Путешественники находили здесь церковь св. Иоанна Богослова, церковь евангелиста Марка в 200 шагах от памятника вознесения, церковь Марии египетской, проведшей 14 лет подвижнической жизни на Елеоне, часовню св. Пелагеи и много других, мужеских и женских, монастырей и келий, которые впоследствии были разрушены арабами, за исключением двух: церкви апостолов и церкви «отче-наш». Церковь апостолов, или по нынешнему церковь Credo представляет собой большой подземный грот, по длине идущий с юга на север, сложенный из тесаных камней и заключавший в себе 12 арок, между которыми были ниши; вполне уцелели только две северные арки. Имя этого грота предание объясняет тем, что в нем св. апостолы составили свой символ веры. Церковь Pater noster в настоящее время представляет большую четырехугольную галерею, в стенах которой на мраморных досках изображен текст молитвы Господней более нежели на 20 языках, между прочим на еврейском, санскритском, китайском, славянском и русском67. Есть свидетельства, что первоначальная церковь Pater noster имела камень с греческим текстом молитвы Господней, почему некоторые думали, что первоначальным оригиналом молитвы был именно греческий текст. В противоположность этому преданию, сирийские христиане указывали мраморную плиту с еврейским текстом «Отче наш», как автограф самого Иисуса Христа, переданный апостолам на скрижали, подобно ветхозаветному десятословию. Хотя памятник Pater noster весьма уместен на Елеоне куда часто Иисус Христос уединялся для молитвы, но он многих древних путешественников привел к ошибочному заключению, что молитва Господня, а также и евангельские блаженства, были изречены апостолам на Елеонской горе, а не в Галилейской области. Эго ошибочное заключение находило для себя подтверждение в том, что северная часть Елеонской возвышенности издавна носит имя Галилеи (или viri Galilaei, на том основании, что ангел, явившийся на этом месте апостолам, по вознесении Иисуса Христа, начал свою речь к ним словами: «мужи галилейские». Но название горы именем Галилеи не имеет прямого отношения к известной палестинской области этого имени; означая этимологически «смежный, порубежный», оно указывает только на то, что северная часть Елеонской возвышенности стоит в близкой связи с центральною вершиною, или собственно, Елеонскую горою, служить так сказать её преддверием или входною ступенью (голал есть именно название древней палестинской двери, состоявшей из большого круглого камня). Замечательно, что в настоящее время в Англии именем Галилеи называются притворы церковные. Сюда можно прибавить еще другое объяснение, что Галилеей северная часть Елеонской возвышенности названа по имени большого караван-серая, стоявшего на её возвышенности и служившего приютом для пилигримов приходивших с севера и потому называвшегося пристанищем гвардейских мужей или просто Галилеей, как и в настоящее время гостиницы называются по именам областей и стран. Во времена крестоносцев на этом месте стоял монастырь, принадлежавший христианам северных областей Палестины с приютом для сирийских пилигримов. В XVI веке монастырь был разрушен и на его месте построена сторожевая башня. О существовании на этом месте больших общественных построек свидетельствует уцелевшее до ныне одно подземное сооружение, имеющее около 34 шагов длины (с запада на восток ) и 16 ширины, а также глубокая иссеченная в скале цистерна, на западной стороне которой вырезан крест и пара голубей.
* * *
Coenaculum, или христианские святилища на Сионе. Группа зданий, увенчанных высоким минаретом, около 100 шагов на юг от ворот Давида или сионских, известная у мусульман под именем Набу-Дауд, соединяет в себе почти все христианские воспоминания, имевшие отношение к Сиону. Здесь Спаситель умыл ноги ученикам и совершил Тайную Вечерю. Сюда удалились апостолы по вознесении Господнем и здесь получили обетованного св. Духа-Утешителя. Здесь преставилась Божия Матерь и отсюда была перенесена в Гефсиманский вертеп. Здесь обитал первый иерусалимский епископ Иаков и сюда созван первый христианский собор. Здесь был избран жребием новый апостол на место Иуды, и семь диаконов. Здесь была первая христианская церковь в мире, omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput, как говорила позднейшая надпись на этой церкви. По свидетельству палестинского уроженца Епифания, эта церковь спаслась во время разрушения Иерусалима Титом и, когда чрез 46 лет сюда пришел импер. Адриан, она стояла одна среди целого поля развалин. В период существования базилики Константина на Голгофе упоминается апостольская церковь на Сионе под именем верхнего храма (в противоположность храму гроба Господня. Кирилл Catech. XVI. 4). По свидетельству Иеронима, в этом храме показывали колонны, к которым был привязан Спаситель при бичевании и на которых были следы его крови. Позже здесь показывали рог, из которого был помазан Давид, терновый венец Спасителя и камни, которыми был убит св. Стефан. Есть основание думать, что базилика Юстиниана, по свидетельству Прокопия, построенная на высоком холме Иерусалима, была именно на этом месте, а не на Мории68, так что Юстинианова ἁγία σοφία есть ἁγία Σιών, как титуловали базилику горы Сиона в VI и VII веке, представлявшую, по описанию Аркульфа, Виллибальда, Зевульфа, огромный четырехугольник, обращенный алтарём к востоку, разделявшийся на, две части: нижний подземный крипт со сводами и верхнюю церковь (что совершенно согласно с описанием Прокопия о базилике Юстиниана). Сионская базилика была разрушена вместе с храмом гроба Господня султаном Гакемом, этим египетским Нероном, в 1010 году. В XIV веке христианские святилища на Сионе переходят во власть францисканского ордена, утверждение которого было вообще началом нового периода для палестинских монументов. По предложению францисканцев, король сицилийский Роберт и жена его Санчия купили у египетского султана горницу Тайной Вечери и горницу сошествия св. Духа, к которым они пристроили келии и другие здания. Францисканская реставрация почти вся уцелела в нынешнем виде Coenaculum. Не смотря на то, что, по особенному договору папы Климента VI с египетским султаном, Coenaculum был признан вечной собственностью францисканского ордена, он был отнят у них мусульманами в 1561 году. Но так как связанные с базиликою сионскою христианские предания были не понятны мусульманам, то они подыскали для неё другое священное значение, назвавши её гробницею Давида, которой местное предание тщетно искало не только в Иерусалиме, но и во всей Палестине. Был отделен небольшой придел под именем уэли праведника, сложен из камней саркофаг – и гробница царя-пророка Давида была открыта, а Coenaculum или собственно базилика оставлена в запустении.
Нынешний Coenaculum, построенный францисканцами, занимает только одну восточную часть древней сионской базилики. Подобно древней базилике он разделяется на два этажа. Нижний этаж или крипт, стоящий на древнем основании, состоит из двух зал 10 футов высоты, из которых бо́льшая, с стрельчатым сводом на 2 арках, называется горницею омовение ног, а ме́ньшая – гробницею Давида. Верхний этаж также разделяется на две части, из которых восточная, над гробницею Давида, под куполом, называется горницею сошествия св. Духа, а западная собственно Coenaculum. Последняя (35 футов длины на 20 ширины), разделяемая по длине колоннами на два нерва, обличает готический стиль XIV века. Три стрельчатых окна открываются на южную сторону Coenaculum. В юго-западном углу есть лестница сводящая в крипт. Небольшая ниша в восточной стене служит престолом для христиан, имеющих право совершать здесь богослужение в некоторые праздники. На южной стороне миграб мусульманский.
Между зданием Набу-Дауд и городскою стеною стоит ныне небольшой монастырь, принадлежащий армянам, который в местном предании называется домом первосвященника Каиафы. Здесь показывают темницу Спасителя, место, где апостол Петр отрекся от своего Учителя и даже где петух возгласил, а также камень, принадлежавший некогда гробу Господню, похищенный армянами. В кн. Неемии (Неем.3:20 и дал.) упоминается дом иерусалимского первосвященника на Сионе не вдалеке от городской стены, на юг от башни верхнего царского дворца, бывшего на месте нынешней цитадели. Пилигрим бордосский 333 года говорит о доме Каиафы вне стен Элии Адриана, на дороге из Силоама на Сион. Нынешний монастырь на месте дома Каиафы построен как думают в XIV в.; но он не имеет ничего знаменательного в архитектурном отношении, кроме того, что стены его обложены сравнительно древнею фаянсовою работою. – Несколько к востоку от армянского монастыря, при дороге ведущей с Сиона к Силоаму, есть небольшой крипт окруженный развалинами. Крипт предание называет пещерою, в которой ап. Петр оплакивал свое отречение, а развалины принадлежат церкви, бывшей некогда на этом месте.
* * *
Церковь св. Анны на месте рождества Богоматери. Предание, идущее от первых веков христианства, местом рождества Богоматери указывало один грот в северной части города недалеко от Гефсиманских ворот. На этом месте в V веке императрица Евдоксия построила церковь, называвшуюся базиликою Марии, разрушенную арабами. На её месте была построена до ныне стоящая церковь, в конце II века, под именем церкви св. Анны. При церкви было большое аббатство, между инокинями которого считались супруга короля Балдуина I Арда и дочь Балдуина II Юдифь. В 1192 году церковь была обращена Саладином в школу факиров под именем Салагийе, – каковое назначение она удерживала до 29 октября 1856 года, когда она поступила в распоряжение французского правительства. Начатое с того времени возобновление храма, доселе ещё не кончено.
Стиль церкви св. Анны стоит на переходе от романского к готическому. Фасад церкви очень прост; имеет стрельчатую дверь, над которой карниз в романском вкусе. Четырёхугольник здания имеет 40 шагов длины, 27 ширины и состоит из трех зал, которые все оканчиваются абсидами. Боковые залы отделяются от средней каждая 3 столбами. Купол здание принадлежал, по Вогюэ, к византийским, но потом был переделан в стрельчатый. Но главную достопримечательность церкви представляет иссеченный в скале (маляки) крипт Богоматери, вход в который (21 ступень) открывается в самой средине южной залы. Длина крипта равняется почти третьей части всего пространства церкви (45 футов). Впрочем первоначально грот был меньше и расширился после того, как в него вошла одна соседняя цистерна, не принадлежавшая к гроту. Самое место рождества Богоматери указывается в восточной части крипта, приходящейся под главным абсидом храма, на 18 футов глубины под полом.
При расчистке двора, принадлежащего церкви св. Анны, на его северной стороне была открыта большая насыпная площадь, под которой нашли развалины древне-еврейской стены (второй) из камней в выпусках последнего периода. По снятии безобразной кучи этих камней, нашли цельный остаток из нескольких рядов таких же камней и притом между нижними нетронутыми рядами камней и верхними разбросанными нашли много окаменелых головешек и следы большого пожара. Сольси, обследовавший эти развалины, нашел, что бывшее здесь здание было подкопано и подожжено подземною миною. (Таким образом оправдывается свидетельство Флавия, что древние евреи, при осадах крепостей, прибегали к подземным минам). Насыпная земля, на площади церкви св. Анны, служит доказательством первоначальной неровности грунта в этом месте. Чтобы с этого места подойти к кедронскому потоку, нужно было пробраться ещё чрез целый скалистый холм. Это открытие низменного пункта на месте так близком к северной стене харама не совсем мирится с топографией Флавия, по которой северная сторона харама упиралась непосредственно в холм Везефы, так что нужно было устроять особенные рвы, чтобы уединить с этой стороны площадь храма и Антонию. Кроме того, при расчистке площади церкви св. Анны было найдено много колонн, плит надписями греческими и латинскими и других остатков византийских и средневековых
* * *
Госпиталь Иоаннитов. Непродолжительное существование иерусалимского монашеского ордена этого имени принесло много пользы христианской церкви, в лице бедствовавших пилигримов всех вероисповеданий и наций, особенно часто посещавших св. землю около времени крестовых походов. В Иерусалиме Иоаннитам принадлежало два госпиталя: один посвященный Марии Магдалине, от которого не осталось никаких следов, другой посвященный св. Иоанну, от которого остались величественные развалины на малой улице пальмовых ветвей, выходящей на восточную сторону платформы храма гроба Господня. Судя по уцелевшим наружным фронтовым воротам, госпиталь был обделан роскошно. Эти ворота представляют арку правильного полукруга с богатыми, полустертыми временем, орнаментами знаков зодиака, обыкновенно фигурирующих на фронтах французских церквей от 11 до 13 века. Фигуры зодиакальных животных исполнены с большой энергией и сделаны в стиле рисунков над фронтом храма св. Гроба. Можно прочитать и полуслизанные дождями имена месяцев: Feb... Ma... nius... Luna.... Augustus. September. ...ber. November... Dec... Вся площадь госпиталя, по Сеппу, заключает в себе 200,000 квадратных футов или 8 морг земли. Она вся покрыта развалинами разрушенных больших зал с стрельчатыми арками, поразительной глубины цистернами, а на северной стороне развалинами большого храма о трех абсидах совершенно разрушенного. В настоящее время развалины госпиталя Иоаннитов перешли в собственность прусского правительства, которое занимается их расчищением. Как и следовало ожидать при раскопках госпиталя отрыто много интересных древних вещей, образовавших целый небольшой музей: разного рода средневековую посуду, лампы, образа, монеты и проч.; много плит с латинскими и арабскими надписями, капителей и т. под. Собрана целая куча человеческих черепов, между которыми приставник музея – араб обратит ваше внимание на несколько черепов с глубокими следами сабельных ударов, вещественных следов тех таинственных кровавых сцен, которыми наполнены летописи западных католических монастырей и от которых не могли отвыкнуть рыцари в самом Иерусалиме. Госпиталь и монастырь Иоаннитов у местных арабов носят имя Муристан или дом умалишенных, так как, по мусульманскому представлению, быть безумным и быть религиозным почти одно и тоже. Бред умалишенного арабы называют молитвою медшдуб, т. е. погружение в созерцание Бога. (Такой взгляд на безумие правительственные мусульмане стараются внушить и христианам. По крайней мере иерусалимское правительство рассылает умалишенных в христианские приходы и требует держать их в церквах; напр. в монастыре св. Георгия я застал одного умалишенного алжирца, и то не в келии где-либо, а в самой церкви).
* * *
Греческий монастырь св. Иоанна Крестителя. На юго-западном углу квартала, к которому принадлежат развалины монастыря Иоаннитов, стоит греческий монастырь также посвященный имени св. Иоанна, частицу от мощей которого здесь показывают. Монастырская церковь имеет форму креста; её купол держат восемь коринфских колонн. Мы говорили уже, что при перестройке этой церкви в 1840 году была открыта на этом месте церковь, в течение многих лет скрывавшаяся под позднейшими наслоениями земли (см. выше). Эта подземная церковь, спуск в которую на юго-западном углу верхней, принадлежащая VII или даже VI веку, состоит из двух отделений: в первом, имеющем в правой стороне нишу с престолом из камня, устроена цистерна, а во втором служившем приделом первому есть нерасчищенный доселе подземный ход, как говорят, до храма гроба Господня.
* * *
Церковь св. Марии Магдалины, потом мечеть ель-Мамуние, в настоящее время горшечная мастерская, лежит на северо-запад от церкви св. Анны, недалеко от ворот Ирода. Церковь имела сходство с церковью св. Анны и состояла из трех зал и трех абсидов. В настоящее время совершенно разрушена. Остатки стрельчатых арок в виде подков по местам видны, но колонны все расхищены. Среди главной залы видно отверстие, ведущее в братскую усыпальницу. Главный вход в церковь, благодаря тому, что он заделан, уцелел; верхнюю притолоку его обделанную мрамором св. креста можно видеть из-под мусора с улицы. Памятник имеет сходство с французскими церквами конца XII века.
* * *
Церковь св. Петра, в соседстве с церковью св. Магдалины, среди магометанского квартала и совершенно закрыта от улицы соседними домами. Стиль её уклоняется от романского и принадлежит вероятно началу XIII века. Четырёхугольник церкви разделялся на три залы равной длины 45 футов. Три абсида имеют полный полукруг; но арки под сводами зал стрельчатые.
* * *
На восток от дамасских ворот и на север от австрийского консульства есть мечеть с именем ель-Мемлавийе. Это переделанная христианская церковь св. Иоанна, построенная на месте, где, по преданию, был дом Заведея и сыновей его Иакова и Иоанна. В настоящее время церковь назначается для магометанских пилигримов и разделена на два этажа; в верхнем этаже уцелел мраморный полуразрушенный фонтан. На стенах видны следы христианских фресков. К зданию приделан минарет, вершина которого возвышается ваше всех иерусалимских зданий и представляет один из самых полных видов на Иерусалим à vol d’oiseau: вся Везефа, Акра, тиропеон и харам, видны отсюда прекрасно; только сионские ворота и африканский квартал не входят в кругозор.
* * *
Греческая патриархия примыкает к храму гроба Господня с западной стороны. Кроме своих пяти церквей, замечательна своей библиотекой, состоящей главным образом из греческих и арабских рукописей. Древнее местопребывания греческих патриархов было на северной стороне храма Гроба, где ныне мечеть Ханке, на улице ведущей к латинскому монастырю от так называемых судных ворот. Нижний этаж этого здание обращен в хлебные магазины, а верхний, выходящий до самого купола Гроба, частью служит приютом для мусульманских пилигримов, частью занят одним местным чиновником.
Другие греческие монастыри, которых, за исключением уже упомянутых, семь мужеских и шест женских, не представляют ничего замечательного в архитектурном отношении. Это простые дома, по наружности ничем не отличающиеся от окружающих их частных зданий и служащие исключительно для помещение богомольцев. Между ними заслуживают упоминание Авраамиев монастырь, примыкающий к южной стене храма гроба Господня, поместному преданию, стоящий на месте принесение Авраамом в жертву своего сына Исаака и монастырь Дмитриевский, в котором иметь приют русский паломник начала XII века, игумен Даниил.
* * *
Латинский храм Спасителя – главная францисканская обитель в Палестине лежит на северо-западном углу города, недалеко от башни Каср-ель-Джалуд. Полагают, что некогда он принадлежал грузинам, но был куплен и расширен в 1561 году латинянами по изгнании последних из Coenaculum. Кроме богатства богослужебных принадлежностей, церковь ничего особенного не представляет. Недалеко от него casa nuova – большой приют для богомольцев.
* * *
Армянский монастырь св. Иакова Алфеева, построенный на месте его мученической смерти, по обширности, богатству и роскоши украшений первый в Иерусалиме. Стены обложены хорошею фаянсовою обшивкою, работа которой напоминает обкладку мечети Омара. В церкви показывают: кафедру св. Иакова, три священных камня, из которых один взят с горы Синая, другой с Иордана, третий с Фавора, и ещё один камень, с которым предание связывает крещение первого еврея. Монастырю принадлежит сад, лучший в городе, с единственным во всей Палестине экземпляром ливанского кедра. – Недалеко от монастыря св. Иакова другой армянский женский монастырь, по преданию построенный на месте дома первосвященника Анны.
* * *
Сирийский монастырь в небольшом ломаном переулке, идущем от северо-восточного угла монастыря св. Иакова до улицы ель-Егуди, недалеко от английского госпиталя. По преданию здесь был дом св. Марка. Здесь указывают ворота, у которых постучался апостол Петр ночью после чудесного избавления из темницы, бывшей вероятно в подземельях под нынешним Мегкеме (Деян.12:12–16).
* * *
Английская церковь – недавно отстроенное здание готического стиля, против башни Давида. Недалеко от него была некогда церковь св. Иакова младшего, построенная в XII веке.
* * *
Русская базилика, на так называемых русских постройках, в 10 минутах от западных ворот города. Этот храм выступает пред взорами европейского путешественника прежде всех других иерусалимских сооружений и вместе с окружающими его русскими постройками почти заслоняет собою город. Справедливость требует заметить, что русский храм в Иерусалиме обращает на себя общее внимание не одним наружным видом. Его внутренние украшение, а особенно его богослужение привлекают тысячи приходящих в Иерусалим иноверцев. Но пусть впечатление, от русского храма и русского богослужения в Иерусалиме расскажет сторонний путешественник. Вот страница из путевых записок известного ориенталиста графа де-Вогюэ, помещенная в Revue des deux mondes (1875. Апрель) и уже замеченная русскою духовною журналистикою.
Des impressions d’un caractère plus profond encore nous attendaient dans la basilique russe. On connait la disposition générale des églises russes en forme de croix grecque surmontée de cing dômes bulbeux. Celle-ci ne s’en écarte pas. L’intérieur est decoré avec une richesse sobre et délicate... Sur le panneau de l’iconostase se déroule la galerie habituelle des panagia et des saint dans leur fonds d’or. j’était surtout curieux de voir là comment l’art religieux russe a modifié la vieille tradition byzantine... L’epreuve est toute en sa faveur. Cette école donne déjà des résultats surprenants et nous promet une rénovation de la peinture religieuse. Elle a su avec une discernement garder toutes les qualités des vieux maitres du mont. Athos et des couvents grecs, la douceur, l’éclat, l’expression fervente; elle en a rejeté la gaucherie, la raideur, les incorrections de dessin, les poses conventionelles; c’est d’un archaïsme bien autrement vrai, bien autrement jeune et religieux que celui de l’école allemande d’Overbeck. L’oeil fait à l’immobilite hiératique des types byzantins est tout surpis de voir des saints orthodoxes vivre et se mouvoir dans leur ciel d’or; on applaudit sincèrement à ce jeune art déjà si savant et si ingénieux. Il у a là telle tête de Christ qui est sur la route des nobles et antiques figures que Flandrin a laissées à Saint-Vincent-de-Paul et à Saint-Germain-des-Prés.
Описав далее обряд освящения хлебов, при котором он присутствовал, совершителей русского богослужения, в главе которых стоял настоятель миссии, un de ces types slaves si séduisans, rêveurs et mystiques, мисеийских певчих doués de voix superbe et admirablement dirigés, русскую религиозную музыку la plus symphonique, la plus douce et la plus pénétrante qui’il m’ait jamais été donné d’entendre. – Вогюэ прибавляет: tout cela nous avait cloués à nos places comme une apparition merveilleuse. De cette musique céleste, de ces parfums d’encens et de cire... il se dégageait une poésie si sacrée, une prière si esquise, que nous ne pouvions plus nous dérober à leur charme, à leur émotion communicative. Ces hommes ont vraiment une entente supérieure de la mise en scène religieuse; ils ont retenu les traditions pompeuses de l’ancien Orient. Même à Jérusalem, en face de ces souvenirs écrasans, ils ne sont ni petits ni ridicules. C’est alors surtout que j’ai senti quelle force s’accumulait sous ces voûtes; en voyant autour de moi tous ces pèlerins russes, les femmes prosternées, les hommes debout, graves, fervents et recueillis, les reflections qui m’obsédaient tout-à-l’heure me sont revenue cent fois justifiées. Cette religion, si vive, est nourri par un clergé qui dispose de tels moyens d’action, qui sait s’emparer de l’homme par tous ses sens pour arriver à son âme et ce clergé lui-même est un instrument docile dans la main d’un maitre. Ne voilà·t–il pas le levier à soulever le monde? En m’avouant que l’avenir est à ces hommes, je suis obligé de reconnaître que c’est justice puisqu ils sont simples, pieux et bons...
Этот восторженный отзыв напоминает восторги послов великого князя Владимира, вынесенные ими из софийского храма в Царьграде. Но он тем замечательнее, что его высказывают не язычники, а сын католической церкви, известнейший ученый, специалист церковной археологии, прославившийся классическими сочинениями в этой области и наконец человек с политическим влиянием. Мы привели этот отзыв потому, что некоторые из русских путешественников (не богомольцев) распространяли в русском обществе другого свойства мнение о русской церкви в Иерусалиме и её миссии.
* * *
Синагоги. Восемь тысяч евреев, живущих в Иерусалиме, разделяются на две отдельных партии: α) евреев испанской расы, Сефардам, переселившихся в Иерусалим из Испании, Португалии, Феца, Марокко, Алжирии, Туниса, Египта, Сирии, Греции, Турции, и Персии, и β) евреев немецко-польской расы, Ашкеназим, переселившихся из России, Галиции, Венгрии и Германии. Различие этих двух рас резко сказывается в устройстве головы и черепа, которые у испанской расы, больше и шире, а у немецкой уже и меньше; точно также рост испанских евреев значительнее. Из этого преимущественного развитие последних выводят происхождение их от колен Иудейского царства. В таком случае евреи Ашкеназим будут принадлежать к потомкам десяти северных колен. Евреи Ашкеназим делятся на Нерушим (фарисеев) и Хасидим (благочестивых); есть ещё небольшое число Караитов, последователей саддукеев. Та и другая партия имеют свои школы и синагоги.
Самая замечательная синагога в Иерусалиме стоит на улице ель-Егуди, в соседстве с малою мечетью Омара и принадлежит испанским евреям. По преданию эта синагога стоит на месте Бет-мидраш-гагадол рабби Иоханана-бен-Саккай, того самого, которого во время разрушение Иерусалима Титом ученики вынесли из города в саркофаге и который после того основал школу в Иамнии (Gittin 56. I). Этот Бет-мидраш-гагадол, отождествляемый некоторыми даже с тем Бет-гадол, который упоминается 2Цар.25:9 (Eccha Rabbathi 64, 2), уцелел во время разрушения Иерусалима и, по свидетельству Епифания, представлял группу семи зданий или семи синагог на Сионе, напомнивших Диксону семь церквей в Болонье. Эти синагоги были разрушены Адрианом. Но в 649 году Аарон-ганази, пришедши в Иерусалим из Вавилона, получил позволение от халифа Али построить новую синагогу на месте, где был мидраш р. Иоханана-бен-Саккай. Предание прибавляет, что халиф требовал от рабби Аарона устроить свою синагогу под землею, чтобы не осквернить поверхность Сиона. – О происхождении иерусалимской синагоги Ашкеназим находят свидетельство у Маймонида от 1227 года. В письме из Иерусалима к своему сыну, бывшему в Испании, Маймонид между прочим пишет: «мы нашли здесь прекрасное, но разрушенное здание с мраморными колоннами и прекрасным куполом и думаем восстановить его для синагоги». Это здание было возобновлено, а потом еще увеличено прибавкою новых боковых построек и получило имя синагоги Ашкеназим. Впрочем основное здание синагоги, то самое, которое построил Маймонид, было отнято арабами у синагоги и обращено в виноградную сушильню под именем el-Maraga. Так как Маймонид в своем письме не упоминает о синагоге сефардим, то нужно думать, что в это время она была разрушена, так что обстроенная Маймонидом синагога была в это время единственная в Иерусалиме. Ещё в 1586 году Ашкеназим и Сефардим молились в одной синагоге. Но скоро после этого времени между обеими партиями возникли неудовольствие, кончившиеся тем, что Сефардим отделились от Ашкеназим и возобновили древнюю сионскую синагогу рабби Иоханана69.
* * *
Примечания
В печатном издании еврейский текст в большинстве случаев дан без огласовок. Мы приводим их там, где они есть в оригинале книги. – Редакция Азбуки веры.
В французских гидах ошибочно камни древнееврейские причисляются к боссажным.
Обделку скалы в этом пункте нужно отнести ко времени первого храма, потому что трудно представить, чтобы параллелограмм площади в одном этом месте оставался не выровнен. Никакого смысла не имеет предположение некоторых, что расчистка северо-западного угла харама была сделана при построении Омаровой мечети в воспоминание харама Мекки и Медины. Как будто мусульмане могли содержать площадь в лучшем виде, чем она была у древних евреев.
С трудом пробравшись среди обвалившихся камней этого прохода и выйдя наконец на площадь харама, Омар осмотрелся кругом и воскликнул: «Велик Бог! Вот место храма Давида, о котором говорил мне пророк».
Кроме этих остатков, западная стена вероятно имеет еще другие, но они закрыты примыкающими в хараму городскими зданиями. Только между воротами Хадид и Назир можно видеть в стене харама большие гладко обделанные римские камни и между ними два еврейских последнего периода.
Странно, что никто из европейских путешественников, изучавших катакомбы, не говорит об этом саркофаге. Засыпан ли он где-либо под позднейшими наслоениями земли на дне катакомб, или взят отсюда.
В небольшой пролом этой пристройки, когда еще не было разрешения христианам вступать на площадь харама, Тоблер, известный доктор и археолог, пробирался в глухую полночь, чтобы взглянуть на подземелье, с риском быть пойманным и убитым.
Еще Сепп ссылается на то, что в 1865 в наружной части стены Омаровой мечети была открыта мраморная плита с надписью: τῆς οὐσίας Μαρίας.Так как крестоносцы писали по латыни, то эта надпись, но мнению Сеппа, могла быть сделана только византийскими строителями святилища. Но, как видно из обделки плиты, она попала в стену случайно из остатков какого-то другого монумента.
В своих доказательствах Сепп упустил из виду самое поэтическое, которое здесь мы ему сообщаем. Историк Прокопий в описании Юстинианова храма в Иерусалиме допустил выражение, что он «частью стоял на скале, частью висел на воздухе». Не правда ли, что это напоминает висящую в воздухе скалу мечети Омара?
Но прежде очищение цистерны с кровью, по свидетельству мишны (Ioma 58, 2) кровь вычерпывали ведрами и продавали садовникам, которые оплодотворяли ею сады и огороды.
Есть предание, что, по окончании своих построек в Иерусалиме, Ирод ослепил своего архитектора, чтобы никто не знал подземных ходов, проведенных им в разных направлениях под городом на случай народного возмущения. Такое же сказание есть и о Иоанне Грозном, казнившем архитектора, построившего церковь Василия блаженного в Москве.
Не доходя ста шагов до церкви Вознесения на Елеоне, открыты недавно основания какого-то древнего здания, в котором местные евреи признали сооружение своих предков и камни раскупили для надгробных памятников.
Недалеко от источника Рогел, между ним и Силоамской купелью, указывают дерево (шелковицу) одного имени с источником, священное воспоминанием совершившегося здесь, по преданию, мученичества пророка Исайи. Иустин, Лактанций, Ориген и Епифаний единогласно свидетельствуют, что пророк Исайя был распилен пилой, по повелению Манассии, в царских садах Силоама между двух источников. По раввинским сказаниям самый источник Силоамский брызнул из-под скалы в первый раз при царе Манасии, чтобы утолить жажду мученика-пророка.
Кажется, что выражение «рыбный пруд» было общим, безразлично употребляемым во всяком водохранилище и заимствовано от римлян, у коих и действительно, всякий искусственный бассейн назначался для рыбы.
Одна английская леди пожертвовала недавно в распоряжение археологического общества в Иерусалиме 20,000 фунтов стерлингов на очищение этого бассейна и постоянное наполнение его водой посредством водопровода. К удивлению, турецкое правительство нашло невозможным позволить очищение бассейна. Ожидают, конечно бакшиша половины этой суммы.
Пьеротти ошибочно полагает пруд змей в долине царских гробниц.
Отсюда самое название кладбища הַשְּׁרֵמוֹת от древнеарабского шарама – просверлил, прорубил (Иер.31:40). Вероятно, это название употреблялось как собственное имя иерусалимских кладбищ, потому что в LXX оставляют его без перевода Ασαρημωθ.
Впрочем, касательно стиля Царских гробниц в описаниях Иерусалима господствует такое разномыслие, от которого может придти в ужас не привыкший к противоречиям читатель. Как примирить, напр., такие летучие замечание: C’est un monument vraiment judaique… C’est de l’époque romaine Ce genre de monument appartient à l’antiquité la plus reculée... Der Geschmack... ein spätere Periode in der Kunstgeschichte zu verrathen scheine... unbezweifelt hebräischen ursprungs. Одни видят здесь высочайшую степень человеческого искусства, другие простое детское царапанье die Schrämmarbeit.
Св. Павла в свидетельстве Иеронима встретила гробницу Елены на целую стадию ближе к Иерусалиму, чем нынешние царские гробницы. Кроме того, как предполагает Сольси, св. Павла шла в Иерусалим не Наблусской дорогой, а чрез Гаваон и гору Самуила.
Авраам Сергеевич Норов делает еще особенное предположение, что гробницей Елены была верхняя часть Гефсиманского грота Богоматери, и ссылается на Брокарда. Но последний говорит только о положении гробницы Елены „выше кедронского потока, против ворот Вениамина (contra portem Beniamin), на северо-западе (contra occidentem et aquilonem)“.
Было еще сказание о принадлежности царских гробниц одному частному лицу, Калбе-Шабун (canis satur), этому благочестивому иудею, питателю бедных, часто упоминаемому в Талмуде (ср.: Gritin 56). Это сказание не требует опровержения, точно так же как и мнение Фергюсона, относящего царские гробницы к христианскому времени после Константина Великого.
В кн. 2Цар.21:18 говорится об одном иудейском царе, что он почил с отцами своими, но тут же прибавляется, что он имел особенную гробницу, отдельную от гробниц его предшественников.
Чеканной монеты нельзя было найти в гробницах Давида, потому что искусство чеканки во время Давида не было известно.
В греческом переводе 2Хрон. 36, 8 (2Пар.36:8) говорится о месте погребения царей династии Давида где-то в Ганозане.
Выражение: «почил с отцами» нужно отличать от более определенного и точного выражения: «погребен с отцами».
В каббалистических сказаниях ангел Узиэль от дочерей человеческих рождает гигантов.
Еще в половине прошедшего столетия шесть саркофагов стояло в loculi царских гробницах на своих местах с приподнятыми крышками, как в настоящее время стоят многие саркофаги в катакомбах некрополя Хальды (Сравни. Schultz, 7, 26).
Ковчег Ноев имеет три отделения (Быт.6:16), инструменты музыкальные имеют три угла (1Сам.18, 6 – 1Цар.18:6); мера сыпучих тел самая употребительная есть ⅓ эфы; самый замечательный разряд воинов в сражениях – тристаты. Три употребляется и в значении круглого числа: «он напоил нас слезами трижды» Пс.80:6. сравн. Иез.21:19.
Нужно заметить здесь, что, как видно из приложенного Сеппом рисунка, этот писатель разумеет под гробницей Симона предшествующую гробницу, которую мы назвали Осиеной, так что Тоблер и Сепп говорят о различных гробницах и не понимают друг друга.
Вместо выражения: «когда погибнет мое потомство, в памятнике будет памятно имя мое», в Библии читается так: «нет у меня сына, так пусть будет памятник».
Пред колоннами вестибюля с внешней стороны над обрывом кедронского потока, имеющим здесь около 8 метров глубины есть небольшая площадка, приводящая до узкого отверстия цистерны, принадлежавшей гробнице Иакова. Новейшие иерусалимские сказания связывают с этой цистерной предание о какой-то молодой еврейке, брошенной сюда живой за нарушение супружеской верности.
В помост нынешнего Гефсиманского вертепа вошла каменная плита, принадлежавшая какой-то другой древней гробнице, бившей неподалеку, со след. остатком древнегреческой надписи:
... ερου ...
... ης μο ...
... στον εις ...
... τεθηναι εις τὴν ϰ ...
... ώρας ἧς κατα ...
... τύμβον τοῦτον μὴ ἀν ...
... ταθῆναι ἕτερον....
... πᾶς δε επιχειρῶν παραβαίνειν ...
... τοῦτο ἔχει πρὸς τὴν ὁργὴν
... τὴν μέλλουσαν +
В этих отрывках строк можно прочитать завет почившего не погребать никого другого в принадлежащей ему гробнице и угрозу за нарушение этого завета. Некоторые относили эту надпись к последним временам паганизма; но крестик в заключении надписи показывает её христианское происхождение.
Нельзя не прибавить здесь, что замечательное по древним остаткам русского места на Елеоне, не менее замечательно по своим видам на окружающую местность. Особенно замечателен вид на Иорданскую долину и Мертвое море. Те из путешественников, которые не располагают из Иерусалима делать экскурсии на Иордан, обыкновенно приходят бросить взгляд на священ. реку с высокой террасы русского Елеонского дома.
Известный Клярке (the Holy Land 4, 540), на основании этой надписи, часто повторяющейся на скале некрополя, пришел к оригинальному предположению, что, так как эта надпись не имеет отношения к гробницам, то она принадлежит горе, т. е. всему месту, занимаемому некрополем и, следовательно, показывает, что библейская гора Сион была нынешнею горою злого совещания.
Хотя под именем Дер-Ессиние известны еще развалины на противоположной стороне вади, где есть и гробницы переделанные в цистерны; но во всяком случае распространение этого название на описанную гробницу, засвидетельствованное Тоблером, не может остаться без значения.
В базилике св. креста в Риме указывают надпись на кресте Спасителя, якобы найденную св. Еленою вместе с животворящим крестом. Надпись написана киноварью на деревянной дощечке и в первой еврейской строке совершенна стерлась; в строках греческой и латинской она отчасти сохранилась и представляет, в соответствие еврейскому тексту, латинский и греческий шрифт в обратном расположении букв от правой руки к левой.
Впрочем английский путешественник Клярке, бывший в Иерусалиме в 1801 году и чрез 10 лет после своего путешествия издавший исследование об Иерусалиме, полагает Сион на нынешней горе злого совещания, а тиронеон в долине геенской; таким образом Сион будет удален от храма на целую английскую милю.
Между другими основаниями Сепп приводит то, что в библейских источниках Милло Давида связывается с дворцом египетской царевны, жены Соломона, между тем дамасские ворота у Флавия называются „башней жены“. Очевидно какое значение может иметь подобная аргументация.
В XVI веке её называют пизанскою башнею по нации перестраивавших её архитекторов.
Внутри цитадели много древних развалин под мусором. Под одним из случайно открытых здесь, несколько лет тому назад, древних сводов найдено было много интересных вещей времени крестоносцев (копья, колчаны, мечи и пр.).
В крепостной стене лепится в настоящее время английский приют для бедных и школа епископа Гобата. Северною стеною приюта служит вал крепости; столовая для детей образована из древней цистерны.
К несчастью раскопки Модзле в этом первостепенной важности стратегическом пункте древнего Сиона затронули примыкающую к протестантскому кладбищу греческую землю, владельцы которой, с обыкновенным своим задором, потребовали прекращение работ.
Впрочем различие двух иерусалимских стен делается уже библейскими писателями, говорящими о стенах Иерусалима в двойственном числе 2Цар.25:4; Ис.22:11; Иер.39:4.
На карте Пьеротти остаток стены Манассии показан на западе от Яффских ворот, в долине гионской. Ничего похожего на древнюю стену я не нашел в этом пункте.
Не вдалеке от дамасских ворот я видел валяющиеся остатки древних орнаментов, именно куски гладко обделанных плит миззи, подобных остаткам дверей в царских гробницах. Эти остатки, говорят, найдены в соседней цистерне, где они лежали со времени разрушения Иерусалима.
LXX переводят Милло чрез ἄκρα 2Сам. 5, 9 (2Цар.5:9). 2Цар.11:27; ἀνάλημμα 2Хр. 32, 5 (2Пар.32:5) и Μαλλῷ 4Цар.12:21.
О втором иерусалимском квартале говорится 4Цар.22:14.
Из других надписей замечательна: CAMC, т. e. Colonia Aelia Magna Capitolina.
А. С. Норов полагает, что Флавий в Войн. 11, 16, 3 упоминает об арке Ecce homo. Это не верно. Флавий говорит в этом месте о „переходах“, близких к мосту Робинсона и верхнему городу, след. о площади Ксистус, нынешнем африканском квартале.
Из видов страстного пути и его памятников большой успех имели снимки живописца Гальбрейтера.
Смотри описание этого пожара в сочинении „Палестина. Сорок восемь живописных видов Гардинга, Турне и др. Перевод с французского Бобылева. Часть 1. Стр. 83.
В одном доме в Вюрцбурге, говорит путешественник половины XV века, „гораздо больше дерева, чем во всем Иерусалиме“, Gumpenherg 461.
В Тире, Сидоне, Бейруте и Акре получили свое начало и все резные украшения, ныне известные под именем дамасских.
Кроме масличных дерев здесь была ещё пальмовая роща в 25 шагах от городской стены. Впрочем здешние пальмы не приносили плодов; их ветви служили для украшений праздника кущей, Berachoth 57, 2; отсюда брали ветви при торжественном входе в Иерусалим Спасителя.
Очевидно остаток древнего обычая народного суда и наказания чрез публичное побиение камнями.
В самых стенах Иерусалима сады были невозможны потому уже, что при способе восточных построек для них не было места. Кроме того, самый грунт городской был не способен к тому. Если в настоящее время в стенах города растут деревья и цветы, то только на позднейшем наносном слое; между тем древний Иерусалим (за исключением площади харама) был голою скалою, а ввозить в город навоз или другое какое-либо удобрение запрещалось обычаем.
Вход в капеллу Адама внизу против камня миропомазания. Самая капелла представляет собою узкую и тёмную пещеру, в которой стояли представляет собою узкую и тёмную пещеру, в которой стояли гробницы Готфрида Бульонского и Балдуина, снесенные греками во время пожара 1808 года.
По свидетельству Фабера (от 1483), путешественники высекали на скале Голгофы свои щиты и имена. Следовательно, в это время скала Голгофы ещё не была покрыта.
Сеппу монумент гроба Господня показался сделанным в русском стиле im Moskowiter style.
Греческая надпись архитектора в пещере Гроба гласит: „помяни Господи раба твоего архитектора Колфу Комненоса из Митилене 1810 года“.
В приделе Ангела указывают только осколок камня от первоначального антишамбра. Если это не остаток стены, то он служил вероятно для открытия входа в пещеру (Golal). Входной камень при гробе Господнем указывал Кирилл иерус. Catech. XIII, 39.
Интересующиеся могут найти весьма подробное и точное описание её в сочинении Les églises de lа terre sainte par M. de-Vogüe.
Ср. Die römischen Catakomben von Spencer Norhcote. Taf. 13.
Впрочем епископ Виллибальд, путешественник 728 года, форму иссеченного в скале памятника Гроба называет пирамидальной quadrans in imo et in summo subtilis.
Снимки с нынешнего памятника гроба Господня, равно и памятника гроба Богоматери. Очень удачно сделаны русским художником Μ. Ф. Грановским. Выставку их можно было видеть в прошедшем году в Киеве.
Замечательно, что нынешние магометанские владетели памятника вознесения связывают с этим местом и вознесение на небо Магомета, и след ноги на камне относят к своему пророку. Доказательством уважения магометан к этому месту служит то, что, кроме дервишей, здесь селились многие благочестивые магометанские семейства. В настоящее время при памятнике вознесения образовалась целая деревня с именем Kefr-et-Tur село Еленское.
Открытый вид Елеонской горы обращал на себя внимание издревле. Въ иудейское время здесь был первый сигнальный пункт, возжением костра на котором синедрион давал знать стране о наступившем новолунии и празднике.
К сожалению русский текст сделан весьма неправильно с грубыми ошибками.
Мы видели выше, что принятое в настоящее время отождествление ἁγία σοφία Юстиниана с нынешнею мечетью Ель-Акса не выдерживает никакой критики.
По последним сообщением иерусалимского корреспондента Jewis Chonicle „в настоящее время прилив евреев вь Иерусалим громаден, особенно из России. С каждым пароходом из Одессы и Триеста приезжают до 50 еврейских семейств из разных концов России. Между этими эмигрантами находятся также и богатые люди, которые немедленно по прибытии в Иерусалим приобретают там поземельную собственность и выстраивают дома впрочем не в самом городе, а в окрестности по дороге, ведущей в Яффу. Таким образом возникает нечто в роде предместья уже прозванного Новым Иерусалимом и почти исключительно населенного евреями преимущественно из России“.
