Часть четвертая
Было ли у первых христиан искусство?
I.
Было ли у первых христиан искусство?841 На вопрос этот необходимо ответить до описания и художественной оценки тех памятников живописи и скульптуры, которые дошли до нас от ранних последователей нового учения. При первом взгляде, кажется очень вероятным, что принятие христианства должно было неминуемо повести за собою отвержение искусства, очень часто употребляемого язычниками, для изображения богов и украшения их храмов – жилище демонов, по мнению верующих. Можно ли предположить, что люди, разорвавшие с прошедшим и отвергавшие, как нечто греховное, все, чем они прежде наслаждались, что любили, несмотря на то, сами упражнялись в том художестве, которое в мире античном постоянно служило к возвышению и прославлению языческих богов? Опасности, которым, по временам, подвергались христиане, обращая на себя, каким бы то ни было образом, внимание властей, необходимость скрываться, серьезность их положения, часто враждебные отношения к ним римского общества, все это должно было удалять верующих от искусства, вообще, от всякого рода украшения их гробниц и мест собраний. Притом, развитие художества предполагает общество, правильно установленное, не только свободное, но и богатое, занятое светскими заботами, склонное к роскоши, к приятным развлечениям ума, любящее природу и жизнь. Христианская община, напротив, была составлена, по большей части, из людей бедных; среди них должно было преобладать настроение строгое, печальное, удалявшее от света и всего веселого.
Многие археологи отвергали, потому, и даже до наших дней отвергают существование христианского искусства до Константина. Еще до сих пор можно слышать мнение, что верующие времен гонений, были ли они язычники, принявшие христианство, или обращенные евреи, удалялись от всякого фигуративного изображения и что только впоследствии, в IV-м столетии, когда, отчасти, был забыт языческий характер художества античного мира, христиане начали украшать свои места собраний и церкви живописью и скульптурой. Все памятники искусства, находящиеся даже и в подземных христианских кладбищах, относили, потому, без различия к векам торжества церкви. Открытия, сделанные в последнее время в катакомбах, и более точное определение отношений первых христиан к властям и к окружающему их обществу, во многом изменили мнение, что верующие, периода борьбы, безусловно удалялись от изобразительного искусства.
Общего неизменного правила, относительно склонности или удаления первых христиан от живописи и скульптуры, постановить невозможно. Новая вера распространялась в различных странах, среди людей разных племен, разного образования, разных художественных способностей. Христианские идеи понимались неодинаково всюду, куда проникали, на берегах Нила и на берегах Тибра, в римской Африке и в Греции, в Палестине и в южной Галлии, и это различие проявляется, между прочим, и во взгляде ранних последователей новой веры на художество, как средство выражения религиозных идей. Следовательно, на вопрос: было ли у первых христиан искусство? нельзя отвечать ни решительным да, ни положительным нет. Надо знать, прежде всего, кто были эти христиане, какому племени и какому образованию принадлежали они. Разумеется, среди тех людей, которым их прежняя религия запрещала изображение живого существа и, особенно, представление Бога под видом человека, религиозное искусство неминуемо должно было встретить осуждение. Точно так же, среди обитателей природы однообразной, бедной формами и красками, бессильной развить в человеке любовь к пластике и живописи, которые, потому, не были приготовлены и не чувствовали влечения к передаче изобразительно своих идей, христианство не могло вызвать художественного движения, и, если религиозное искусство появлялось в подобной среде, то оно было принесено извне и, часто, неодобряемо.
Так, например, местами, на восточных берегах Средиземного моря и северной Африки, вообще, всюду, где фигуративное искусство не составляло самобытного произведения страны, а было принесено классической культурой, там христиане, скорее, были расположены удаляться от религиозных изображений, сделанных живописью и пластикой, чем оправдывать их, тем более, что они не были предписаны новым учением. Закон Моисея запрещал не представление живого существа, а поклонение какому-либо изображению. Моисей, например, получал повеление от Бога изобразить херувимов. Но запрещение представлять живое существо с целью поклоняться ему, должно было удалять евреев вообще, от изображений подобного рода. Понятно также, что те из них, которые приняли христианство, осуждали фигуративное искусство и не одобряли религиозных образов, так как эти последние делались для почитания их. Но даже и тут неизменного правила постановить нельзя; не всюду евреи были столь строги. Так, например, в еврейских колониях, разбросанных по берегам Средиземного моря, заключавших в себе много прозелитов и находившихся в постоянном соприкосновении с народами классической культуры – развивавшей, в большей или в меньшей степени, художественные вкусы и деятельность в области искусства, даже и среди племен, всего менее способных к ним – в этих группах евреев, говорю я, не преобладало столь положительное удаление от фигуративного искусства, как в самой Палестине. Это, между прочим, доказывают нам фрески, открытые в еврейских катакомбах в Риме, изображающие разные символические сюжеты зверей, птиц и даже фигуру человека, как в соседних христианских подземных кладбищах. Если постановления религии иудеев в этом отношении делали уступки, то новая вера, не запрещавшая положительно религиозные изображения, еще менее должна была препятствовать развитию, в среде своих последователей, изобразительного искусства.
Разумеется, закон Моисея: «не делай себе кумира», вызванный отвращением иудеев к египетскому идолопоклонничеству, должен был получить и среди христиан известное значение. Новые иудеи выходили из языческого общества, как евреи из Египта, отвергая, подобно последним, поклонение идолам. Но эти идеи не всюду преобладали и не всюду имели одну и ту же силу. Так, например, в Греции, в Италии, вообще, на северных берегах Средиземного моря, где самая природа, богатая прекрасными формами и красками, развивала в человеке способность к живописи и пластике, где жили вековые художественные традиции и изобразительное искусство сделалось отраслью умственного развития, там, принявшие христианство, конечно, не шли против инстинктов своей натуры, разрывая окончательно с прошедшим, и не удалялись от живописи и пластики, осуждая выражение своих религиозных идей и заявления своей веры и своих надежд фигуративно, равно как и каждый декоративный мотив, взятый из прекрасной, окружающей их, природы, хотя бы они при этом и отвергали всякое проявление язычества в их искусстве842.
Не надо, притом, упускать из вида, что римское искусство в ту эпоху, когда христианские идеи начали распространяться в нем, было проникнуто эллинической культурой и до того художественно настроено, что каждая пустая стена внутри дома сколько-нибудь достаточного владельца, казалась чем-то невыносимым и оскорбляла зрение. Римляне не могли сносить никакого предмета самого обыкновенного, ежедневного употребления, не имевшего художественной, игривой, подражающей природе, формы. Даже маленькие, дошедшие до нас глиняные лампы, дюжинной, вполне фабричной работы, назначаемые в продажу бедным людям, часто украшены с большим вкусом; носок или ручка их красивы, а на диске озображена какая-либо фигура. Не следует, также, забывать, что изобразительное искусство было одним из самых действительных способов передачи мысли в классическом мире, и этот прием сообщения своих идей имел полную силу в римском обществе, при появлении в нем христианства. Замечательные события или особенные происшествия оживлялись в памяти народа, посредством живописи или пластики. Подобным способом, императоры говорили народу и изображения, в этом случае, заменяли манифесты и прокламации843. Каждый триумф в Риме давал работу многочисленным живописцам; они представляли виды из завоеванных стран, их жителей, битвы и победы римлян. Подобные картины несли в триумфальных шествиях вместе с аллегорическими фигурами рек, гор, городов, стран и т. д. В Риме, в века империи, очень часто изображали живописью, пластикой, мозаикой замечательные происшествия и события из жизни императоров, как, например, заключение ими мира, их триумфы, сражения, осады, охоты, бои гладиаторов, травли зверей, жертвоприношения, при которых они присутствовали, равно как и их благодеяния и великодушные поступки. На процессах у римлян появлялись изображения совершенных преступлений. Этим обвинители старались возбудить негодование судей, и склонить их к осуждению обвиняемого. Можно было бы указать и много других примеров очень частого употребления у Римлян изобразительного искусства, как средства сообщения мысли, поучения или возбуждения какого-либо чувства.
Не удивительно, потому, что римляне язычники, воспитанники классической цивилизации, приняв христианство, не отвергли своих артистических вкусов и перенесли в новую веру, сродную им, склонность к сообщению фигуративно своих понятий и к художественной орнаментации. Христиане Рима, расписывая погребальные комнаты и передавая живописью или пластикой свои любимые надежды и идеи нового учения, всего более породившие их, или украшая гробницы дорогих для них умерших, веселыми, живыми декоративными мотивами, согласно с их артистическими наклонностями, не могли видеть в этом ничего, оскорбляющего их религиозные чувства. Усвоение фигуративных искусств для возвышения, для прославления христианства, не могло казаться им предосудительным. Если и были примеры, что римляне, приняв новую религию, смотрели с презрением, даже с ненавистью на все, что прежде они любили, что пленяло их и, следовательно, на произведения живописи и пластики, то нельзя утверждать, что в большинстве новообращенных преобладало это аскетическое направление, особенно, в стране, где идеи аскетизма были до того времени мало известны.
Нас, потому, не должно удивлять, если в местах погребения первых последователей новой веры в Риме, в Неаполе, вообще, всюду, где преобладала классическая культура и где грунт земли позволял выкапывать катакомбы, были открыты фрески, иногда очень хорошо исполненные и стоившие, вероятно, не мало, или мраморные гробницы с барельефами. Христианство, распространяясь, преимущественно, среди бедных и неимущих людей, проникало иногда и в высшие слои общества, в семейства богатых граждан, имевших возможность расписывать свои погребальные комнаты844, находившиеся под покровительством римского закона, охранявшего, без различия, жилища мертвых, какому бы верованию или сословию они ни принадлежали при жизни. Достаточные римляне, приняв новую веру, могли, говорю я, украшать семейные гробницы в те периоды спокойствия и терпимости, иногда, довольно продолжительные, сменявшие гонения, которые, однако, до средины III-го столетия, как мы уже видели, не касались катакомб.
Следует, однако, заметить, что первые христиане, не отвергавшие, безусловно, искусство, предпочитали живопись пластике. До сих пор, в самом деле, открыто очень мало образчиков христианской скульптуры раннего времени. Статуи, более, чем фрески, могли напомнить верующим языческих идолов845, и представить Спасителя, хотя бы аллегорически, но таким же точно образом, как это делали язычники, изображая Юпитера, Аполлона, Бахуса и других богов, именно, из мрамора иди бронзы, не могло одобряться большинством христиан. Поклонение, воздаваемое статуям богов, было самым популярным, самым распространенным обрядом язычества. Художник верующий, высекавший из мрамора или ливший из бронзы какую-либо фигуру христианского значения, уподоблялся языческому скульптору, создавшему изображения ложного божества. Притом, не надо забывать, что перед статуями богов или императоров, христиан, на допросах, заставляли курить фимиам и совершать возлияние вина, и после отказа их исполнить это заявление благонамеренности и патриотизма, имевшее гораздо более гражданский, чем религиозный характер, следовал, обыкновенно, роковой приговор, как это видно из письма Плиния к императору Траяну, из многих деяний мучеников и творений писателей церкви.
Удаление верующих от произведений пластики, столь часто употребленной для прославления и возвеличения языческих богов, проявляется и у христианских писателей.
Но и в этом случае были исключения; в катакомбах, как мы увидим дальше, нашли несколько статуй, изображающих доброго Пастыря.
II
Если мы разберем то, что писатели церкви раннего времени христианства говорят об искусстве, то увидим, что их следует разделить на две группы. К первой принадлежат писатели Италии, запада, вообще, тех стран, где была распространена эллиническая культура. Некоторые из них благосклонно смотрят на живопись и пластику, другие, хотя и не оправдывают вполне выражение ими религиозных идей, но не осуждают искусство окончательно, не запрещают положительно, когда оно не употреблено с языческой целью и не служит поощрением роскоши. Писатели церкви, безусловно отвергающие искусство, составляют вторую группу; они принадлежат востоку семитическому, вообще, тем странам, где новой вере предшествовали религии аскетического характера; враждебные фигуративному искусству, где последнее не развилось самостоятельно, где, притом, классическое образование не пустило глубоко корней, и жители, по своей грубости, не были способны ценить художество и не имели к нему такого влечения как в Италии и на востоке эллиническом.
Так, например, африканец Тертуллиан (160 – 245), во многих местах своих сочинений, с большой энергией осуждает искусство; но известно, что он одно время принадлежал к аскетической секте монтанистов, последователи которой созерцали плоть греховным началом и считали опасным для спасения души каждое удовольствие и развлечение. В идеях Тертуллиана преобладали строгий, даже мрачный взгляд на жизнь, и удаление от всего прекрасного. Он осуждает, равным образом, всякое изображение из воска, бронзы, мрамора, или исполненное живописью, и советует художникам христианам не писать, не высекать из мрамора, а производить предметы ежедневного употребления. В творениях своих Тертуллиан столько же смел, силен, сколько суров и нетерпим. Другие писатели церкви, противники искусства, не были так строги, как Тертуллиан, и осуждали, преимущественно, поклонение религиозным изображениям, принимавшее языческий характер; с этой точки зрения всего чаще нападают они на фигуративное искусство. Противником последнего считают также, но не вполне основательно, Климента Александрийского, жившего во II-м столетии, грека по рождению и философа школы Платона, до принятия им христианства. Непреклонный, но просвещенный враг идолопоклонства, он был человек совершенно другого склада, чем Тертуллиан, и в своих творениях является талантливым знатоком греческого искусства и литературы. Климент умел ценить красоту классического художества и допускал существование его у христиан, но предостерегал верующих от чувственного направления искусства, так как это может затемнить понимание высших истин и христианского идеала. «Мы должны – говорит он, – подыматься к духовному, а не оставаться пригвожденными к земле». Художества, по его мнению, достойны похвалы, когда они увеселяют жизнь и вносят в нее отраду; но неправильное применение их заслуживает полного осуждения, особенно, если они ведут к идолопоклонству. Всякое искусство – греховно, по мысли Климента, когда оно ведет к унижению Бога: «мы удивляемся Церере и Прозерпине, мистическому Бахусу и другим созданиям Праксителя, равно как и произведениям Лизиппа и Апеллеса, – говорит он, – но как должны мы, повинующиеся закону «не делай себе кумира», почитать как богов эти изображения?». Из этого видно, что Климент вовсе не изгонял искусство из среды верующих, а только хотел придать ему христианский характер. Точно также, он удалялся от аскетизма, превращавшего всю жизнь в непрерывное покаяние, и не запрещал удовольствия и наслаждения, но, разумеется, не противоречащие правилам нового учения. В городе Александрии, в Египте, где он жил, преобладала в его время большая роскошь в одеждах; особенно, женщины любили пышные богатые наряды, уборы из золота, жемчуга и драгоценных камней. Климент не вполне запрещает это христианкам, но требует, чтобы границы приличия и умеренности не были при этом переступаемы. Даже кольца из золота и с драгоценными каменьями можно, по его мнению, носить, но не из тщеславия, не из любви к роскоши, а в воспоминание данного обещания верности, или как печати. Символы, вырезаемые на кольцах, должны, говорит он, иметь христианское значение и напоминать какую-либо истину нового учения или одну из его надежд. Климент, например, советует вырезать фигуру голубя, рыбы, корабля, лиры, якоря, рыбака и т. д. – это одно может служить доказательством, что он не был противником религиозного искусства – но христиане не должны, по его мысли, носить кольца с изображением языческих богов, обнаженных фигур или военных эмблем. Символическое направление, преобладавшее во время этого писателя в катакомбном искусстве, вполне согласовалось с его идеями, вполне оправдывалось им. Приблизительно того же мнения был и мученик св. Ириней, епископ Лионский, родившийся в греческом городе Смирне в Малой Азии, живший во II-м столетии и, также, человек классической культуры.
Осуждали христианское искусство: Ориген (185–253), доктрина которого приняла, как известно, резкое мистическое направление; африканец Минуций Феликс (III-го столетия); африканец же Арнобий (III-го столетия); св. Иустин (II-го столетия), родом из Палестины; ученик его Татиан, уроженец ассирийский (II столетия), в конце жизни – гностик аскетического учения Маркиана; Феофил, епископ Антиохийский, второго-же столетия.
Даже и после торжества церкви, между писателями и главами ее были противники христианского искусства, так, например, епископ и историк Евсевий, родом из Кесарии в Палестине, не одобряет Констанцию, сестру Константина, просившую у него портрет Христа. Он же, говоря об изображениях Спасителя и апостолов Петра и Павла, осуждает это, по его мнению, языческое выражение набожных чувств. Другой враг икон, влияние которого было очень сильно в его время, это св. Епифаний, епископ Саламинский на острове Кипре, иудей по рождению, живший в IV-м столетии. Он сам пишет Иоанну Иерусалимскому, что, увидя в одной деревенской церкви, около Иерусалима, завесу с религиозным изображением, разодрал ее, возмущенный тем, что образ человека находится в святом месте, и прибавляя, что завеса эта будет лучше употреблена, если в нее завернут для погребения тело бедного христианина. Этот факт всего яснее доказывает нам, что среди евреев, обращенных в христианство, сохранилось отвращение к религиозным изображениям, запрещенным их законом, и, вместе с тем, что эти последние были довольно распространены во второй половине IV-го столетия, так как одно из них, разодранное Епифанием, находилось в бедной деревенской церкви Палестины.
То же удаление от икон высказывает Астерий (IV-го столетия), епископ города Петры в северной Аравии, очень уважаемый на всем Востоке и известный своими проповедями. В одной из них он говорит: «не пиши Христа, потому что это будет знаком Его унижения, но носи слова Его в своем сердце». Тот же самый Астерий, однако, одобряет живопись, изображающую страдания мученицы Евфимии, и хвалит, при этом, набожного художника, который с помощью своего искусства представил так же живо подвиги этой христианки, как это делает проповедник в своей речи в день ее поминовения. Писатель этот говорит так же, что благочестивые и богатые христиане его времени, желавшие заявить свою набожность, носили одежды с вышитыми на них сценами из евангелия, как, например, чудеса Спасителя: превращение воды в вино, параличный, несущий свой одр на плечах, исцеление слепого и женщины, страдающей кровотечением, воскресение Лазаря и т. д. Из чего мы видим, что у христиан Востока, в эти времена, было фигуративное искусство; если подобные сцены вышивались на одеждах, то, без сомнения, уже существовали в местном художестве, так как вышивание, вообще, не составляет самостоятельной отрасли искусства, а есть подражание живописи и является после нее, особенно, когда дело идет об изображении фигуры человека.
Большая часть писателей церкви Востока, которые осуждали искусство, были так же того мнения, что Христос, явившись на землю, принял некрасивый вид, и это, разумеется, должно было, в некоторой степени, удалять христиан от изображения Спасителя. Св. Августин является, так же, противником икон и в своих сочинениях не раз осуждает их. «Ошибаются те, пишет он, которые ищут Христа и апостолов не в святом писании, а в живописях стен». В другом месте, однако, говоря о многочисленных христианских сюжетах, как, например, о жертвоприношении Авраама и т. д., он не отвергает искусство, а, скорее, одобряет его. Из этого видно, что св. Августин не допускал изображения Христа и апостолов, равно как и поклонения иконам, но не осуждал представления христианских сцен, особенно же, имеющих символическое значение. Не вполне оправдывал искусство, также, и ученик Иоанна Златоуста св. Нил (IV-гo столетия), жизнь и сочинения которого имеют аскетический характер. Он, однако, говорит о живописи христиан Востока, не осуждая ее безусловно. Удаляя из церквей сцены охоты, рыбной ловли и мотивы орнаментики, взятые из природы, как, например, растения, птиц, зверей, как сюжеты, не соответствующие святому назначению здания, он допускает в христианских храмах изображение сцен, заимствованных у ветхого и нового завета, которые, продолжает он, должны быть написаны хорошим живописцем, дабы люди неграмотные, лишенные возможности читать святое писание, могли узнать, посредством этой живописи, подвиги верных слуг Бога и подражать им. Но при этом, св. Нил осуждает представление на стенах церквей большого количества священных сюжетов, развлекающих молящихся.
Удаление от религиозных изображений, имея, впрочем, несколько другое направление, хотя и то же самое основание, проявилось позже, как мы это увидим ниже, с новой силой в Византии в эпоху иконоборства.
Мало отцов церкви выговорились безусловно в пользу изобразительного искусства. К числу их принадлежит св. Василий Великий (IV столетия); человек классического образования, он смотрел на художество, как на средство достижения религиозных целей; по его мнению, искусства были даны нам Богом, для поддержания нашей слабой натуры. Писатель и живописец, говорит он, первый – словами, а второй – красками изображают военные подвиги и этим одушевляют других на битву, потому что, как слово действует на слух, так немая живопись поражает наше зрение. В одном из своих поучений, св. Василий побуждает живописцев изображать геройские подвиги мучеников Антиохии и, среди них, представить прототип всех мучеников – Христа. Этот ученый пишет императору Юлиану, с которым воспитывался и подружился в Афинах: «образы апостолов и мучеников я почитаю и обожаю, их видишь во всех наших церквах». Брат св. Василия, св. Григорий, епископ Нисский, в одном из своих сочинений, говорит, что немая живопись имеет способность повествовать, поучать и быть полезной. Так, например, в изображении красками страданий и смерти мучеников, христиане, как бы, в книге могут читать их подвиги. Он же очень подробно описывает сцену жертвоприношения Исаака Авраамом, исполненную живописью. Точно такое же описание этого сюжета делают св. Ефрем (IV-гo стол.) и св. Кирилл Александрийский (V-го стол.). Еще положительнее высказывается в пользу религиозного искусства, говоря о нем, даже с большим увлечением, Григорий Назианзский, современник св. Василия Великого и Григория, епископа Нисского, и, подобно им, окончивший в Афинах свое образование. Того же мнения был и Павлин, епископ города Нолы (353–431); изображение священных сюжетов, согласно ему, должно воспитывать верующих и пояснять им христианские таинства; потому, он велел написать в церквах своей епархии библейские сцены, мучения героев веры, крест и т. п. Папа Григорий Великий выразился, относительно христианского искусства, следующим образом: «не одно и то же молиться изображению и учиться, посредством него, кому следует молиться, ибо то, что, для умеющего читать – письмо, то для неграмотного – изображение».
Мы видим, следовательно, что многие писатели церкви, и даже те из них, которые были благосклонны к классической культуре и признавали учение греческих философов низшей формой откровения и путем приготовления к христианству, как, например, св. Иустин и Ориген не оправдывают религиозных изображений. Но, если даже и предположить, что главы церкви и люди влиятельные, среди последователей учения Спасителя, одним словом, все, что в первое время существования христианской общины можно назвать ее властями, и осуждали искусство, то нельзя утверждать, что они выражали мнение большинства верующих и, что последние, постоянно следовали их советам. Христиане в начале распространения нового учения, еще не подчиненные так строго церковной дисциплине, как в средние века, могли беспрепятственно следовать своим художественным инстинктам в тех странах, где прежде процветало изобразительное искусство, и где оно срослось с умственной деятельностью народа. Можно, потому, сказать, что религиозные изображения первых последователей новой веры, которые мы находим в катакомбах, не создались под влиянием писателей церкви, не были определены ее властями, а явились, как плод вдохновения христианских художников и имели более задушевный, чем официальный характер.
Из слов писателей церкви, оправдывавших или осуждавших религиозные изображения, мы можем, также, заключить, что последние существовали у первых христиан. Энергическое осуждение и ревность, с которой порицатели икон восстают против фигуративного искусства, доказывают нам, что в общине верующих не все разделяли их мнения, и что у христиан востока и запада, с очень ранних времен и не как исключение, находились священные изображения. О них, например, говорят Астерий, епископ Петры, св. Нил, св. Ефрем, св. Кирилл Александрийский и св. Епифаний. Уже Тертуллиан во II-м столетии пишет, что чаши, употребляемые первыми христианами, украшены изображениями доброго Пастыря846. «Pasior quem in calice depingis»847. «Пастырь, которого ты изображаешь на чаше». Из текста того же писателя848 видно, что община верующих заключала в своей среде живописцев, скульпторов и, что некоторые из них, продолжали работы языческого характера после обращения. Тертуллиан строго осуждает художников, которые, приняв христианство, не перестают производить изображения богов. «Не отрекается от демона тот, говорит он, кто его изображает; можешь ли ты утверждать, что веруешь в единого Бога, когда изображаешь стольких? Я создаю их, отвечаешь ты, но я им не поклоняюсь; как будто бы, причина, запрещающая поклоняться им, не должна также удалять от изображения их. Ты поклоняешься ложному Богу, потому что создал его для поклонения. Не пламя жертвоприношения, а огонь твоего таланта зажигаешь ты на его жертвеннике; ты отдаешь ему не жизнь животного, а твою жизнь, твою душу, твое искусство. Ты для ложных богов больше, чем жрец, ты даешь им жрецов. Ты оправдываешься тем, что это было твое ремесло, и что ты им кормишься; но тогда и вор, и разбойник, приняв христианство, должны продолжать воровать и грабить?».
III
Противники того мнения, что не всегда и не всюду верующие удалялись от искусства, опираются, обыкновенно, на решение собора города Эльвиры (Illiberis)849, происходившего в 305-м г. Это постановление запрещало религиозные изображения на стенах церквей: «Placuit picturas in ecclesia esse non debere, ne quod colitur et adoratur in parietibus depingantur» (Concil. Illib. can. 36). – «Постановлено, чтобы в церквах не было живописи и то, что почитается и обожается, не писалось бы на стенах». Согласво G. В. de Rossi, предписание это было вызвано грозящим тогда преследованием Диоклециана. Оно и не могло быть иначе. Гонения христиан второй половины III-го столетия, приняли совершенно иной характер, чем все предшествовавшие. До этого времени, верующих преследовали, казнили, но церкви их, места собраний, кладбища, катакомбы не трогали; с середины же III-го века, когда христианская община сделалась значительна и богата, когда многочисленные, построенные ею, церкви в длинные периоды спокойствия850, равно как и, сильно развившаяся под землею, сеть катакомбных галерей обратили на себя внимание властей, христиане не находили более убежища в своих подземных кладбищах и самые памятники их начали страдать. Церкви были разграблены, разрушены, архивы сожжены, верующих старались застигнуть в местах их собраний. Папа Сикст II-й, во время гонения императора Валериана (258 – 260), был убит в здании над катакомбой Претекстата, вместе с четырьмя дьяконами, совершая служение. При этом, разумеется, истреблялись религиозные изображения. Понятно, потому, что христианские власти того времени, желая отстранить возможность подобного осквернения религиозных образов, советовали верующим не писать их на стенах церквей, тем более, что фрески эти нельзя было, в минуту опасности, унести и скрыть от глаз гонителей. С этим мнением G. В. de Rossi нельзя не согласиться, и вышеприведенное решение собора Эльвиры следует понимать в таком смысле, что живопись из церквей удалялась, но не запрещалась вообще. Это была мера исключительная, вызванная особенными обстоятельствами, принятая в начале гонения Диоклециана, когда христиане уже знали по опыту и могли предугадать, что оно будет направлено столько же против их самих, сколько и против памятников их религиозного искусства. Предполагают851, что с этого времени верующие начали писать священные изображения на деревянных досках, которые в минуту опасности можно было уносить и скрывать. Во всяком случае, предписание собора Эльвиры не касалось катакомб, как это видно из того, что в подземных христианских кладбищах Рима и, особенно, в катакомбе Каллиста есть много памятников стенной живописи начала IV-гo столетия.
Но самое постановление названного выше собора способно, скорее, доказать нам склонность христиан запада к изобразительному искусству, чем удаление от него. Совет не писать религиозных сюжетов на стенах церквей свидетельствует, что это делалось, точно так же, как опасение подвергнуть эти почитаемые предметы осквернению, во время преследований, предполагает их существование. Притом, это запрещение стенной живописи в церквах не стеснило развития христианского искусства в Испании. Прекрасные барельефы, украшающие саркофаги, которые до сих пор можно видеть во многих городах северной части полуострова, и, между прочим, в Сарагосе852, и принадлежащие к первым временам торжества церкви, всего лучше доказывают нам, что в этой стране верующие не удалялись от искусства, и что памятники его мало уступали, в художественном достоинстве, создаваемым христианскими мастерами южной Галлии. Нет, потому, никаких следов в Испании запрещения верующим первых веков производить религиозные изображения.
IV
Если мы от письменных свидетельств перейдем к памятникам, то увидим, что они – и это особенно касается римских христиан – как нельзя лучше подтверждают все сказанное выше. Несмотря на то, что многие из произведений раннего христианского искусства катакомб погибли от действия времени, от сырости, от обвалов, от рук разрушителей, грабителей, или уничтожены неловкими исследователями подземного Рима, несмотря на все это, говорю я, до нас дошли фрески от конца I-го века, следовательно, почти от времен апостольских, и каждое столетие представлено в катакомбах немалым числом памятников живописи. Некоторые из них, писанные на стукке превосходного качества, употребляемом римлянами только в цветущий период их искусства, отличаются очень грациозным и вдохновленным сочинением, достойным античной живописи. Мы увидим также, что есть катакомбные фрески, как нельзя более напоминающие сочинением, распределением фигур, выбором и размещением декоративных мотивов, колоритом, цветом орнаментальных линий, одним словом, общим характером художественного производства, образчики классической стенописи первого века империи, открытые в Риме и в Помпее. Притом, в катакомбах, и даже только в одной из них, именно, Каллиста, можно видеть ряд фресок различного стиля и артистического достоинства, которые никаким образом нельзя отнести к одному и тому же веку, что указывает художественную деятельность нескольких столетий.
Наконец, раннее происхождение некоторых памятников живописи катакомб доказывается топографическим изучением и историческим исследованием того места, где они находятся, также, и окружающими их надписями, и не следует предполагать, что тут дело идет только о декоративной живописи или о простых символических знаках, т. е. об изображениях животных, птиц, растений, отдельных предметов и т. д. Кроме этих фигур, на стенах и на потолках усыпальниц написаны сцены из ветхого и нового завета, т. е. целые художественные сочинения.
Большая часть, открытых до сих пор, памятников первоначального христианского искусства, принадлежит Риму, вообще, западу. Восток в этом отношении был мало исследован, но и там, как мы это увидим, в последние годы нашли произведения христианской живописи и пластики, времен гонений или веков, непосредственно следовавших за торжеством церкви.
О памятниках первоначального христианского искусства, о времени, стиле и художественном достоинстве их, мы будем говорить с большей подробностью дальше, в отделе, посвященном этому предмету, и там найдем новые доказательства существования изобразительного искусства у верующих некоторых стран, в первую эпоху распространения учения Спасителя, и даже любви их к живой и веселой орнаментации. Но до описания этих художественных произведений, следует сказать несколько слов о состоянии римского языческого искусства при появлении новой веры, так как неизвестные художники катакомб широко заимствовали его мотивы для выражения христианских идей.
Состояние римской живописи, при появлении христианства
V
Римская живопись, как известно, была продолжением греческой. Греки придавали такое же значение живописи, как и скульптуре; они имели одинаковое влечение к первому, равно как и ко второму из этих искусств. Много имен талантливых греческих живописцев дошли до нас, и в творениях писателей классического мира мы нередко находим описания больших картин сложного сочинения, поразительно действовавших на зрителя. Мы, поэтому, не можем сомневаться в том, что греческие мастера создавали замечательные произведения кисти; но, не имея прочности статуй и барельефов из мрамора и бронзы, они не сохранились и известны нам только по описаниям или по копиям и подражаниям, иногда, довольно дюжинного ремесленного исполнения, открытым в Помпее и в Риме, и по живописи ваз, составляющей второстепенную отрасль искусства. Из тех и других данных, мы можем заключить, что картины греческих живописцев, имевшие большое сходство с пластикой, отличались очень тщательным обозначением контуров, красотой, гармонией линий и живым колоритом. Фигуры в них распределялись, как в барельефе; они, разумеется, не представлялись только в профиль, но в красоте и значении отдельных образов сосредотачивался, преимущественно, интерес всего сочинения, как в произведениях пластики. Эти качества выставляются достоинствами и восхваляются у классических писателей, когда они говорят о замечательных картинах греческих художников, сюжеты которых были тождественны с изображаемыми в барельефах. При этом, однако, большая живость движений, выразительность, глубокое понимание различных свойств человеческой души и умение передавать ее различные состояния, составляли отличительные черты живописи древних греков.
Но в период наследников Александра, это искусство несколько изменилось, утратило, отчасти, преобладавшие в нем прежде пластические элементы и стало развивать более живописные начала. Известная мозаика, открытая в Помпее в доме Фавна, изображающая битву Александра с Дарием и отличающаяся сложным сочинением, богатством подробностей и применением законов перспективы, есть, вероятно, копия с греческой картины этой эпохи.
О римской живописи мы можем получить более полное понятие, чем о греческой, по фрескам, открытым в Помпее, в Геркулануме и в последние годы в самом Риме. Искусства в Риме никогда не имели того значения, какое получили они в Греции, где были тесно связаны с умственным развитием и составляли одну из главных отраслей образования, тогда как в Риме, художественное воспитание стояло постоянно на втором плане, и любовь к искусству появилась, вследствие соприкосновения с Грецией. После завоевания последней и тех восточных стран, где была распространена эллиническая культура, Рим притянул к себе их артистические силы. Многие произведения греческого искусства, лучшего его времени, были перевезены в Рим. Все это не могло не заинтересовать римлян. Но искусство у них получило, скорее, характер развлечения богатых людей, чем нравственной потребности массы граждан.
Римляне предпринимали, иногда, продолжительные путешествия по Греции и Малой Азии, но при этом, не видно, чтобы они увлекались искусством, и исторический интерес преобладал у них над эстетическим. Последний был только поверхностный, наружный. Они не пропускали, разумеется, во время своих странствований случая осмотреть какое-либо замечательное художественное произведение или красивое здание, иногда подвергаясь лишениям и утомлению, но это делалось ими, как в наше время большинством туристов, для успокоения совести. Собрания картин, статуй, ваз существовали в Риме и у частных людей; особенно, дорожили произведениями греческих художников. Но это было делом моды, любви к роскоши и происходило от тщеславной наклонности, господствовавшей среди римлян, обладать и окружать себя предметами редкими, дорогими, необыкновенными, иногда, вовсе не имеющими никакого художественного достоинства. Потому-то, во вкусе этих завоевателей, несмотря на его грандиозность, проглядывает всегда что-то варварское, грубое.
Искусства, не получив в Риме того значения, какое имели в Греции, применялись римлянами для украшения домов; особенно же, это можно сказать про живопись. Нет в Помпее и в Геркулануме ни одного дома, принадлежавшего сколько-нибудь достаточному владельцу, где не нашли бы на стенах фресок853, тогда как в жилищах богатых людей ни одна стена не лишена своего декоративного мотива. Это мы видим всюду, где от домов римлян сохранились следы. Но изучение этой живописи привело, однако, к заключению854, что в ней очень мало римского, и что источников ее следует искать не в том месте, где мы теперь ее находим. Это докажут нам всего яснее сюжеты, изображаемые ею.
Около трех четвертей, дошедших до нас фресок древних римлян – и они сосредоточены, преимущественно, в Геркулануме и Помпее – представляют мифологические сцены или легенды героической эпохи. Их приблизительно 1480. Остальные фрески изображают животных, плоды, цветы, пейзажи и сцены обыкновенной жизни. Последние, особенно интересны, для изучающих Помпею, так как они воcстановляют подробности быта ее жителей. Изображая местные сюжеты, фрески эти могли быть сочинены только в самом городе и взяты помпейскими живописцами с натуры. Число их не велико и они, по большей части, незначительных размеров. В художественном отношении, они ниже картин, изображающих мифологические сцены. Последние, иногда, имеют большие размеры; талант живописца проявляется часто в их композиции и трудно предположить, что фрески эти были сочинены, единственно, для украшения помпейских домов. Не надо упускать из вида, что Геркуланум и Помпея были незначительные провинциальные города, в которых не стали бы работать известные живописцы того времени. Доказательством, что помпейские фрески мифологического содержания не были оригинальное произведение, может служить и тот факт, что те же самые сюжеты появляются и вне Помпеи, в других римских развалинах. Так, например, на Палатинском холме, в последние годы, был открыт дом, принадлежавший, согласно одним археологам, Ливии – жене императора Августа, другим – Германику, а по мнению третьих –Тиберию. Тут фрески покрывают стены нескольких комнат, расположенных кругом Атриума. Они состоят из фантастических ландшафтов, изящных арабесок, гирлянд, листьев и цветов, оживленных появлением крылатых гениев. Эти декоративные мотивы, довольно чистого вкуса, окружают главные картины, написанные посередине стены, что мы находим, также, в Помпее, и между мифологическими сценами, представленными тут, изображена Ио, охраняемая Аргусом и освобожденная Гермесом; сюжет, повторенный несколько раз в помпейской стенописи, с той только разницей, что на Палатинском холме фреска эта исполнена тщательнее, лучше, колорит ее прозрачнее, нежнее и фигура Ио грациознее, чем в Помпее. Это доказывает нам, что художники, работавшие в этом городе, заучили ряд замечательных в их время картин и повторяли их по заказу, с большим или меньшим успехом. Но и живописцы Палатинского холма не были сочинителями, исполняемых ими, фресок, как это видно из того, что в композиции мифологических сцен проявляются, обыкновенно, талант и творческая сила, тогда как исполнение их довольно слабо и стоит несравненно ниже сочинения. Нельзя, потому, не согласиться, что не один и тот же художник компоновал картину и написал ее. Римские живописцы были, следовательно, копиистами произведений замечательных художников, более искусными в доме Цезарей, менее способными в домах не столь значительных и богатых людей Помпеи.
Но где брали они модели для повторения их на стенах, расписываемых ими, домов? Разумеется, источники были разные и копировались известные картины различных школ и эпох. Так, например, в Помпее мы находим фрески, отделяющиеся от массы остальных; это особенно можно сказать о жертвоприношении Ифигении. Стенопись эта очень хорошо сохранилась и, без сомнения, составляет одну из лучших картин, открытых до сих пор в Помпее. Ифигению, в отчаянии поднимающую руку к небу, несут к алтарю Одиссей и Диомед. Налево от этой группы – Агамемнон, голова которого покрыта плащом, отворачивается, закрывая глаза правою рукою, чтобы не видеть смерть своей дочери. Возле него, на полустолбе, изображена бронзовая статуя Артемиды с факелом в каждой руке, архаического стиля. Направо от Ифигении, жрец Кальхас изображен у алтаря, увенчанный лаврами, держа в правой, задумчиво подносимой им ко рту, руке, обнаженный меч, печально готовясь исполнить свою жестокую обязанность. Наверху, в облаках появляется богиня Артемида, держа в левой руке лук, а правой, указывая на нимфу, которая, также, в облаках держит за шею и рога лань, долженствующую заменить дочь Агамемнона при жертвоприношении. Во всем сочинении, в симметрическом распределении фугур, в драпировке одежд проявляются отличительные черты эллинской живописи раннего времени. Нетрудно было бы превратить эту стенопись в барельеф. Особенно характеристично тут изображение Одиссея и Диомеда, меньших размеров, чем Агамемнон и Кальхас, прием архаистического искусства в Греции855. Помпейский живописец, следовательно, копировал картину этой эпохи эллинической живописи или, может быть, произведение художника более позднего времени, подражавшего древнему стилю, что случалось в Риме, как это свидетельствует Плиний. Но подобного рода фрески редки в Помпее; напротив, большинство картин, открытых в ней, очень похожи друг на друга и, по-видимому, принадлежат одной и той же школе. Они отличаются богатством композиции, величественностью и глубиной содержания, силой представления, нежным, оживляющим их поэтическим чувством, хорошо сочиненными и ясно выведенными фигурами и, вообще, разнообразием мотивов. Все это могло создаться только в очень производительной школе живописи и быть плодом продолжительной деятельности долгого времени. Нельзя, потому, не согласиться, что в помпейских фресках мы видим наследство, предшествовавшего художественного развития, а не образчики римской живописи, у которой не было еще прошедшего. Мы, потому, должны предположить тут влияние Греции, и пояснительные надписи фресок Помпеи, Геркуланума, Рима, сделанные, исключая редкие примеры, на греческом языке, кроме других доказательств, которые мы найдем ниже, оправдывают это мнение.
Но греческое искусство, имевшее столь значительное влияние на живопись римлян, не было то, которое процветало в Греции до Александра, в эпоху, называемую эллинической. В живописи греков, произошла значительная перемена после падения их свободы. До Александра, художники работали для граждан; произведения их украшали общественные здания и места собрания народа. Картины этих живописцев не были заключены в домах частных людей, а имели своим жилищем весь город; все могли созерцать эти создания искусства и выражать о них свое мнение; художник тогда принадлежал обществу. С потерей свободы греческих республик, изменились эти отношения художника к гражданам. Последние, утратив свои права, свое значение и, не принимая, более, участия в управлении республикой, сделались равнодушнее к ее делам, к ее судьбе, перестали заботиться о достоинстве ее и начали думать более о себе, чем о ней. Люди, щедро жертвовавшие прежде, когда дело шло об украшении города, которого они были свободные граждане, произведениями живописи, пластики, архитектуры, гордившиеся ими, стали теперь более помышлять об украшении своих домов. Художники, удаленные от мнения массы развитых граждан, должны были покоряться вкусу одного, подчиняться его прихоти, удовлетворять его, иногда, странным фантазиям. Явились богатые и властные покровители искусства, художественный вкус которых не всегда был чистого, возвышенного характера. Все это неминуемо и скоро должно было привести к падению искусства. Вследствие тех же самых причин, пошло к упадку искусство возрождения в Италии. Таким образом, греческая живопись из монументальной, украшавшей известные архитектурные части храмов, портиков или других зданий общественного назначения, связанной с ними в одно художественное целое, как это было в эллиническую эпоху, после падения свободы Греции, при наследниках Александра, в эпоху, называемую эллинистической, превратилась в живопись салонную, украшавшую жилища значительных и богатых людей; от нее то и происходит помпейская живопись, как это видно из следующих соображений.
В эпоху наследников Александра, вошло в моду обыкновение развешивать по стенам дворцов или под окружавшими их портиками картины, не имеющие ничего общего с архитектурой здания. Но, так как не все были в состоянии строить дворцы с большими залами, окруженные портиками, поддерживаемыми многочисленными колоннами из драгоценного мрамора – о которых с удивлением говорят писатели того времени – и развешивать в этих великолепных жилищах дорогие произведения кисти известных мастеров, то люди не столь богатые, изображали на стенах своих домов ряды пилястров, колонн и между ними, в воображаемом портике, писали копии замечательных картин современных живописцев. Петроний, писатель I-го столетия империи, намекает на этот род живописи, употребляемый, преимущественно, в Египте во время Птолемеев. Для людей незначительных средств, это был, как бы, призрак той роскоши, тех великолепий, которыми окружали себя богатые граждане.
В Помпее мы видим именно ту же живопись. Там также картины написаны между пилястрами или колоннами и окружены, с целью сильнее отделить их от грунта, изображением какого-либо архитектурного мотива или рамки, упирающейся на карниз. Тут ясно видно, что намерение художника было достигнуть, обманом глаз, эффекта настоящей картины, будто бы, повешенной на стене. Этот легкий, декоративный способ принял ремесленный характер, и художники научились с большой ловкостью и быстротой списывать произведения известных мастеров. Большинство граждан довольствовалось копиями, и оригинальная живопись не встречала, более, поощрения. Это объясняет нам, почему римские писатели, как, например, Петроний, такого невыгодного мнения о живописи их времени. Плиний древний говорит также, что искусство это умирает – приговор, может быть, слишком строгий, но, в сущности, верно определивший судьбу римского художества. Также и Витрувий пишет, что прежде в живописи придерживались натуры и правды, но, что в его время она представляет смешные или противоестественные образы, и, в самом деле, в Помпее, в Геркулануме и в термах Тита в Риме мы находим такого рода декоративные мотивы, называемые теперь арабесками, различные фантастические фигуры, вообще, игривую стенопись, поражающую нас своим причудливым обращением с архитектурными элементами, что, иногда, выходит довольно грациозно, но оскорбляет здравый смысл зрителя.
Доказательством того, что римская живопись не была продолжением греческой, эллинического периода, и что фрески, которые мы видим в Помпее, не имеют ничего общего с монументальной стенописью храмов или портиков первого периода греческого искусства, может служить, также, и тот факт, что героические легенды изображаются помпейскими живописцами, как события ежедневной жизни. Мифологические сюжеты у них утрачивают свою серьезность, а боги классического мира получают тот легкий, почти даже вульгарный характер, который начали придавать жителям Олимпа греки в период упадка их культуры. Другое доказательство сродства помпейской стенописи с искусством времен наследников Александра, мы находим в том, что в первой – редко встречаются сюжеты, взятые из греческих эпопей или трагедий; напротив, в ней проявляется элегический и идиллический характер, преобладавший в Греции в эллинистическую эпоху. Живопись римскую, потому, можно назвать продолжением искусства этого периода и по несовершенным копиям, исполненным неизвестными художниками на стенах домов Помпеи, но также по барельефам и по расписанным вазам, можно воcстановить некоторые из замечательных картин Александрийской школы живописи – процветавшей при дворе Птолемеев – воспетых поэтами и описанных литераторами того времени. Так, например, во фресках Помпеи и Палатинского холма, изображающих Ио, освобожденную Гермесом, и Андромеду, избавленную Персеем, можно видеть повторения, более или менее, полные, двух известных картин живописца афинянина Ликия, жившего в 832-м году до Р. X. Точно также, две небольшие фрески Помпеи, изображающие Медею, помышляющую убить своих детей, вероятно, копии, но довольно плохие, замечательной картины Тимонаха из Византии, современника Юлия Цезаря. Возле Медеи, живописец изобразил ее двух сыновей, играющих в кости под надзором наставника. Эта группа исполнена хорошо и дети живы и грациозны, но фигура матери лишена характера и в лице ее мало выражения. В Геркулануме нашли также фреску, изображающую Медею, но больших размеров, чем в Помпее; в этом примере она стоит у двери и держит в сложенных руках меч; голова ее обращена направо, глаза испуганно блуждают, рот полураскрыт, лицо выражает глубокую скорбь. Дети тут не изображены, но, разумеется, не помпейский живописец присоединил их к Медее, чтобы возвысить драматическое действие этого сюжета, представив потрясающий контраст между беззаботным веселием мальчиков и ужасным намерением их матери. Следует, потому, предположить, что группа детей находилась в картине Тимонаха.
Но, копируя произведения известных мастеров, живописцы Помпей изменяли их, приспособляясь к месту, расписываемому ими, и, иногда, вероятно, повинуясь требованиям хозяина. Некоторые сюжеты довольно часто повторены в Помпее и, по всему видно, что это копии одного оригинала, хотя в подробностях, они отличаются друг от друга. Потому, неизвестные мастера, украшавшие стены римских домов, были, иногда, подражатели, а не копиисты. Может быть, они никогда не видели оригиналов, повторяемых ими, а получили их из вторых рук с изменениями, которые мы в них замечаем. Есть, однако, перемены, например, в колорите, для согласования его с окружающей живописью, в положениях и движениях второстепенных фигур, в обстановке представленных сцен, сокращенной или распространенной, для удовлетворения требованиям места, и т. д., которые могли быть произведены только помпейскими мастерами.
То же влияние эллинической культуры, дошедшей до своего полного развития в Александрии, при дворе Птолемеев, следы которого так живы в живописи римлян, мы замечаем и в их поэзии. Так, например, Овидия и Проперция можно назвать подражателями александрийцам, и в творениях этих поэтов, но, особенно, Овидия, часто встречаются стихи одного характера с помпейской живописью, и, как нельзя более, напоминающие ее, так что некоторые из фресок Помпеи, могли бы служить иллюстрациями стихов Овидия. Нельзя сказать, что римские живописцы вдохновлялись поэзией Овидия, так как влияние произведений римских поэтов на живопись Помпеи, вообще, очень ничтожно, а, скорее, следует предположить, что поэты и художники черпали из одного общего источника: первые – из александрийской поэзии, вторые – из александрийской живописи.
VI
Про римскую живопись можно сказать, что она вовсе не имеет римского характера и в этой отрасли искусства римляне оказались всего менее оригинальны. Никогда живопись не могла пустить у них корней, ни выработать своего стиля, в ней очень часто условность заменяет вдохновение и заметно отсутствие непринужденности; вообще, это искусство у римлян вращается в области посредственности. Произведения его не в такой степени лишены интереса, чтобы остаться незамеченными, но, вместе с тем, не настолько вдохновленны, прекрасны, оригинальны, чтобы привлекать нас. Римляне, как известно, в пределах умственной деятельности редко ступали без помощи греков; в поэзии, в пластике, в живописи они делались их подражателями, но в последней – это выказывается всего яснее, так что в описаниях греческих и римских произведений кисти, не замечаешь никакой разницы.
Изобретательная, художественная сила в идеальных пределах была у римлян очень ничтожна; их искусство только там, где оно имело реалистический характер и повторяло картины местного быта, сцены амфитеатра и цирка, мертвую природу, зверей и т. п. сохранило жизнь. Также, что касается исторических сцен, мы должны признать за римским искусством самобытную артистическую производительность, все-таки, обусловленную влиянием художества эллинистической эпохи, хотя, надо заметить, что в последнем гораздо меньше реализма, чем в искусстве римлян, и это касается скульптуры столько же, сколько и живописи. При изображении сражений и, вообще, военных сцен, когда римляне выходили из действительности, и когда им нужно было представить поэтические образы, аллегории, они прямо перенимали их у греческого искусства. Даже и художники, работавшие в Риме, как мы это знаем из слов писателей, были, по большей части, греки.
Только одна архитектура сделалась у римлян национальным искусством и приняла своеобразный характер. Особенные условия и потребности гражданской жизни, совершенно различные от, преобладавших в греческих республиках, повели в Риме к созданию построек, вполне оригинального стиля, до сих пор удивляющих нас своей прочностью и смелостью, почти столько же, сколько и самые завоевания этого народа. Следует, однако, заметить, что это касается более зданий общественных, чем частных. Но, исключая архитектуру, римляне в других искусствах были в зависимости от греков.
Некоторые отрасли живописи могли бы принять у римлян национальный характер; так, например, художники их изображали для триумфов, победы полководцев, общественные здания украшались фресками. Были даже римляне живописцы и очень искусные; один из них принадлежал древнему и знаменитому роду Фабиев и был иэ сословия всадников. Он жил около 450 года от основания Рима, и расписал храм, вследствие чего, получил прозвание живописца – Pictor, сохранившееся в его фамилии. Других живописцев римлян, первого века империи, называет Плиний и, между ними, одного, по имени Amulius, писавшего постоянно в тоге. Даже между императорови были живописцы дилетанты, как, например, Нерон и Адриан. Но все они учились у греков, и влияние последних в римской живописи, было слишком сильно, чтобы дать в ней место полному развитию национальных элементов. Впрочем, надо заметить, что всюду, где появлялась живопись греков, она устраняла местное искусство и сохраняла свой, оригинальный характер. В таком виде представляется она нам в Помпее.
Нельзя, в самом деле, не удивляться, до какой степени живописцы, работавшие в итальянском городе для людей, гордившихся называться римскими гражданами, в эпоху столь славную для римлян, далеки были в своих произведениях от всего римского. Пластика в Риме, хотя, также, подчиненная влияниям греческой скульптуры, изображала императоров, членов их фамилии, известных военачальников, государственных людей и т. д. В дошедшей до нас римской живописи, напротив, не видно и следов изображения побед Цезаря, ни других славных эпизодов из жизни римского народа, необыкновенная судьба которого приводила в удивление весь известный тогда мир. Сюжеты живописи, открытой в Помпее, в Геркулануме, в самом Риме и т. д., почти постоянно взяты из эллинических легенд или из истории греческого народа. Самая замечательная из мозаик Помпеи, не изображает какое-либо событие из истории римлян, не одну из побед Цезаря, а победу Александра Македонского над Персидским царем Дарием, при реке Иссе. И, несмотря на то, что в ту эпоху, когда расписывались дома Помпеи и Геркуланума, уже была сочинена римская национальная поэма, предмет гордости и удивления римлян, которую все в Помпее, точно так же, как и в остальном римском мире знали наизусть, именно, Энеида Виргилия, столь же богатая сюжетами для изобразительного искусства, сколько и греческие эпопеи, многие из сцен которой воображение поэта поместило в окрестностях Помпеи и Геркуланума, на берегу Неаполитанского залива; несмотря на все это, говорю я, из многочисленных, открытых в этих городах, фресок, только сюжеты пяти из них заимствованы из Энеиды и, между ними, одна карикатура, в которой обезьяны играют роль людей. Греческий миф Ариадны, покинутой Тезеем на острове Наксосе, изображен около тридцати раз и в некоторых примерах, с большим художественным вкусом, тогда как сюжет из Энеиды, очень приближающийся в этому, именно, Дидона, покинутая Энеем, представлен только два раза в Помпее.
Не следует предполагать, что Помпея была вполне греческим городом, что, в то время, когда писались эти фрески, она, более, клонилась к Греции, чем к Риму; с тех пор, как жители Помпей получили права римского гражданства, они считали себя римлянами. Латинский язык в Помпее не только язык официальный, употребляемый властями, но и язык жителей богатых и бедных, в их семейной, равно как и общественной жизни. Дети, шаля, царапающие на стенах свои шутки, молодые люди, обращающиеся с выражением своих чувств к предметам их любви, охотники до зрелищ амфитеатра, прославляющие достоинства их любимого гладиатора, посетители трактиров и других мест сборищ недоброй славы, чувствующие желание передать стенам свои впечатления, все они пишут по-латински. Употребление осского, или греческого языка, встречается, как исключение. Немногие греческие надписи, открытые в Помпее, лишены, притом, особенного значения; это, всего чаще, только имена и, иногда, написанные латинскими буквами.
Нельзя предполагать, что греческий язык из политических целей был вытесняем латинским. Мы знаем, что в Помпее ему учили в школах. Это мы видим по нацарапанным довольно часто на стенах помпейских домов и, притом, так невысоко, что их можно приписать только детям, буквам греческой азбуки и, более или менее, полным отрывкам из нее, смотря по умению и терпению маленького ученика, забавлявшегося на улице под влиянием школьных воспоминаний. При таких же точно условиях, видишь в Помпее и буквы латинской азбуки.
Жители Помпеи и думают, как римляне. Преданность императору, членам его семейства, Риму, выраженная в официальных надписях, может, иногда, быть и не вполне искренна, но нельзя заподозрить в лести те заявления верности, те приветы, посылаемые Риму, вроде следующих: «Augusto feliciter»! – да здравствует Август! «Roma vale!» – Рим здравствуй! – написанных или начерченных на стенах Помпеи. В одной из подобных надписей сказано, что: «благо императора составляет счастье его подданных – «Vobis salvis felices sumus perpetuo».
Также, и произведения римской литературы и поэзии были, как кажется, очень известны в Помпее; по надписям, нацарапанным или написанным на стенах, видно, что жители ее читали Цицерона, Овидия, Проперция, Лукреция. Но, всего более, была распространена и, притом, во всех классах народа, поэма Виргилия – Энеида. Стихи из нее написаны на стенах домов и, иногда, при таких условиях, что это мог сделать только простолюдин.
Из всего этого, следует заключить, что Помпея была римский город по политическим инстинктам и национальным стремлениям. Если, потому, мы видим в стенописи ее домов совершенное отсутствие сюжетов, заимствованных из римской истории или поэзии, то только оттого, что римской живописи, собственно говоря, не было, что она у римлян находилась в руках греков, что художники, расписывавшие помпейские дома, были копиисты или подражатели, повторявшие с неравным успехом произведения греческих мастеров. Могли, разумеется, иногда быть требования на римские национальные сюжеты, но эти последние следовало сочинять, что было сложнее, затруднительнее, дороже, чем воспроизводить уже существовавшие оригинальные картины талантливых греческих художников; приходилось, потому, довольствоваться копиями последних и применять их к условиям места и вкусу домовладельца.
VII
Художественное достоинство помпейских фресок, предполагаемых копий греческих картин, различно. Некоторые из них, можно считать хорошими произведениями живописи, в других, напротив, проявляется неискусная рука копииста; есть, также, примеры плохой реставрации этих стенописей после повреждения, причиненного им землетрясением 63-го года. Исключая некоторых фресок, составляющих, вероятно, копии архаических картин, как, например, жертвоприношение Ифигении, упомянутое выше, в расположении фигур не видно барельефной манеры композиции. Она проявляется, однако, в другой римской стенописи, не помпейской, о которой следует сказать тут несколько слов. Это, именно, так называемая Альдобрандинская свадьба856. До открытия Помпеи и Геркуланума, фреска эта была единственным образчиком римской живописи, очень ценимым, артистическое достоинство которого было, потому, несколько преувеличено. Фигуры тут, также, распределены, как в барельефе, но, в общем, сцена прочувствована и по всему сочинению разлито тихое, несколько задумчивое настроение. В художественном отношении, она уступает некоторым, но немногим, произведениям кисти помпейских живописцев.
Если, однако, в большинстве фресок Помпеи нет барельефного расположения фигур, то в них постоянно проявляются элементы пластичности. Они выражаются в придании фигурам поз статуй, с их округленными формами, в рельефности, и тщательной моделировке отдельных фигур, представленных, иногда, на одноцветном грунте, хотя и в положениях, передаваемых лучше живописью, чем пластикой. В помпейских фресках мы замечаем, так же, простоту, лучше сказать, несложность композиции, всегда старательно избегающей замешательства, и отсутствие глубины грунта. О колорите их нам теперь судить трудно, так, как они 18-ть столетий находились под землею, в сырости и, подвергаясь снова дневному свету, вскоре сглаживаются и пропадают; а лак, которым их покрывают для сохранения, убивает живость красок. Все-таки можно сказать, что раскраска помпейской стенописи была привлекательна, верна натуре, преисполнена жизни, иногда, даже, блистательна и, в общем, созвучна. Соединяя светлый и темный колориты, живописцы давали большую силу идеям, выражаемым ими; так, например, в фреске, изображающей воспитание Ахилла, девственность, легкость и белизна тела молодого героя выказываются резче, повле тяжеловесного, темно-красного тела Кентавра, представленного рядом с ним. Редко найдешь в живописи Помпеи пестроту или крутой, неприятно поражающий глаза, переход от одной краски к другой; но, разумеется, стенопись не имеет градаций тонов, тонких оттенков, теплоты, глубины, нежности живописи масляными красками.
Надо, также, не упускать из вида, что фрески, восставших из пепла Везувия, городов не писались для того освещения, при котором мы их видим. Они находятся теперь в неаполитанском музее, или оставлены в своем первоначальном месте, в домах, кровли и потолки которых не существуют; в том и в другом случае, эта живопись является нам в полном освещении, тогда как она была написана, для умеренного света, падавшего на нее в окно, дверь или в отверстие крыши. Это объясняет нам, почему некоторые подробности в этих картинах только обозначены, а не окончены; их не было видно при полусвете, в котором они прежде находились. Определяя их художественное достоинство, следует принимать все это в соображение.
Почти всегда прекрасны, благородны формы человеческого тела в, дошедших до нас, образчиках римской живописи; иногда, даже, в них виден отблеск красоты классического искусства хорошего времени; это можно сказать, например, о многих фигурах, написанных в Помпее, являющихся отдельно или группами, иногда, в связи с изображенными, кругом их, архитектурными мотивами. Артистические приемы хорошей школы живописи и очень тонкое исполнение, заметны, особенно в некоторых, дышащих жизнью и грацией, парящих в прозрачных одеждах танцовщицах. Они написаны на одноцветном грунте, с замечательной гармонией линий. Эти поэтические образы поднимаются вверх собственным движением, как бы, побеждая пылкими, одушевляющими их чувствами, тяжесть своего тела. Не без основания можно предположить, что они составляют повторение какого-нибудь образца греческого художества хорошей эпохи.
Большую прелесть придает, также, помпейской живописи появление в ней гениев, имеющих вид крылатых или бескрылых мальчиков; они собирают виноград, охотятся, ловят рыбу, правят в колесницах, играют на музыкальных инструментах, танцуют, вьют гирлянды, венки, сражаются как гладиаторы, играют как актеры, совершают религиозные обряды или заняты различными ремеслами; одним словом, действуют, как взрослые люди и изображены на том лишь основании, что, вообще, миловиднее, грациознее последних. В самом деле, их присутствие придает всей картине веселый, игривый характер. Этот прием классического художества повторился и у христиан. В их первоначальном искусстве мы встретим снова крылатых гениев, изображенных при таких же точно условиях, как и в живописи Помпеи. Особенно привлекательны в последней, сюжеты, которые можно назвать мифологическим жанром, вдохновленные, вероятно, эротической поэзией; к числу их следует отнести торговлю амурами. Они сидят в клетке и, в одном примере – старуха, а в другом – старик продают их молодым покупательницам, держа за крылья эти миловидные существа, тогда как, более счастливые амуры, порхают на свободе.
Вообще, подражая или, что бывало гораздо реже, сочиняя, помпейские живописцы работают почти всегда с большой непринужденностью и изумительной верностью, но их можно упрекнуть в том, что лица людей не вполне передают у них те чувства и страсти, под влиянием которых они находятся. Исключая редкие примеры, выражение слабо, бесцветно или, напротив, резко и грубовато, что изобличает не вполне искусную руку художника. Представляя даже трагические сюжеты, живописцы Помпеи не производят на зрителя большого впечатления и оставляют его холодным; но сильные страсти все-таки переданы ими удачнее тонких чувств, так как выражать первые – вообще не так трудно, как вторые. Если рисунок в помпейской живописи не всегда правилен, то означен бойко, смелой рукою. Задний план и все, что окружает людей, изображено, часто, поверхностно, без отделки, точно так же, как и фигуры человека, являющиеся во второстепенных местах. Особенно, мы замечаем это в том случае, когда обстановка в картине не имеет отношения с представленным в ней действием; если, например, последнее совершается в доме, но могло бы происходить и во всяком другом месте, то подробности будут очень поверхностно переданы. Это, может быть, делалось с целью не отвлекать внимания зрителя от главного сюжета. Но в тех случаях, однако, когда все окружающее, более чем внешним образом, связано с действием, все предметы переданы тщательнее. Знание перспективы проявляется в изображаемых зданиях и ландшафтах, но к пониманию значения ее, римляне никогда не были очень способны, что происходило, вероятно, от преобладания в их живописи пластических начал.
Часто мы видим, также, на стенах помпейских домов пейзажи или, лучше сказать, отдельные части последних, как, например, несколько деревьев, скалу, почти всегда в соединении с каким-нибудь зданием или только архитектурным мотивом. Римляне, точно так же, как и греки, понимали ландшафты иначе, чем мы и потому, представляли их не по-нашему. Некоторые виды природы, восхищающие нас теперь, не понравились бы им. Отражение этого особенного понимания красот натуры, преобладающего в мире греко-римском, мы находим и в катакомбной живописи и, потому, следует сказать о нем несколько слов. От тонкого вкуса людей классического образования не могла, разумеется, ускользнуть ни одна из прелестей природы; но они имели в этом отношении своеобразный взгляд, отличный от нашего, и любили представлять только стороны пейзажа, оживленного присутствием человека, произведениями его искусства, или только животными. Это нельзя назвать недостатком, а только оригинальным пониманием красот природы, соответствующим общему характеру их культуры. Для самого себя, без людей, без зданий, ландшафт не изображался в античном мире. Ни в греческих картинах, известных нам по описаниям, ни в помпейских пейзажах, мы не замечаем, например, того приема, преобладающего в современной нам ландшафтной живописи, составляющего, так сказать, сущность последней, и состоящего в том, что, посредством освещения или более заметного обозначения какой-либо выставляющейся особенности, пейзажу, мало привлекательному, некрасивому, придается интерес в глазах зрителя. В этой победе над природой, художники нашей эпохи видят необыкновенное достоинство. Напротив, помпейские пейзажисты, как кажется, вовсе не думали об этом; в них видно только желание выбрать из натуры самые красивые части ее и соединить их в одну картину. Та мечтательность, та задумчивость, возбуждаемые, особенно в северном человеке, видом дикой, мрачной натуры, были незнакомы грекам и римлянам, можно даже сказать, в некоторой степени, неизвестны и современному жителю юга. Природа, для людей классической культуры, представлялась сценою деятельности человека, красоту и величие которой они умели ценить, но не понимали вне отношения к самим себе, вне связи с людьми, с их радостями и страданиями, и в ландшафтах их всегда найдешь след присутствия человека857. Величественность суровой природы, прекрасные ужасы ее, до которых северные жители – такие страстные охотники, не пленяли римлян858. Страх и тоску наводили на них высокие горы, покрытые снегом или завершающиеся голыми скалами. Переезд через Альпы был для них скучен и неприятен; то, что они видели там, пугало и отталкивало их; это путешествие предпринималось ими не из любопытства, а только по необходимости. Поэты постоянно говорят с ужасом о высоких и снежных горах, о глубоких пропастях и т. д. В помпейской ландшафтной живописи мы, в самом деле, всего чаще видим нивы, с их яствами, красивые деревья, виноградную лозу, зеленые луга, ручьи, каскады и, в глубине картины, холмы, обработанные на склонах и покрытые лесом на вершине. Ко всему этому, римские живописцы любили присоединять какое-либо красивое здание, храмик, беседку или просто ряд колонн. Дикий пейзаж изображался только в том случае, когда этого требовал мифологический сюжет.
Следует заметить, что фигура человека изображалась у римлян лучше пейзажей; последние, вообще, пестры, колорит их тяжел, задние планы неполно означены. О помпейских ландшафтах, в которых происходят мифологические или легендарные сцены, можно сказать то же самое, что и об обстановке сюжета в картинах. Они, подобно деталям, пренебрегаются, если не связаны с действием, но исполняются тщательнее, когда имеют с ним некоторое отношение. В тех фресках, например, в которых пейзаж определяет, пополняет главный сюжет или заключает его задушевный смысл, ему стараются придать индивидуальный характер. Напротив, вне этих условий, он изображается поверхностно.
Особенного рода римская пейзажная живопись была открыта в 1863-м году, в развалинах предполагаемой виллы Августа, возле Рима. Тут, в противоположность тому, что мы видели в Помпее, где ландшафты имеют незначительные размеры и заключены в архитектурной рамке, на четырех стенах комнаты, не прерываясь далее в углах, изображены на голубом небе розовые кусты, пальмы, фруктовые и другие деревья; различного рода красивые птицы с блестящими перьями сидят на лугах, на ветвях деревьев, на решетчатых заборах или летят, оживляя эту, вполне грациозную и дышащую свежестью, картину пышной природы, очень грациозного действия. Комната эта, находящаяся под землею, была убежищем во время летней жары, и фрески, написанные на стенах, делались для пребывающего в ней, как бы, подобием природы.
Места на стенах большей части помпейских домов, не занятые картинами, покрыты, обыкновенно, декоративной живописыо. Ей предшествовало в Помпее, особенного рода, украшение стен. Оно состояло из подражания стукком разноцветным мраморным плитам и архитектурным элементам. Этот способ покрывать стены, но настоящим мрамором, употреблялся в Греции, в Малой Азии и был введен в Риме во времена Цезаря. Образчиков подобного украшения стукком осталось немного в Помпее; как исключение, его встречаешь и в римских катакомбах. Стиль этот, часто одноцветный, серьезный, привлекательный, при всей своей простоте, сколько можно теперь судить, был очень распространен прежде в этом городе, но постепенно вытеснен, орнаментикой живописной, которая сначала примешивается к старому стилю, но потом, мало-помалу, заменяет его. Архитектурные элементы, прежде представлявшиеся стукком, изображаются потом живописью и значительно усложняются. Это уже целые здания, часто, вполне фантастические, с лестницами, балконами, портиками, поддерживаемыми тонкими колоннами и арками, или храмики, павильоны, террасы, окруженные баллюстрадами; иногда, это растения, статуи различной величины, маски и т. д.
Рассматривая эти орнаментальные мотивы, манеру подбирать и соединять их, придавая домам веселый, оживленный вид, нельзя не удивляться воображению и ловкости помпейских художников. В их декоративной живописи почти никогда не заметишь употребления заранее приготовленной и повторяющейся модели. Напротив, постоянно видишь, что они работали, сочиняя. Повторяясь, элементы орнаментации никогда не имеют одних и тех же размеров, и в деталях представляют известное различие. Исключения очень редки. Ту же самую изобретательность мотивов украшения и необыкновенное уменье ко всякому месту, ко всякому углу придумать, подобрать наиболее подходящую декоративную фигуру, не нарушая гармонии всего художественного сочинения, мы найдем и в катакомбной живописи.
В последние годы существования Помпеи, после большого землетрясения 63-го года, обозначается упадок в ее декоративной живописи, пропадает чистота вкуса, гармония линий, грациозность форм, делается заметнее небрежное исполнение, преувеличивается фантастическое начало, употребляются слишком яркие колориты и грубые контуры; вообще, проявляется желание поразить более чудными, чем прекрасными формами.
Нельзя, однако, не согласиться, что в общем, помпейская живопись производит приятное впечатление. И кто, из посещавших этот, восставший, почти во всей целости своей, из пепла Везувия, город не согласился бы жить в одном из его домов, расписанных, может быть, и не в вполне чистом классическом вкусе, и иметь постоянно перед глазами фрески, составляющие, хотя бы и не всегда удачные, копии греческих картин?
Живопись в христианских катакомбах
VIII
В то самое время, когда Везувий похоронил под своим пеплом Помпею и залил лавой Геркуланум, города, которым суждено было снова явиться на свет больше, чем 17 столетий спустя, чтобы открыть нам столько интересных подробностей классической культуры и разоблачить задушевные стороны жизни древних римлян, в то самое время, говорю я, когда скрывались надолго от взоров людей Геркуланум и Помпея, рождалось в Риме, в катакомбах, христианское искусство859. Священные, для римских властей, как места погребения, христианские ипогеи, у дверей которых до средины II-го столетия останавливались преследования, были первыми свидетелями фигуративного выражения последователями учения Спасителя их религиозных идей.
Не столь безопасная, на поверхности земли, художественная деятельность верующих Рима, могла развиться с полною свободою в их катакомбах. Богатые или только достаточные римляне860, сделавшись последователями новой веры, как люди классической культуры, глаз которых оскорбляло отсутствие какого-нибудь декоративного мотива, в таком месте, где употребление его было возможно, должны были желать художественных украшений – которыми были окружены языческие гробницы, – также и семейным склепам, устраиваемым ими для себя и для братьев по вере.
Но элементы орнаментики, чисто христианского смысла, еще не были созданы. Если верующие – подобно тому, как это делали посвященные в мистерии различных языческих поклонений – придумывали известные таинственные знаки символического характера, значение которых было понятно только им одним, то фигуры эти, как, например, якорь, рыба, пальмовая ветвь и т. п., не имея изящных форм, не могли удовлетворять людей, привыкших к более красивым, к более художественным декоративным мотивам. Приходилось, потому, брать их у классического искусства, столь богатого данными подобного рода, и пользоваться его техникой. Украшения эти, однако, не имели вполне языческого характера; их постоянно и всюду писали на стенах домов; если в них и встречались какие-нибудь фигуры мифологического значения, то они, вследствие долгого употребления их декоративно, утратили этот смысл и писались только для удовольствия глаз, став наравне с любым цветным материалом, раскраской, позолотой.
Но, одновременно с украшением гробниц, должно было, также, явиться у христиан желание передавать фигуративно догматы новой веры, ее утешения и надежды. Чтобы удовлетворить ему, следовало сочинять художественные образы, выражающие христианские идеи; на это требовалась творческая сила и, притом, в пределах нового учения, еще не вполне понятого, недостаточно ясного, неокончательно определенного. Бместе с новыми мыслями, не рождаются фигуративные формы, способные выражать их; нужен, иногда, продолжительный период времени, для образования последних. Первые христианские художники вынуждены были, потому, прибегать к искусству, уже существовавшему. Евреи в этом случае не могли дать им никакого образца; закон Моисея удалял их от фигуративного искусства, и когда оно являлось у них, то делалось подражанием классическому, как мы это видели в их катакомбах в Риме. Напротив, живопись и пластика римлян давали художникам, обращенным в христианство, но все же питомцам классической культуры, богатый цикл изящных образов, в котором они могли выбирать формы, всего более способные выражать их идеи. Столько же неудивительно потому, что христианское искусство началось в Риме одновременно с распространением среди язычников учения Спасителя, сколько и то, что в живописи и пластике первых христиан мы постоянно будем встречать элементы римского классического художества, и что комнаты в катакомбах украшены совершенно так, как языческие колумбары и гробницы.
IX.
Самый ранний образчик христианской стенописи находится в катакомбе Каллиста, в крипте Lucina. Мы уже говорили об этой замечательной семейной гробнице, принадлежавшей богатому римскому роду, вырытой в конце I-го века, без намерения скрывать ее, сделавшейся, впоследствии, не только фамильным склепом, но и кладбищем христианской общины, пустившей от себя сеть галерей и соединившейся, наконец, с соседней катакомбой Каллиста.
Фреска эта написана на плоском потолке усыпальницы, по штукатурке превосходного качества, употребляемой римлянами в первые времена империи. Эта замечательная живопись открывает нам, каким образом христианские художники передавали фигуративно, с полной непринужденностью, не связанные ни традициями, ни предписаниями церкви, идеи новой веры. По стилю, она, без сомнения, принадлежит к концу I-го или к началу II-го столетия; другие данные подтверждают это предположение, и, что всего более поражает в ней, это ее сходство с римской декоративной живописью. Фреска потолка крипта Lucina, может быть, не имеет той оконченности, того художественного исполнения, которые мы видим в стенописях Помпеи, терм Тита, виллы Адриана, но точки соприкосновения между первой и вторыми, многочисленны и неоспоримы; в этом согласятся все, посещавшие Помпею, все, знакомые с образчиками римской живописи. Так, например, мы видим в этой катакомбной фреске, при обозначении орнаментальных линий и кругов, обрамляющих фигуры и разделяющих потолок, употребление красок синей и красной, преобладающих в Помпее. Мы, также, находим в ней гирлянды зелени и цветов, фантастические растения, маски, арабески, фигуры пластического характера, стоящие, как статуи, на пьедесталах, летящих птиц, завитки, цветные фестоны, одним словом, те же самые декоративные мотивы, которые встречаются в римской стенописи. Что же касается до гениев, т. е. крылатых мальчиков, парящих в пространстве, изображенных тут, то они прямо заимствованы у классического искусства, и фигуры, подобные этим или того же характера, можно указать десятками в Геркулануме и в Помпее, вообще, в дошедших до нас памятниках живописи Римлян. На потолке крипты Lucina, как читатель видит в приложенном хромолитографическом рисунке (этого рисунка нет в рукописи. – прим. редактора), эти гении представлены нагими, с грациозно развевающимся, сопровождая движения фигуры, покрывалом. Трое из них держат по загнутому пастушескому посоху – pedum – что может иметь некоторое отношение к образу доброго Пастыря, представленному возле; один несет в левой руке тирс, т. е. Бахусов жезл, а правой поднимает чашу или цветок, скорее, последний. Также, предмет, трудно определяемый, несет в правой руке гений, половина фигуры которого пропала. В особенности, грациозен гений, представленный с плоской чашей – может быть, возлияния, при жертвоприношениях «patera» – в правой руке.
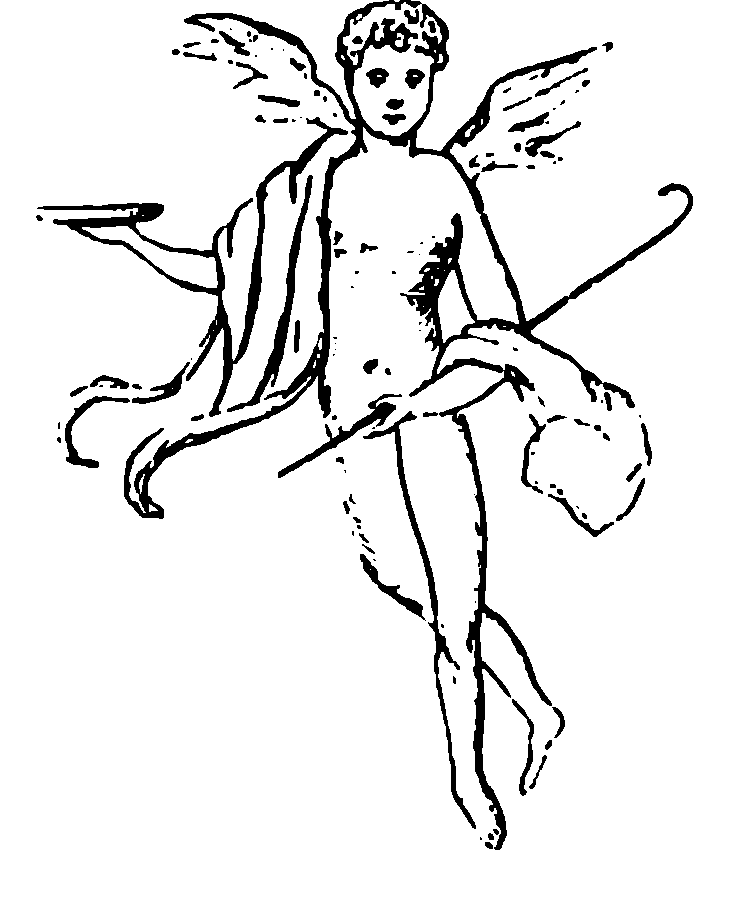
Он напоминает, разумеется, не художественным достоинством, не артистическим исполнением, ни прелестью форм, но, вообще, характером сочинения, помпейских парящих танцовщиц. Не хотел ли художник изобразить тут аллегорические фигуры четырех времен года, а большими и малыми головами, написанными ближе к центру – элементы и ветры? В углах потолка написаны летящие птицы, мотив грациозный, часто повторяющийся, впоследствии, в живописи катакомб.
Во фреске этой столько классического, что ее мог написать и языческий живописец, призванный украсить семейный ипогей. Мы видим в ней традиции римского искусства хорошего времени, проявляющиеся, например, в позах фигур, в драпировке их одежд, но находим также те особенности, обозначавшиеся в живописи Помпеи в последнюю эпоху существования этого города, от землетрясения 63-го года, до разрушения его в 79-ом году, именно, не вполне чистый вкус в выборе декоративных фигур – особенно это можно сказать о масках или головах, написанных в середине круга – грубость контуров, употребление ярких, не согласующихся между собою красок, и отсутствие, вследствие этого, единства тона в колорите. Живопись эта, однако, не переполнена фантастическими орнаментальными мотивами; напротив, они в ней хорошо подобраны, и все вместе выходит красиво и довольно грациозно. Тут, точно так же, как и в Помпее, заметны легкость и быстрота, выдумки декоративных мотивов; видно, что художник не следовал какой-либо модели, когда писал, а сочинял, повинуясь минутному вдохновению.
Декоративные линии, разделяющие эту фреску, составляют два раза повторяющийся равносторонний крест; но в подобном скрещении линий, встречающемся и в других примерах живописи потолков катакомбных усыпальниц, нельзя видеть намерение живописца представить орудие искупления, а, скорее, следует предположить, что форма креста составилась, вследствие приема, очень обыкновенного в римской стенописи, разделять пространства на равные части, для симметрического помещения в них фигур и орнаментальных мотивов.
В середине потолка, в круглом медальоне, была изображена фигура, теперь почти совершенно исчезнувшая; животные, стоящие по обе стороны ее, также, очень неясные, но очертания которых, однако, сохранились, ведут к заключению, что это был или добрый Пастырь с овечками, или Даниил, стоящий с поднятыми руками между двух львов. В четырех углах, как статуи на пьедесталах и, как бы, в рамках – что напоминает манеру помпейских живописцев – изображены четыре фигуры: две женщины в положении молящихся – orante, и два добрых Пастыря, одетых в короткую тунику, формы экзомис. Последние, несмотря на их декоративное исполнение, особенно, что касается рук и ног, выказывают приемы хорошей школы живописи. Позы и движения их натуральны, непринужденны. Также, грациозны и молящиеся женщины; они одеты в тунику, падающую до ног, тонкие, длинные складки которой напоминают одежды некоторых греческих статуй. Поверх туники наброшен паллиум, составляя красивую, вполне классическую драпировку. Если эти фигуры кажутся несоразмерно длинными, то не следует забывать, что они написаны на потолке, и что на них смотрят снизу вверх.
Во фреске этой, как читатель мог заметить, очень мало христианского; по всему видно, что она была написана в первые годы распространения новой религии в Риме. Художник изобразил тут только две фигуры, способные напомнить догматы веры Спасителя, именно, молящуюся женщину и доброго Пастыря. Другие христианские сюжеты или еще не успели составиться, или были ему неизвестны. Это видно из того, что он два раза должен был повторить образ молящейся и доброго Пастыря861.
Несколько позже, в III столетии, пространства, занятые в этой фреске масками, гениями, наполнятся сценами христианского характера; мы увидим в этих местах Спасителя, воскресающего Лазаря, совершающего чудо превращения воды в вино, исцеляющего слепого, и т. п. Живопись потолка крипты Lucina следует, потому, считать одной из первых попыток христианского художника представить фигуративно идеи новой веры.
Стены этой усыпальницы были также покрыты фресками, но штукатурка во многих местах отвалилась; сохранились только совершенно нагой Иона, выбросившее его чудовище, две овцы, стоящие но обе стороны сосуда для скопа молока – mulctra, рыбы, несущие на спине корзины, птицы и другие декоративные мотивы; все – в стиле живописи потолка.
Так как стены катакомбных комнат были, обыкновенно, перерезаны от низа до верха горизонтальными гробницами, то для живописи оставались небольшие пространства между нишами и она могла развиться, с некоторой полнотой, только на потолках, в сводах и в глубине Arcosolium. Всего лучше сохранились фрески на потолках, так как иногда живопись в Arcosolium’ах или на стенах попорчена, перерезана или вовсе уничтожена, при устройстве гробниц в более поздние времена, что не было возможно в сводах усыпальниц, также, менее доступных, чем стены комнат всем, опустошавшим катакомбы в продолжении веков с различными целями. Мы, потому, всего чаще будем находить христианскую живопись на потолках, которые редко совершенно плоски, а, обыкновенно, несколько, но очень мало закругляются, принимая вид отлогого свода.
Вероятно, недолго после потолка крипты Lucina, была написана фреска в катакомбе Прискиллы, изображающая Богоматерь с ребенком у груди.

В самом деле, мы видим тут красивый образ Богородицы римского типа (рисунок не вполне передает фреску), хорошо написанный, хотя и несколько декоративно; это, скорее, эскиз, чем оконченная картина, но в котором, однако, проявляется смелая кисть опытного живописца; движения ребенка натуральны, оживлены; лицо Богоматери одушевлено нежными материнскими чувствами, фигура Ее преисполнена достоинства, благородства, и вся группа грациозна, трогательна.
X.
Другие памятники христианской живописи, также раннего времени, именно, конца I-го или начала II-го столетия, были открыты в одном из семейных склепов катакомбы Домитиллы, где, по мнению G. В. de Rossi, находились гробницы, принадлежавшие христианам имиераторской фамилии Флавиев. Фрески эти украшают своды и стены богатого ипогея, в котором найдены еще обломки дорогих мраморных саркофагов. Они изображают Даниила и трапезу евхаристического характера. Живопись эта, к несчастью, сильно попорчена, но, по сохранившемуся от нее, видно, что она была написана искусною кистью. Прекрасна, величественна и хорошо задумана фигура пророка, стоящего на возвышении с поднятыми руками, между двух, бросающихся на него львов, не обращая на них внимания и молясь, устремив взоры к небу. Также живы, натуральны и очень недурно исполнены фигуры в евхаристической трапезе, имеющей вполне классический характер. Лучше сохранилась стенопись свода главной галереи этого ипогея; она изображает виноградную лозу, с ее листьями и плодами, оживленную, порхающими или сидящими на ветках ее, птицами, и маленькими гениями, собирающими виноград в корзинки, стоя на лозе. Часть этой грациозной живописи читатель видит в приложенном рисунке. В соседстве с этой галереей, находится погребальная комната, на потолке которой, в середине, изображен добрый Пастырь, а на стенах написаны гении того же характера, как и представленные на лозе в своде галереи. В той же катакомбе была открыта живопись очень раннего времени и столь же мало удаляющаяся от римской стенописи, как и вышеописанные фрески. Она изображает гиппокампов, гениев, Психею – аллегорическая фигура бессмертия души у христиан и язычников, – летящих птиц, павлинов, с распущенными хвостами и, в центре потолка усыпальницы, в медальоне, среди декоративных линий, образующих крест и пересеченных кругами – доброго Пастыря с овцами.
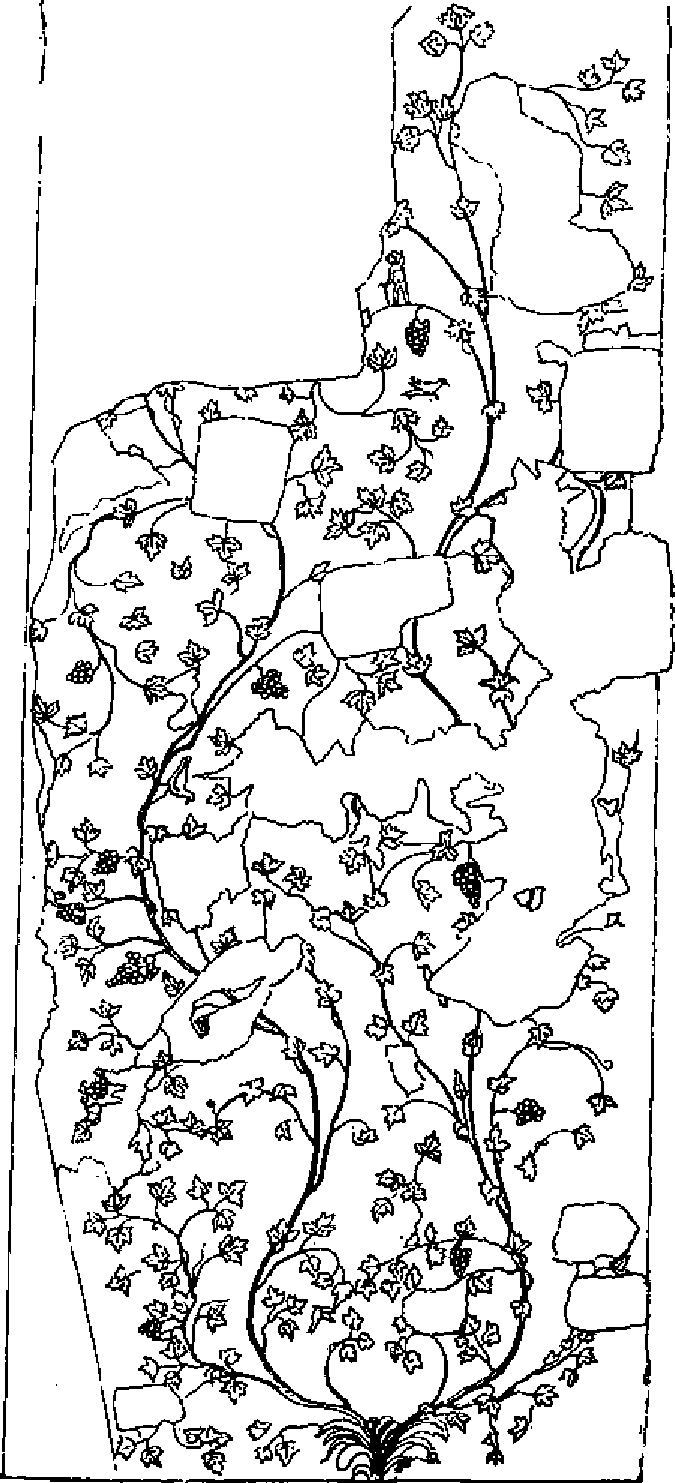
Та же фигура, но со свирелью в руке, повторена и на стене этой комнаты. Остальная живопись ее разрушена; сохранились, однако, остатки пейзажа, написанного чисто в помпейском стиле; это вид природы, оживленной присутствием человека и его постройками862.
Производя в последние годы раскопки в катакомбе Домитиллы, G. В. de Rossi863 нашел в одной из усыпальниц этого кладбища плиту, закрывавшую отверстие горизонтальной гробницы, но потом отвалившуюся и упавшую на землю. На ней, прекрасным монументальным шрифтом, встречающимся в римской эпиграфии первого или второго века империи, и, между прочим, в помпейских надписях последнего периода существования этого города, вырезано имя Ampliati. Не была ли тут гробница христианина этого имени, о котором говорится в послании апостола Павла к римлянам (Рим. 16:8). «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе», вот, что невольно спрашиваешь себя. Но, если этого пока доказать нельзя, то несомненно устройство этого склепа в первые времена распространения новой веры. Исследования G. В. de Rossi доказали, что он был одним из центров, от которых пошла сеть подземных галерей, что он долго не соединялся с другими соседними усыпальницами, составляя семейную гробницу, сообщенную с поверхностью земли отдельной лестницей. Другую надпись, открытую тут же, Rossi относит ко II-му столетию, вполне доказывая справедливость своего предположения. Если удалить из этой комнаты ресторативные работы, произведенные в ней в следующие века, то получится усыпальница, назначенная для постановки саркофагов. Стены и свод этого склепа были покрыты живописью, местами уцелевшей. Вследствие работ, произведенных тут в IV-м столетии, фрески свода были возобновлены; но художник, вероятно, подражал стенописи, прежде находившейся тут, потому что, изображенная им виноградная лоза, распространяющаяся по потолку, составляя красивый мотив орнаментации, несмотря на очень посредственное исполнение, распределена с легкостью, грацией и непринужденностью, которые не встречаются при представлении того же предмета в IV-м веке, но замечаются нами в изображении лозы в своде галереи катакомбы Домитиллы, во фреске конца I-го или начала II-го столетия.
Живопись, сохранившаяся на стенах усыпальницы Амплия, имеет мало общего с другими катакомбными фресками; в ней не представлены христианские символы, ни какие-нибудь изображения погребального характера. Художник расписал тут стены совершенно так, как это делали помпейские живописцы, архитектурными мотивами; чрезвычайно тонкими и длинными, разнообразно сгруппированными колонками; рамками с, заключенными в них, четырехугольниками, подражающими плитам из мрамора, стукка или деревянным доскам; вообще, тем разноцветным, представляющим фантастические архитектурные формы, орнаментом, о котором говорит, осуждая его, Витрувий. В Риме мы видим подобного рода декоративную живопись, которая, как кажется, вышла из моды в течение II-го столетия, в, так называемом, доме Германика на Палатинском холме, в развалинах дома Нерона и в другой римской постройке, открытой возле терм Диоклециана. Среди этих архитектурных мотивов, в усыпальнице Амплия написано несколько грациозных пастушеских сцен, в которых изображены овцы и другие животные, одни, или в сопровождении нагого пастуха, имеющего вид ребенка. В этой живописи, можно сказать, столько же мало христианского, сколько и языческого, и влияние новой веры проявляется тут только в том, что художник, расписавший этот склеп, удалился от изображений мифологического характера и выбрал декоративные мотивы, не имеющие значения в римском поклонении. Несомненно, однако, что мы находимся тут в христианском склепе, и что перед нами один из первых образчиков стенописи верующих.
Вот, почти все фрески, находящиеся в катакомбах, которые по их стилю, по положению и архитектуре усыпальницы, где они находятся, по окружающим их надписям и по другим данным, можно отнести к концу первого или к началу второго века. В них христианского художественного творчества гораздо меньше, чем заимствования у классического искусства; его формами выражаются христианские идеи, и у него взяты орнаментистика и декоративные мотивы. Фигуры доброго Пастыря, молящейся женщины, Ионы и его чудовища переняты у римского художества. Тип Богоматери, кормящей грудью Младенца Спасителя, находишь также в классическом искусстве, равно как и изображения погребальных трапез. Оригинального, у христиан, пока только сцена Даниила между львами; прототипа ее не видишь у язычников. Даже и особенности, проявившиеся в римской живописи того времени, отражаются, как мы видели, в христианской. Но, вместе с тем, мы замечаем в последней и некоторую разнообразность. Каждый художник выбирает по своему вкусу мотивы для украшения погребальных комнат, и потому, первые образчики христианской живописи столь сильно разнятся между собою. Так, например, фреска крипты Lucina и стенопись усыпальницы Ampliati, несмотря на то, что они, по всей вероятности, современны. Имена художников, написавших их, равно как и другие, перечисленные выше, фрески, остались нам неизвестны; но эти работы имеют печать своеобразности: они не подчинены традициям, в сочинениях их видна жизнь. Позже, эта оригинальность пропадает, и однообразие начинает, мало-помалу, преобладать в христианской живописи, по мере того, как в ней проявляется упадок, обозначающийся и в языческом искусстве.
По художественному достоинству, все эти фрески стоят выше того, что будут писать в следующие века, можно даже сказать, до эпохи возрождения, христианские живописцы.
XI
Фрески, написанные в течение II-го столетия, мы видим, например, в подземном кладбище Прискиллы, в усыпальнице, составляюшей центр развития этой катакомбы, в устройстве которой видна забота придать ей красивые размеры, не щадя места. Живопись потолка тут совершенно пропала, но на стенах она сохранилась и изображает три сцены, трудно объяснимые, взятые, по мнению F. R. Garrucci, из истории Сусанны. Фигуры в них имеют особенный тип; они хорошо написаны, рельефны и одежды их составляют красивые мотивы драпировки.
Другие характеристические образчики живописи этого же времени находятся в той же катакомбе. На потолке одной из ее усыпальниц представлена самая древняя, сколько до сих пор известно, сцена Благовещения.
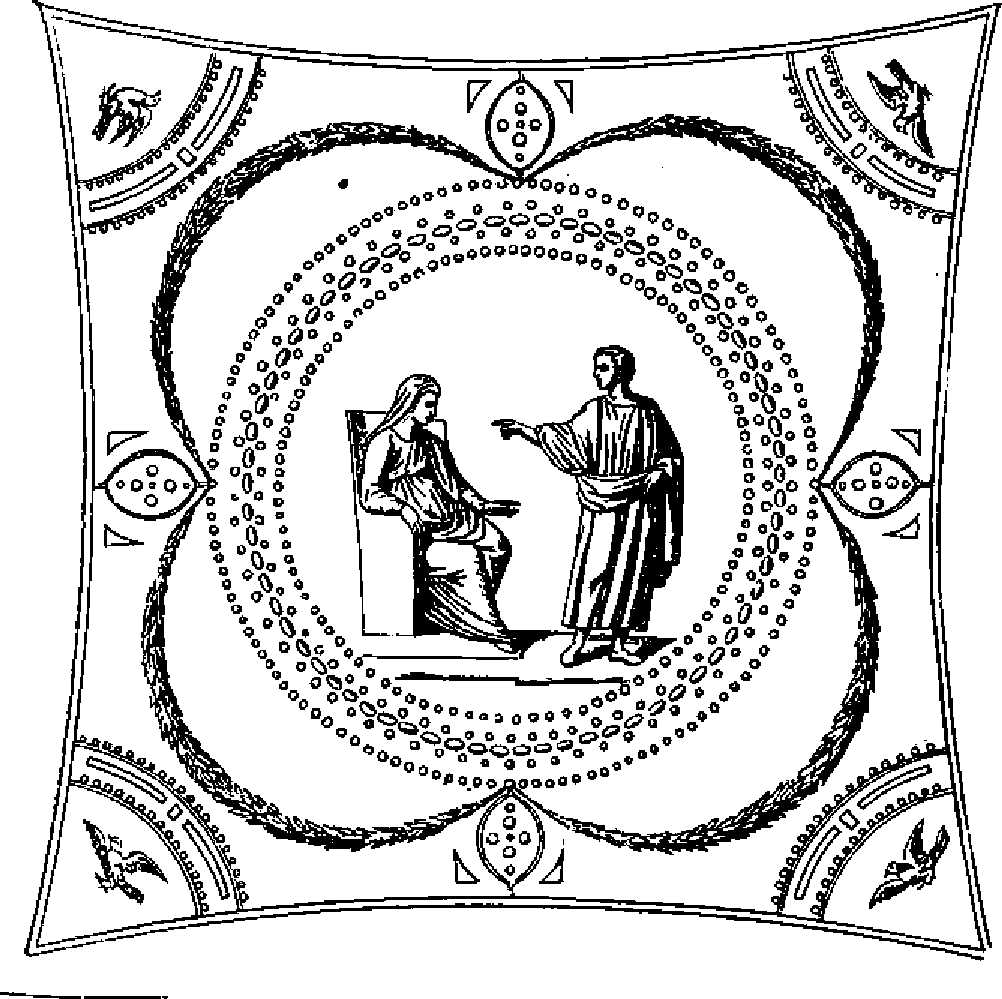
Фреска эта, к несчастью, теперь сильно попорченная, была скопирована до ее повреждения. Богоматерь одета в тунику, сверх которой наброшен паллиум; на голове Ее покрываю; Она сидит на кресле и скромно опускает глаза, делая левою рукою жест удивления. Перед Ней стоит юноша в далматике и паллиуме; поднимая руку, он, как бы, обращается к ней с речью. Эта сцена заключена в круги фигур, подражающих перлам, и в гирлянды зелени; в углах написаны птицы на лету. Декоративные мотивы тут довольно бедны, но Богородица и ангел, хорошо написаны и лица их выразительны. Фигура Богоматери в этой фреске как нельзя более напоминает Мадонн возрождения, представленных в той же самой сцене.
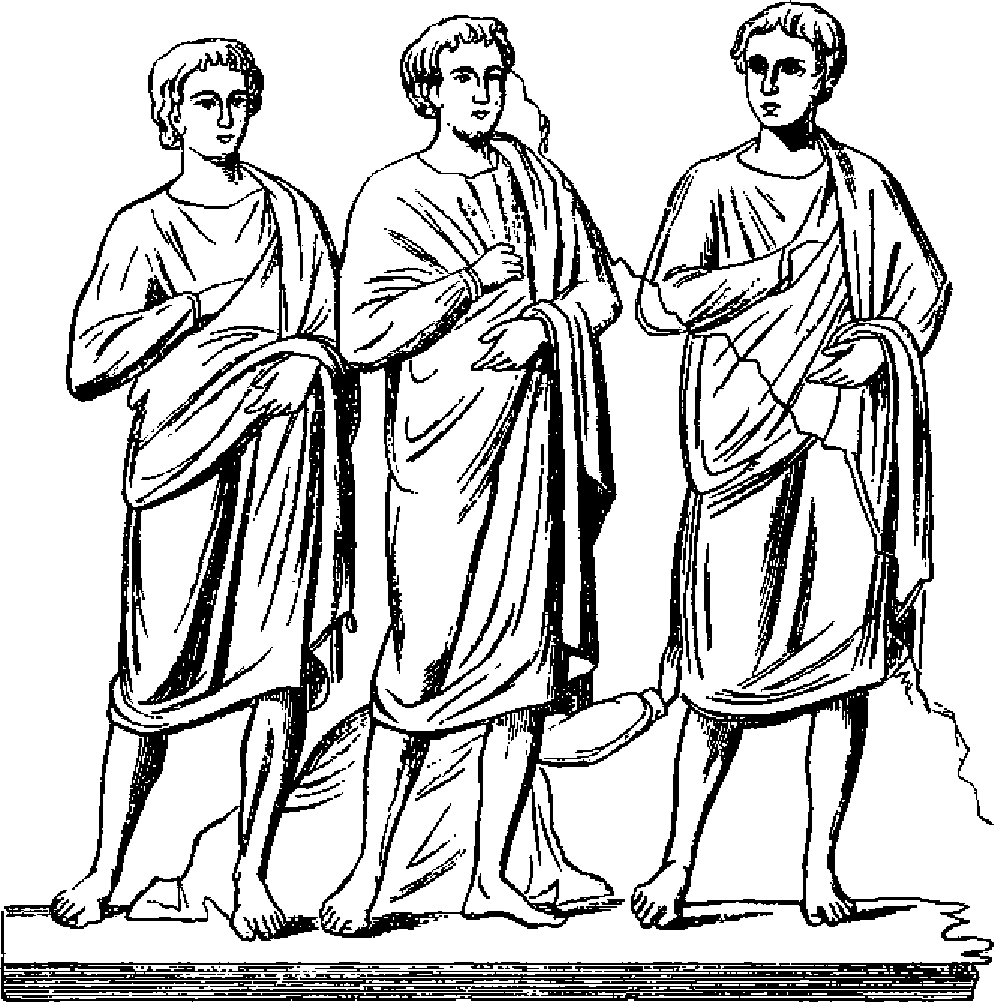
К средине II-го столетия принадлежат фрески, находящиеся в одной из комнат катакомбы Претекстаты, и это доказывается не только стилем живописи, но и переменами, произведенными в начале III-го века в том склепе, где они написаны. В центре потолка, в медальоне, является добрый Пастырь в короткой тунике, неся овечку на плечах; его окружает грандиозный, декоративный мотив, состоящий из зелени, ветвей с цветами и птиц. На стенах изображены сцены исцеления женщины, страдавшей кровотечением, и самарянки у колодца. В первом иэ этих сюжетов (смотри рис.), Христос представлен под видом юноши, задрапированного в паллиум; он смотрит на двух учеников, стоящих возле него и также имеющих юношеский вид. Позади последних, изображена женщина на коленях, прикасающаяся в одежде Христа. Во второй сцене, Спаситель, также юноша, обращается с речью, поднимая правую руку, как говорящий, к самаритянке, которая стоит по другую сторону колодца, с чашей в руке.

Живопись эта, точно так же, как и написанная в катакомбе Прискиллы, упомянутая выше, сюжет которой трудно объяснить, имеет особенный характер. Можно видеть тут кисть греческого живописца. У фигур в этих фресках более натуры, жизни, они развязнее, чем в других памятниках живописи катакомб этого времени, и одеты они, как греки. В сцене исцеления женщины, драпировка Христа и апостолов одинакова, позы и даже лица последних тождественны, что выходит довольно монотонно; но, при всем этом, видна непринужденность в сочинении сюжета и в распределении фигур. Живопись, приблизительно того же характера, мы найдем и в катакомбе Неаполя.
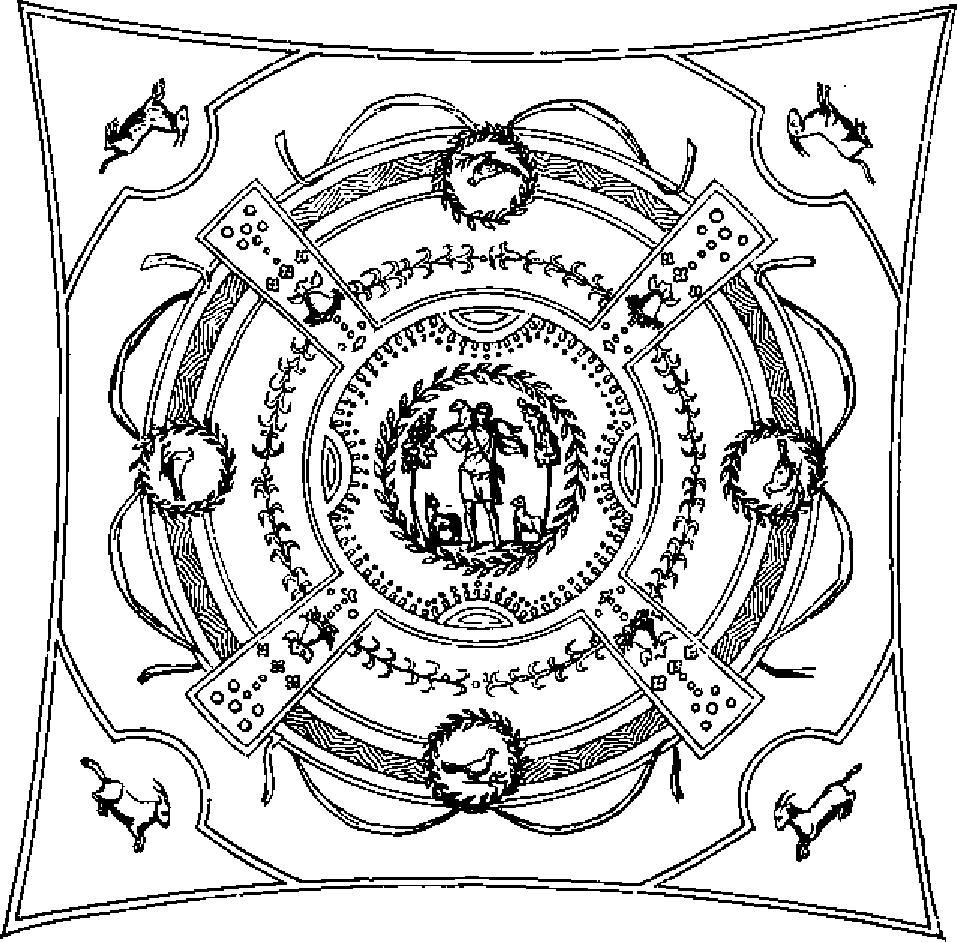
Так же, очень грациозно, был расписан во втором столетии потолок одной из усыпальниц катакомбы Присциллы. Тут (смотри рис.) в центре, как всегда, изображен добрый Пастырь, несущий заблудшую овечку на плечах к стаду, переданному двумя овцами, стоящими у Его ног; он одет в короткую тунику, оставляющую правое плечо обнаженным, формы, называемой экзомис, и носимую у древних римлян работниками пастухами, вообще – ремесленниками. На ногах Его обувь, свирель повешена Ему через плечо. Идиллическая фигура Пастыря в этом примере проста и привлекательна, но, может быть, несколько манерна: она заключена в лавровый венок. Кругом написаны декоративные мотивы, не лишенные грации, как, например, птицы на ветках, вазы с цветами и т. д.; в углах четыре раза повторена фигура лежачей козы.
На стенах того же кубикула изображены молящиеся женщины; одну из них читатель видит в приложенном рисунке.
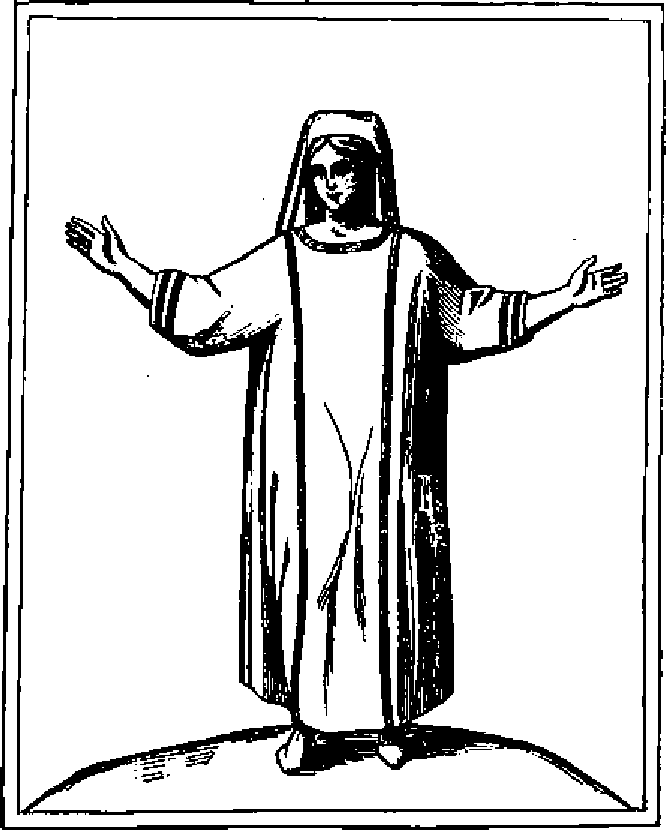
Это тип тех многочисленных фигур orante, написанных в катакомбах, очень часто на зеленых лугах, среди цветущих деревьев и изображающих умерших – в вечном блаженстве.
К эпохе последнего блеска классического искусства, т. е. ко второй половине II-го века, несомненно, принадлежит живопись свода усыпальницы, прекрасных размеров, катакомбы Претекстата. Она изображает очень грациозный и хорошо подобранный декоративный мотив, но символического значения, передающий – различными растениями и жатвой, разнообразных сельских продуктов, исполняемой небольшими гениями – времена года. Тут, точно так же, как и в римской языческой живописи, гении, имеющие вид мальчиков, так как они вообще, миловиднее и грациознее возмужалых, представлены работающими, вместо взрослых людей, что мы заметили уже и в помпейской стенописи.
К концу II-го или, может быть, к началу III-го столетия принадлежит фреска, изображающая Орфея, которую читатель видит в приложенном рисунке.
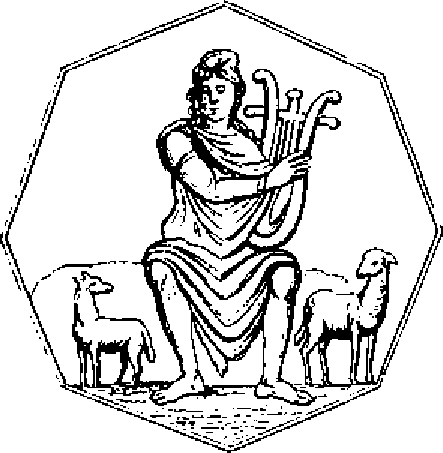
Он написан в середине потолка усыпальницы катакомбы Каллиста; его окружает несложный декоративный мотив, некоторые детали которого довольно грациозны. Toго же самого нельзя сказать о фигуре певца: она грубовата, складки одежды некрасиво брошены; по всему заметно, что это произведение живописца не очень искусного, но старавшегося, однако, вдохновить изображаемую им фигуру.
Число христианских символических изображений возрастает в этом столетии; вместе с тем, устанавливаются их типы. Доброго Пастыря изображают уже постоянно в известной позе и обстановке; декоративные мотивы еще очень богаты, но симметрия начинает озабочивать живописца. Она разовьется еще сильнее в третьем веке; при всем этом, однако, в живописи катакомб пока довольно жизни и натуры.
XII.
Число памятников живописи в катакомбах, разумеется, возрастает с каждым столетием; от II-го века мы имеем больше фресок в подземных христианских кладбищах Рима, чем от первого. Они делаются особенно многочисленны в III столетии и, вместе с тем, устанавливается система украшения гробниц и распределения сюжетов, от которой живописцы уже редко отступают. Художники пишут по одному образцу с незначительными изменениями. В центре потолка, обыкновенно, помещают изображение главного сюжета, в круге или восьмиугольнике, всего чаще, доброго Пастыря с овечкой на плечах, между двумя деревьями, с двумя или несколькими овцами Его стада, гораздо реже – Орфея или Даниила с двумя львами. Кругом, также в рамках, изображаются четыре или восемь сюжетов, заимствованных из нового или ветхого завета, переданных с меньшим, по возможности, количеством фигур. Так, например, в сцене умножения хлебов, Христос изображается один с корзинами; возле Него не видно даже учеников, как в барельефах саркофагов, и этот художественный лаконизм совершенно в стиле классической живописи. Иногда, вместо библейских сюжетов, кругом центральной фигуры потолка, представлены мужчины и женщины в длинных одеждах, с поднятыми руками, в положении молящихся. Пустые пространства наполняются или геометрическими фигурами, составленными из цветных линий, или корзинами с плодами, с цветами, виноградной лозой, иногда, вазами и тому подобными декоративными мотивами.
К началу III-го столетия, может быть, даже к концу II-го, принадлежат фрески, украшающие усыпальницы в катакомбе Каллиста. Главные из них читатель найдет во второй части этого сочинения.
В III-м веке, вероятно, также был написан в катакомбе Домитиллы – Орфей, укрощающий зверей своим пением. Кругом изображены следующие сюжеты: Даниил между двумя львами, Христос, воскрешающий Лазаря, Давид с пращею, Моисей, иссекающий воду из скалы. Эти сцены разделены друг от друга ландшафтами, в стиле классического искусства. В углах представлены птицы на ветках и другие декоративные мотивы, не лишенные грации.
Фреска из катакомбы свв. Марцеллина и Петра, изображающая Богоматерь с Младенцем Спасителем на коленях, принимающую поклонение волхвов, также следует отнести к III-му столетию. Расположение фигур тут имеет вид барельефа, как многие, дошедшие до нас, образчики римской живописи; рисунок, может быть, не вполне правилен, положение Богоматери на кресле, ноги Которой обернуты одеждой, составляя неудачный мотив драпировки, неловко, но движение Ее рук натурально, лицо выражает скромность и, вообще, образ Ее привлекателен и грациозен.
К тому же времени принадлежит фреска подземного кладбища Гермия; читатель видит ее в рисунке, заимствованном у Garrucci т. LXXXIII, 2.
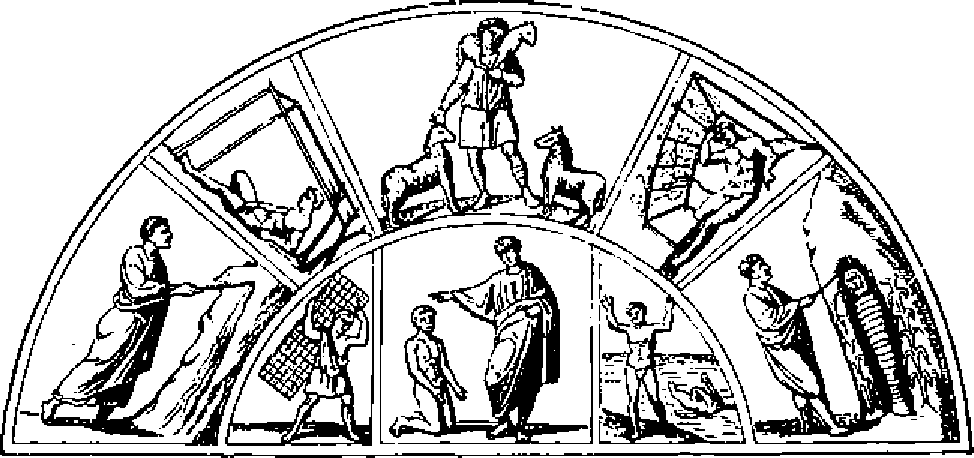
Она украшает плоскую нишу Arcosolium и изображает следующие сюжеты: в середине – Христос исцеляет одержимого бесом; направо от этой сцены – пророк Иона, выброшенный чудовищем, благодарит Бога за свое спасение; в симметрию с ним – параличный исцеленный, несет свой одр; наверху виден добрый Пастырь с овечкой на плечах, между двумя овцами; направо от него – Иона отдыхает в тени растения; внизу – Христос воскрешает Лазаря; с другой стороны – Иона лежит, палимый солнцем; ниже его – Моисей иссекает воду из скалы. В этой живописи еще видна кисть искусного живописца, хорошо воспользовавшегося местом для распределения сюжетов: исполнение довольно тщательное; нагое тело представлено с знанием натуры; фигура доброго Пастыря грациозна, хотя и немного манерна. Христос, исцеляющий одержимого бесом, хорошо задрапирован. В особенности, верно и живо передано уныние изнеможденного пророка Ионы, лежащего под иссоХIIIим растением.
Бедность декоративных мотивов и, вообще, очень посредственное исполнение проявляются уже в христианской живописи III-го столетия. Мы замечаем их, например, во фреске потолка одной из усыпальниц катакомбы Каллиста (см. рис., заимствованный у Garrucci т. VIII, 1).

Тут, в центре представлен добрый Пастырь между двумя деревьями, с овечкой на плечах; направо и налево от него, на краю потолка, изображен Иона в двух видах, отдыхающий под растением, и выброшенный чудовищем. Остальное пространство занято декоративными мотивами, состоящими из щитов, геометрических линий, гирлянд, лавров, фантастических растений и птиц.
Шаг к упадку заметен, также, во фреске III-го века катакомбы Домитиллы, изображающей Амура и Психею, собирающих цветы864; сцена эта вполне классического характера, но в исполнении ее уже очень мало художественного. Обе фигуры тяжелы, аляповаты, не имеют ничего стройного, грациозного, выражение их лица – тупо и они, скорее, имеют вид карликов, чем детей.
В конце этого столетия исполнение делается небрежно, техника также падает, стукк, на котором пишут, уже более не имеет ни той твердости, ни того блеска, как в предшествующие века; краски теряют яркость и силу; орнаментальные мотивы начинают утрачивать красивые формы. Иногда, цветная линия, угол или какая-нибудь несложная фигура, как, например, овальный щит, наполняют целое отделение в орнаментальной композиции. Гирлянды зелени и цветов делаются тяжелы и неграциозны; некоторые элементы орнаментики, – наследство предшествовавших веков, как, например, летящие птицы, повторяются беспрестанно в живописи II-го столетия, что доказывает бедность художественной выдумки. Углы потолка постоянно заняты одними и теми же фигурами одного вида. Ближе к центру, изображаются четыре раза или вазы с цветами или, подобного же рода, декоративные мотивы, архитектурные линии, геометрические фигуры и т. д. Возрастает, также, и любовь к симметрии, которая становится в конце этого века мертвым началом в артистических сочинениях. Так, например, во фреске, изображающей Орфея, о которой мы говорили выше, библейские сцены разделены монотонными, довольно похожими друг на друга видами природы, с деревьями одной формы. В двух из этих пейзажей представлен бык, – в одном примере, лежащий у дерева, в другом, стоящий возле него; в двух других ландшафтах – баран, при таких же точно условиях.
Значительно увеличивается в III-м столетии число христианских сюжетов; это доказывает более полное, чем в предшествующие века, знание святого писания. Особенно любимы становятся изображения похождений Ионы, которые, как известно, символически представляли будущее воскресение. Пророк этот, поглощенный чудовищем, выброшенный им и отдыхающий под растением, очень часто изображался живописцами третьего века. Можно даже сказать, что редко найдешь художественное сочинение этого времени, в котором бы не было дано места, хотя бы и одной из зтих сцен. Надежда на воскресение – одна из главных причин распространения христианства, больше других догматов занимавшая исповедников новой веры, отразилась очень ясно и в их искусстве.
ХIII
Несовершенства в христианской живописи катакомб обозначается еще сильнее в IV-м столетии; так, например, во фреске подземного кладбища святых Марцеллина и Петра, украшающей Arсosolium, видны все отличительные черты упадка искусства. Она изображает (см. рисунок) в середине женщину в положении молящейся, с покрывалом на голове, между двумя деревьями; справа и слева к ней подходит по мужчине.
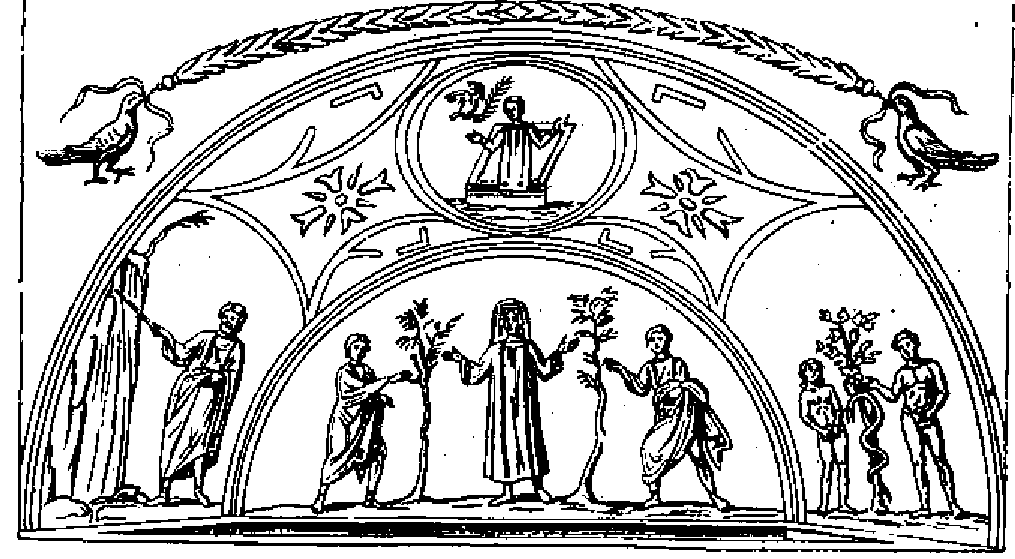
Вероятно, тут художник хотел представить Сусанну и преступных старцев – сюжет, очень любимый первыми христианами; в других несомненных примерах его изображения старцы также являются молодыми людьми. Направо от этой сцены написаны Адам и Ева, налево – Моисей, иссекающий воду из скалы, наверху – Ной в ковчеге принимает возлетающего к нему голубя с оливковой веткой. Декоративные мотивы, наполняющие пустые пространства, равно как и гирлянда зелени, изображенная над Arcosolium, столько же бедны формами, сколько тяжелы и неграциозны. Исполнение очень неудовлетворительно; рисунок неправилен, неопределен, в кисти живописца нет уверенности; движения фигур вялы; представленные в спокойном положении, они написаны лучше, чем изображенные в движении или на ходу, как всегда бывает в периоды младенческого состояния искусства или упадка его; драпировка, особенно, подходящих к Сусанне, мужчин, неправильна, тяжела и не соответствует положению и движению тела. Все исполнено, как бы, поверхностно, и лица едва означены.
Также, довольно ясное понятие о художественной силе живописцев IV-го столетия может дать нам фреска потолка одной из усыпальниц катакомбы Агнии (см. рисунок). В середине представлен Спаситель, под видом юноши, между двумя цилиндрическими ящиками, полными свитков пергамента – в древнем мире это был атрибут поэтов, писателей, законодателей и изображался, иногда, возде них; – тут эти две группы рукописей, может быть, символически представляют старый и новый завет. Кругом этой главной фигуры, мы видим воскрешение Лазаря, иссечение Моисеем воды из скалы, параличного, несущего свой одр, и Моисея, который снимает сандалию, оборачиваясь
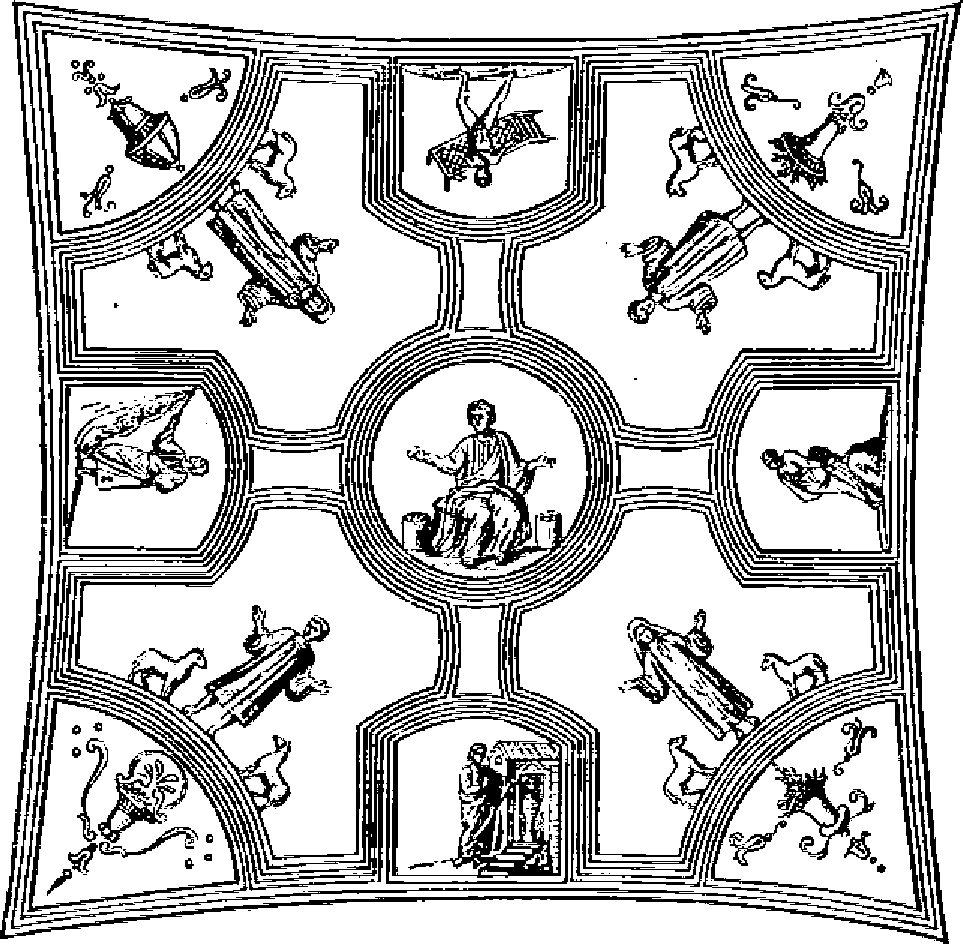
назад, чтобы внимать слову Бога.
Над вазами, написанными в углах, изображены молящиеся: два раза мужчина и два раза женщина, между двумя овцами. Фигуры написаны тут лучше, чем в предшествующем примере, но декоративный мотив, состоящий из белых полос и линий, расходящихся от центрального медальона, окружая, как рамки, библейские сцены, составляет очень однообразный, бедный, монотонный и мало изящный элемент орнаментики.
Средневековая христианская живопись начинает уже формироваться в катакомбах в IV столетии и мы находим в них изображения, которые будут повторяться с некоторыми изменениями в церквах и базиликах. Так, например, в абсиде одной из усыпальниц катакомбы Домитиллы, написана фреска, изображающая Спасителя, еще без определенного типа, под видом молодого римлянина, как Его представляли в прежние века, без нимба, сидящим на возвышенном троне, простирающим правую руку, складывающим пальцы, как оратор, начинающий речь; перед Ним стоит цилиндрический ящик с свитками пергамента – символ Его учения. Он представлен, поучающим Своих учеников, стоящих около Него по шести с каждой стороны; только Петр и Павел сидят на складных стульях; в этом проявляется уже то иерархическое распределение, которое в будущие века получит столь значительное развитие в христианском искусстве.
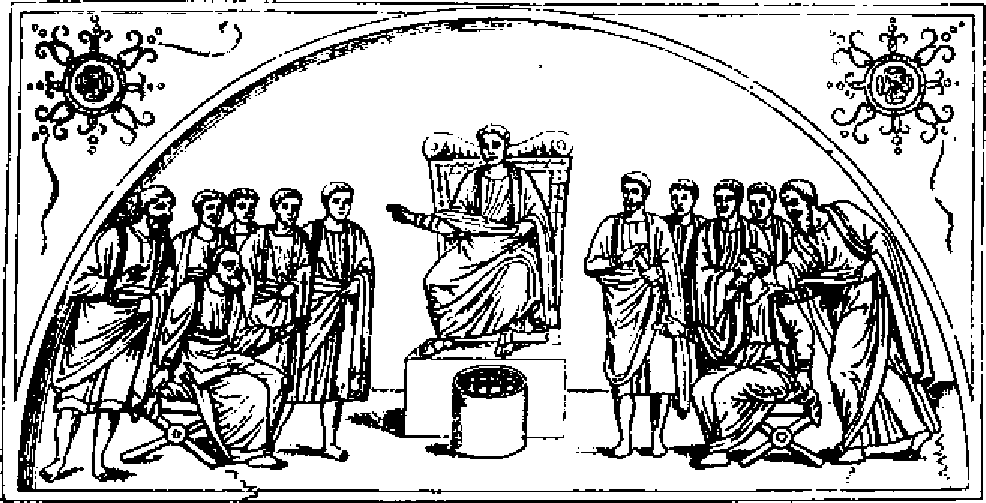
Традиции классического художества и любовь к изображениям, взятым из его богатого цикла, не угасли, однако, совершенно среди христиан IV-го столетия. Мы это видим, между прочим, из того, что в противоположной абсиде той же усыпальницы изображены865 добрый Пастырь и аллегорические фигуры лета, зимы, осени и весны, имеющие вид обнаженных юношей, занятых сельскими работами, соответствующими различным временам года, совершенно во вкусе римского искусства.
К IV-му же веку принадлежит фреска из катакомбы Агнии, изображающая Богоматерь с Младенцем Спасителем. Она не лишена красоты, написана не без достоинства и составляет светлый пункт, среди художественных произведений этого столетия, отражающих в себе заметный упадок.
С IV-м веком прекращается, можно сказать, почти совершенно, живопись в катакомбах. В V-м столетии погребение в этих подземных кладбищах делается все реже, и фрески этого века встречаются в незначительном числе. Упадок искусства еще сильнее обозначается в них, исполнение делается уже совсем поверхностным, как это мы видим, например, в стенописи из катакомбы Каллиста, изображающей fossor’a Диогена.
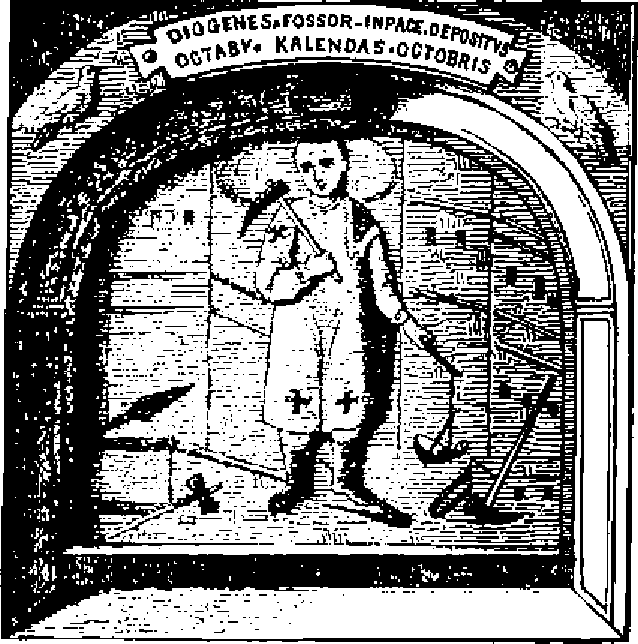
Другие фрески V-го столетия находятся в катакомбах святой Агнии866, Generosa867, Каллиста868. По ним мы также замечаем падение техники и формы в этом веке; но, вместе, некоторые из них, подобно тем образчикам живописи VII-го, VIII-го, IX-го столетий, встречающимся, как исключение, в подземном христианском Риме, уже имеют византийский или, лучше сказать, восточный характер, преобладавший все средние века на западе и развившийся полнее в мозаиках, о которых мы будем говорить дальше.
ХIV.
Кроме Рима, мы можем также проследить начало и развитие христианской живописи в катакомбах Неаполя869, о положении и архитектурных формах которых мы уже говорили в первой части. Самые древние фрески этого ипогея принадлежат также к концу I-го или ко II-му столетию и имеют тот же характер, как живопись римских катакомб, но с более преобладающим, чем в последней, веселым, живым, склонным к игривой орнаментации направлением, и с предпочтением блистательной орнаментики – сложной символике. Так, например, очень часто в сводах Аrcosolium’ов, иногда, даже в центре потолка усыпальницы, где в Риме, обыкновенно, изображен какой-нибудь христианский сюжет, мы находим в катакомбах Неаполя цветы, зелень, маски, вазы с растениями, красивых птиц с яркими перьями, других животных, гирлянды цветов и т. д. и т. д., или даже аллегорические фигуры, взятые из классического искусства.
Мы видим, например, на потолке одной из больших комнат этого подземного кладбища870 только одни декоративные мотивы, не имеющие ничего христианского, но также и, положительно, ничего языческого. В середине, в медальоне, изображены два голубя (один из них не сохранился), несущие в клюве гирлянду цветов – очень грациозный и оригинальный мотив. Кругом, в овальных медальонах представлены четыре козы, стоящие на пьедесталах, и разделенные одна от другой орнаментальными фигурами, имеющими вид фантастических растений. Элементы орнаментистики, того же характера, наполняют остальную часть потолка; тут перед нами в круглых медальонах или в пространствах различной формы, составленных пересекающимися разводами – вазы с цветами, птицы с распущенными крыльями, гиппокампы, морские быки и т. д., все расположено очень грациозно, и декоративные мотивы прекрасно вяжутся между собою. Фигура прыгающей лани или бегущего льва в углах, заканчивает это игривое, художественное сочинение, принадлежащее, вероятно, к первым временам распространения новой веры и составляющее очень интересный образчик украшения христианской усыпальницы. Художник верующий, расписавший этот потолок, но не знавший никакого христианского сюжета, или, может быть, опасавшийся выставить изображение догматов новой религии перед глазами язычников, написал только одни декоративные мотивы, избегая мифологических фигур или сцен, имевших прямое отношение к римскому официальному культу871.
В другой соседней усыпальнице, также имеющей большие размеры, написана замечательная фреска, частями сохранившаяся. (См. рисунок872). По стилю, по манере, вообще, по характеру своему, она приближается к описанной выше, с той только разницей, что в ней изображены уже вполне христианские сюжеты, хотя и нe на главном месте художественного сочинения. Тут, как читатель видит, в центре потолка, вместо библейской сцены, написана летящая фигура победы, держащая в руках пальмовый ствол с его ветвями. Кругом этого аллегорического образа, представлены обнаженные амуры и психеи – эмблемы бессмертия души, – несущие гирлянды цветов; далее, распространяется красивый декоративный мотив в классическом стиле, состоящий из виноградных кистей, архитектурных элементов, имеющих вид алтарей, трагических масок, птиц, сидящих на гирляндах цветов, цимбалов, гиппокампов, ваз с цветами, плодов и прыгающих козлов. Все это написано очень изящно и игриво – частью в рамках различной формы, образованных из краевых и синих полос – и хорошо соединено вместе, составляя грациозное сочинение.
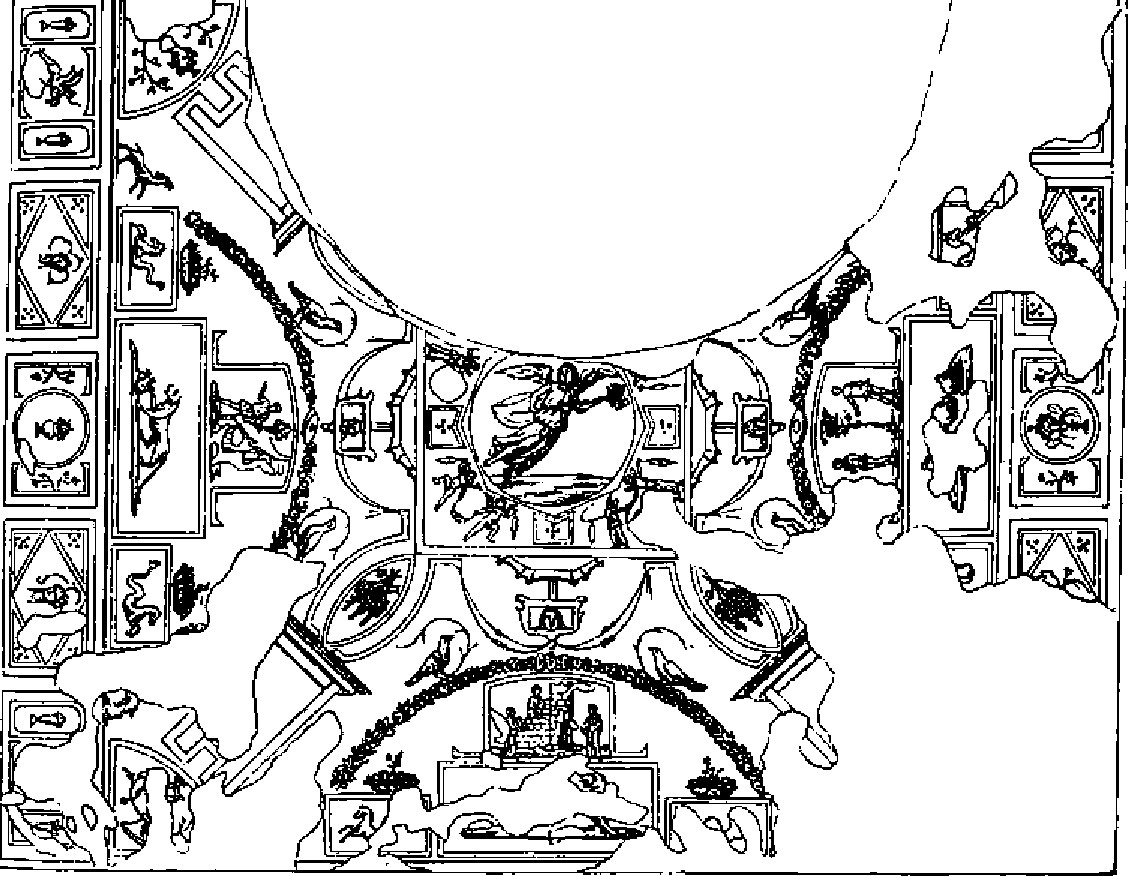
Христианские изображения тут, как мы уже сказали, не занимают главного места; их было четыре, но одно из них пропало при устройстве luminare, т.е. трубы для проведения света и воздуха в подземелье с поверхности земли.
Сюжеты трех других – следующие: Адам и Ева после их падения (см. рисунок, передающий эту сцену в больших размерах).
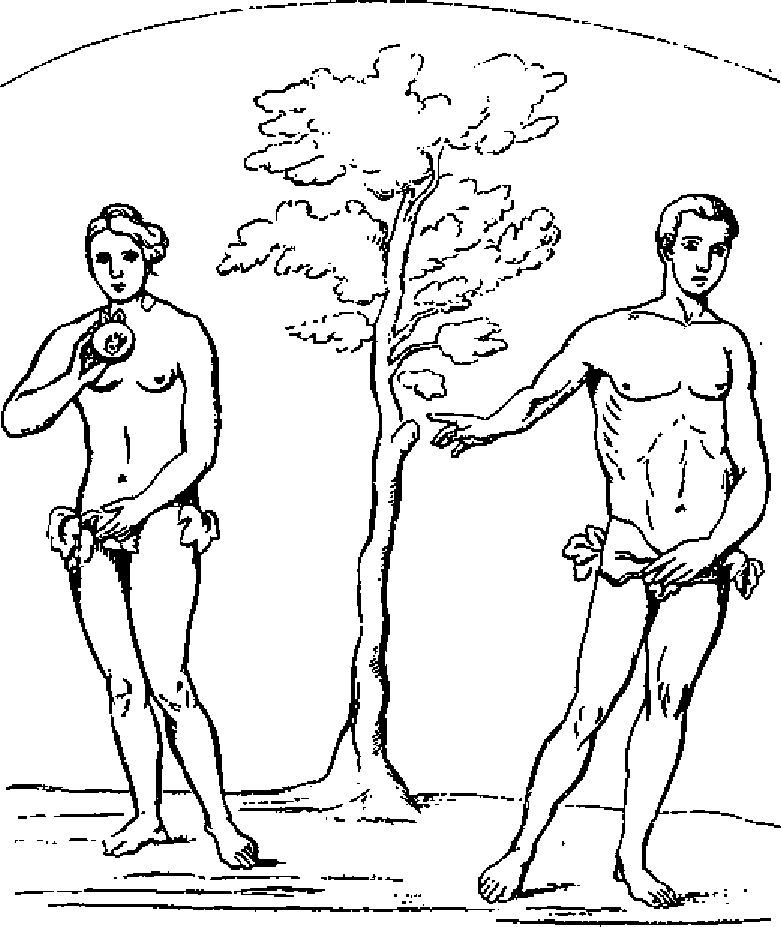
Прародители наши удаляются друг от друга; листья смоковницы прикрывают их наготу; дерево познания добра и зла видно на втором плане; Адам отходит в сторону, указывая на Еву правою рукою, как на виновницу его прегрешения; простодушие очень хорошо передано на его лице; Ева держит в правой руке роковой плод, поднося к устам и показывая его, как бы, сознавая свое преступление. Хитрое лицо ее имеет что-то зловещее. Она, равно как и Адам, прекрасно написаны, и нет в римских катакомбах ни одной фигуры, переданной с более верным подражанием природе, с большей тонкостью, оконченностью и более чистым стилем. Движение Адама, его жест – вполне натуральный, а фигура Евы, как нельзя более, напоминает статуи Венеры, с которыми у нее много общего; это особенно заметно в движении ног и в положении рук. Очень вероятно, что художник имел перед глазами одно из изображений означенной богини, когда писал фигуру Евы. Вся сцена передана живо и производит сильное впечатление; надо пройти все средние века до возрождения искусств, чтобы найти и, притом, только у хороших мастеров этой эпохи – столь красивое по форме и выразительное изображение падения (наших) прародителей.
Трудно решить, что изображала вторая сцена, так как она несколько попорчена; осталась только фигура человека в короткой, подпоясанной тунике, держащего в левой руке предмет, похожий на корзину; он представлен на ходу, подымающим правую руку; вдали видно дерево. Может быть, тут изображена притча сеятеля. При описании христианских символических фигур, как, например, доброго Пастыря, рыбака и т. п., мы уже могли заметить, что параболы восточного характера, которыми переполнен новый завет, превратились у людей классической культуры, привыкших давать определенные образы вымыслам фантазии, в создания фигуративного искусства. Изображение сеятеля было бы единственным примером представления этого сюжета во фресках катакомб, но все, в описываемой нами стенописи, оригинально, и она не может быть подведена под правила, преобладавшие в искусстве верующих Рима. Так, например, третий христианский сюжет, написанный тут, не был пока открыт в ипогеях Рима и представлен всего один раз в катакомбах Неаполя. Он взят из книги Гермы – «Пастырь». В ней два раза говорится о символической башне, изображающей церковь, которую строят, в одном примере – юноши, а в другом – девы. Тут представлена последняя сцена, но не вполне верно с текстом, потому что, согласно книге «Пастырь», башню строили на скале, символизирующей Спасителя, двенадцать дев, изображающих добродетели, а не три, как представлено в этой фреске. Но подобные отступления, происходящие иногда от недостатка места, встречаются довольно часто в христианском искусстве. Мало можно сказать о художественном достоинстве этой живописи. Три женские фигуры, однако, являющиеся тут, хорошо написаны: складки их одежд падают красиво, и, в общем, они грациозны и привлекательны. Очень может быть, что в четвертой, пропавшей христианской сцене этого потолка, была изображена постройка мистической башни юношами, из камней, символизирующих христиан873.
Большая часть памятников живописи раннего времени, открытых в катакомбах Неаполя, имеют тот же характер, как и описанные выше фрески: именно в них преобладает декоративный элемент над символическим, и все принимает веселый, живой вид. В образчик, мы приведем следующую стенонись (см. рисунок), украшающую свод и плоскую нишу Аrcosolium того же подземного кладбища.
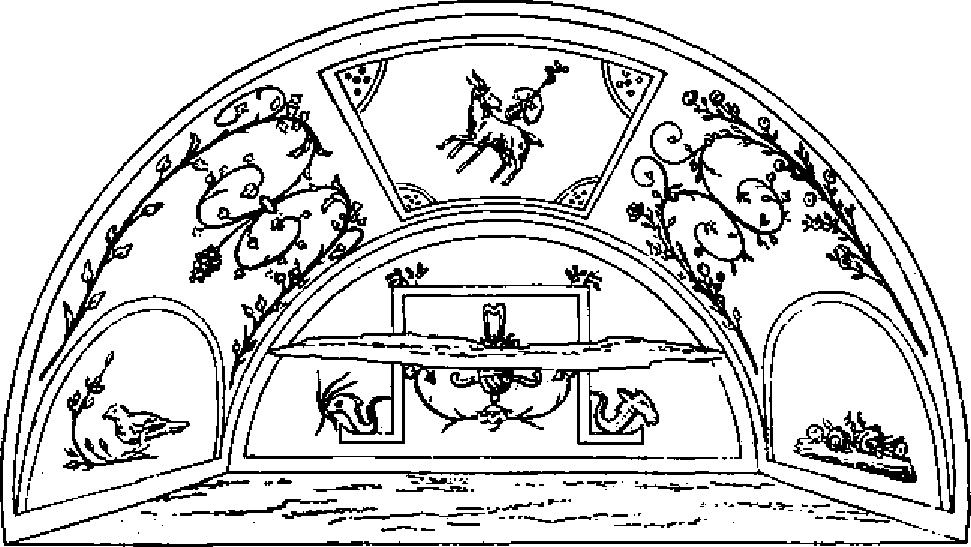
Тут, в середине арки изображен прыгающий козел, голова которого убрана зеленью; он, как бы, опирается на палку, с обвивающейся кругом нее виноградной лозою. Направо от этой фигуры написаны розовые кусты и под ними – срезанные цветы того же растения. С другой стороны, изображена виноградная лоза с плодами, а внизу птица, сидящая на ветке. Фреска плоской ниши этого arcosolium несколько попорчена; она изображает вазу с цветами и двух морских животных, похожих на дельфинов. Четырехугольные и полукруглые рамки, в которые заключены эти изображения, составлены из красных полос. Нет ничего неоспоримо христианского в этой живописи, хотя нельзя сомневаться в том, что она украшала гробницу верующего, так как в надписях и фресках других соседних arcosolium’ов ясно выражены христианские идеи. Ошибочно было бы, потому, принимать декоративные фигуры, встречающиеся в подземных кладбищах верующих, за произведения языческие, хотя бы даже в них и не было ничего христианского, а, напротив, эмблемы бакхического культа, как, например, виноградная лоза, козел, жезл, имеющий форму тирса, как это мы видим в катакомбах Неаполя. Гробниц, расписанных только декоративно, без какого-либо христианского знака или фигуры, подобно этому arcosolium, не встречаем в катакомбах Рима.
Более в характере живописи римских ипогеев – фрески другой из усыпальниц неаполитанского подземного кладбища. Тут, в глубине, представлен добрый Пастырь; он стоит между деревьями, опираясь на посох, в положении отдыхающего; черты Его лица благородны и красивы, поза грациозна; на Его плечах не видно овечки, которую Он уже принес к стаду. Овцы окружают Его. На Нем туника, украшенная внизу двумя знаками, которые получили в археологии название свастика. Живопись, находившаяся на правой стене этой усыпальницы, пропала, при устройстве тут горизонтальной гробницы; на противоположной стене изображен Иона, лежащий под высоХIIIим растением; сохранилась только верхняя половина его фигуры, хорошо написанной. В лице, равно как и в положении тела пророка, удачно выражены его уныние и печаль. На потолке, среди кругов из зелени и других орнаментальных мотивов, изображен, возлетающий в развевающихся одеждах, человек с обнаженными ногами. Может быть, художник хотел представить вознесение Спасителя и, в таком случае, мы видим тут, сколько до сих пор известно, первый пример изображения этого сюжета, так как означенную фреску, по ее стилю, следует отнести к III-му столетию, но, скорее, к концу его, чем к началу. Вокруг головы Христа написан нимб, разделенный крестом, что, вероятно, было прибавлено более позднею рукою, так как мы знаем, что сияние и, особенно, крестовидное, начали употреблять гораздо позже в христианской иконографии. При входе в эту усыпальницу – которая, как обыкновенно в неаполитанских катакомбах, в противоположность тому, что мы видим в Риме, не имеет четвертой стены, отделяющей Cubiculum от галерей – написана налево – сцена воскрешения Спасителем Лазаря, а направо – иссечение Моисеем воды из скалы. Эти сюжеты представлены тут совершенно так, как в римских катакомбах, приблизительно, III-го столетия.
Живопись неаполитанских подземных кладбищ изменилась с течением времени, подобно тому, как это произошло и в Риме. Имея первоначально, по преимуществу, декоративный, классический характер, она быстро перешла к изображению святых, апостолов, мучеников, – типа, преобладающего в мозаиках средневековых церквей Италии, – к фигурам молящихся, в богатых одеждах, стоящих с поднятыми руками между канделябрами; к представлению лика Спасителя с крестовидным нимбом, окруженного символами евангелистов, и т. д.
Но в христианских ипогеях Неаполя не находишь, как в Риме, ряда фресок от каждого века. Между ними есть произведения кисти, не лишенные художественного достоинства, но их немного и по ним нельзя проследить начало и развитие христианского искусства874.
XV
Общий характер живописи катакомб, скорее, веселый, чем грустный. Можно было бы ожидать, что фрески, украшающие места погребения верующих, вероятно, исполненные, иногда, во времена преследований, окружающие часто гробницы мучеников, должны были отразить в себе, хотя в некоторой степени, серьезность положения христианской общины, бедствия, которым она, по временам, подвергалась, вообще, то печальное настроение, несомненно, преобладавшее среди христиан этой эпохи. Однако, ничего подобного не выражено, как мы видели, в катакомбном искусстве. Если осторожность принуждала, иногда, верующих не представлять на стенах их семейных усыпальниц, выкопанных близко к поверхности земли, входы которых расположены недалеко от больших дорог, своих задушевных мыслей, то в отдаленных галереях и комнатах катакомб, когда последние приняли значительное развитие, христиане были свободнее. Однако, и там мы находим живопись совершенно такого же характера, как и в семейных склепах, нисколько не скрытых. Даже и в глубоких ходах катакомб не изображено того, что происходило при допросах на судах, в аренах амфитеатров, одним словом, эпизодов тех страшных гонений, которым, по временам, подвергались верующие. Появление христианина перед трибуналом судьи или императора представлено, сколько до сих пор известно, всего только один раз в катакомбах, тогда как прямого изображения мученической смерти исповедующего веру Спасителя, еще не было открыто в подземном Риме. Вероятно, это происходило от того, что христиане смотрели на смерть, как на освобождение, на страдание за веру, как на средство достижения вечного блаженства, и эти мысли примиряли их с гонителями; может быть, также, они не хотели смущать картиною страданий и мучений новообращенных, вообще, не крепких в вере. Надо также заметить, что декоративные мотивы классического искусства, заимствованные христианами, имели живой, веселый характер и были не способны передавать печальные мысли. Даже и в гробницах римлян язычников мы встречаем постоянно фрески оживленного и игривого вида. Точно также, мы не находим в катакомбах изображения мучений ада; рай довольно часто представлен на стенах христианских ипогеев. Он передан цветущим лугом, усеянным яркими цветами, на котором праведные стоят, в положении молящихся, под тенью зеленых деревьев, тогда как картины ада, с его муками, и чистилища, с его искупительными страданиями, не были пока открыты в римских катакомбах875.
Фрески катакомб, как мы уже видели, находятся в близком сродстве со стенной живописью римлян язычников. В первых, мы находим заимствование из классического искусства художественных сочинений, для выражения новых идей и мотивов орнаментики. Даже и в артистических приемах христианские живописцы не удаляются от языческих; подобно последним, они пишут отдельные картины, заключенные в бордюры или рамки, соединенные между собою арабесками или цветными линиями, как в Помпее. Преобладание в декоративных элементах цветов, повешенных фестонами, наполняющих вазы или корзины, сплетенных в венки, в гирлянды; предпочтение известных красок в живописи, способ разделения пространства на потолках, для размещения изображений; проявление пластического элемента в стенописи, заметное в распределении фигур, в постановке их, в старании придать им позу и вид статуй; манера понимать красоты пейзажа и представлять его – все это приближает работы неизвестных художников катакомб к произведениям искусства римлян, так что можно предположить существование одних и тех же моделей у живописцев верующих и у мастеров, украшавших дома и гробницы римлян язычников.
Это не должно удивлять нас; христианские художники, воспитанники классических мастеров – так как нельзя предположить образование христианской школы живописи до торжества церкви, – не могли удалиться от прекрасных образцов, находившихся у них перед глазами, и невольно должны были остаться верными существенным принципам, преобладавшим в, современном им, римском искусстве, которое во времена империи, при появлении христианства, хотя и не отличалось вполне чистым вкусом, но хранило в себе традиции и приемы греческого художества. Даже и в самостоятельных сочинениях христианских живописцев этого времени, классическая форма не отвергнута: Христос, в сценах совершения Им чудес, является молодым римлянином, задрапированным в тогу, Богоматерь имеет вид римской матроны, на Данииле во львином рве, когда он не представлен нагим, туника работников и т. д.
Но у христиан не могли быть столь искусные живописцы, как у язычников, и потому, в художественном достоинстве, живопись катакомб уступает почти всегда современным ей произведениям римской стенописи. Встречаются в христианских ипогеях очень грациозные изображения и прекрасные мотивы орнаментики, но в исполнении их не видно ни той тонкости, ни того уменья, ни той гибкости, ни того одушевления в сочинении, какие мы замечаем в Помпее, Геркулануме, вилле Адриана и т. д. Вообще, произведения кисти христианских живописцев, которые были, более, колористы, чем рисовальщики, приближаются к римским фрескам, более, по форме, чем по художественному достоинству. Можно также упрекнуть христианских художников в излишней любви к симметрии и в том, что они не умели избегать однообразия, не принося ущерба, не вредя всему художественному сочинению.
Не надо, однако, упускать из вида, что живописцы работали в катакомбах при очень невыгодных условиях: или в узких галереях, или в комнатах, лишенных солнечного света, так что следует, скорее, удивляться не недостаткам их живописи, а тому, что им удавалось иногда так близко подходить к современным произведениям классического искусства. В некоторых, но немногих, катакомбных фресках Рима и Неаполя первого и второго века, например, мы замечаем иногда широкую кисть, теплые краски, соединение простоты и величия в сочинении и распределении сюжетов, согласие частей, уравновешивающихся без тени замешательства, хотя, надо заметить, что, подобно тому, как и в Помпее, сочинение христианских художников постоянно выше исполнения. Но эти достоинства во фресках подземных кладбищ верующих встречаются только как исключения; в общем, они написаны декоративно, лишены оконченности и, иногда, даже небрежны. Особенно же, это можно сказать про стенопись второй половины III века.
Это пренебрежение формы не могло происходить от аскетического взгляда христиан на природу. То же самое декоративное исполнение и означение, скорее, чем представление членов человеческого тела, мы находим в помпейской живописи не очень богатых домов. Идеи аскетизма, враждебного взгляда на плоть, еще не были знакомы христианам Рима первых трех столетий, и эта любовь к хранительнице всего, что нужно человеку для продолжения существования – природе – ко всем ее благотворным проявлениям, и представление их фигуративно, что вполне согласно с натурой жителей южных стран и их художественными инстинктами, – эта любовь к природе, говорю я, и склонность изображать ее разнообразные виды, для оживления обиталищ живых и мест покоя умерших, преобладавшие в мире классическом, продолжались, как это мы видели, и у христиан первых веков. Аскетические стремления проявились в Риме только впоследствии, под влиянием наплыва идей семитического востока; они снова исчезли в эпоху возрождения, когда воскресает арийская мысль и, с нею, любовь к натуре, свойственная народам этого племени. Мы видим также, что христианские живописцы первых веков, которые шли по следам классических художников, не удалялись от прекрасных форм, а искали их, любили игривую орнаментацию и старались передавать в красивых фигурах идеи новой веры. Разумеется, что всего более занимало их, – это выражение, представляемых ими, образов. Но выражения не были лишены и произведения искусства греков и римлян. Ошибочно было бы предполагать, что среди них преобладало только одно поклонение форме, и что выражение упускалось из вида. Они столько же ценили второе, сколько и первую. Прекрасная внешность выработалась в классическом искусстве, для выражения идей, а не для себя самой. От неподражаемых статуй греческих богов, являющихся красивыми смертными, вплоть до живописи Помпеи, всюду заметно, что художники передают какую-либо идею. Тело человека имело у них значение только в той степени, в какой оно выражало внутреннюю жизнь, и нет произведения классического искусства, которое не выражало бы какую-либо мысль. Выражение не составляет принадлежность только одного христианского искусства.
Мы уже заметили постепенный упадок в христианской живописи. Форма грубеет, теряется чистота линий, яркость колорита, проявляется бедность в выдумке декоративных мотивов, и третий век, когда в языческом искусстве произошел поворот к худшему, был, также, и для христианской живописи эпохой решительного упадка. В этом отношении, можно сказать, что происходившее на поверхности земли, отразилось, также, в катакомбах, и, хотя в первые века христианства, во времена гонений, ипогеи верующих расписывали, разумеется, не лучшие живописцы того времени, а после торжества церкви на это, конечно, стали употреблять искусных художников этой эпохи; но, тем не менее, то, что сделали первые, несравненно лучше того, что написали вторые. Христианская живопись разделяет, таким образом, участь языческой, являясь с отличительными чертами, с достоинствами и недостатками римской стенописи первых веков империи, она идет параллельно с нею, отражая в себе те перемены, которые происходят в последней.
Мы видели, также, что в христианской живописи, особенно, раннего времени, царствует полная свобода художественного выбора и это дает ей известную свежесть, непринужденность, утрачивающиеся с течением времени, но снова приобретаемые ею в эпоху возрождения. Влияние церкви на художественные сочинения, разумеется, было ничтожно в первые времена христианства, но шло, возрастая с каждым столетием; однако, нельзя сказать, что оно получило преобладающий характер даже и после Константина. Это, например, можно видеть и по ошибкам, делаемым христианскими живописцами и скульпторами Италии и Галлии при изображении библейских сюжетов. Они иногда передают их не согласно с текстом святого писания, представляя, например, Давида и Голиафа одного роста; Еву – с изысканной прической, с браслетами, ожерельем, медальоном; неверное число амфор в сцене превращения воды в вино; Иова не на куче пепла, а на богатом сидении; алтарь языческой формы и посторонних лиц, при жертвоприношении Исаака Авраамом. Подобные же неправильности встречаются при изображении изгнания прародителей из рая, Даниила в львином рве и других христианских сцен, даже и в V-ом столетии. Эти погрешности не вкрались бы в произведения христианских мастеров, если бы их руководило духовенство. Даже и после торжества церкви, художники, как это видно по их работам, следовали своим артистическим инстинктам скорее, чем какому-либо предписанию; мы замечаем, например, в живописи, и увидим то же самое в барельефах саркофагов, помещение известных сюжетов в симметрию, для достижения приятной для глаз художественной комбинации, так как они соответствовали один другому внешним видом и удовлетворяли одним артистическим условиям; но при этом происходило соединение сцен, которых, по их значению и времени действия, не следовало бы сближать. Примеры этой артистической вольности мы найдем в отделе пластики. Если, потому, в христианском искусстве, начиная с III-го столетия, проявляется некоторое однообразие, онемение, то это надо приписать не столько правилам, постановленным церковью, рамкам, которые она дала искусству, сколько малой способности художников.
Памятники христианской живописи катакомб, указывая нам состояние искусства общины верующих, его происхождение и перемены, совершавшиеся в нем, важны также и в том отношении, что по ним мы можем проследить постепенное образование догматов. В немногих литературных произведениях первых столетий, они появляются уже в, более или менее, законченной форме, но в работах неизвестных художников катакомб, представлявших религиозные идеи, в те времена, когда они еще не были установлены и освящены церковью, видишь появление и развитие вероучения, присутствуешь, можно сказать, при преобразовании римского общества из языческого в христианское.
Стеклянные чаши с изображениями по золотым пластинкам
XVI
К памятникам христианского искусства следует, также, отнести и стеклянные чаши с золотыми фигурами, которые мы уже несколько раз называли в этом сочинении. Изображения, украшающие эти сосуды, делались следующим образом:
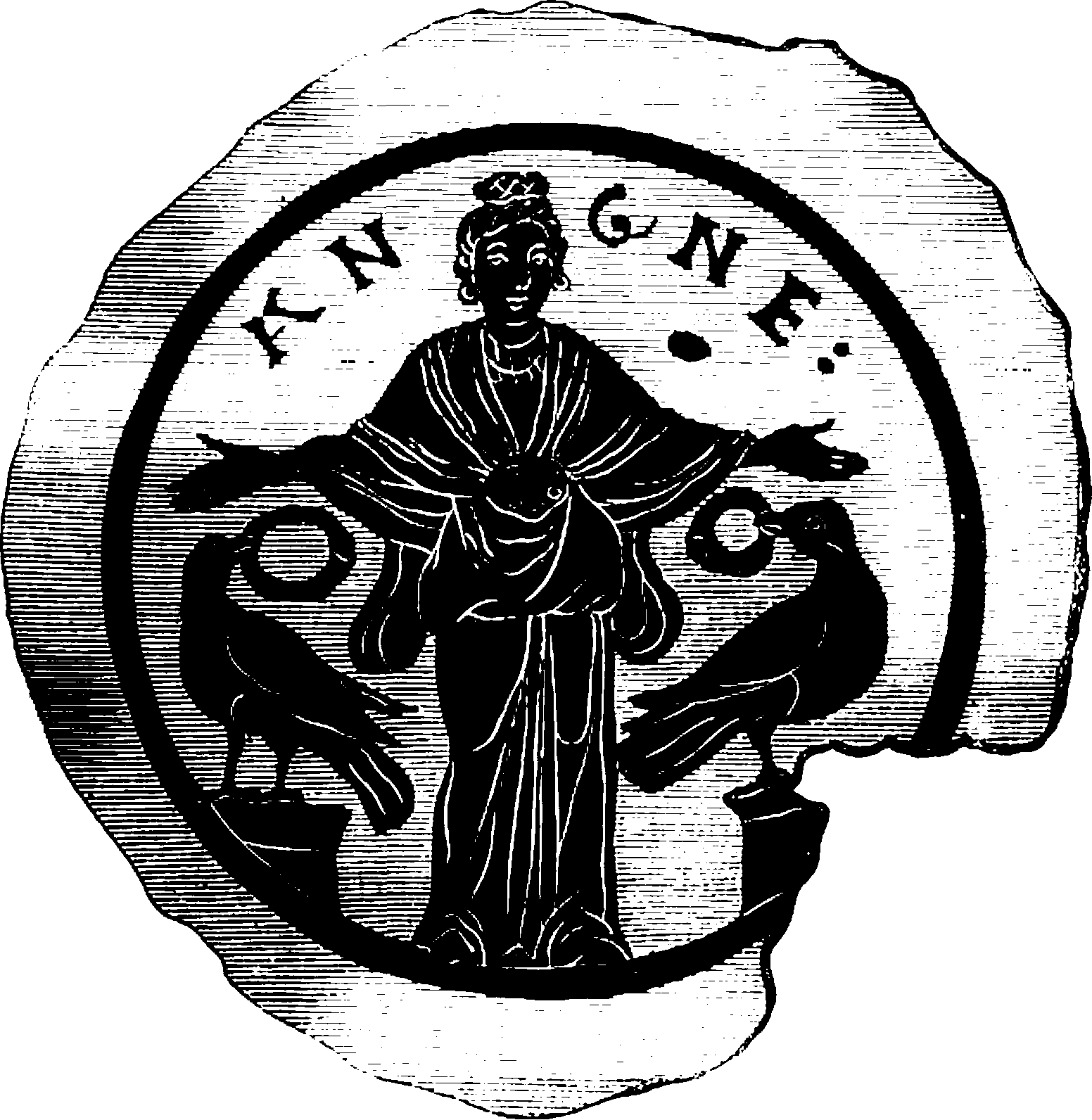
художник растягивал на круглой стеклянной пластинке, покрытой клейким составом, тонкий листок золота и на нем чертил или, лучше сказать, резал насквозь каким-нибудь металлическим острием линии представляемых фигур или буквы надписи, отбрасывая от листка все лишние, не занятые изображаемым сюжетом, части. Потом стеклянную пластинку припаивал к донышку чаши, всего чаще, немного меньшей обыкновенного стакана. Таким образом, золотой листок, принявший вид какой-либо фигуры, как читатель может видеть в приложенном рисунке, помещался между двумя слоями стекла. Донышки этих сосудов, которые для нас всего важнее, так как они заключали в себе изображения, сохранились лучше остальных частей их, потому что в этом месте стекло было толще876.
Таким же точно образом, украшенные стеклянные сосуды были в употреблении у евреев, но дольше – у древних римлян. У последних существовало обыкновение представлять на донышках чаш образы предков или замечательных людей, с целью поучать новые поколения и возбуждать потомков идти по следам своих славных праотцов. Христиане переняли этот обычай, но у них он получил религиозное значение.
Нельзя, впрочем, сказать, что языческие чаши с золотыми фигурами появились раньше христианских. Этого рода произведения искусства являются почти одновременно у язычников, христиан и евреев, именно, в 3-м столетии877. В частях римских катакомб, вырытых до этого времени, подобных сосудов не находили, и, совсем напротив, в галереях III-го и, в особенности IV-го, века чаши с золотыми фигурами встречаются всего чаще878. Четвертое столетие было временем наибольшого производства их; в меньшем количестве они изготовлялись в III-м веке, а в концеV-го, их уже больше не делают.
Время их можно определить по стилю работы, по одежде, по манере убирать волосы и по орфографии надписей. Как и следовало ожидать, большая часть этих сосудов была разбита; донышки некоторых, однако, дошли до нас в целости879. Их часто находили в римских катакомбах, иногда, в виноградниках, расположенных над ними; реже, в подземных кладбищах других городов и в одном случае – в земле около Кельна, на Рейне; но тут дело идет о блюде, и мы будем говорить о нем далее. Христиане, во время погребения, очень часто вмазывали или вставляли в свежую известку, которой прикрепляли плиты, заделывавшие отверстие горизонтальных гробниц, донышки этих сосудов и их нередко находят еще при таких условиях. Иногда, только оттиск в известке указывает, что тут прежде была чаша, разбитая или унесенная. Гораздо реже находили их в самой гробнице возле тела умершего.
Сюжеты, изображенные на этих украшенных сосудах, не отличаются от представленных во фресках катакомб и в барельефах саркофагов880. Но по фигурам и надписям их следует заключить, что они не имели одного и того же назначения и изготовлялись, иногда, со специальной целью, или в память какого-либо события. Так, напр., часто представлены на них супруги; из чего видно, что чаши эти служили на свадебных пиршествах. Монограмма Христа, появляющаяся между головами новобрачных, свидетельствует о совершении союза, под покровительством Спасителя и, вместе, указывает христианское происхождение памятника. Иногда, знак Христа заменяет венец, напоминающий, помещаемые на головы супругов881 – обыкновение, сохранившееся до наших дней в восточной церкви. Сюжеты этого рода могут дать нам некоторое понятие о нравах общества того времени. На одной чаше, супруги представлены во весь рост; они, согласно древнему обычаю, существовавшему у евреев, у язычников и перенятому христианами, подают друг другу руки или, лучше сказать, супруг берет свою жену за руку, выше ее кисти, подобно тому, как это делает Геркулес, являющийся возле Минервы на языческом стеклянном сосуде, изданном Buonarruoti882. Иногда, следующая надпись сопровождает изображение супругов, соединяющих руки над алтарем: vivatis in deo – живите в Боге. Они представлены, также довольно часто, по грудь, в медальоне. Подобные брачные сцены встречаются и на памятниках римского языческого искусства.
Некоторые из стеклянных сосудов, как это можно заключить по их надписям, сделаны, с целью служить на банкетах. В древнем мире существовал обычай подносить на пиршествах кубок, наполненный вином, к устам, и потом передавать его соседу. Обыкновение это мы находим у греков и римлян; о нем говорит уже Гомер (Ilias IV) и позже – Виргилий (Aneid. IV, 736 seqq). «Propinare», происходящее от греческого слова προπίνω – пить прежде кого-либо, или за его здоровье – был акт проявления привязанности, имевший священный характер. Им выражали желание счастья и здоровья. «Propinare salutem» – пить за здоровье. Пили, также, в честь богов, которых хотели расположить в свою пользу, и чашу, осушаемую с этим намерением, называли: «crater boni Dei». Христиане, перенявшие этот обычай, пили в честь Христа, мучеников или за упокой умерших. Обыкновение это, о котором говорит св. Григорий Назианзский, долго продолжалось среди христиан запада и востока, но уже в III-м столетии повело к невоздержности, и писатели церкви, как, например, св. Киприан, св. Амвросий, бл. Августин, осуждают его.
Что некоторые из этих чаш были употребляемы также при богослужении, при совершении таинств, – это видно по надписям, вроде следующих: «PIE ZESES» (вместо ZHCAIC) ПЕЙ, ЖИВИ! или «ПIE ZHCAIC ΕΝ АГАΘОИС». – ПЕЙ, ЖИВИ В ДОБРЕ. Словом АГАΘОИС, христиане обозначали с самых ранних времен евхаристию, – добро, по-преимуществу. Но подобные сосуды очень редки; всего чаще, они служили на брачных пиршествах, при поминовениях в день смерти мучеников или верующих на их могилах и на братских трапезах – агапах. G. В. de Rossi нашел в катакомбе Каллиста883, и в таком месте, где сгруппированы гробницы, приблизительно, времен Александра Севера, донышко стеклянной чаши без фигур, но со следующими словами, написанными очень красивыми буквами: «potita propina» т. е. Потита (собственное имя) – пей. Были также чаши, изготовляемые в память крещения и рождения христианина, в честь апостолов Петра и Павла или других святых, которые, в таком случае, представлены по грудь или во весь рост.
Рисунок884 изображает донышко сосуда с фигурой мученицы Агнии. Она представлена в положении молящейся, паллиум ее собран на груди и застегнут большой круглой брошкой, украшенной драгоценными камнями. Кругом шеи ее – ожерелье. Направо и налево, изображено на пьедесталах по голубю, каждый с венцом, один из них – мученичества, другой – девственности. Памятник этот принадлежит к концу III-го или к началу IV-го столетия, т. е. к первым временам появления этого рода художественных произведений885.
Воскликновения, подобные тем, которые были начерчены или написаны возле катакомбных эпитафий, встречаются, также, на этих чашах. На одной из них мы читаем, например, следующую фразу: Hilaris vivas cum tuis feliciter semper refrigeri in pace Dei – «Гиларий живи с твоими (подразумевается со святыми) счастливо, постоянно прохлаждаясь в мире Господа». На другой: Irene vivas – «Ирина живи!». Вероятно, сосуд с подобной формулой был употреблен на похоронном пиршестве, для которого его нарочно сделали, и потом вмазан в свежую известку, скреплявшую плиты горизонтальной гробницы, чтобы служить не только украшением, но также указанием места покоя умершего и, вместе, его эпитафией. В самом деле, гробницы, возле которых были открыты подобного рода предметы, обыкновенно, лишены надписи и всякого другого воскликновения.
Небольшие круглые медальоны, в которых также золотой листок с изображением положен между двумя пластинками стекла, вставлялись иногда в блюдо, когда стекло было еще расплавлено. Обломок подобного блюда, усеянный медальонами, был открыт в 1868-м г. в Кельне886, около церкви Северина, при раскопке под фундамент дома. Блюда эти употребляли, вероятно, при богослужении, может быть, для евхаристических хлебов. Религиозные сцены, украшающие их, разделены в медальонах; так, например, Даниил, в положении молящегося, изображен один в кружке или медальоне, направо и налево от него, в отдельных же кружках, представлено по льву. Будучи больше чаш и, потому, хрупче последних, блюда эти не дошли до нас в целости, но в катакомбах Рима очень часто находили, выпавшие из них медальоны, которые христиане, иногда, носили отдельно887, как видно по ушку, приделанному к некоторым из них 888. Очень вероятно, что в Риме была фабрика подобного рода предметов. Найденные в Кельне медальоны до того похожи на римские, что, вероятно, вышли из одной и той же мастерской; может быть, они были привезены в Кельн из Рима и там вставлены в расплавленное стекло.
Части с золотыми фигурами имеют некоторое сходство, но только относительно техники, с мозаиками; последние в христианских церквах и базиликах состоят из стеклянных кубиков, по которым тоже наведена краска или золото под слоем стекла. Надо также заметить, что мозаики и стеклянные чаши являются почти одновременно в христианском искусстве. Но в одном только примере видим на сосуде подобного рода сочинение, приближающееся к торжественным сценам, передаваемым мусивной живописью.
Художественное достоинство изображений этих чаш ничтожно. Они начали появляться, когда в христианском искусстве уже обозначился значительный упадок, и сопровождали его падение. Притом, было очень трудно резать рисунок на золотых пластинках. Фигуры представлены, обыкновенно, в профиль, почти всегда неудовлетворительно, грубо, неправильно, иногда только означены, и в V ст. они принимают даже карикатурный вид. Тени редко указаны штриховкой, и это усовершенствование, впрочем, очень незначительное, принадлежит греческому художнику, как видно по надписи на греческом языке, сопровождающей, обыкновенно, изображения, отличающиеся подобной особенностью. Еще реже на этих золотых листках заметны следы красок; так, например, на туниках появляются пурпуровые полосы; море, в сцене поглощения Ионы чудовищем, имеет зеленый цвет. Одежды иногда означены серебром или грунт – голубой краской. Есть, также, примеры, что рисунок вырезан в самом стекле и пустота наполнена золотом или эмалью.
Вообще, можно сказать, что памятники эти не имели влияния на развитие христианских сюжетов и не создали оригинальных типов. Чаши с золотыми фигурами представляют характер второстепенных произведений и исчезновение их не оставило пустоты в христианском искусстве.
Пластика у первых христиан
XVII
Христиане, как мы видели выше, не удалялись от фигуративного искусства, не чувствовали к нему отвращения и употребляли его, как способ передачи идей новой веры; но, для выражения своих стремлений и надежд, они, разумеется, должны были предпочитать живопись пластике. Статуи слишком живо, слишком резко напоминали им ненавистные для них истуканы императоров и богов греко-римского политеизма, перед которыми верующих принуждали совершать языческий обряд возлияния вина и курения фимиама. В самом деле, пластика особенно способствовала в древнем мире распространению поклонения богам Олимпа. Когда писатели церкви нападают на язычников и их идолопоклонничество, то у них перед глазами статуи, как преобладающий способ изображения ложных богов; но, когда те из них, которые вообще были враждебны искусству, порицают появление его у христиан, то они имеют ввиду живопись, а не скульптуру, – из чего следует заключить, что первая была в большем употреблении у верующих, чем вторая.
Отвращение к пластике среди первых христиан не было, однако, так сильно, чтобы совершенно исключить статуи из круга их художественных произведений889. До нас дошли, но в очень незначительном числе, статуи из мрамора, по большей части, изображающие доброго Пастыря и принадлежащие – одни, к периоду гонений, другие – к первым временам торжества церкви. Мы знаем, также, из слов писателей, что у гностиков были статуэтки Христа и апостола Павла.
Самое значительное сохранившееся произведение резца христианского художника первых веков, это – статуя доброго Пастыря из белого мрамора890, открытая в катакомбах, аршин и пять вершков вышины, находящаяся теперь в Риме, в христианском отделении Латеранского музея.
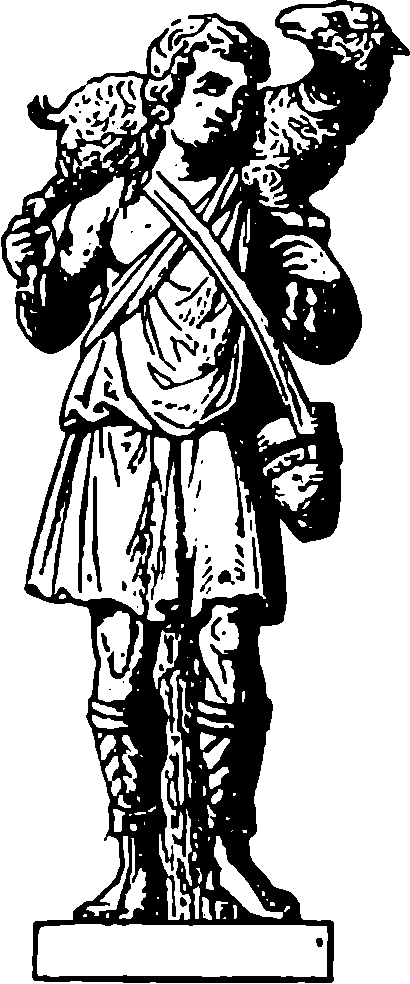
Не обладая всеми достоинствами работ хорошего времени классического искусства, статуя эта не лишена наивности, грации и производит, в общем, приятное впечатление. Фигура Пастыря одушевлена, и в естественной позе его слышна жизнь и видно движение, но в повороте и наклонении головы заметна некоторая принужденность, почти жеманство; лицо его выразительно и передано не без тонкости. Он представлен молодым, красивым юношей. Видно, что художник был столько же озабочен изобразить идеал своей веры в прекрасных формах, сколько и мастера мира греко-римского, представлявшие жителей Олимпа неизменно юными, одаренными красотой, недосягаемой для смертного. Обнаженные части тела статуи доброго Пастыря представлены довольно живо и верно, с изучением природы, а в драпировке одежд и, вообще, в способе работать мрамор, видны приемы хорошей скульптурной школы. Не преувеличивая можно сказать, что эта христианская статуя не многим уступит произведениям римской пластики времен Антонинов; ее, потому, следует отнести к концу II-го или к началу III-го столетия.
До нас дошли несколько других мраморных изображений доброго Пастыря западных, равно как и восточных христиан; они принадлежат, если не к эпохе гонений, то к первым временам торжества церкви. Одно из них, такой-же величины, как и описанное выше, но довольно грубой работы, находится в Латеранском музее. Другая статуя Пастыря, немного ниже последней, была недавно открыта при раскопках, производимых в древней церкви св. Климента в Риме. Она замечательна тем, что Пастырь представлен с бородой и лицо его, несколько, напоминает тип апостола Петра. В музее города Спарты в Греции сохраняется мраморная статуэтка доброго Пастыря, несущего на плечах барана. По стилю, ее следует отнести к началу IV-го столетия891. Левая рука и нижняя часть фигуры отбиты. В Константинополе, в музее, находящемся в древней церкви св. Ирины, сохраняется также небольшое мраморное изображение доброго Пастыря, 12 вершков высоты892. В этом примере, черты совершенно юношеского лица пастуха несколько крупны; волосы его завиты; правой рукою он держит, соединяя их на груди, четыре ноги овечки, которую несет на плечах; левая рука отбита, равно как и ноги ниже колен. Одежда его состоит из короткой подпоясанной туники. Статуэтка эта не очень тщательной работы, но стиль ее не указывает на эпоху полного падения искусства и ее можно приписать IV-му столетию. В Афинах, в музее Раtissia893, находится статуя, вероятно, IV-го века, из белого мрамора, 11 вершков высоты, но сильно поврежденная; можно, однако, воcстановить фигуру доброго Пастыря в подпоясанной тунике с овечкой на плечах. Она исполнена тоньше, чем статуя музея Ирины в Константинополе, но в обоих примерах Пастырь имеет одну и ту же позу, и, вообще, между этими двумя произведениями есть некоторое сходство; по всей вероятности, мы видим тут повторение типа фигуры доброго Пастыря, составившегося в первые века христианства на востоке894.
До нас дошли, также, от первых веков христианства, статуи Богоматери. Одна из них находится в городе Miroflio895, на берегу Мраморного моря; в этом примере Богородица очень напоминает изображения Ее альфреско, находящиеся в римских катакомбах и принадлежащие к первым векам распространения новой веры. Без сомнения, это очень замечательный и редкий образчик пластики восточных христиан, в котором можно узнать традиции хорошего времени классического искусства896.
Исключая эти изображения доброго Пастыря и Богоматери, сохранилась также статуя, как предполагают, св. Ипполита. Ее открыли в 1551 году при производстве земляных работ около базилики св. Лаврентия, вне городских стен; вероятно, первоначально она стояла в подземном кладбище или в базилике, построенной над ним897. Теперь ее можно видеть в Латеранском музее. Св. Ипполит, который, как известно, умер в 235-м году, представлен сидящим на кресле, в простом, преисполненном достоиства положении, в pallium philosophicum, правым локтем он опирается на книгу, которую держит в левой руке. Голова и торс этой статуи новы, она реставрирована и в других местах. На сохранившейся части кресла, с одной стороны, вырезано, составленное Ипполитом, указание дней, в которые должна праздноваться Пасха – Canon Paschalis, а с другой – названия его сочинений. По форме букв этих надписей можно заключить, что они были сделаны не позже VI-го столетия. Но, так как в этом пасхальном указателе открыли погрешности, и он вышел из употребления вскоре после смерти Ипполита, то можно предположить, что не сочли бы нужным вырезать его, после признания неправильным, возле изображения этого мученика. Основываясь на этом, мы имеем право отнести означенную статую к годам, следовавшим за смертью св. Ипполита, т. е. в середине III столетия. К такому же точно заключению приводит нас и стиль ее; она имеет характер римских статуй III-го века и лучше в художественном отношении произведений скульптуры времен Константина, напоминая изображения сидящих сенаторов, поэтов и риторов. Нельзя, однако, положительно утверждать, что статуя эта, работы резца христианского художника, и что она первоначально представляла Ипполита. Это могло быть изображение римлянина, которое верующие превратили потом в лик христианского мученика.
Все, бывшие в Риме, вероятно, заметили в ватиканской базилике бронзовое изображение апостола Петра. Это также одна из редких статуй первых веков христианства. Апостол, как читатель видит в рисунке898, сидит в мраморных креслах, подобно римскому сенатору, преисполненному сознанием своего достоинства; он одет в pallium и торжественно поднимает правую руку, благословляя, а в левой держит ключи899.
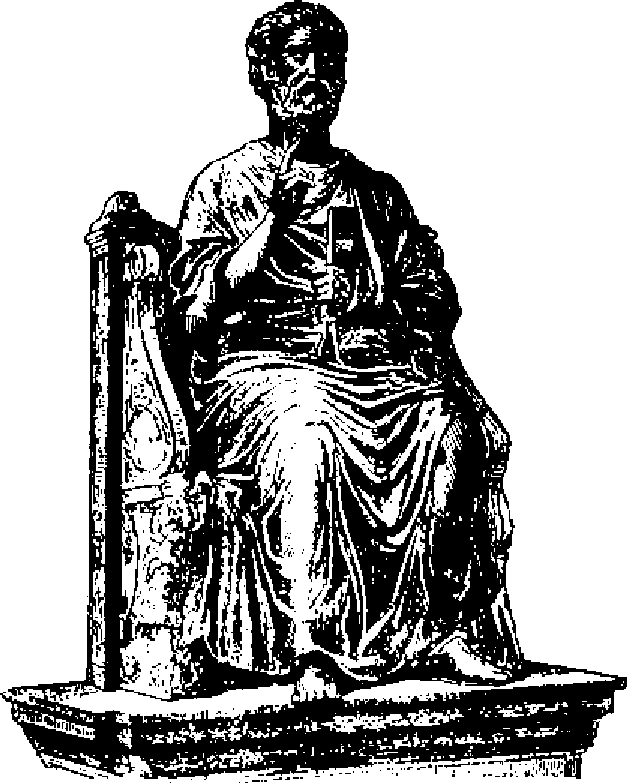
В статуе этой проявляется столь сильное желание подражать произведениям поздней римской пластики, и она до того приближается к последним, что долгое время предполагали здесь присоединение рук и головы апостола Петра к туловищу языческого бога, – мнение, опровергаемое самим памятником. Складки одежды св. Петра хорошо расположены и напоминают классическую драпировку. В техническом отношении, это произведение искусства представляет известную тщательность и оконченность, но в нем не проявляется вдохновения, оно лишено чувства и преисполнено официального характера. Согласно преданию, не имеющему, однако, никакого основания, эта статуя была вылита Львом первым Великим из бронзового изображения Юпитера Капитолийского, после того, как этот папа убедил предводителя гуннов, Аттилу, удалиться от Рима900. Во всяком случае, это очень древняя статуя, и по греческой надписи, находившейся прежде на ее пьедестале, следует заключить, что она – подарок Византийского императора или другого значительного лица. Мнение, приписывающее ее V-му столетию, по всей вероятности, справедливо901. Мраморное кресло, на котором сидит апостол, новее, оно – ХV-го века. Эту статую, может быть, имеет в виду Византийский император, иконоборец Лев Исаврянин, когда в послании своем к папе Григорию II-му, защищавшему иконы, говорит, что отправит в Рим своих людей и велит им разбить поставленное там изображение св. Петра.
Бронзовая статуэтка, открытая, как предполагают, в катакомбах, также, изображающая св. Петра и принадлежащая, вероятно, временам, близким к Константину, находилась в начале этого столетия в Берлинском музее, но пропала без следа, так что вообще неизвестно, существует ли она или нет902. От нее сохранился только рисунок, изданный Santi Bartoli903, и о ней говорят многие писатели. Апостол стоит, благословляя правой рукою, и держит в левой – крестовидную монограмму Христа. Судя по рисунку, это произведение хорошего стиля; драпировка римской одежды апостола не лишена достоинства. Голова его имеет определенный тип, и нельзя сомневаться в том, что тут изображен св. Петр.
О других христианских статуях мы знаем из слов писателей церкви. Они говорят, что уже при Константине подобные произведения искусства выходили из мастерских христианских художников. Когда в IV-м столетии этот император хотел украсить фонтаны в Константинополе религиозными изображениями, он избрал фигуру доброго Пастыря и Даниила с его львами. «Видишь, – говорит историк Евсевий, – подымающиеся над фонтанами, посередине площадей, бронзовые позолоченные статуи доброго Пастыря904 и Даниила со львами; фигуры эти знакомы всем посвященным в таинства божественного учения».
Но, как мы уже сказали, статуи были очень редки в первые века христианства и число их ничтожно, сравнительно, с количеством фресок, дошедших до нас от той же эпохи. Причину этого следует искать не в одном удалении христиан от создания произведений искусства, способных напомнить их языческие истуканы, но, также, и в условиях, при которых работали христианские художники до торжества церкви, очень невыгодных для ваяния. Писать альфреско на стенах катакомб, хотя и представляло неудобства, потому что почти всегда приходилось работать при искусственном свете, но было, все-таки, же менее затруднительно, чем лепить из глины. Трудно предположить, чтобы христианские художники могли высекать статуи и барельефы из мрамора в галереях или комнатах подземных кладбищ; все памятники подобного рода, открытые в катакомбах, были, вероятно, исполнены на поверхности земли и потом перенесены в ипогеи. Но до торжества церкви, даже и в довольно продолжительные периоды терпимости, работать перед глазами язычников статуи и барельефы христианского характера и переносить их в катакомбы, было не столь безопасно, как писать фрески в подземельях. Хотя и до Константина у верующих в Риме были на поверхности земли церкви, но все, что в те времена, когда постоянно следовало ожидать нового гонения, могло привлечь на себя внимание язычников, возбудить их любопытство, должно было считаться делом неблагоразумным и избегаться.
Притом, христианские идеи, в которых больше чувства, меньше философского спокойствия и твердости, чем в греко-римском политеизме, способнее быть переданы живописью, чем пластикой и группами, чем отдельными статуями; для выражения их необходимы были повествовательные, символические, сложные и богатые фигурами сочинения. Это требование могло быть удовлетворено только живописью или барельефами, имевшими несколько планов, и, так сказать, подражавшими живописи. Поэтому, пластика у христиан получила более сильное развитие в тех пределах, где она ближе стоит к живописи, т. е. в барельефах. Эти последние, по полноте выражения и разнообразия сюжетов, не уступают стенописи. Так, например, в барельефе большого саркофага второй половины IV-го столетия, сгруппировано не меньше библейских сцен и развита столь же сложная доктрина, как и во фресках конца II-го или начала III-го века двух смежных погребальных комнат катакомбы Каллиста, передающих рядом символических сюжетов главные догматы христианского учения.
XVIII.
Барельефы христиан, обыкновенно, украшают их саркофаги. Греческое слово: σαρκοφάγος – саркофаг, в буквальном переводе означает плотеяд905. Так первоначально называли род известкового камня, добываемого в Мисии, около города Ассос, который имел свойство уничтожать, находившееся с ним в прикосновении мясо, и даже кости, исключая зубы. Его, потому, употребляли в древнем мире для гробниц несожженных тел. Впоследствии, стали называть саркофагами, вообще, всякого рода гробницы из какого бы то ни было материала, камня, обожженой глины, дерева и т. д. Саркофаги из базальта, мрамора и известкового камня существовали уже во времена отдаленной древности у египтян. Они, обыкновенно, были украшены внутри и снаружи иероглифами и изображениями религиозного характера, иногда, исполненными барельефом. Самые красивые из них, имеющие, притом, значительные размеры, вырублены в красном или черном граните. В Аттике точно также были открыты гробницы, высеченные в скалах и покрытые каменными крышками, равно как и саркофаги, сложенные из кирпича. Многочисленны также, дошедшие до нас, этрурские саркофаги из обожженой глины с барельефами на наружных сторонах, с фигурой умершего, в лежачем положении, на крыше. Эти гробницы имеют различную величину; всего чаще, это небольшие ящики, для сохранения пепла сожженных трупов, но есть также и саркофаги значительных размеров, для погребения целого тела.
В последние века республики и первые империи, римляне жгли умерших, и только со времен Антонинов вошло снова в употребление древнее обыкновение погребать тела, которое никогда не было оставлено совершенно и продолжалось некоторыми фамилиями. Богатые люди в Риме делали саркофаги, всего чаще, из мрамора, и они имели вид больших продолговатых ящиков, украшенных с наружных сторон горельефными работами906, сюжеты которых были, обыкновенно, заимствованы из мифологии и героического цикла.
Часто видишь сцены бахического характера, именно, собирание и давление винограда, или символы поклонения Бахусу, как, например, пантеры – животное, посвященное этому богу, – его встреча с Ариадной. Надо заметить, что идея бессмертия души лежала в основании вакхичеческих мистерий, очень распространенных в Италии, особенно, в южной части ее. Нередко, на языческих саркофагах вырублены охота Мелеагра, Прометей, прикованный к скале, Амур и Психея, Диана, целующая Эндимиона, Плутон, похищающий Прозерпину, подвиги Геркулеса, борьба греков с амазонками, истребление ниобидов стрелами Аполлона и Дианы и т. д. Все эти мифы символически передавали идею о таинственной судьбе человека, о трудах, обременяющих людей на земле, о смерти, о загробном существовании, о радостном пробуждении после кончины. Иногда сюжеты, представленные на барельефах саркофагов, брались из жизни и деятельности погребенного, и тогда, всего чаще, изображалось самое замечательное событие его земного существования, как, например, триумф, сражение, в котором он участвовал или предводительствовал, победа его в ристании на колеснице и т. д.907 Изображались также и сцены более семейные, как, например, минута кончины похороненного, печаль о нем его родных и близких, погребальное пиршество и т. д. Очень вероятно, сюжет избирался иногда потому, что напоминал известное произведение греческого искусства и, в таком случае, копировался с большей или меньшей верностью. Это можно, например, сказать о борьбе амазонок с греками, часто представленной в барельефах саркофагов.
Дошедшие до нас подобные римские языческие гробницы очень многочисленны. Они принадлежат, преимущественно, к концу II-го или началу III-го столетия, и наполняют музеи, дворцы и виллы Италии; их находишь также и в собраниях многих городов Европы. Есть саркофаги первого века империи, барельефы которых, иногда, очень хорошего стиля и благородных форм; нетрудно заметить, что ваятель вдохновлялся прекрасными образцами классического искусства; но они немногочисленны и в пластических работах этого рода, уже к концу II-го столетия заметен значительный упадок. Кроме немногих, эти барельефы, вообще, невысокого художественного достоинства, и оно в них пожертвовано передаче сюжета. Большое количество фигур, требующихся для ясного выражения какой-либо идеи символическими сценами, скульптор саркофага принужден был группировать на незначительном пространстве, отчего, они сжаты между собой, теснятся одна возле другой и формам их не дано ни полного развития, ни свободного движения. Барельефы эти переходят предел пластики и впадают в область живописи. Но, несмотря на все эти недостатки, классическая скульптура – в последней фазе своей деятельности – перед тем, чтоб угаснуть окончательно, проявила в барельефах саркофагов много силы и большую производительность. Украшая погребальные памятники, пластика мира античного была, как бы, озабочена мыслью убрать прилично место своего покоя, и нельзя без грусти взирать на эти великолепные гробницы, последние создания искусства умирающего, но столь пышного, богатого и плодотворного прошедшего.
XIX
Христианские саркофаги, что касается их форм и размеров, были повторением языческих. Многие из них открыты в катакомбах на первоначальном месте; обыкновенно, их ставили около стен семейных усыпальниц; реже – в галереях, но, выбирая, по преимуществу, место широкое. Иногда они занимают три стены подземной комнаты – в четвертой же прорублена дверь – и стоят, каждый под аркой, высеченной в туфе, заменяя наружную стенку, оставляемую при устройстве Аркосолиума. После торжества церкви, саркофаги ставили кругом базилик, построенных над гробницами мучеников. Внутренность их разделялась на два, на три, иногда и более отделений, смотря по числу тел, для которых они назначались. Христианские саркофаги почти без исключения вырублены в мраморе, и, так как они всего чаще ставились к стене галерей и усыпальниц, то редко барельефы украшают их кругом; обыкновенно, они появляются на одной продолговатой стороне и на двух боковых. Саркофаг покрывался крышкой из того же материала, и бордюра ее, также, иногда, украшена барельефными работами.
Немногие из, дошедших до нас, христианских саркофагов можно отнести к векам гонений; положительно, однако, нельзя доказать, что они принадлежат к этому периоду. Все данные, позволяющие приписать некоторые из них к II-му или III-му столетию, основаны на стиле их барельефов, но не на надписях или на других, столько же прочных, доводах; исключения – чрезвычайно редки. Надо, однако, заметить, что данные, опирающиеся на художественную характеристику, иногда очень убедительны, и нельзя не видеть разницы в стиле, в распределении фигур, в манере изображать людей и группировать их между саркофагами, приписываемыми векам преследований, и теми из них, которые принадлежат, как видно по их надписям и другим положительным сведениям, к IV-му и последующим столетиям, когда употребление этого рода гробниц среди христиан значительно увеличилось. Так, например, барельефы некоторых христианских саркофагов гораздо лучше, в художественном отношении, произведений скульптуры царствования Константина; первые, потому, должны предшествовать по времени вторым908. Ошибочно, следовательно, было бы предполагать, что христиане до торжества церкви вовсе не употребляли саркофагов. Есть ипогеи, которые по их положению, по их фрескам, надписям, вообще, по характеристике их, следует отнести ко временам преследований; в них мы, однако, видим ниши и места для постановки подобного рода гробниц. Так, например, в катакомбе Домитиллы, в самой древней части этого кладбища, в центре его, где были открыты расписанные фресками классического стиля семейные усыпальницы христиан богатых, может быть, даже членов императорской фамилии Флавиев, – в этих ипогеях, говорю я, не нашли гробниц, вырубленных в туфе, а только места для постановки саркофагов и обломки последних. Подобные же осколки с барельефами, иногда, очень хорошей работы, были также найдены и в других катакомбах, но надо, однако, заметить, что многие из них могли упасть с поверхности земли, где после торжества церкви саркофаги ставили кругом церквей, построенных над гробницами мучеников. На обломке мраморной гробницы с изображением пастушеских сцен, открытом в катакомбе Претекстата909, в надписи указан 273 год. В том же подземном кладбище были найдены и другие саркофаги с барельефами, по стилю – времен до-константиновских. Опустошения, которым подвергались подземные христианские кладбища, вероятно, лишили их многих мраморных саркофагов, полезных, как материал, и годных для построек и для другого практического назначения. Фрески, напротив, не имевшие в этом отношении никакой цены, сохранились. Из всего этого видно, что и до торжества церкви христиане погребали умерших в мраморных саркофагах, украшенных барельефами, но этого рода гробницы вошли в большее употребление после Константина, так как изготовление их имело некоторые неудобства в эпоху гонений.
Сюжеты, изображенные в барельефах христианских саркофагов, заимствованы, обыкновенно, из ветхого и нового завета; иногда, представлены пастушеские сцены, аллегорические фигуры времен года, жатва винограда, – изображения, имеющие языческий характер, но получившие известное значение в символизме верующих и почти всегда отличенные каким-либо христианским знаком, фигурой или надписью, которые ясно указывают происхождение памятника.
Символизм, вообще, сложнее в барельефах саркофагов, чем в стенописи катакомб, времен зарождения христианского искусства. Частью, это происходит от того, что он, как мы уже видели, усложняется по мере того, как идет время, а значительное число подобного рода гробниц принадлежит к IV-му и последующим столетиям, но, также, и потому, что саркофаги могли работаться только на поверхности земли, перед глазами язычников, и их часто ставили в такие места, где все могли их видеть, как, например, кругом базилик и церквей. Разоблачение христианских догматов непосвященным в новую веру, иногда и враждебно относящимся к религии, только что, перед тем, торжествовавшей, не было благоразумно, тем более, что никто не мог ручаться за прочность этой победы; последнее страшное гонение, разумеется, не было забыто, и с переменой царствования, могла измениться судьба христиан, как это и случилось при императоре Юлиане. Потому, живопись, удаленная в подземелья, была постоянно свободнее скульптуры у христиан, даже и после торжества церкви. Мы находим во фресках катакомб изображения, имеющие прямой исторический характер, а не скрытые под символической оболочкой, как, например, крещение Спасителя, Благовещение и т. д. В барельефах саркофагов, напротив, преобладают парабола и аллегория; мы видим в них фигуры вполне языческие, христианский смысл которых могут разгадать одни посвященные. Только в конце IV-го столетия, когда торжество новой веры над язычеством упрочилось сильнее, скульпторы становятся свободнее и изображают сцены, чисто христианские, прототипы которых уже сформировались в живописи катакомб.
Языческий характер барельефов некоторых христианских саркофагов заставляет предполагать, что они вышли из мастерских римских скульпторов, не знакомых с новым учением. Много гробниц подобного рода, в изображениях которых нет, положительно, никаких отличительных христианских знаков, было открыто в катакомбах, и нельзя сомневаться в том, что они служили для верующих. На них, разумеется, изображены не боги греко-римского политеизма, не риты их поклонения, а сцены, не слишком определенного мифологического характера и, по большей части, имеющие значение в христианском символизме, как, например, плывущие дельфины и гиппокампы, корабли, управляемые гениями, рыбная ловля, жатва и давление винограда, охота, аллегорические картины или фигуры четырех времен года, ристания в колесницах, трофеи из оружия, два крылатых гения, держащих дощечку надписи или один – опрокинутый, а другой – поднятый факел – символы жизни и смерти – Амур и Психея910, головы Медузы, Улисс, привязанный к мачте911, и т. д. Саркофаги с подобными изображениями христиане могли выбирать в мастерских языческих скульпторов, не привлекая на себя внимания непосвященных, и не разоблачая им таинств своей веры. Таким образом, барельефы, вырубленные языческими мастерами с совершенно другой целью, служили христианам, символически напоминая им догматы новой веры. Не все саркофаги, открытые в катакомбах или приписываемые верующим, могут, потому, дать нам понятие о состоянии скульптуры у первых христиан, так как некоторые из них – несомненно произведения резца языческого мастера. Случалось, также, что верующие присоединяли к подобной гробнице символический сюжет вполне христианского значения.
Если же христиане, вследствие каких-либо причин, принуждены были употреблять саркофаги с чисто языческими фигурами, то покрывали их известкой, уничтожали, сбивали их, зарывали в землю или оборачивали к стене ту сторону гробницы, на которой они представлены, как это мы до сих пор еще можем видеть. Так, например, мраморный саркофаг с вакхической сценой, был открыт в катакомбе Каллиста, обращенный барельефом к стене галерей. Разумеется, в первые века распространения христианства еще не успели установиться прочные правила, определяющие отвержение или допущение языческих изображений. Одни оставляли то, что другие считали предосудительным и уничтожали; все зависело от большей или меньшей ревности и терпимости каждого. На одном саркофаге, например, открытом в катакомбах, гений смерти, с опрокинутым потухающим факелом, очень старательно стерт, тогда как на подобной же гробнице из подземного кладбища Претекстата, такая же точно фигура оставлена. Этот саркофаг, приблизительно, III-го столетия, и он стоял в таком месте, что аллегорический образ смерти, вырубленный на нем, был очень хорошо виден. Точно также, барельеф, изображающий обнимающихся возле доброго Пастыря Амура и Психею912, был покрыт известкой, и сама гробница зарыта в землю913, а на другом саркофаге сохранена эта мифологическая сцена, но к ней присоединена фигура пророка Ионы. Впоследствии, т. е. в конце V-го столетия, когда язычество было окончательно побеждено христианством и уже начало забываться, когда риты поклонения богам греко-римского политеизма, церемонии и обряды их культа уже более не исполнялись, христиане стали чаще употреблять саркофаги с изображениями языческих мифов. Так, например, под фундаментом ризницы ватиканской базилики был открыт саркофаг914 очень хорошей работы с горельефом, изображающим вакханок; и по надписям, вырезанным на нем – 516 или 536 г. – видно, что он служил гробницей верующим. Это равнодушие ко всему языческому постоянно возрастало среди христиан с течением времени, и известно, что в средние века саркофаги с сюжетами очень определенного мифологического характера сделались гробницами людей значительных, даже лиц духовенста. В Camposanto города Пизы сохраняется до сих пор мраморный саркофаг с изображением Федры и Ипполита, в котором лежало тело графини Беатрисы, матери графини Матильды, XI-го столетия, покровительницы папы Григория VII-го915. Точно также предметы церковного служения украшались каменьями, резными камнями, монетами, медалями с мифологическими фигурами. После наводнения Италии варварами и обеднения страны, когда мрамор стал дорог и сделались редки художники, умевшие обрабатывать его, христиане были рады находить уже готовые гробницы для своих умерших и не обращали более внимания на языческие мифы, изображенные на них, смысл которых уже мало кто понимал.
XX
Первые христианские скульпторы, вероятно, учились в языческих мастерских. Что были ваятели среди христиан, видно по надписям; одну из них Boldetti открыл в катакомбе Прискиллы; в ней скульптор назван Matius Aprilis; резец и молоток изображены под его эпитафией и пополняют ее. Тот же археолог сообщает несколько других надгробий, возле которых фигуры тех же инструментов ясно указывают место покоя ваятеля. Fabretti издал катакомбную эпитафию916 на греческом языке с изображением скульптора, работающего барельеф на саркофаге. Но, вообще, можно сказать, что нам известно только очень незначительное число христианских ваятелей, погребенных в катакомбах. Наугольник, молоток и пила, изображенные возле некоторых надгробий, могут также означать могилу мраморщика.
Христианские саркофаги очень похожи на, современные им, языческие гробницы этого рода. По их внешнему виду, по размещению на них барельефов, по их орнаментации, вообще, по технике, первые составляют продолжение вторых. Сюжеты у христиан, разумеется, другие, но они вставлены в античную рамку. Что касается их художественного достоинства, то и самые лучшие из христианских барельефов уступают хорошим произведениям римской пластики времен Антонинов и интересны всего более в археологическом отношении. Эпоха появления и распространения новой веры в Риме, вообще, на западе, была также временем упадка классической скульптуры, что, разумеется, должно было отразиться и в пластике христиан. Падение это, однако, менее заметно в произведениях языческих мастеров, чем у верующих; первые продолжают известные традиции, повторяют типы и формы, выработавшиеся прежде в превосходных памятниках классического искусства, находившихся у них перед глазами. В созданиях их виден отблеск богатой артистической деятельности предшествующих веков. Христианские художники, напротив, должны были сочинять новые фигуры, создавать новые типы, новые мотивы или брать их у римской пластики и приспособлять к своим идеям. Работа их была труднее и несостоятельность их делается, потому, заметнее. Художественного вдохновения в большей части христианских барельефов искать не следует; они, как это нетрудно заметить, производились ремесленным, дюжинным образом; в них нет ни той выработанной индивидуальности, ни той оконченности форм, которыми отличаются создания классической скульптуры. Правда действительной жизни, подражание природе, преобладающие в последних, или пропадают совершенно в христианских барельефах, или ослаблены символическим элементом. Дома, деревья, вообще, все, окружающее фигуры человека, изображено неполно, небрежно. Недостаток места не позволял также представлять в их натуральном виде многие предметы; так, например, Ной стоит в ящике, изображающем ковчег, выходя из него до половины туловища. Животные переданы меньших размеров, чем человек, даже и в том случае, когда место позволяло изображать их не в миниатюрном виде; особенно, смешны маленькие львы, сидящие, как пудели по обеим сторонам Даниила, подняв головы и смотря на него. Лошади, запряженные в колесницу Ильи в сцене вознесения этого пророка на небо, представлены, обыкновенно, лучше других животных; но они поставлены в ряд и составляют довольно монотонное подражание античной четверни – quadriga.
В барельефах хорошего времени эллинического искусства, фигуры представлены, всего чаще, в профиль, на одном плане, отделяясь в половину от грунта и развиваясь свободно, самостоятельно, не стесненные соседними, так как сюжет, обыкновенно, не сложен. Напротив, в большей части римских барельефов, особенно, украшающих саркофаги, фигуры изображены в несколько планов. Одни из них всем телом отделяются от грунта, так что имеют вид статуэток; другие прикасаются к нему только одним боком или спиною; третьи, несколько более углублены в фон и т. д.; то же самое находим мы и в христианских барельефах. Это подражание живописи и подчинение пластики законам первой, очень невыгодное, для художественного действия барельефа, произошло не вследствие обдуманного артистического плана, а явилось под влиянием необходимости изображать на незначительном пространстве большое количество фигур, действующих в сценах, рядом которых передавалась известная мысль. Но, так как символические идеи, вообще, сложнее в христианской религии, чем в греко-римском политеизме, и верующие на своих саркофагах очень часто представляли библейскими сюжетами начало, развитие и заключение догматов нового учения, что требовало многочисленных сцен, то в их барельефах мы встречаем еще большее замешательство, чем на языческих гробницах. Сцены, представленные рядом без промежутка, входят, так сказать, одна в другую, и нужен некоторый навык, чтобы понимать и разделять их.
Можно, притом, заметить, что христианские скульпторы, как мы уже видели выше (см. гл. XV), были часто озабочены сохранением симметрии в распределении своих сочинений. Это проявляется в их манере размещать изображаемые ими сюжеты. Последних, обыкновенно, четное число; представленный в середине, занимает пространство других. Тут мы, например, нередко видим пророка Даниила, стоящего в положении молящегося, с поднятыми руками, между двух львов. Сцены, изображенные на оконечностях барельефа, соответствуют между собою, но не своим содержанием, а внешней только формой, именно: заключая в себе какой-либо массивный предмет или одно и то же число фигур, в лежачем или стоячем положении, выступающих на первый план, или удаленных на второй. Часто мы видим на двух концах длинной стороны саркофага по одному из следующих сюжетов: Богоматерь на епископском кресле, принимающая с Младенцем Спасителем на руках поклонение волхвов; появление Христа перед Пилатом, помещенным на возвышенном сидении; Ирод на троне, отдающий приказание истребить Младенцев; пророк Даниил, также сидящий в креслах и решающий участь Сусанны; Моисей, иссекающий воду из большой скалы; Авраам, приносящий в жертву Богу своего сына Исаака на высоком алтаре; Лазарь, выходящий из гробницы, имеющей вид мавзолея, и т. д. При этом, религиозное значение изображаемых сюжетов, их историческая и символическая связь не всегда приняты во внимание христианским скульптором, а уступают место артистическим соображениям; ясно видно желание украсить гробницу, а не догматизировать созерцающим ее. Это заметно также из того, что в некоторых барельефах не постоянно сближены одни и те же библейские сцены.
Ту же самую заботу о симметрии мы замечаем и в языческих саркофагах, На оконечностях их, точно также, мы находим сюжеты, соответствующие между собою по их внешнему виду, или повторение одних и тех же фигур, как, например, Диоскуров, держащих лошадей, нимф, колесниц, Нереид, сидящих на тритонах, львов, пожирающих ланей, гениев с опрокинутыми факелами или несущих корзины с плодами, крылатых побед, кариатид и т. п.
XXI
Один из самых ранних, сколько до сих пор известно, дошедших до нас саркофагов, находится в Camposanto в Пизе. Он, притом, мало попорчен, но происхождение его неизвестно. Пизанцы в средние века во время своих плаваний привозили домой из близких и далеких стран саркофаги, которые попадались им под руки, и в них погребали своих умерших. Таким образом, в их Camposanto соединились мраморные гробницы с барельефами различного происхождения. Этим путем попал в Пизу и саркофаг, о котором идет речь. Это произведение пластики очень хорошего стиля III-го, может быть, даже II-го столетия917. Добрый Пастырь представлен в подпоясанной тунике, формы, называемой экзомис; он несет овцу на плечах; голова последней отломана, попорчен, также, и нос доброго Пастыря. Три овцы изображены у ног его, две из них поднимают к нему головы, смотря на него с любовью, что и решает христианское происхождение этого памятника, так как во многих фресках катакомб и в барельефах саркофагов, несомненно принадлежащих верующим, добрый Пастырь представлен с такими же точно подробностями. Позади овец видны лавровые деревья; над колоннами изображены два тритона, дующие в трубы, подпирая голову рукою, для большого усилия – довольно оригинальный, классический мотив орнаментации. Образ доброго Пастыря преисполнен жизни и движения; точно также, архитектурные части этого саркофага выбраны и распределены с большим вкусом. В общем, барельеф этот производит очень хорошее впечатление. Пустые пространства направо и налево от главной фигуры наполнены длинными волнообразными выемками или бороздками Strigili, так как они напоминают своей формой те загнутые, металлические желобки, которые носили у римлян это название и употреблялись для соскабливания пота, масла, которым натирались, и всего, что приставало к телу при упражнениях палестры. Этот декоративный мотив встречается и на языческих саркофагах, и, когда он употреблен в христианских барельефах, то они почти всегда просты по композиции и правильны.
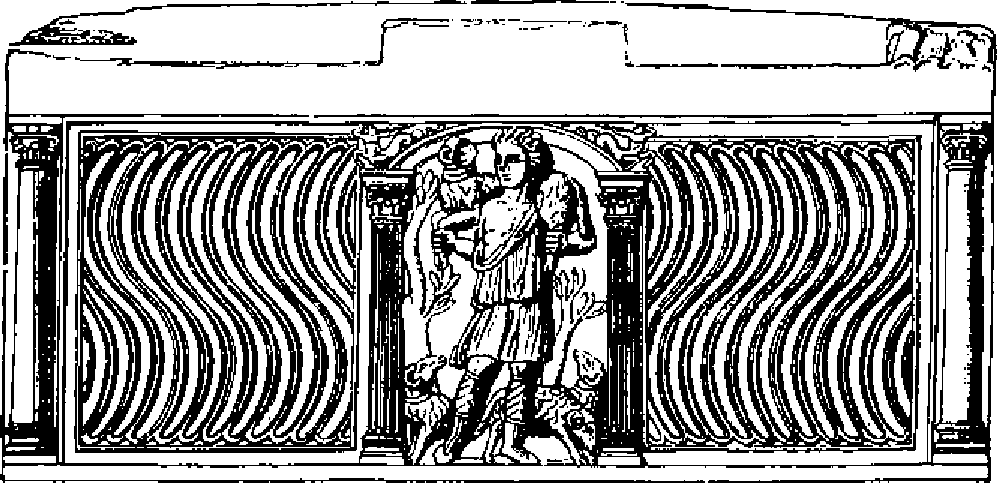
Также, к III-му, если не ко II-му столетию принадлежит другой саркофаг, находящийся теперь в Луврском музее; в его барельефе изображен добрый Пастырь, несущий барана на плечах; ягненок, стоящий у его ног, поднимает к нему голову, как бы, ожидая от него ласки; по обе стороны представлены колоссальные львиные головы. Пустые пространства и тут наполнены волнообразными выемками.
Христианский саркофаг, так же раннего времени, но особенно замечательный многочисленностью и оригинальностью символических сцен, изображенных в его барельефе, был открыт в ватиканской катакомбе; он долгое время служил чашей фонтана в садах Villa Medici на Monte Рincio и находится теперь в христианском отделении Латеранского музея в Риме. Тут главное место посвящено похождениям Ионы.
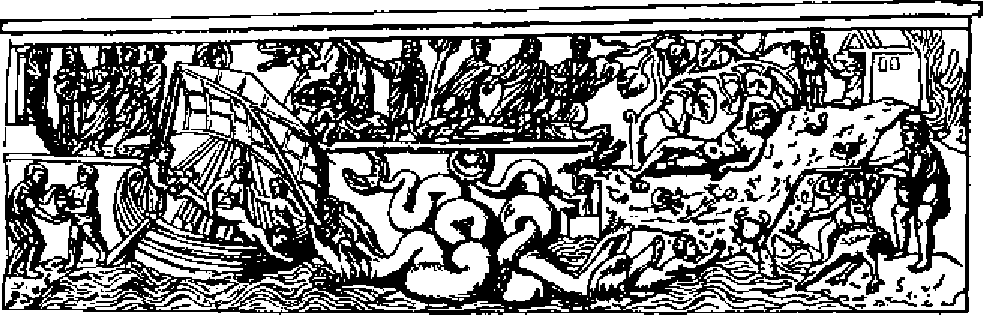
Спутники бросают пророка с корабля в пасть чудовища; над парусами изображены солнце, фигурой юноши по грудь в диске, как это делалось в классическом искусстве и взятый оттуда же, аллегорический образ ветра, имеющий вид крылатого летящего мальчика, дующего в рог, по направлению корабля Ионы. С другой стороны, чудовище выбрасывает пророка на землю. Выше, Иона представлен под тенью растения. Возле него изображены ящерица, улитка и краб. Возле, Ной плывет в ковчеге, принимая оливковую ветку от голубя и выражая телодвижениями свой восторг. В углу, направо от зрителя, представлен рыбак, поймавший на уду рыбу, тогда как другая рыба подымает из воды голову, стремясь схватить ту же уду; перед рыбаком обнаженный юноша радуется удачной ловле. Позади его видно дерево с плодом, и это обстоятельство дает право предположить, что тут хотели изобразить Адама, радующегося тому, что рыбак, т. е. Христос, спасает людей от первородного греха, привлекая их к Себе Своим учением. Возле, птица пьет воду. В противоположном углу представлены два рыбака, из которых один подает другому корзину, наполненную рыбами, результат успешной ловли, что имело символическое значение. В верхнем отделении изображено, налево от зрителя, воскрешение Лазаря. Драпировка одежды Спасителя, Его поза, вообще, вся Его фигура, несколько напоминает замечательную античную статую, как предполагают – Софокла, находящуюся в Латеранском музее; скульптор христианского саркофага, вероятно, скопировал какое- нибудь известное в то время мраморное изображение оратора или поэта. В середине, мы видим две сцены, разделенные деревом; в одной из них – евреи, мучимые жаждой в пустыне, возмущаются против Моисея; одни, уже истомленные, лежат на земле; другие – хватают его за руки; в следующей сцене он иссекает им воду из скалы. В верхнем углу, направо от зрителя, изображена овчарня с двумя овцами; у дверей ее стоит Пастырь, держа жезл и лаская рукою одно из этих животных.
Лицевая сторона этого саркофага, вся покрыта фигурами; символические сюжеты распределены тут оригинально, с большой свободой, и ничего условного, установленного не проявляется в расположении и группировке их, чего мы, обыкновенно, не встречаем в барельефах более позднего времени. Некоторые из фигур этого художественного сочинения не повторяются потом в христианском искусстве, как, например, рыбаки с корзиной, наполненной рыбами, и нагой юноша, которого можно принять за Адама. Точно также, изображение возле, лежащего под растением, Ионы, различных животных, напоминает, хотя и слабо, митраические памятники. Во всяком случае, в барельефе этого саркофага, может быть, принадлежащего одной из христианских сект, мы замечаем оригинальный способ символического выражения идей новой веры, несколько отклоняющийся от усвоенного последователями ее.
Приемы хорошего стиля видны в деталях этой скульптуры, по всей вероятности, III-го столетия; фигуры не лишены жизни, некоторые из них представлены даже довольно натурально. Нагое тело передано не без правды, но скульптор выказал мало умения распределять сюжеты; не трудно заметить, что он был в этом неопытен. Желая сделать из трех сцен похождения Ионы центр всего сочинения, он занял двумя из них почти всю нижнюю половину саркофага, поместив третью выше второй и перерезав в двух местах верхнюю часть барельефа, с нарушением развития изображенных в этом месте сюжетов, что повело к неясности и замешательству всей композиции.
Выше в художественном отношении – мраморный саркофаг, также происходящий из ватиканской катакомбы; он долгое время находился в монастыре S. Andrea della Valle, потом в villa Panfili и теперь помещен в Латеранском музее. В середине его барельефа представлен Спаситель в сидячем положении; ноги Его покоятся на распущенном и, составляющем свод, покрывале, которое держит над голового полуфигура юноши.
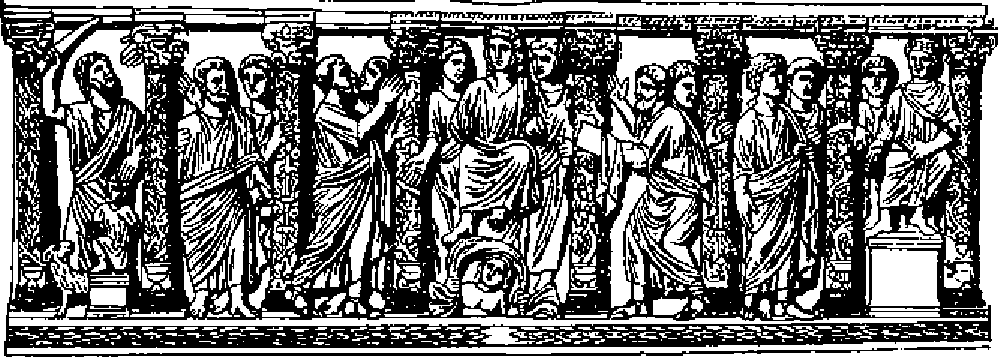
Это изображение, встречающееся и в других примерах в барельефах христианских саркофагов, взято из мира античного и символизировало в нем свод небесный. Длинные волосы Спасителя падают Ему на плечи, Он имеет вид юноши и лицо Его несколько напоминает классический тип Аполлона. По обеим сторонам Христа стоят две юношеские фигуры в римских одеждах. Руки Спасителя отломаны, но по направлению их видно, что левою Он подавал развернутый пергамент– символ Его учения – Петру, принимавшему его, покрывая руки одеждой, знак почтения в античном мире к получаемому предмету, равно как и к подателю его. Таким жe точно образом, римские сановники, отправляясь в, поручаемые их управлению, провинции, получали от императора письменные наставления. Павел, стоящий направо от Христа, поднимает к Нему руки. Возле, представлен один из апостолов со свитком пергамента. В крайнем отделении, налево от зрителя, является жертвоприношение Исаака Авраамом; десница Господня останавливает последнего, уже поднявшего меч над головою сына. На противоположном конце, изображен Пилат в минуту умовения рук; он, имея вид римского императора, представлен с лавровым венком на голове, держа над чашей правую руку, на которую служитель льет воду. Перед ним стоит Спаситель, задрапированный в паллиум, в преисполненной достоинства позе; Его сопровождает солдат стражи. Это один из первых примеров изображения Христа перед Пилатом. Те же самые причины, которые побуждали христиан ранних времен не представлять картину распятия, удаляли их, так же, от изображения оскорблений Спасителю. В барельефе, описываемом нами, Христос является не в униженном виде; он гордо стоит перед римским наместником и выражение Его, скорее, повелительное, чем покорное. Так еще долго будет представляться Христос в этой сцене, и на одном саркофаге, находящемся теперь в Латеранскои музее, венчание терниями передано следующим образом: воин осторожно опускает на голову Спасителя, спокойно стоящего, держа, как законодатель, в левой руке свиток пергамента, венок – не терновый, а из роз. Можно, вообще, сказать, что сцены страстей Спасителя исключены из первоначального христианского искусства. На саркофагах Галлии, принадлежащих ко временам относительно более поздним, от этого правила, – как мы увидим дальше, – начинают отступать. Местами, барельеф этого саркофага реставрирован, и головы Петра, Павла, Авраама новы. Архитектурные части его, как, например, капители и колонны, богато украшены; кругом последних обвивается лоза, выходящая из ваз; на ветках ее, окружающих центральные столбики, появляются крылатые гении, собирающие виноград.
Подобное же разделение колонками сюжетов барельефа встречается и на других христианских саркофагах. Эти столбики поддерживают архитрав, щипец или арку и заменяются иногда пальмами, другими деревьями, виноградной лозой и т. п. Так как в христианских барельефах представлено, обыкновенно, несколько сцен и одна возле другой, то эти разделения помогали различать их; но этим же нарушались отношения второстепенных сюжетов к главному, изображенному в середине, и разделялись иногда, совершенно некстати, фигуры одной и той же сцены; так, например, колонки барельефа саркофага, о котором идет речь, являются вовсе не на своем месте между Спасителем и апостолами Петром и Павлом, между Пилатом и Христом, и, напротив, очень хорошо отделяют жертвоприношение Исаака Авраамом от соседних фигур, не имеющих ничего общего с последним сюжетом. В барельефах языческих гробниц редко встречаешь подобные разделения, также, и не все саркофаги верующих имеют их.
Некоторые оригинальные архитектурные мотивы, находящиеся в христианских барельефах, представляют известный интерес в археологическом отношении. В них видишь зарождение тех начал, которые вошли потом в средневековые постройки. Это можно, например, сказать о капителях столбиков некоторых саркофагов, представляющих грубоватые, но совершенно новые, неизвестные в мире классическом, формы и, впоследствии, являющиеся, но разумеется, более значительных размеров, в романской архитектуре. Точно также, стержни колонок, украшенные спиральными желобками, вырубленные христианскими скульпторами на саркофагах, видишь позже в базиликах св. Лаврентия и св. Агнии, вне городских стен Рима.
Боковые стороны описываемого нами саркофага, также покрыты барельефами; на одной из них (см. рис.) Христос, имеющий вид юноши, предсказывает Петру его тройное отречение, поднимая правую руку и отделяя три пальца. Петух стоит на красивом пидастре. В глубине представлены христианские храмы так, как их строили в эпоху появления этих барельефов. Круглое здание, формы ротонды, с куполом и с константиновской монограммой на вершине его – вероятно, крестильня; такой вид давали этим зданиям христиане в средние века. Рядом изображена базилика, а возле нее – здание, может быть, также религиозного назначения. В барельефе другой боковой стороны видишь на краю фигуру одного из служителей Пилата, которую художник, вследствие недостатка места, изобразил не на лицевой стороне, а за углом саркофага.
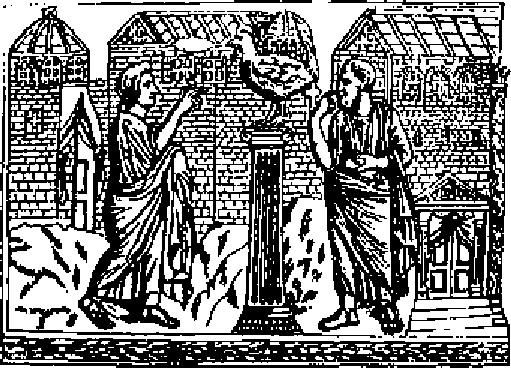
Возле, Моисей иссекает воду из скалы; далее – женщина, страдавшая кровотечением, стоит на коленях у ног Спасителя. Христос имеет тут уже то лицо, которое Ему дано постоянно в следующие века, и это один из первых примеров изображения Его с определенным типом; последний, как видно, еще не успел установиться окончательно, так как на этом саркофаге Спаситель, четыре раза изображенный, не имеет одного и того же лица, но в трех примерах, совершенно юношеское.
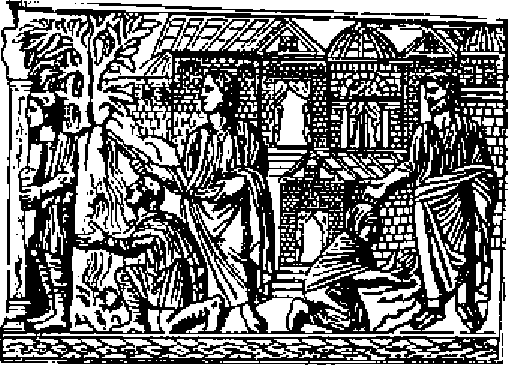
В глубине, также, представлены базилика и крестильня, что и придает особенный интерес этим двум боковым барельефам. Шесть базилик находились в Риме во времена Константина и, может быть, мы видим их на этом саркофаге. Все эти подробности, равно как и стиль барельефа, заставляют отнести его к первой половине IV-го столетия. В Латеранском музее он поставлен так, как прежде стояли саркофаги в древних базиликах под балдахином, поддерживаемым колонками из мрамора pavonаzzetto.
XXII
Кг IV-му же веку принадлежит другой замечательный памятник христианской пластики; это, именно, колоссальный саркофаг из одного куска красного египетского порфира; в нем покоилось тело Констанции, дочери императора Константина, скончавшейся в 354-м году, и он стоял прежде в ее мавзолее, находящемся вне городских стен Рима, около дороги Номентана. Гробница эта была перенесена оттуда папой Пием VI-м в 1780-м г. в Ватиканский музей, где до сих пор ее можно видеть. Барельефы, украшающие все четыре стороны этого саркофага, изображают жатву и давление винограда крылатыми гениями. На двух продолговатых сторонах его повторен один и тот же следующий сюжет (см. рис.): крылатые гении в изгибах ствола растения, довольно тяжелого вида, наполняют корзины виноградом; на ветках лозы сидят птицы и клюют грозды. В орнаментах появляется, также, и мак, символ вечного сна в античном мире. Внизу представлены два павлина и овца, фигуры, имеющие значение в христианском символизме. На двух боковых сторонах повторена, также, одна и та же сцена, именно, давление винограда крылатыми гениями. Четыре головы, являющиеся на крышке этой гробницы, поддерживающие тяжелые гирлянды цветов, следует считать аллегорическими образами времен года, – также христианский символ. Фигуры этого барельефа заимствованы у классического художества, но исполнение их тяжело, неграциозно, даже, несколько манерно.

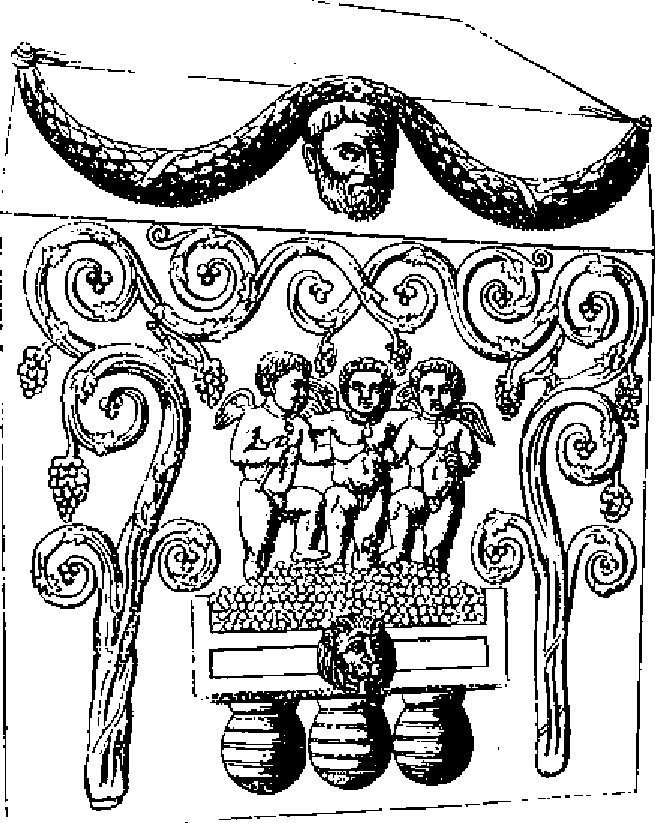
Декоративные элементы массивны; гении, хотя и оживлены, но материальны и не имеют легкости и прелести подобного рода фигур греко-римского искусства. Долгое время предполагали, что эта гробница принадлежала язычникам, и сюжет ее барельефа относили к поклонению Бахусу; но нам уже известно, что сцена собирания винограда получила у верующих новое значение, вследствие евангельских притч. Доказательства христианского происхождения этого памятника мы найдем также в сюжетах мозаик, украшающих мавзолей Констанции, о которых будем говорить ниже.
К тому же времени следует отнести другой саркофаг, также колоссальный, из красного египетского порфира, в котором похоронена была Елена, мать Константина. Он находился первоначально в мавзолее св. Елены около дороги Лабикана перед Porta Maggiore; развалины этого здания называются теперь Torre Pignattara. Отсюда он был перевезен в Латеранскую базилику в середине ХII-го ст. папой Анастасием IV-м и стоял прежде под портиком этой церкви; при перенесении его в трибуну того же храма в 1600-м году, он сильно пострадал. В Ватиканский музей саркофаг этот был помещен в папствование Пия VI-го (1775–1800) и при этом – реставрирован918. В барельефе его являются изображения, по грудь, Константина, матери этого императора св. Елены, и очень выступающие из грунта ряды сражающихся всадников, но таким образом, что под крайними из них вовсе нет земли и они представлены на воздухе, что неприятно поражает. Под лошадьми видны мертвые тела и пленники. Все это, разумеется, должно изображать одну из побед Константина. На крышке саркофага вырублены фигуры победы, гении, львы и гирлянды цветов. В художественном отношении, эти барельефы не выше украшающих саркофаг Констанции. Лошади представлены в них очень неестественно, с огромными несоразмерными копытами. Видно, что художник вовсе не изучал формы этих животных, которые так хорошо, так близко к природе переданы римскими скульпторами первых двух веков империи. Точно так же, натянуто и ненатурально положение всадников, как бы, втиснутых в спину коней. Трудность обработки столь твердого материала, вероятно, также повредила достоинству барельефов этих двух саркофагов. Полировка порфира, обыкновенно, уничтожает все тонкие подробности форм изображаемых фигур. Обе эти гробницы, разумеется, составляют очень значительные памятники христианской скульптуры IV века, но в барельефах их проявляется уже упадок. Они принадлежат к тому времени, когда на трудность обработки и на дороговизну материала стали обращать больше внимания, чем на художественное достоинство произведений искусства.
Не столь заметно падение формы и техники в барельефе саркофага, вышедшего из мастерской христианского скульптора, вероятно, в то время, когда уже существовали порфировые гробницы Констанции и св. Елены. Это, именно, саркофаг Юния Басса, который вместе с гробницей из Латеранского музея, описанной выше, составляют, без сомнения, лучшие произведения пластики первых христиан. Время этого памятника можно определить с большой точностью, благодаря сделанной на нем надписи. В ней сказано, что Юний Бассий, начальник императорской стражи, умер (ушел к Богу) сорока двух лет неофитом, т. е. крестился перед самой кончиной, согласно обыкновению того времени, в 8-й день сентябрских календ, при консулах evsebio etypatio, что соответствует 359 году. Саркофаг этот нашли в 1595 году при работах, производившихся в ватиканских гротах, т. е. в подземелье, под собором св. Петра, и он стоит теперь недалеко от того места, где был открыт. Лицевая сторона его украшена барельефом (см. рис.), разделенным горизонтально на два отделения; в верхнем – сцены представлены под портиком с очень красивым архитравом, напоминающим римскую архитектуру времен Антонинов, поддерживаемым колонками с капителями того же стиля. В нижнем отделении, подобно верхнему, пять частей; колонки и тут поддерживают или раковиновидный полусвод, или щипец.
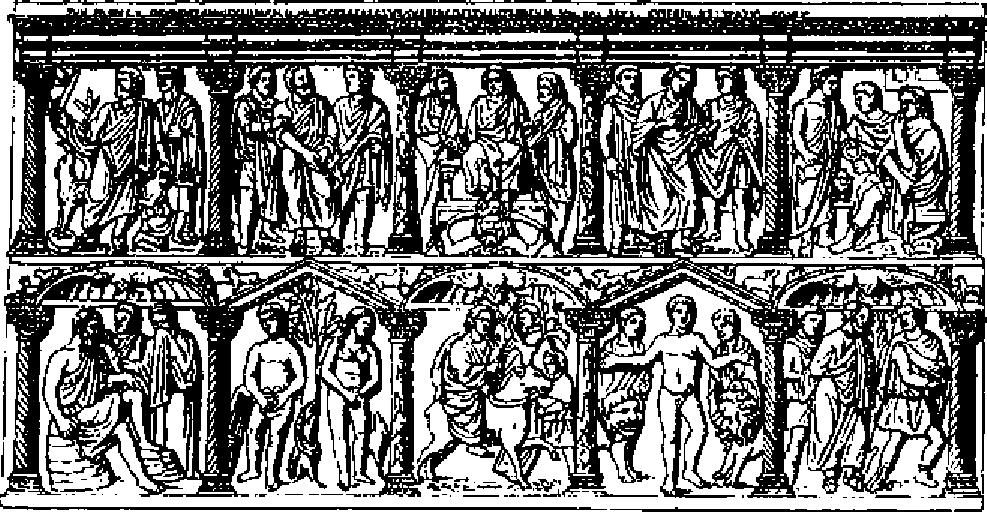
В середине верхней части барельефа, изображен Христос на украшенном сидении, поставленном на пьедестале; под Его ногами и тут является, заимствованная у классического искусства, аллегорическая фигура свода небесного, имеющая вид старца, выходящего, по грудь, из облаков; последние представлены, как и следовало ожидать, очень неудачно. Спаситель имеет вид юноши; на Нем туника и паллиум; правая рука Его отломана, а в левой, Он держит развернутый пергамент. Два ученика стоят по обе Его стороны; один из них держит в руке volumen. Налево от зрителя, крайняя сцена изображает жертвоприношение Исаака Авраамом. Фигуру молодого человека, стоящего позади алтаря и одетого по-римски, объяснить трудно. Это одно из тех лиц – являющихся часто в христианском искусстве, в сценах ветхого и нового завета, но, всего чаще, при совершении чудес Спасителем, – не принимающих никакого участия в действии; – лица, вероятно, представляющие, в сокращении, народ иудейский или толпу христиан, может быть, также, символизирующие общественное мнение, как хоры в греческих трагедиях. Возле, изображен Петр, которого воины ведут в темницу. Следующие две группы после центральной составляют одну сцену, именно: появление Спасителя перед Пилатом. Христос, задрапированный по-античному, держит в левой руке свиток пергамента, символ учения, за которое Он приведен на суд, Его сопровождают два воина. Пилат сидит в раздумьи, увенчанный лаврами, напоминая римского императора и поднося левую руку к голове – жест печали в античном мире. Лицо его, как и во всех других примерах изображения этой сцены, озабочено и выражает досаду, что он должен осудить невинного. Перед ним стоит его служитель, держа в одной руке плоскую чашу, а в другой – вазу, чтобы дать ему умыть руки. Предметы эти напоминают своей формой сосуды, употребляемые римлянами для возлияния вина при жертвоприношениях и часто изображенные на их алтарях и на медалях. Можно ли видеть в этом намек на искупительную жертву Спасителя? В середине нижнего отделения мы видим въезд Спасителя в Иерусалим, сюжет, довольно редко встречающийся в христианском первоначальном искусстве. Под жертвоприношением Авраама, изображен Иов, сидящий на куче пепла; возле, стоит один из друзей его и жена терпеливого патриарха, подающая ему на палке, издали, небольшой круглый хлеб, прижимая в то же время левой рукою полу одежды к носу, чтобы предохранить себя от смрада, выходившего из ран ее испытуемого супруга. Возле, представлены наши прародители, разделенные древом познания добра и зла, около которого обвивается змея. Еве дан ягненок, а Адаму – связка колосьев, символы работ, назначенных каждому из них после грехопадения, т. е. пряжа шерсти и земледелие919. В четвертой группе изображен Даниил между львами. Позади его стоят два юноши, каждый со свитком пергамента в руке. Их присутствие тут объясняется тем, что сказано выше по поводу лица, являющегося в сцене жертвоприношения Исаака Авраамом. Возле, представлен апостол Павел со связанными на спине руками, ведомый на казнь солдатами. Над сводами нижнего отделения барельефа, художник изобразил библейские сцены, в которых люди заменены ягнятами. Читатель помнит, что в символизме первых христиан агнец выражал Спасителя, а ягнята – учеников Его и, вообще, верующих. Мы видим тут агнца, совершающего чудо умножения хлебов, воскресающего Лазаря, получающего крещение; агнца же, ударяющего вместо Моисея жезлом скалу, из которой бежит вода, и принимающего скрижали закона. Колонны среднего отделения верхнего и нижнего яруса украшены виноградной лозой и ее плодами, кототорые собирают гении. На сторонах этого богатого саркофага также видны барельефы.

Один из них (см. рисунок) изображает, совершенно во вкусе классического искусства и с большой грацией, жатву винограда крылатыми гениями; другой (си. рис.),
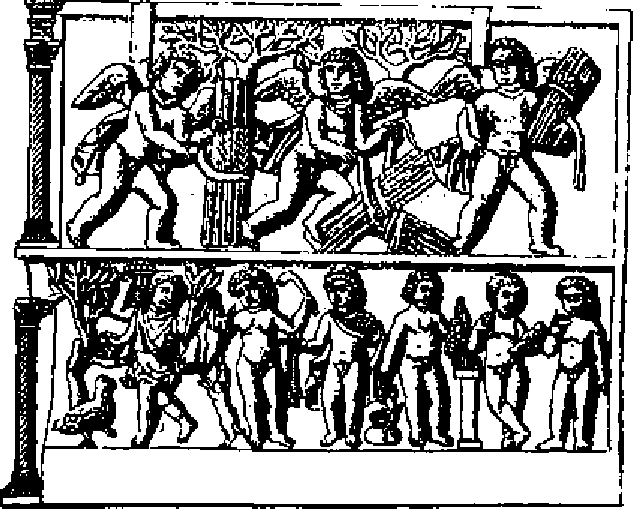
в верхнем отделении, – жатву хлеба крылатыми же гениями, а в нижнем – бескрылых амуров, несущих различные предметы, относящиеся к земледелию, охоте, птицеводству и т. д. Сюжет этого последнего барельефа, может быть, аллегорически передает времена года, имевшие, как мы видели, значение в христианском символизме920.
В общем, барельефы этого саркофага производят очень удовлетворительное впечатление; фигуры, представленные в нем, оживлены и переданы не без тонкости; драпировка одежд брошена удачно, в хорошем стиле; в изображении обнаженного тела видно некоторое изучение природы. Головы фигур и движения последних, передают иногда довольно верно чувства, оживляющие их. Но образ Спасителя на Латеранском саркофаге, более возвышенного, вдохновленного характера и благороднее. Античная простота и ясность в распределении сюжетов еще заметны в этих барельефах, также, и разумный прием классического искусства, состоящий в том, что определенное действие, известная идея, представлены и выражены меньшим, по возможности, числом лиц. Но особенно замечательны в этом саркофаге его архитектурные части; если удалить из верхнего отделения изображенные в нем фигуры, которым немного тесно между колоннами, то получится портик, может быть, несколько переукрашенный, но, в общем, приятного эффекта. Вообще, можно сказать, что в барельефах саркофагов римских христиан, по мере того, как идет время, фигура человека изображается все с меньшим умением, тогда как архитектурные мотивы, перенятые у классического художества, не так быстро теряют красивые формы, именно, потому, что повторение последних не столь трудно, как изображение людей. Менее чистого вкуса архитектурные элементы нижней части гробницы Юния Басса.
К тому же веку принадлежит другой саркофаг, употребленный до 1694 г., как купель, находящийся теперь в Ватиканской базилике и служивший гробницей sixtus Anicius Petronius Probus, который был начальником императорской стражи и несколько раз – консулом. Саркофаг этот назначался, также, и для супруги его Anicia Paltouia Proba, как видно из надписи, сделанной ею после погребения ее мужа, но она была похоронена в другом месте. Барельефы украшают кругом эту гробницу. На лицевой стороне, в середине – Христос является на возвышении, из подножия которого вытекают четыре райские реки. Он задрапирован в паллиум, имеет юношеский вид и держит в правой руке длинный, украшенный фигурами из драгоценных камней, крест, а в левой – развернутый свиток пергамента. Св. Петр стоит направо, св. Павел – налево от Христа. Остальные апостолы изображены на лицевой стороне саркофага и на двух боковых. Каждый из них является вместе с другой фигурой, юношеского вида; только один Иоанн представлен молодым, в сопровождении пожилого человека. Спаситель, Петр и Павел помещены в нише, раковиновидный полусвод которой опирается на две колонны. В такой же точно нише, но несколько меньших равмеров, стоит каждый из учеников Христа со своим спутником; последний – постоянно представлен на втором плане, позади аностола. Все, являющиеся тут фигуры, одеты одинаково, по-римски, исключая трех; они держат в руках листы пергамента, свернутые или распущенные. Многие из них поднимают руки; этот жест в мире античном выражал одобрение и подтверждение слов говорящего. Тут, разумеется, это относится ко Христу, Которого предполагают поучающим Своих последователей. Между арками видны корзины с плодами, которые клюют птицы, – мотив орнаментации классического стиля, может быть, имеющий в этом барельефе символическое значение, изображая души праведных в вечном блаженстве.
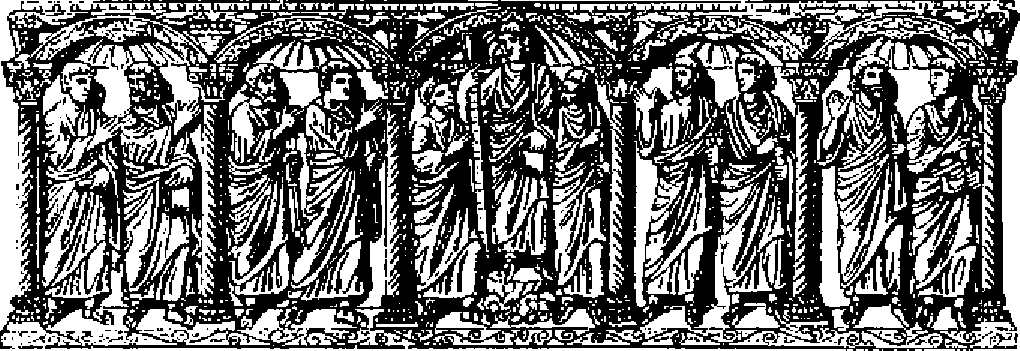
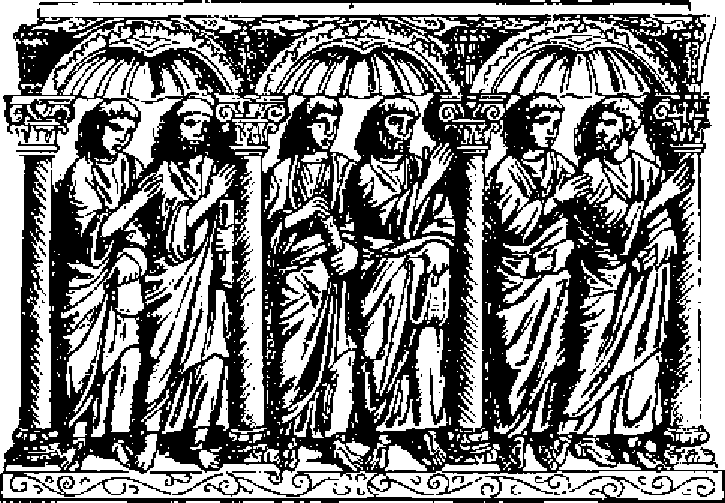
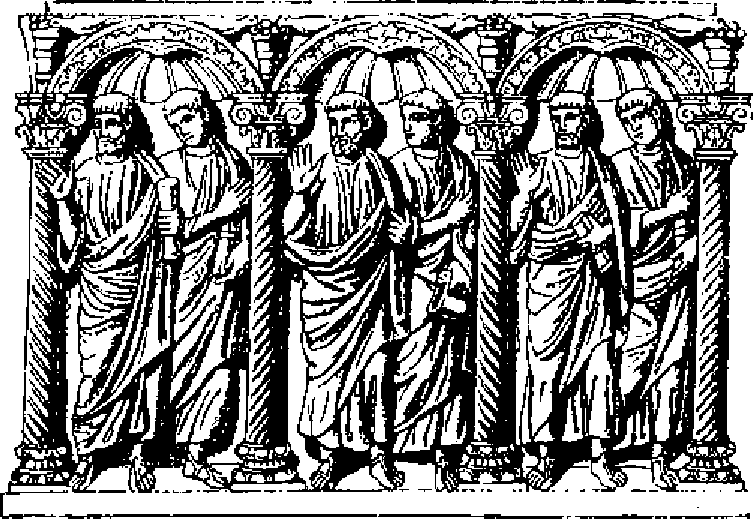
Другая продолговатая сторона этого саркофага украшена меньше остальных и архитектурные элементы ее проще. В середине изображены Проб и Проба; они стоят в нише, кончающейся наверху раковиной. Так как Проба пережила своего мужа, то она представила себя тут в минуту горестной разлуки и последнего прощания со своим супругом. Проб берет за руку свою жену, которая печально смотрит на него, удаляя левой рукою от лица покрывало головы. Тихая грусть разлита по этой сцене, сочиненной с большой искренностью и отличающейся классической простотой.
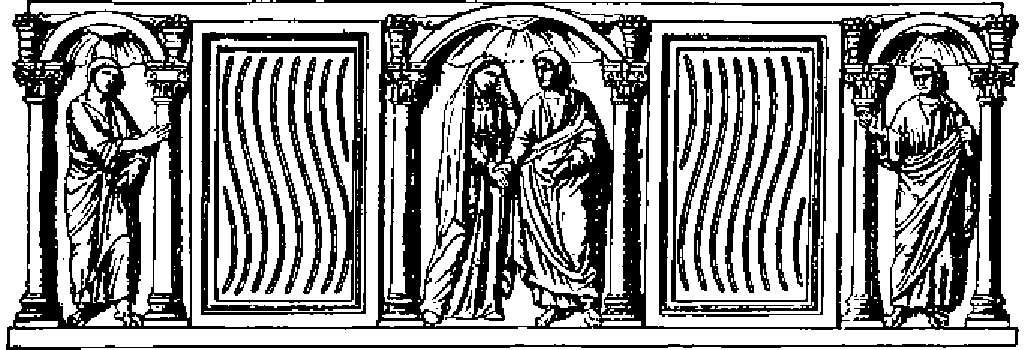
Совершенно подобные же сюжеты являются и на римских языческих гробницах. Проба одета в столу матроны, на шее у нее ожерелье; пояс ее также украшен. Проб – в тунике и задрапирован в паллиум; в левой руке его – свиток пергамента. В боковых нишах изображены две юношеские мужские фигуры, одетые, как апостолы и, подобно им, со свитком пергамента в левой руке; они протягивают правые руки к центральной группе, как бы, принимая участие в горе, постигшем Пробу. Пустые пространства между нишами наполнены тут волнообразными выемками – Strigilis. Так как Проб умер в 395 г., то саркофаг этот следует отнести к концу IV-гo столетия. Он ниже в художественном отношении гробницы Юния Басса. В архитектурных мотивах и в декоративных элементах барельефов саркофага Проба проявляется однообразие, и вкус уже менее чистый. Они, также, беднее сюжетами; сочинение и распределение последних поражают своей монотонностью; фигуры мало оживлены и позы их повторяются. Головы грубее, чем в барельефах гробниц, описанных выше; нельзя, однако, сказать, что они вполне лишены характера; руки и ноги слишком велики, и складки одежд принимают картонный вид. Это уже те образы, представленные в одном и том же положении, однообразные ряды которых в следующем столетии появятся в мозаиках.
Еще резче проявляется упадок христианской пластики в барельефах большого саркофага конца IV-го или, вернее, начала V-гo столетия, находящегося в Латеранском музее. Памятник этот был уже описан во второй части. Фигуры, представленные в нем, имеют сонный вид, руки их висят без энергии, как у утомленных; в теле мало жизни, мускулы его не определены, члены, как бы, связаны, движения неловки, вялы. Обнаженное тело изображено без знания его конструкции, без наблюдения природы. Техническая часть вполне неудовлетворительна.
Упадок этот идет, постоянно возрастая, и по христианским гробницам мы можем проследить, как римляне постепенно теряли смысл пластической формы, по мере того, как забывались традиции классического искусства. Пока последние были живы, пока производство языческих саркофагов не прекращалось, и христианские скульпторы могли учиться у римских мастеров, в барельефах первых встречаются фигуры, не лишенные достоинства и красоты; драпировка их одежд брошена смело, развязно, лица выразительны, типы благородны, даже и нагое тело представлено с некоторым пониманием натуры. Но, когда с течением времени угасали предания классической пластики, и то редкое, что производилось в этой отрасли искусства языческими мастерами, было вполне посредственно, художественное достоинство барельефов христианских саркофагов понижается все более и более. Уже в начале V-го века замечаем в них очень резко выразившееся падение. Сюжеты выбираются и группируются без артистического вкуса. Всякая индивидуальность пропадает; лица погребенных – когда они представлены на саркофаге – очень неопределенны и не имеют ничего портретного. Одни и те же изображения повторяются в барельефах с утомительным однообразием, без малейшей оригинальности.
Раз выработанная форма, не меняется, но грубеет и передается все с меньшим уменьем, все неискуснее. Если и желали иногда в барельефах этой эпохи придать фигурам силу и энергию, то это делалось очень грубо и неловко широкими лицами, короткими, тяжелыми, неуклюжими туловищами и неестественными телодвижениями. Изображая несколько лиц вместе, не знали, как поставить их одно возле другого.
Орнаменты и архитектурные мотивы делаются, так же, однообразны и выказывают необыкновенную бедность выдумки. Они даже совершенно пропадают; колонки, пиластры, портики и т. д. встречаются все реже; сцены изображаются или, скорее, теснятся одна возле другой, не распределяясь широко и свободно, а споря о месте. Самая техника высекать из мрамора теряется. Художник, как бы, боится приступить к нему, находя его слишком твердым; он не рубит мрамор, а сверлит его, обозначая фигуры, которые желает вывести, дырами. Этот технический прием употреблен также и в мраморных капителях колонн того времени.
В VII-м и VIII-м столетиях упадок этот продолжается на западе и доходит до геркулесовых столпов безобразия. Формы человеческого тела передаются на саркофагах этих веков, так сказать, поверхностно, часто детски, неловким образом, и до того неискусно, что напоминают первые попытки ребенка лепить. Фигуры кажутся только оболваненными, иногда трудно понять, что хотел представить художник. Типы постоянно грубеют и, наконец, становятся уродливы; лица изображаются кривыми и им дается тупое, испуганное выражение. Всякое понятие о размерах пропадает; большие головы помещены на маленькие туловища и наоборот921, шеи или слишком толсты, или слишком тонки и под одеждой изображенных фигур нельзя предположить тела. В VIII-м столетии прекращается почти совершенно в Италии, вообще, на западе, производство саркофагов, украшенных барельефами.
ХХIII
Отдельную группу саркофагов, отличающихся известными чертами своего характера от открытых в Риме, в остальной Италии, в Галлии, составляют мраморные гробницы с барельефами, находящиеся в Равенне. Они стоят в различных церквах, иногда, в улицах этого города; идут от V-го до VIII-го столетия и беднее римских фигурами. По всему заметно, что равеннские скульпторы не имели перед глазами столько образцов хороших произведений классической пластики, как художники Рима. Даже саркофаги, назначаемые для людей богатых, знатных или членов царских фамилий, украшены просто. Кресты, монограммы, фигуры ягнят, павлинов, виноградной лозы, голубей, других птиц, пальм, ваз преобладают в их барельефах; реже изображены библейские сцены или образы святых. В приложенном рисунке читатель видит равеннский саркофаг, по всей вероятности, V-го столетия, находящийся в церкви Назария и Кельсия.
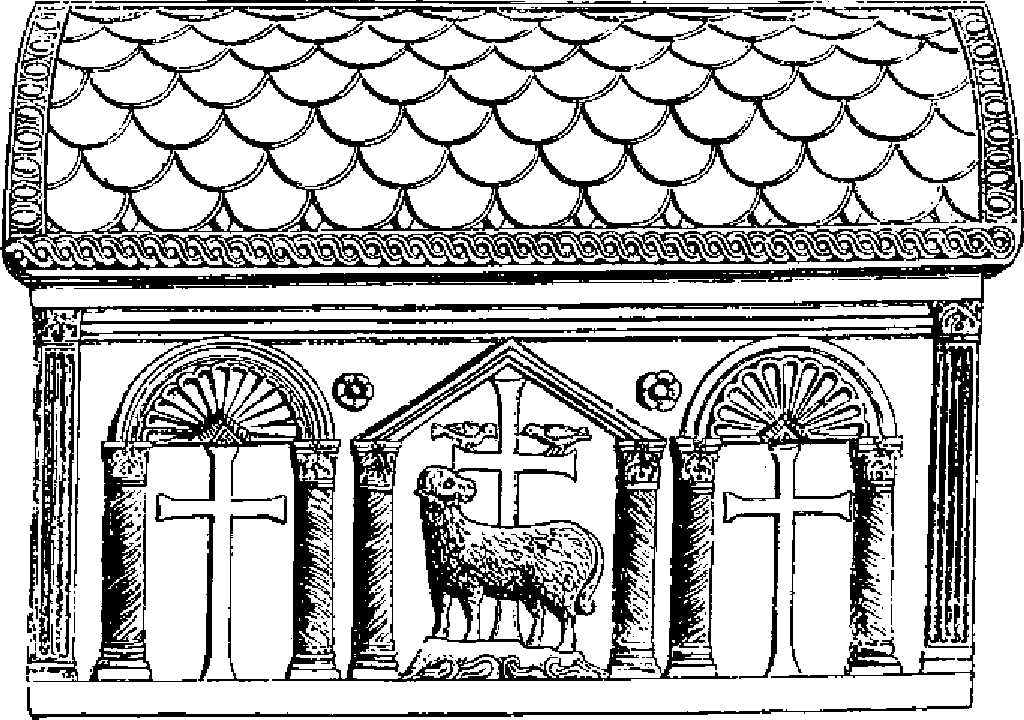
На лицевой стороне его представлен агнец – символическая фигура Христа – на возвышении или холме; из подножия последнего вытекают четыре райские реки. Позади его поднимается крест, на поперечном брусе которого сидят две птицы. Направо и налево от этого изображения являются кресты в нишах с раковиновидными полусводами. Круглая крыша саркофага покрыта чешуеобразным украшением. На левой боковой стороне саркофага представлена ваза красивой формы (см. рисунок) с двумя, пьющими из нее птицами, а на крышке разводы, над которыми возвышается крестовидная монограмма Христа, в диске, с греческими буквами А и Ω.
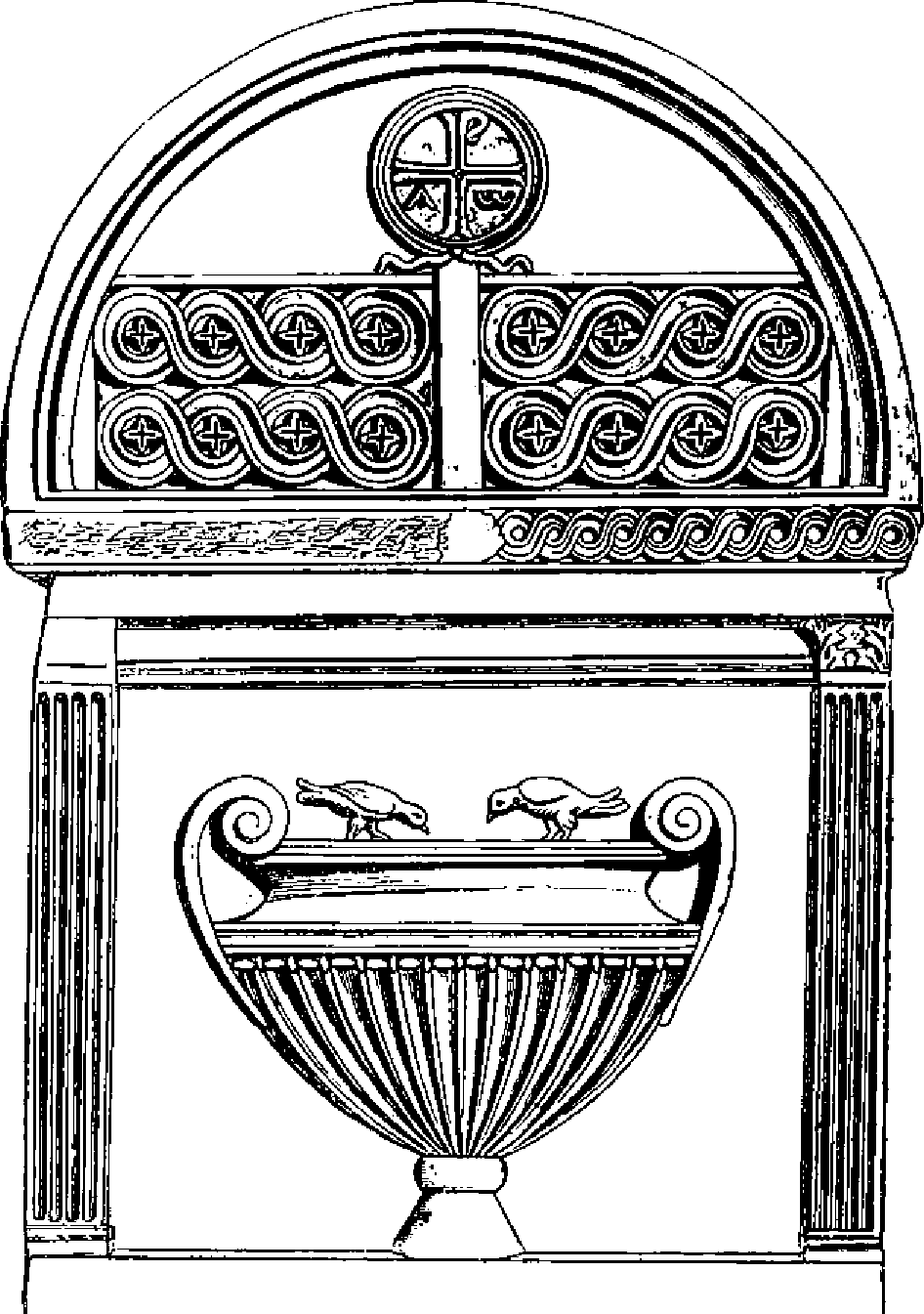
На правой стороне саркофага изображена снова ваза (см. рис.), а в полукруге, обра- зованном крышкой, два ягненка и между ними – пальма с висящими плодами.
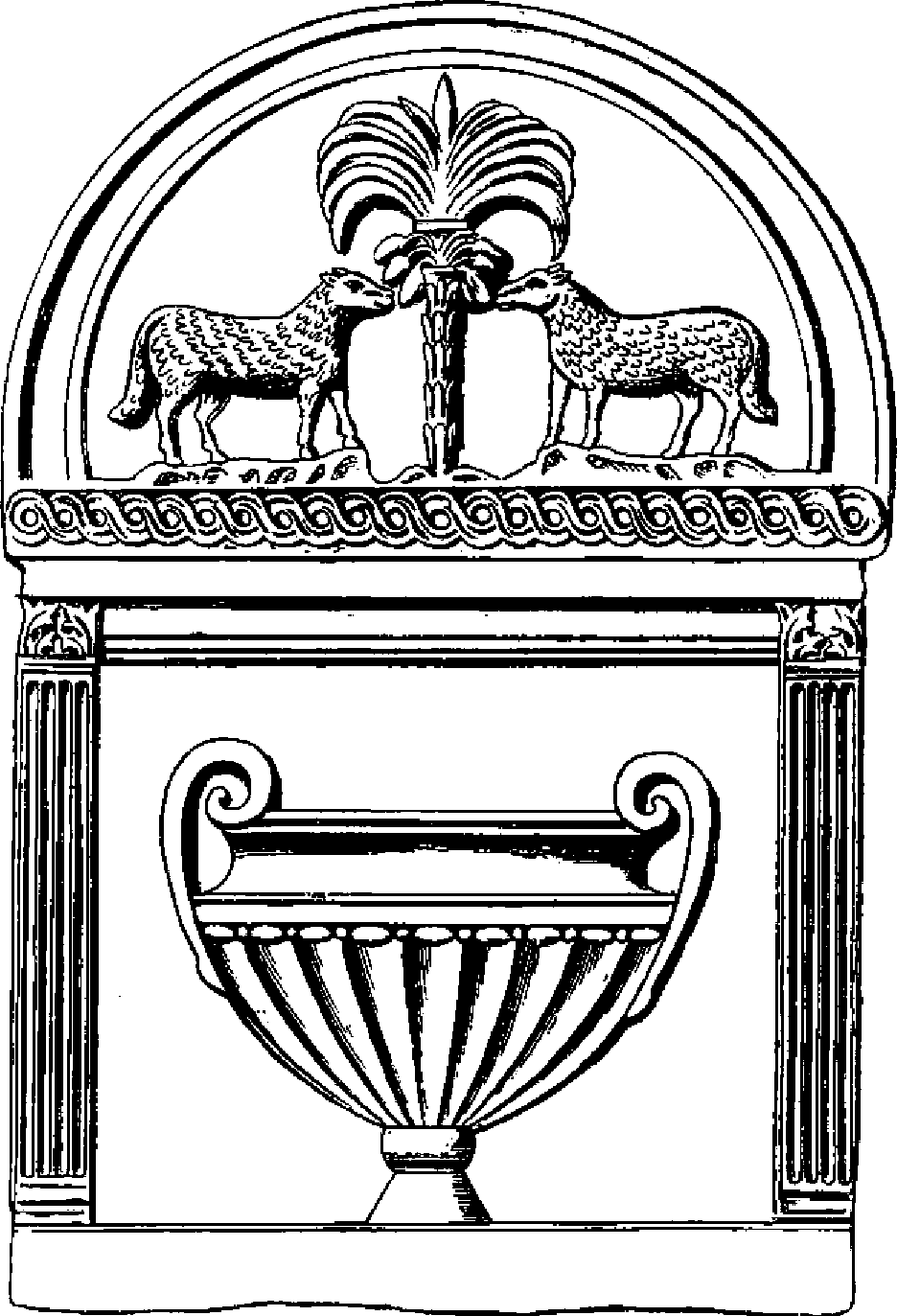
Некоторые архитектурные элементы этого барельфа, как, например, пиластры на углах саркофага, довольно красивы; то же самое можно сказать и о вазах. Но колонки, поддерживающие арки и щипец в барельефе продолговатой стороны гробницы, низший бордюр крышки и разводы на одной из ее боковых сторон, массивны, тяжелы и напоминают декоративный прием византийского стиля. Влияние его заметно и в барельефах других равеннских саркофагов. В описываемой гробнице был похоронен, по мнению одних, император Гонорий, брат Галлы Плакидии, строительницы церкви Назария и Кельсия, согласно другим – Гонория, дочь последней. Но Гонорий, по всей вероятности, умер в Риме и был погребен возле базилики святого Петра, а Гонория, как предполагают, умерла в Константинополе. Во всяком случае, саркофаг этот был гробницей значительного лица.
Упадок искусства проявляется также и в барельефах равеннских саркофагов. В первых из них, по времени, еще видишь отражение традиций классического художества; оно потом пропадает; мастера делаются менее опытны, менее смелы; изображение человека – так как оно, вообще, труднее представления животных или неодушевленных предметов – оставляется, и скульпторы ограничиваются повторением орнаментальных мотивов и снмволических знаков. Если же и встречаются в равеннских барельефах образы людей, то они не выше в художественном отношении, современных им, произведений римской пластики. Так, например, на саркофаге VII-го столетия, экзарха равеннского Исаака, в сцене поклонения волхвов, фигуры изображены грубо и неловко; по всему сочинению видно, что оно исполнено очень неискусною рукою. Только драпировка одежды Богоматери представляет довольно удачный мотив922. Как мы уже сказали, равеннские саркофаги имеют особенный характер, и не похожи на открытые в Риме, вообще, в западной Европе. На востоке, напротив, мы встречаем гробницы той же формы, как и равеннские, с остроконечными крышами, имеющими вид кровли, с такими же декоративными мотивами и символическими фигурами, так что нельзя не признать византийского влияния на пластические работы Равенны923.
XXIV.
Вне Италии, всего более христианских саркофагов сохранилось в южной Франции, где в первые века торжества церкви проявилась значительная пластическая деятельность, как это мы видим по барельефам, иногда, очень сложного сочинения, многочисленных, дошедших до нас, гробниц, находящихся теперь в музеях и в церквах Лиона, Арля, Марселя, Эса в Провансе и других городов южной Франции924 и северной Испании.
Все эти саркофаги принадлежат ко временам торжества церкви, и большая часть из них – к V-му веку. В Марселе и в Арле можно указать несколько подобных гробниц, вероятно, второй половины III-го столетия, но нет достаточно доказательств, чтобы положительно утверждать это. Саркофаги Галлии, особенно, IV-го века, представляют столь сильное сходство с итальянскими, что их можно принять за работу римских мастеров. Но, так как произведения языческого искусства южной Галлии составляют подражание, более или менее удачное, создавшегося в столице империи – в Риме, то повторение того же факта на христианской почве не должно удивлять нас. В V-м столетии, однако, после наводнения Галлии варварами и падения западной Римской империи, когда связи между Римом и этой страною были значительно ослаблены и, наконец, прерваны окончательно, прекратилось также и влияние римских скульпторов на художников Галлии. Мы, в самом деле, находим в барельефах саркофагов, открытых в южной Франции и принадлежащих к V-му и последующим векам, некоторые особенности в стиле и в выборе сюжетов, делающие из этих памятников отдельную группу.
Саркофаги Галлии можно разделить на два отдела. Один принадлежит юго-восточной, другой – юго-западной части этой страны. Типы первого мы находим в музее Арля – город, называемый Римом южной Галлии. Барельефы этих гробниц, не имея красоты и правильности памятников подобного рода, римского происхождения, однако, выше в художественном отношении саркофагов юго-западной Галлии. Образцы последних мы находим в Тулузе; они более грубого исполнения, фигуры и архитектурные мотивы их тяжелы и массивны.
Сюжеты, всего чаще, изображенные на саркофагах Галлии и, напротив, очень редко избираемые римскими скульпторами, это переход израильтян через Чермное море и эпизоды из странствования евреев в пустыне, до пришествия в землю обетованную. Сцены эти символически передавали мысль освобождения души от телесных уз, выхода ее из изгнания, т. е. земной жизни, и более счастливого загробного существования. Также, очень часто представлена Сусанна вместе с преступными старцами, и этой сценой – выражавшей у христиан Рима гонения оклеветанной общины последователей учения Спасителя – помещенной нередко скульпторами в середине барельефа саркофага, составляя главный сюжет художественного сочинения, верующие Галлии хотели, может быть, напомнить преследования, претерпеваемые ими в V-м столетии от бургундов, вандалов, готов, которые, как известно, были ариане. Так как саркофаги Галлии позднее римских, то на них чаще встречаешь изображение страданий и унижения Христа; Он представлен, например, ведомый воинами, стоящий перед Пилатом или Каиафой со связанными руками. В одном примере солдат ударяет Спасителя, в другом – Его целует Иуда и Он схвачен евреями, у которых в руках камни. Вообще, мы видим, что в барельефах Галлии с меньшей осторожностью, чем в Риме, изображали сюжеты подобного рода, может быть, потому, что в этой стране не преобладало в такой степени, как в Италии классическое понятие о несовместности страдания с натурой Бога. Также, не в характере греко-римского искусства, избегавшего представления мучения и всего ужасного, было изображение сцены избиения младенцев, которую мы не встречаем в барельефах римских саркофагов, а, напротив, часто видим на гробницах Галлии.
Приложенный рисунок, изображает саркофаг, находящийся теперь в городе Арле.

В барельефе его представлен переход израильтян через Чермное море. С левой стороны от зрителя видны стены и ворота города, из которого выезжают всадники, чтобы преследовать евреев. Впереди всех скачет фараон на колеснице. Под ногами коней его являются две женские фигуры, сидящие на земле, опираясь левым локтем на корзину. Это, может быть, аллегорические образы изобилия Египта. Лежачий старец, представленный тут же, возле вод, с веслом или рулем в левой руке, без сомнения, изображает реку Нил. Середину барельефа занимает сцена поглощения фараона и его войска водами. Далее, Моисей, под видом юноши, задрапированный в паллиум, как римлянин, трогает воды жезлом; в левой руке его свиток пергамента. Возле, представлены удаляющиеся евреи, неся на плечах пожитки и детей, или ведя последних за руки. Во главе их идет Мариам, сестра Ааронова, с тимпаном. Колонна, из капители которой выходит огонь, должна изображать огненный столп, указывавший путь израильтянам в пустыне.
Сцена эта, хотя и довольно грубой техники, исполнена не без художественного смысла и не лишена оживления. Погибель войска фараона передана неловко, но и тут есть фигуры, хорошо сочиненные, как, например, всадник, оборачивающийся назад, и его лошадь. Контраст между вооруженными, скачущими в погоню, воинами фараона и толпою безоружных израильтян, спокойно удаляющихся с своими детьми, выражен удачно и имеет даже что-то трогательное; в этом отношении, художник достиг своей цели.
Пластика в Галлии подвергается той же участи, как и в Италии; она с каждым столетием теряет в художественном отношении.
В заключение можно сказать, что христианская скульптура, переняв формы пластики мира классического – правда, уже падавшей и терявшей свои главные достоинства, но все еще богатой изящными мотивами, наследство художественного развития предшествовавших веков – не дала этим формам новой жизни, не сохранила их красоты и передавала их из поколения в поколение постоянно в более низшем виде.
Памятники живописи первых христиан на востоке
ХХV
Подобно тому, как верующие Италии, христиане востока первых веков должны были, там, где грунт земли позволял устройство подземных кладбищ, украшать их фресками религиозного содержания. Что, верующие на востоке, в тех странах, где была распространена классическая культура и не преобладало удаление от фигуративного искусства – наследство прежних верований – имели религиозные изображения, мы уже видели выше, из слов писателей церкви (см. гл. II). Но восток христианский не так хорошо исследован, как запад, и то, что находили до сих пор по этой части в восточных странах, сделалось известно совершенно случайно и в последние только годы.
Самые ранние памятники христианской живописи на востоке, дошедшие до нас, находятся в Киренаике; они были открыты г-м Pacho925. Между ними, всего замечательнее фреска на стене ипогея, находящегося в развалинах города Кирены. Она изображает доброго Пастыря926, имеющего вид молодого человека без бороды, в тунике, с венком из зелени на голове; он представлен между двумя деревьями, неся на плечах заблудшую овечку, окруженный овцами своего стада, которые поднимают к нему голову.
Совершенно таким же образом, но за исключением венка, составляющего, впрочем, грациозную подробность идиллического характера, изображался добрый Пастырь христианами запада. Рыбы, написанные кругом фигуры доброго Пастыря, в Киренской фреске имеют, как известно, значение в христианском символизме.
Другой памятник живописи восточных христиан был открыт г-м Wescher в 1864 году около Александрии, в Египте, в катакомбе, находящейся на юго-западе от старого города. Что в Александрии существовали христианские подземные кладбища, мы знаем из церковной литературы. По расположению этой катакомбы, можно заключить, что она составилась около гробницы какого-нибудь очень почитаемого святого или мученика, и была посещаема богомольцами, подобно тому, как это делалось в самом Риме. Образовавшись в первые времена христианства, этот ипогей не был оставлен и после торжества церкви. Часть стенописи его, приблизительно, VI или VII столетия, написана по фрескам более древним, несколько попорченным от времени. Стиль византийский примешивается в этой живописи к западному классическому. Только часть Александрийской катакомбы была разрыта и исследована; самая ранняя, открытая в ней, стенопись принадлежит, вероятно, к концу III-го века. Она изображает брак в Кане Галилейской, представленный следующим образом: несколько человек обоего пола сидят на земле; это участники в пиршестве. Две женщины протягивают руку к блюду; складки их белых одежд расположены очень просто и нарядно. Только голова одной из них уцелела, и она написана довольно тонко. Особенно замечательна тут полуобнаженная, сидящая, женская фигура, обращенная спиною к зрителю, что составляет очень редкий пример изображения голой фигуры в искусстве первых христиан; художник довольно правильно и верно передал движение в сторону торса этой женщины. Христос был представлен благословляющим амфоры; но Его образ почти совершенно пропал. Надписи указывают, что, прежде, тут были написаны фигуры, теперь стертые.
Налево от этой сцены изображено умножение хлебов и рыб. Спаситель сидит на кресле, покрытом подушкой, но деревья, написанные на втором плане, указывают, что сцена происходит под открытым небом. Лицо Христа пропало; видно, однако, что голова Его была окружена крестообразным нимбом. У ног Спасителя стоят корзины с хлебами; направо от Него – Петр, с означением его имени в надписи. Хотя живопись в этом месте сильно попорчена, можно, однако, различить, что апостол не имел бороды, ни его обыкновенного типа. Он подает хлебы Христу. С другой стороны Спасителя, фигура Андрея, сохранилась несколько лучше; одетый в длинную, белую тунику и паллиум, он подносит Христу блюдо с двумя рыбами; голова его так же, не имеющая индивидуального характера, отличается той особенностью, что была окружена четырехугольным нимбом. На втором плане, несколько человек, сидящих на земле, вкушают чудесную пищу. Более поздние реставрации испортили эти фрески. Две вышеописанные сцены сближены тут, как у западных христиан и, подобно тому, как у последних, без сомнения, должны были выражать символически таинство евхаристии. По композиции, однако, они несколько удаляются от тех же сцен, представленных художниками Италии, вообще, запада. У последних постоянно проявляется наклонность сократить сюжет и удалить второстепенные лица, так что изображается, обыкновенно, только Христос и два апостола, иногда, даже один Спаситель. В Александрийских фресках, сюжет развит с большой свободою и с многочисленными подробностями. Вся картина имеет, потому, вид более естественный, более полный; фигуры представлены в разнообразных позах, и в этом пиршестве под деревьями, есть что-то грациозное и привлекательное. В общем сочинении, однако, видна забота сохранять симметрию. Так, например, две группы, сидящих на земле, людей изображены по обе стороны центрального сюжета, что дает всей картине несколько монотонный характер. В следующие века в византийском искусстве эта любовь к симметрии достигнет более полного развития и придаст большую сухость его сочинениям. По фреске этой мы можем составить себе очень выгодное мнение о состоянии христианской стенописи ранних времен в Александрии.
Другие памятники живописи первых веков на востоке были открыты английским путешественником г-м Layard, около Трапезунда в подземных гробницах927 и графом Уваровым928 в Крыму, близ Симферополя, в семейных склепах. В одной из подобных усыпальниц, стены и потолок расписаны альфреско; в середине последнего изображена монограмма Христа, что составляет художественный прием раннего времени, встречающийся и в мозаиках первых веков торжества новой религии. По мнению гр. Уварова, эти ипогеи по простоте их украшений и по характеристике предметов, открытых в них, следует отнести не позже, как к VI-му столетию929. Также, г-н E. Renan930 видел в Финикии христианские подземные гробницы и, между прочим, в песчаных холмах Neby-Younes ипогеи, расписанные изображениями зверей, павлинов, страусов; равно как и небольшие арки с колонками, напоминающие по своей форме рисунки, встречающиеся в очень древних миниатюрах византийских кодексов. Эта живопись, без сомнения, христианской эпохи. На восточных берегах Средиземного моря и в других местах были открыты в последнее время усыпальницы верующих, расписанные фресками в первые века торжества новой веры. Но число памятников живописи восточных христиан этих времен, все-таки, очень незначительно, в сравнении с тем, что было открыто на западе. Восток христианский, эпохи, предшествовавшей сформированию византийского стиля, как мы уже сказали, ожидает исследователя.
Памятники пластики первых христиан на востоке
XXVI
Было ли удаление от скульптуры сильнее среди христиан востока, чем запада в первые века распространения новой веры?
Нет положительных данных, которые позволили бы нам отвечать утвердительно на этот вопрос. Художественная деятельность, была, при появлении христианства, нисколько не слабее на востоке эллиническом, чем в самой Италии, и не без основания можно предположить, что в первые времена распространения новой веры, в тех странах, куда она проникала, и где преобладала классическая культура и ее искусство, христианские религиозные изображения должны были иметь приблизительно тот же характер, как и в Риме. Только впоследствии, под влиянием элементов художества и религиозных идей народов востока не эллинического, христианское искусство, как мы это увидим ниже, меняется всюду, но в Византии вырабатывается более определенный восточный стиль.
Несколько памятников скульптуры первых христиан востока, открытых в Греции, были упомянуты выше. Это, именно, статуи доброго Пастыря из мрамора, находящиеся в Константинополе, в Афинах, в Спарте, и статуя Богоматери в Miroflio. О других статуях религиозного характера, поставленных в Константинополе императором Константином, говорят, как мы уже видели, писатели церкви. Но и на востоке верующие предпочитали статуям барельефы. Самый замечательный, дошедший до нас, памятник скульптуры восточных христиан, это мраморный амвон, находящийся в городе Фессалоники931. Он теперь разбит на две части; одна из них помещена на дворе церкви св. Георгия, другая – также на дворе церкви св. Пантелеймона. Вместе, они составляли полукруг. Горельефы, украшающие внешнюю часть амвона, сильно попорчены и нескольких кусков недостает. Особенно, головы фигур повреждены. Сколько можно теперь судить, это было грандиозное пластическое произведение, изображающее Богоматерь с Младенцем Спасителем на руках и волхвов, представленных в двух действиях – удивляющихся появлению звезды и поклоняющихся Христу. Добрый Пастырь, окруженный овцами своего стада, отделяет первую группу волхвов от второй. Каждая фигура, несмотря на то, что все они принимают участие в известном действии, помещена между двумя колоннами в особенной нише с раковиновидным полусводом – художественный прием, употребляемый скульпторами в барельефах христианских саркофагов. Волхвы одеты, как в мозаиках церкви Аполлинария нового в Равенне и Либериевой базилики в Риме. Первого из поклоняющихся Спасителю волхвов, ведет крылатый ангел – особенность, не встречающаяся, обыкновенно, при изображении этой сцены. Богоматерь сидит в епископском кресле, формы, вырубленных в туфе, катакомб; Она одета в тунику и плащ; голова Ее отбита, но по оставшимся следам видно, что на Ней было покрывало. Младенец Спаситель, покрытый паллиумом, сидит на Ее коленях. В промежутках между арками изображены птицы, похожие на орлов. Выше, несколько выступая, идет полоса декоративных элементов: ваз, акантовых листьев, лозы, кистей винограда и т. д.; все, довольно тяжелого эфекта. К несчастью, эта часть амвона также сильно повреждена, но можно, однако, заметить, что его мотивы орнаментики вычурны, сложны и массивны. Они не отделяются свободно от мрамора, а, как бы, придавлены к нему.
Памятник этот нельзя отнести к векам гонений. Поместить подобный амвон можно только в большой церкви; окружность его была, приблизительно, 5 аршин и 10 вершков, а вышина – 2 аршина 6 вершков. Определить время его появления помогает другое произведение скульптуры светского характера, находящееся в том же городе; это, именно, триумфальная арка Константина, воздвигнутая после победы его над Лицинием. В барельефах, украшающих ее, и, местами, хорошо сохранившихся, изображены различные эпизоды этой войны; и, так как войско Лициния состояло, главным образом, из азиатов, представленных в их национальной одежде, то мы видим тут те же костюмы и типы, как и в фигурах волхвов амвона. В нижней части барельефов триумфальной арки несколько раз повторен аллегорический образ победы, имеющий вид женщины с короной в руке. Эти фигуры очень напоминают ангела амвона. Они представлены, как бы, в торжественном шествии и, хотя составляют части одного и того же сюжета, разделены колоннами и помещены каждая в особенной нише с раковиновидным полусводом. Это – то же самое расположение и те же художественные приемы, какие употреблены скульптором амвона.
Но, если мы сравним оба эти произведения пластики, то увидим, что светский памятник выше в художественном отношении церковного. В первом – больше натуры, больше умения представлять фигуру человека, чем во втором. Также и декоративные мотивы его лучшего вкуса. Из этого видно, что амвон не принадлежит к царствованию Константина, но его нельзя отнести и к следующему столетию, так как большой упадок формы и техники еще не заметен в его барельефах. В исполнении последних, проявляется некоторый художественный смысл. Фигуры не лишены жизни, в драпировке и подробностях костюма видна рука довольно опытного скульптора, и мрамор обработан с известной смелостью. Мы можем, потому, указать вторую половину IV-го столетия, как время создания этого памятника.
Другой замечательный памятник пластики христиан востока был открыт в Салоне и находится теперь в музее города Спалато, в Далмации. Это саркофаг, в лицевой стороне которого, в середине, под фронтоном, поддерживаемым колоннами, изображен добрый Пастырь, с овцою на плечах. По одному подобному животному стоит направо и налево от него, а позади их, возвышаются деревья. Мужчина и женщина, вероятно, супруги, погребенные в этом саркофаге, являются в особенных нишах по сторонам доброго Пастыря. Оба они окружены детьми и взрослыми, но представленными в меньших размерах, чем фигуры предполагаемых супругов. Может быть, это рабы, освобожденные духовным завещанием умершей четы. Муж задрапирован в паллиум и держит в руке сверток пергамента; связка подобных же свитков находится у его ног. Жена держит на руках младенца, поднося его к своей груди. На краях архитектурного орнамента, под которым стоит добрый Пастырь, изображены две птицы, каждая держит в клюве оконечность гирлянды цветов, которая соединяется наверху фронтона, имеющего вид остроконечной кровли или шпица. На правой боковой стороне этого саркофага вырублены в середине, украшенные четырьмя львиными головами, двери, как бы, вход в гробницу, – мотив, перенятый у барельефов языческих саркофагов. Направо от этих дверей стоит женщина, в положении молящейся, и возле нее – ребенок в том же положении. Налево – мужчина, юноша и ребенок; только первый из них с поднятыми руками. Группа эта очень напоминает некоторые катакомбные фрески. На другой боковой стороне изображена, под фронтоном, заимствованная у классического искусства, фигура гения смерти, имеющая вид крылатого юноши, опирающегося на опрокинутый факел. Архитектурная орнаментация этого саркофага очень богата, но вычурна и тяжела. Фигуры массивны, крупны и поставлены довольно неловко; добрый Пастырь, представленный на ходу, скорее, падает, чем идет. Памятник этот, по всей вероятности, конца IV-го или начала V-го столетия.
Можно указать еще несколько других произведений пластики христиан востока. В музее Patissia в Афинах сохраняется, по всей вероятности, VI-го столетия, изображающий Богоматерь, в положении молящейся; на Ней туника, падающая прямыми, правильными складками и плащ, покрывающий грудь и руки. К несчастью, верхняя часть барельефа попорчена. Руки повреждены, хотя и можно узнать их положение. Голова отбита; сохранился только широкий, окружавший Ее, нимб. Направо и налево было, вероятно, по медальону; они заключали, согласно принятому на востоке обычаю, буквы Μ. Θ., т. е. Μητηρ θεού – Матерь Божия. Один из этих медальонов не существует более, на другом – буква стерта. Богоматерь в этом примере напоминает молящихся в стенописи катакомб. Это самый ранний тип Ее изображения.
Точно также, в монастыре Ксиропотама, на Афонской горе, сохраняется небольшой барельеф 9 вершков вышины и 3,5 вершков ширины, изображающий св. Димитрия, как видно по надписи. Он одет в подпоясанную тунику с рукавами, сверх которой наброшен плащ; правой рукою он держит на груди крест. Черты лица его правильны, и он представлен юношей. В этом барельефе видны приемы хорошей скульптурной школы. Согласно более поздней надписи, сделанной на этом памятнике, он был перенесен в монастырь Ксиропотама из церкви св. Софии в Константинополе.
В Ликии, по словам Техier932, находится церковь времен Юстиниана, украшенная барельефами из мрамора, изображающими религиозные символы и шестикрылых серафимов, поддерживающих образ Спасителя. Даже и в капителях колонн являются эмблемы и монограммы.
В последние годы открыли в Саиде, в Финикии, свинцовый933 саркофаг934, украшенный барельефами и отмеченный христианскими знаками, именно, константиновскими монограммами Спасителя со словом IXΘVΣ. По краям этого саркофага извивается виноградная лоза с листьями и плодами, очень тонкой работы, оставляя места вазам, красивых и разнообразных форм, из которых пьют птицы, и головам или маскам декоративного характера. Все вместе составляет очень грациозный мотив орнаментации в классическом вкусе, напоминающий, как нельзя более, декоративные элементы, встречающиеся на памятниках римского искусства хорошего времени. Фигура человека, представленная на одном из боков саркофага под аркой, между двумя пилястрами, в паллиуме, брошенном на обнаженное тело, есть, вероятно, портрет, положенного в эту гробницу. Надо, однако, заметить, что монограммы, равно как и слово IXΘVΣ, не находились первоначально на этом саркофаге, как видно из того, что они не вяжутся с его грациозным фризом и не составляют с ним целого. Мы, потому, можем предположить, что гробница эта сперва принадлежала язычникам, потом перешла в руки христиан. Памятник этот, согласно G. В. de Rossi935 и Rеnаn’у936, следует отнести к III-му столетию. Вместе с этим саркофагом, был открыт другой, совершенно подобный ему, но без христианских знаков.
В барельефе, сохраняющемся в Афинах, по стилю которого можно заключить, что он принадлежит ко временам более ранним чем IV-е столетие, изображена следующая пастушеская сцена, имеющая, несколько, христианский характер: молодой пастух в короткой подпоясанной тунике и в плаще, отброшенном назад, держит в левой руке длинную палку. Голова его окружена нимбом. Возле, другой Пастырь, нагибаясь к земле, удерживает обеими руками ягненка; тут же видно дерево, кругом которого обвивается змея. Композиция эта не лишена жизни, и художественное исполнение указывает на хорошую эпоху скульптуры; но нельзя положительно утверждать, что тут мы видим работу христианского художника. Нимб, как мы знаем, встречается и в классическом искусстве, а пастушеские сцены, вроде представленной тут, находишь и на языческих саркофагах; но змея, обвивающаяся кругом дерева и представленная совершенно таким же образом, как при искушении Адама и Евы, говорит в пользу христианского происхождения этого барельефа.
Другие памятники скульптуры христиан востока известны нам из слов писателей; так, например, Павел Силенциарий, описывая церковь св. Софии, говорит937 о капителях колонн, украшенных барельефными изображениями Христа, ангелов, поклоняющихся Ему, пророков, возвестивших пришествие Спасителя, апостолов, Богоматери. Тот же самый писатель упоминает другие пластические работы, находящиеся в этом храме, но декоративного характера, в которые не входило изображение человека.
Все это доказывает нам, что восточные христиане первых веков, не более западных, удалялись от скульптуры и что они, подобно последним, предпочитали барельефы статуям.
Известные эпохи Византии были очень обильны произведениями пластики, также и светского характера; это можно сказать, особенно, о веке Юстиниана. Мы знаем из слов писателей того времени, что статуи из бронзы, из слоновой кости, из мрамора находились в жилищах императоров и в общественных зданиях; так, например, историк Прокопий говорит о преддверии дворца Юстиниана, украшенном многими бронзовыми и мраморными статуями. «Можно подумать, – говорит он, разумеется, преувеличивая свои похвалы – что эти произведения скульптуры были созданиями Фидия, Лизиппа или Праксителя». Этот же писатель называет статую Феодоры, супруги императора Юстиниана, стоявшей на колонне. Но самое значительное произведение пластики этой эпохи, была бронзовая конная статуя Юстиниана, помещенная перед его дворцом. Многие писатели говорят об этом памятнике, и очень подробно описывают его. Он стоял на колонне и император, равно как и его лошадь, имели очень оживленный энергический вид. Турки разбили эту статую в 1550-м году. Погибли и другие произведения скульптуры больших размеров этой эпохи, и мы можем судить о них только по рассказам летописцев. С течением времени, однако, в Византии роль религиозной пластики делается постоянно скромнее и она почти совершенно пропадает в эпоху иконоборства.
Удаление от представления пластикой религиозных сюжетов было, разумеется, сильнее в тех странах, где до христианства преобладали идеи, осуждавшие фигуративное искусство и, особенно, представление человека. Скульптура, так как создания ее более приближаются к натуре, чем произведения живописи, должна была сильнее последней осуждаться иудеями и теми народами, которые были с ними в соприкосновении. Мы находим, в самом деле, и следы удаления от изображений подобного рода в развалинах Сирии, открытых в последнее время и оставленных их жителями, вероятно, в VII-м столетии. Тут, в церквах, в общественных зданиях, в домах не нашли ни статуй, ни барельефов. Стенопись могла быть уничтожена временем, но произведения скульптуры должны были сохраниться; их, однако, не видно и пластика ограничивается орнаментальной частью; мы находим тут украшения довольно изящные, составленные из геометрических фигур, перемешанных с монограммами и крестами, даже изображения животных, как, например, павлинов, пьющих из ваз, но не фигуры человека.
Христианские мозаики
XXVII
В IV-м веке, по мере того, как прекращается художественная деятельность в катакомбах и на стенах их все реже и реже пишутся религиозные изображения, на поверхности земли в христианских церквах и базиликах развивается другой род живописи, выражающий идею торжествующего христианства. Это, именно, мозаика938.
Мозаика, т. е. какое-либо изображение, составленное из частей твердого вещества самоцветного или окрашенного, существовала у народов востока со времен отдаленной древности; мы находим ее у персов, у ассириян, у египтян. В книге Есфирь (Эсф. 1:7) говорится о мозаичных полах. В Греции мозаика – которую, обыкновенно, начинают употреблять в те времена, когда искусство теряет свои творческие силы и устанавливается в выработанных типах – появилась при упадке художества и была любима, особенно, в александрийскую эпоху, когда производительность в области живописи прекратилась и, скорее, копировала уже существующие памятники, чем создавала новые. Первоначально, это были полы, но при увеличении роскоши, в эпоху наследников Александра, стали постепенно употреблять мозаику, для изображения различных предметов и подражать ею живописи.
Римляне переняли мозаику у греков, и она заметно начинает распространяться у них со времен Силлы. В конце республики, в Риме находились греческие мозаикисты, украшавшие дома. При императорах, когда мозаика сделалась особенно любима, она покрывала полы, стены, своды домов и общественных зданий. Памятники мусивной живописи из камня и другого твердого материала, более или менее, хорошо сохранившиеся и, большего или меньшего, художественного достоинства, постоянно открывают в Помпее, в Геркулануме и в других развалинах римских построек, в Италии и по ту сторону Альп, в Галлии, в Британии, на берегах Рейна, на Дунае, в Африке, одним словом, всюду, где основывались римляне, куда проникали они. Преимущественно, это полы, так как мозаичные работы в этом месте могли лучше сохраниться, чем на стенах и на сводах зданий, часто уже упавших и разрушенных.
У римлян, исключая мозаики, состоящей из разноцветных кусочков камня или мрамора – lithostrotum – от греческого λίθο στρωτός – употребляемой, преимущественно, в полах и, иногда, хорошего артистического исполнения, как это мы беспрестанно видим в Помпее, была мозаика более тонкая – opus vermiculatum – подражавшая живописи, и часто не уступавшая работам кисти, составленная из мраморных частичек, других окрашенных веществ и эмали – musivum. Лучшие образчики подобного рода произведений – это известное изображение голубей и вазы, происходящее из виллы Адриана возле Рима, теперь в Капитолийском музее, и открытая в Помпее, в доме, так называемом, Фавна, мозаика, представляющая решительную минуту сражения Дария с Александром при Иссе, в которой на пространстве квадратного дюйма было насчитано до 150 частичек мрамора. Эта замечательная мозаика, без сомнения, копия какой-нибудь известной картины, может дать нам довольно верное понятие об исторической живописи мира классического.
В Помпее, неисчерпаемом источнике сведений о римской жизни и культуре, мы находим постепенное развитие мозаичного искусства, от самого несложного вида его, до изображения фигур, групп и целых картин939. Первобытная форма мозаики, это вставление в окрашенный красный стукк белых камешков, составляющих линии, квадраты, треугольники; шаг вперед – это покрытие целого грунта белыми камешками и начертание на нем черными, различных фигур, или наоборот. Рисунки эти делаются постепенно все сложнее, разнообразнее, богаче; потом начинают употреблять другие краски, кроме черной и белой; вместе с тем, уменьшают величину камешков и работают, наконец, мелкими частичками, так что мозаика получает вид вышивки.
Когда во времена империи у римлян начали покрывать мусивной живописью стены и своды домов940, то материал мозаик несколько изменился, так как работы подобного рода, по которым не ходили, не требовали особенной прочности. С того времени, поэтому, мы начинаем встречать мусивную живопись из окрашенного стекла, которая приобретает, впоследствии, у христиан большое значение. О мозаике из стекла говорят Плиний, Сенека и историк Флавий Вописк. До нас дошли некоторые образчики ее; так, например, в национальном музее Неаполя сохраняются мозаичные работы декоративного характера, составленные из кубиков цветного стекла. В Помпее открыли также ниши фонтанов, украшенные таким же образом.
ХХVIII
Мозаики, но незначительных размеров, существовали у христиан и до торжества церкви; так, например, в катакомбах встречаются монограммы, кресты формы Т и некоторые символические знаки, составленные из кусочков камня или стекла. Были также, открыты надписи, исполненные подобным же образом, но это, как редкое исключение. В катакомбе Гермия Р. Marchi нашел в одном Arcosolium мозаику очень попорченную, в которой, однако, можно различить сцену воскрешения Лазаря и Даниила между львами. В подземном кладбище Прискиллы находится, также очень поврежденная мозаика, в нише Arcosolium; от нее остались только четыре женских головки и образ женщины, стоящей в положении молящейся. Мозаичное изображение петуха – фигура эта, как известно, имела значение в символизме верующих – нашли также в христианском ипогее, прикрепленное к гробнице. Исполненный в античном вкусе, во времена Константина, пол мозаичный был открыт в катакомбе св. Елены «inter duas laurus» в Риме. В середине изображен голубь с оливковой веткой, его окружают четыре равносторонних креста. В Неаполитанской катакомбе S. Gaudioso существует, также, мозаика, но часть ее, совершенно разрушена; остались только изображение лозы с кистями винограда, мозаичная надпись и следы, вставленных в известку, каменных кубиков. В других христианских ипогеях Италии были также открыты мозаики, как, например, в крипте, находящемся в Вероне возле собора этого города. Но вообще, памятники мусивной живописи встречаются очень редко в подземных кладбищах; темнота, царствующая в них, не позволяла исполнения работы мелкой, требовавшей света и много времени.
Очень вероятно, что мозаики украшали также христианские церкви, построенные в Риме до торжества новой веры, но ни одно из подобных зданий не дошло до нас в целости, и самые древние, известные нам памятники мусивной живописи верующих, находящиеся на поверхности земли, принадлежат к веку Константина. После торжества религии Спасителя над язычеством, большие здания, воздвигнутые в Риме, в Константинополе, в главных городах империи и в провинциях Европы и Азии, начали предоставлять деятельности художников пространства, несравненно более обширные, чем те, которыми они могли располагать до того времени в подземных галереях и комнатах, или в небольших церквах, существовавших у христиан, до прекращения гонений. Мозаики, сделавшиеся главным украшением новых христианских храмов, принимают большие размеры и приобретают особенное значение в искусстве верующих.
От многочисленных и богатых церквей, построенных в первые века торжества новой веры на востоке, почти ничего не уцелело, и о мозаиках их мы можем судить только по описаниям. На западе сохранилось больше памятников этого рода или, по крайней мере, они доступнее исследователю, которому доказывают, какое значительное развитие приняла мусивная живопись со времен Константина. Большие сочинения, требовавшие искусных художников, продолжительного времени и огромных издержек, исполняются во многих церквах Италии, но, всего более, однако, в Риме и Равенне. В Риме сохранилось около 30-ти церквей, украшенных мозаиками; они идут от IV-го до XVI-го столетия и большинство их мало пострадало от времени. По ним мы можем проследить состояние христианского искусства и его постепенное падение в этот длинный период. В Равенне деятельность в области мусивной живописи началась позже, чем в Риме, и окончилась гораздо раньше, но получила в V, VII, VIII-м столетиях особенную силу и оставила много памятников, столько же интересных по своему содержанию, сколько и по художественному достоинству.
Христиане, для мозаичных работ употребляли стеклянные кубы, цветные или позолоченные. Все известные нам памятники мусивной живописи, украшающие церкви и базилики, состоят из кубиков стекла разной величины, смотря по высоте, на которой находилась мозаика, и по тонкости ее работы. Для составления золотого грунта, позолачивали одну из поверхностей стеклянного куба. При более тщательных мозаиках, сверх позолоты наводили еще слой стекла. Тогда золото, как на чашах с золотыми фигурами, находилось между двумя пластами стекла и не повреждалось. Особенного рода известка, или мастика, накладывалась на стену и в нее вставляли кубы мозаики; высыхая, это связывающее вещество соединяло их. Художник, следовательно, работал на приготовленном месте. Мозаика, потому, походила, несколько, на живопись альфреско и, хотя была медленнее, труднее и дороже последней, но имела то огромное преимущество, что не страдала от сырости, и не теряла яркости красок. Итальянские мастера эпохи возрождения совершенно справедливо называли мозаику живописью вечности941; она, в самом деле, была прочнее всякого другого рода стенописи и уничтожалась только вместе со зданием, в котором находилась; грязь и пыль могут быть легко с нее смыты, и она появляется постоянно в своей первоначальной свежести. Не портясь от прикосновения воздуха и непогоды, мусивная живопись может украшать, также, внешние части здания и, после многих столетий, следы повреждений в ней едва заметны. Некоторые части мозаик церкви св. Павла в Риме уцелели и могли быть реставрированы после пожара этого храма, в тех местах, где не рушилась стена. Точно также, замечательные мозаики ХI-го ст., находящиеся в полусводе абсиды Софийского собора в Киеве, выдержали все те бедствия, которым подвергалась эта церковь, ее пожар, разграбление татарами, ее запущение, и не утратили своей первоначальной свежести в тех местах, где не коснулись до них руки разрушителей. Многие мозаики сохранились в Помпее почти в совершенной целости, тогда как фрески, обыкновенно, повреждены, и, если выходят из пепла Везувия не попорченными, то скоро, под влиянием воздуха, тускнеют и утрачивают живость красок.
XXIX.
В Риме самый ранний известный нам христианский памятник мусивной живописи находится в церкви св. Констанции, возле дороги Номентана, в одной миле приблизительно от городских стен942. Это строение, имеющее вид ротонды, долгое время принимали за храм Бахуса, превращенный после торжества новой веры в христианскую церковь, и мнение это опровергнуто лишь в последние годы. Теперь положительно известно, что здание это было построено Константином и первоначально, назначено служить крестильней943, соседней базилике святой Агнии, сохранившейся до наших дней и воздвигнутой также этим императором, но просьбе его дочери Констанции, над гробницей означенной мученицы, находившейся в катакомбах. Впоследствии, баптистерий этот, в котором папа Сильвестр окрестил Констанцию, сестру Константина, и дочь его того же имени, был превращен в мавзолей последней. Мусивная живопись украшает в этой церкви свод внутренней круглой галереи, образованной двумя рядами колонн, на которых поставлен купол. Прежде, мозаика покрывала и последний; она, к несчастью, погибла, но по снятым с нее рисункам видно, что в ней были представлены фигуры символического значения, именно: рыбы, лоза, Orante и сцены христианского характера. Одна из них особенно замечательна: она изображала трех юношей, удаляющихся с неодобрительными жестами от человека, по всей вероятности, Христа, сидящего на возвышении, и от женщины, символизирующей христианскую общину, стоящей у подножия сидения Спасителя, держа в левой руке раскрытую книгу и смотря с удивлением и негодованием на уходящих юношей. Сцена эта, имеющая много общего с изображением посвящения молодой христианки, представленным во фреске конца III-го столетии из катакомбы Прискиллы, может быть, передавала эпизод из жизни Спасителя, рассказанный в евангелии святого Иоанна (Ин. 6:60): «Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! Кто может это слушать?». Возле, был изображен Христос, сидя принимавший от Каина, связку колосьев, а от Авеля – ягненка, сюжет, встречающийся и в барельефах саркофагов. Все эти сцены находились между декоративными элементами, стиля римского языческого искусства. На первом плане, и, занимая половину всей картины, была изображена река, – обстоятельство, дающее право предполагать, что мозаику эту исполнили до превращения крестильни, в которой она находилась, в мазволей Констанции, так как мы знаем, что в христианских баптистериях, обыкновенно, представляли сюжеты водного характера. В этом примере реку оживляли плавающие птицы, рыбы и множество крылатых амуров; одни были изображены, катающимися на лодках, на плотах, другие – играющими с лебедями, ловящими рыбу. Тут же являлись тигры, кариатиды, канделябры и т. д. Некоторые из этих мотивов, сколько видно по рисунку, должны были, как нельзя более, напоминать игривую декоративную стенопись богатых домов Помпеи944.
В своде круглой галереи мозаика сохранилась; она разделена на 12 отделений, в которых представлены шесть, повторяющихся два раза, сюжетов. Четыре отделения наполнены линиями и геометрическими фигурами двух различных рисунков; в одном из них преобладает ясно и резво выведенный знак равностороннего креста, повторенный несколько раз, как главный декоративный мотив. Третий сюжет – это растения, плоды, птицы, вазы, грациозно распределенные в классическом вкусе; четвертый – круглые, небольшие медальоны, в которых попеременно представлены: головка ребенка, или цветов. Пятый – сплетающиеся линии, составляющие большие или маленькие медальоны и восьмиугольники, в которых изображены Психеи, парящие женские фигуры, крылатые амуры, различные животные, птицы, ягнята945; один из них с пастушеским посохом и сосудом – mulctra946, привешенным к последнему.
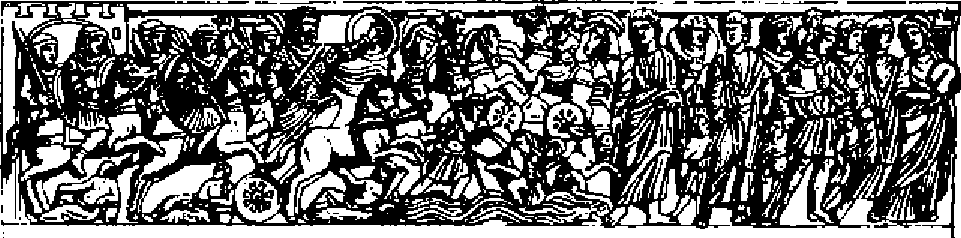
Шестой сюжет – это собирание винограда; тут, как читатель может видеть в приложенном рисунке, заимствованном из сочинения Garrucci, Storia dell’ Arte cr. T. CCVI., из каждого угла выходят лозы, которые, разветвляясь и сплетаясь, образуют в середине медальон; в нем изображен бюст женщины; это, вероятно, аллегорическая фигура жатвы винограда. Все сочинение оживлено гениями, являющимися на ветках виноградной лозы, и птицами, представленными на лету или клюющими виноград, позолоченный лучами солнца. На колесницах, запряженных быками, крестьяне везут его к зданиям, где сок этого плода выжимают ногами, как это до сих пор еще делается в Италии. Вино течет из львиных пастей в амфоры, которых изображен только верх947. Вся картина не лишена грации и напоминает сюжеты подобного же рода классического стиля, встречающиеся в декоративной живописи римлян. Эта сцена и заставляла предполагать, что мавзолей Констанции, был прежде храмом Бахуса; но, как мы уже видели, изображение сбора винограда гениями, повторяется не раз во фресках катакомб, в барельефах саркофагов – в христианском происхождении которых нельзя сомневаться – и имело свое значение в символизме верующих. Точно также, фигура подруги Амура, являющаяся в этих мозаиках, не может служить доказательством их языческого происхождения, так как мы встречаем Психею в первоначальном христианском искусстве, хотя и очень редко.
Колоссальный порфировый саркофаг Констанции, дочери Константина, найденный в этой церкви, о котором мы уже говорили, находится теперь в Ватиканском музее. В барельефах его, имеющих много общего с описанной нами выше мозаикой, точно также представлено собирание винограда и выжимание его сока крылатыми гениями. Вино и тут течет из львиных пастей в сосуды.
То, что уцелело от этой мозаики, имеет мало художественного достоинства и не может быть сравнено с памятниками римской мусивной живописи, как, например, с битвой при Иссе, или даже с ристанием колесниц, находящемся в Лионском музее. Орнаментальные части мозаики св. Констанции, фестоны, рамки, растения, плоды, птицы, ягнята, другие животные и т. д., исполнены под влиянием традиций классического искусства и лучше, нежели человеческие фигуры, лишенные изящности и представленные грубо, аляповато. Краски хорошо выбраны и соединяются очень гармонически с белым серебристым грунтом; но переходы типов резки; также, и в подробностях рисунка, во многих местах видны погрешности: все это указывает уже, несколько павшую, технику. Несмотря, однако, на то, что мозаика эта не может удовлетворить тонкий художественный вкус, несмотря на некоторую сухость и холодность – характеризующие, вообще, все мозаичные работы, не исключая и самых лучших, – этот, первый по времени, дошедший до нас, памятник христианской мусивной живописи производит, в общем, живое, приятное впечатление и не имеет пока той торжественной и величественной безжизненности, которая делается отличительным свойством мозаик последующих веков.
Приблизительно тот же характер имеет мозаика второй половины V-го столетия, сильно попорченная, местами даже совершенно уничтоженная, находящаяся в S. Giovanni in Fonte – крестильне Неополитанского собора. В ней также представлены птицы, корзины и вазы с цветами и плодами, добрый Пастырь, несущий овечку, на цветущем лугу, или стоящий между двумя светлыми источниками, из которых пьют олени948. Орнаментация классического стиля, но символического характера, занимает значительное, в этом сочинении, место, – что мы видели и во фресках подземных христианских кладбищ, – и библейские сцены переданы, как в катакомбной живописи.
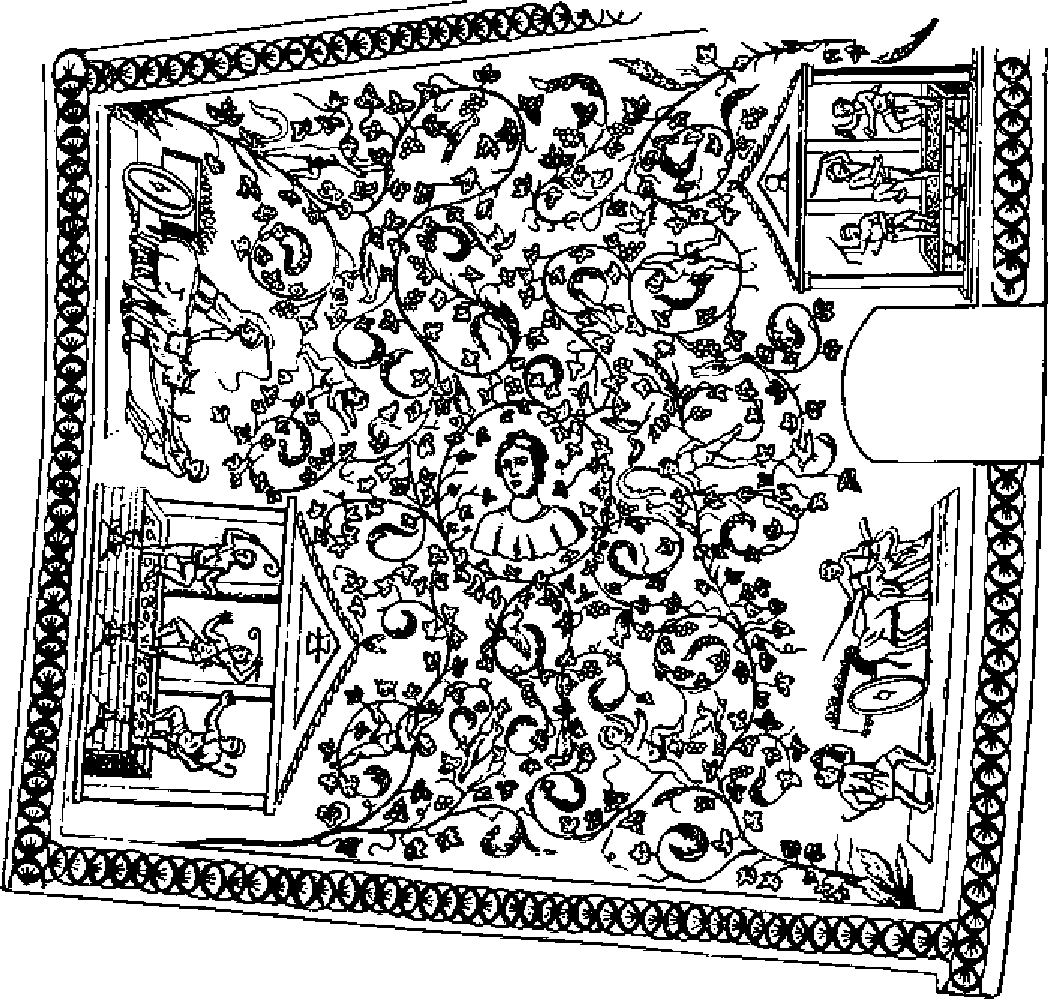
В своде одной из часовен, пристроенных папой Гиларием (461–467) в Латеранской крестильне, возле церкви S. Giovanni Laterano и посвященной евангелисту Иоанну, находится мозаика второй половины V-го столетия, также, в стиле живописи катакомб. (Смотри приложенный рисунок). В ней чрезвычайно грациозно, изящно представлена группа христианских символов. В середине изображен агнец – как известно, Спаситель – с нимбом, разделенным крестом. Кругом его, венец из растений и плодов, заключенный в четырехугольник949; последний помещен в центре равностороннего креста. В углах этой рамки видны небольшие кресты в кругах; от каждого угла четырехугольника, окруженного гирляндой цветов и листьев, идут орнаментальные фигуры в классическом стиле, начинающиеся крестом и кончающиеся кругами, в которых изображены предметы, имеющие вид книг, может быть, евангелия. В промежутках представлены вазы с плодами и птицы; все это окружено декоративными линиями и фигурами, подражающими растениям. Спаситель тут, под видом агнца, царит над светом, символически переданным четырьмя временами года или четырьмя стихиями, и это соединение христианских символов с декоративными мотивами римского классического искусства, совершенно в стиле катакомбных фресок.
То же самое можно сказать о другой мозаике, второй половины V-го столетия, не существующей более, и известной нам только по рисункам. Она находилась в своде часовни, посвященной Иоанну Предтече, также пристроенной к Латеранской крестильне. И тут, в центре всего сочинения, стоял ягненок в круге, образованном из листьев и плодов; последний был заключен в четырехугольник, от которого расходилась грациозная орнаментация, состоящая из геометрических фигур, растений, птиц, сидящих на ветках, цветов и павлинов с распущенными хвостами, стоящих на сферах, чисто во вкусе римского искусства.
Сюжеты подобного рода, очень напоминающие веселую, светлую символику катакомб, составленные из декоративных мотивов, заимствованных художниками у прекрасной, окружающей их, природы, очень немногочисленны в мозаиках и скоро, совершенно пропадают в них. Всего чаще в мусивной живописи представлены слава Спасителя, Его учеников, святых и апокалиптические видения. Едва не самое раннее, дошедшее до нас изображение подобного рода, это мозаика церкви святой Пуденцианы в Риме, конца IV-го столетия, описанная в 3-й части этого сочинения. Величественный образ Христа, может дать некоторое, хотя и отдаленное понятие о грандиозных фигурах, являющихся во многих средневековых мозаиках.
Две женские фигуры, подобные изображенным в пуденцианинской мозаике, мы видим, также, в другом памятнике римской мусивной живописи, приблизительно 424 г., находящемся в церкви святой Сабины в Риме. Обе они держат в руках раскрытые книги – евангелия. Одна из них, как объясняет надпись, изображает церковь, вышедшую из язычества – Ecclesia ex gentibus, другая – общину обращенных евреев – Ecclesia ex circumcisione. Эти аллегорические фигуры сочинены просто и хорошо задрапированы. Позы их величественны и преисполнены достоинства. Мы тут, следовательно, можем видеть, что около 14 лет после взятия Рима Аларихом, фигуративное искусство не подверглось большому упадку, если могли создаваться подобные грандиозные образы.
XXX.
Одна из самых замечательных, по разнообразию сюжетов и по своим размерам, мозаик находится в Либериевой базилике950 (Santa Maria Maggiore). Главная, так называемая, триумфальная арка, возвышающаяся перед абсидой над алтарем, и стены большого корабля над колоннами, украшены тут, первой половины VI-го столетия, мусивной живописью, изображающей сцены из ветхого и нового завета, а на главном месте, т. е. на арке, представлено Благовещение, поклонение волхвов, избиение младенцев, введение во храм, Христос Отрок, поучающий в храме, и волхвы перед Иродом. В сцене Благовещения, дом Богородицы не имеет вида бедного жилища Назаретского столяра, а представлен, как дворец богатого римлянина. Святая Дева одета в роскошное платье; на голове Ее – диадема, украшенная драгоценными каменьями; в ушах дорогие серьги; Она сидит перед дверьми Своего дома на богатом троне и ноги Ее покоятся на скамейке. Ангел парит над Нею.
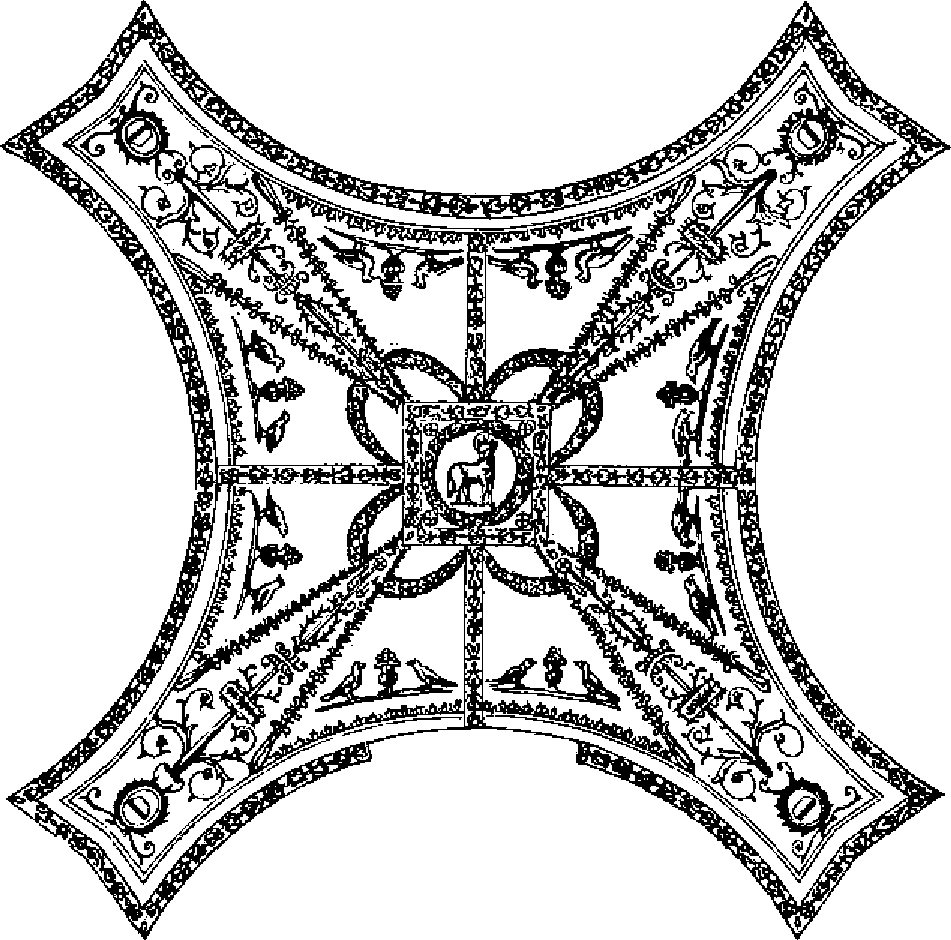
Поклонение волхвов представлено следующим образом: Спаситель, не под видом Младенца, а, скорее, Отрок, сидит на, богато украшенном фигурами драгоценных камней, троне. Голова Его увенчана небольшим крестом и окружена нимбом; над нею блестит звезда. За Ним стоят четыре ангела. Направо от трона – Богоматерь, снова в роскошном одеянии, помещена на отдельном сиденьи; женщина, изображенная налево от Спасителя не на столь богатом седалище и в простых одеждах, вероятно, св. Анна, мать Богородицы. Два волхва подходят с дарами к Спасителю; третий предполагается еще не вышедшим из Вифлеема, стены и здания которого видны на втором плане.
В сцене избиения младенцев, художник очень искусно избегнул ужаса этой картины; он не представил солдат, убивающих детей перед глазами их матерей, как это делали, впоследствии, мастера возрождения, а изобразил группу женщин с младенцами на руках и солдата, который подходит к ним по повелению Ирода, сидящего на троне. Мозаики эти, почти все хорошо сохранились и сочинение их, довольно сложное, требовало от художника большого уменья и немало воображения. Это первый пример представления мусивной живописью ряда библейских сцен, но тут мы уже видим следы значительного упадка искусства, и эти мозаики уже ниже в художественном отношении, находящихся в церкви св. Констанции и св. Пуденцианы. Особенно живо проявляется это в сюжетах, изображающих похождения еврейского народа в пустыне и битвы его при вступлении в землю обетованную. Оживленные и драматические сцены переданы тут очень слабо. Люди являются, как бы, сонными, движения их вялы и лишены энергии; члены их тела плохо соединены между собою и не пропорциональны; головы часто слишком велики для туловищ; последние – коротки, массивны; колена у идущих сгибаются, как у падающих. Художники не умели более представлять действующих людей; сочинение неясно, неопределенно и только кое-где проявляются воспоминания античного искусства. Надо заметить, что сцена поклонения волхвов, переданная в рисунке, одна из более удавшихся мозаик этой базилики. Притом, фигуры, являющиеся в ней, представлены не в движении, а в спокойном положении, что всегда легче для художника. Если мы сравним сцены сражений, представленные тут, с барельефами Траянской колонны, где также изображены битвы римлян с варварами, то увидим, что первые, значительно уступают последним. Пластические работы памятника, воздвигнутого в честь побед императора Траяна, не принадлежат к хорошему времени классического искусства, но в них мы находим людей воинственного вида, твердо поставленных на ноги, в натуральных положениях, делающими оживленные движения, одушевленных сильными чувствами. Напротив, в мозаиках Santa Maria Maggiore, несмотря на употребление приемов античного искусства и его манеры для представления военных сцен, проявляются большая неловкость в изображении сражающихся, неумение одушевить их, так что кругом всадника или пешей фигуры, напоминающих, хотя и очень неполно, статуи римских императоров, сгруппированы воины сонные, лишенные силы и в неестественных, для сражающихся, положениях. Фигуры сохраняют, однако, римский тип и костюм. Варварские лица еще не вторглись в искусство Италии. Это пока те же головы, которые мы встречаем в барельефах времен последних западных императоров.
Надо, притом, заметить, что в сложных сценах, требующих тонкого исполнения, когда они представлены мозаикой, обнаруживается еще сильнее несостоятельность техники этого рода художественных произведений и потому, проявляются резче все отличительные особенности, характеризующие падающее искусство, как, например, неправильность рисунка, грубое и тяжелое очертание фигур и т. д. Мы встречаем, впрочем, довольно редко, в христианских мозаиках изображение в небольших, относительно, размерах сложного сочинения, и эти сцены помещены, обыкновенно, в базиликах очень высоко, что, препятствуя их художественному действию, сглаживает, вместе с тем, многие их недостатки. Более обыкновенны в христианской мусивной живописи отдельные, колоссальные образы, имеющие статуйную, торжественную позу, в которых несовершенство рисунка, отсутствие одушевления не столь заметны, как в небольших фигурах, представленных в движении, действующими.
Подобное колоссальное изображение, оставляющее в зрителе впечатление грандиозного явления, мы видим, например, в мозаике абсиды церкви свв. Козмы и Дамиана в Риме, исполненной в царствование папы Феликса IV-го (526–530), следовательно, без малого, столетие после мозаик Либериевой базилики. Техника тогда сделалась еще слабее, упадок искусства сильнее обозначился, но в мозаике Козмы и Дамиана величественность главной фигуры, именно, Христа, искупает многие недостатки и несовершенства. Грандиозный, колоссальный образ Спасителя – о котором приложенный рисунок может дать только очень неудовлетворительное понятие – занимает середину полусвода абсиды.
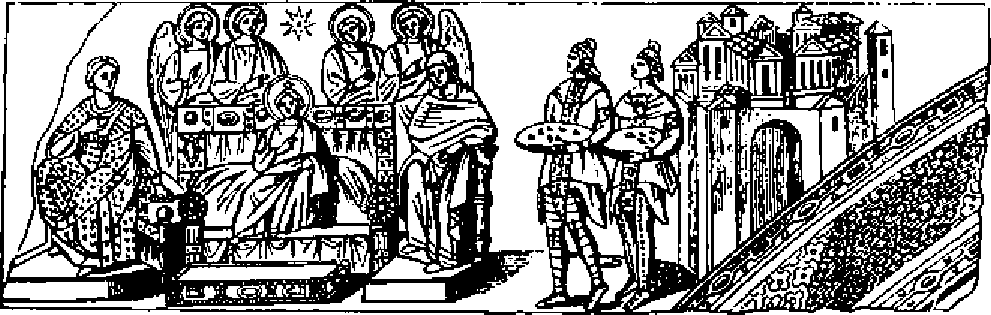
Голова951 Христа окружена нимбом; Его черные волосы падают на плечи. Усы и борода, цвета волос; в левой руке Он держит сверток пергамента, символ Его учения, а правую поднимает. Задрапированный с большим достоинством в паллиум, конец которого перекинут через Его левую руку и падает тонкими складками952, Спаситель спокойно и торжественно идет по облакам. Выражение Его лица печально и, вместе, серьезно; Его большие, черные, выразительные глаза смотрят строго на входящего, который, переступив порог храма, сейчас же видит перед собою в полутемноте абсиды, этот величественный, внушающий страх, образ Христа, грозно вопрошающий верующего, достоин ли он приблизиться к Нему. Ниже Спасителя представлены апостолы Петр и Павел, которые вводят в места вечного блаженства Козму и Дамиана, несущих свои мученические венцы. Фигура папы Феликса IV-го и ствол пальмы, изображенной тут – пропали; сохранилась только верхняя часть последней; на одной из ветвей ее сидит феникс с лучистым нимбом кругом головы. Пальма953 является и на другой стороне мозаики; возле нее представлен мученик Феодор в богатых одеждах, также несущий венец. Мозаика эта исполнена на темно-синем фоне; фигуры поставлены в ряд; сочинение всей картины очень несложно. В лицах Козмы и Дамиана видно отступление от римского типа; они длинны, черты их угловаты. Это уже лица варваров, с аскетическим оттенком. Тип этот сохранится у римских, вообще, у западных христиан до эпохи возрождения, даже и при полном преобладании византийского стиля, и составит в их искусстве элемент своеобразный, варварский, но самостоятельный. Несмотря, однако, на жесткость контуров, на тяжелую, массивную драпировку, хотя и хорошо брошенную, особенно, что касается одежды Христа, на морщинистые, мало привлекательные лица, на довольно посредственное техническое исполнение, мозаика эта производит грандиозное впечатление и недостатки ее сглаживаются величественностью главной фигуры. Некоторые риторативные работы были произведены тут в средние века; образ мученика Феодора совершенно другого стиля, чем остальные фигуры и принадлежит, без сомнения, ко временам более поздним. Наверху представлено видение из апокалипсиса; прямо над Христом, но уже вне ниши абсиды, в сияющем диске, является, богато-украшенный и покрытый фигурами драгоценных камней, трон; на нем лежит ягненок, у подножия креста, на ступеньку трона брошен полуразвернутый свиток пергамента с семью золотыми печатями. Трон окружен семью пылающими светильниками и четырьмя ангелами: последние имеют вид юношей с крыльями и нимбами. Направо и налево, картина эта кончалась символами евангелистов, ниже представлены были с каждой стороны по 12 старцев в белых одеждах, поднимающих к агнцу золотые венцы. Часть этой мозаики уничтожили при постройке церкви. Внизу в абсиде, под Спасителем, был изображен Его символ, т. е. ягненок, стоящий на холме, из которого вытекали четыре реки. К нему с каждой стороны шли по шести овец, одни выходили из Вифлеема, другие – из Иерусалима.
XXXI.
В столетия, следовавшие за торжеством церкви, деятельность в области мозаики приняла значительные размеры и в Равенне954. Это была военная гавань древнего Рима, защищенная природой и искусством. Император Гонорий выбрал этот город для своего местопребывания в 403-м году и присутствие двора придало большое значение Равенне, что, разумеется, отразилось и в церковном искусстве, получившем тут особенное развитие. Известно, что в начале V-го века, язычество было еще довольно сильно в Риме, тогда как Равенна сделалась уже вполне христианским городом. Есть положительные сведения о постройке в последнем церквей, еще до перенесения столицы, но, к сожалению, от них осталось немного следов.
Из, хорошо сохранившихся в Равенне, памятников христианского искусства, первое, по времени, место принадлежит равеннской крвстильне св. Иоанна на источнике S. Giovanni in Fonte. В середине V-го столетия – это замечательное здание было украшено сохранившимися до наших дней мозаиками следующего содержания: в центре свода, в медальоне, изображено крещение Спасителя; кругом представлены 12 апостолов; они, как бы, идут навстречу Христу, неся на руках, покрытых одеждой, короны и разделены друг от друга фантастическим растением, состоящим из стебля с цветами, выходящего из пучка листьев. Ниже мы видим четыре евангелия, каждое в особенном отделении, на алтарях, формы, употребляемой в восточной церкви, и четыре богато украшенных трона, помещенных под красивыми портиками. Все это вместе, составляет довольно изящный мотив орнаментации, способный дать нам некоторое понятие об архитектуре того времени. Тут мы находим элементы римского искусства, но, также, и известную тяжесть, массивность, отсутствие грации, которыми отличаются вообще декоративные мотивы эпохи его падения. Крещение Спасителя представлено следующим образом: Христос, нагой, стоит по пояс в воде, с опущенными руками, над головой Его изображен голубь, летящий вниз; Иоанн Креститель стоит на скале, держа в руке высокий крест, украшенный фигурами драгоценных камней, и льет из чаши воду на голову Спасителя. Полуфигура старика, выходящая из воды – аллегорический образ реки Иордана – с тростником в руке, и в венке из водяных растений, опираясь на опрокинутую урну, из которой льется вода, держит обеими руками покрывало, чтобы отереть Христа. Надпись, сделанная в мозаике, объясняет значение этой фигуры, свидетельствующей о влиянии классического искусства на религиозные сочинения христианских художников того времени, которые, как видно, не исключали аллегорические образы языческого характера из своих композиций. В другой равеннской мозаике, второй половины V-го столетия, находящейся в прежней арианской крестильне S. Maria in Cosmedin, мы видим такое же точно олицетворение реки Иордан, очень напоминающее аллегорические фигуры Тибра или Нила, дошедшие до нас от римлян и исполненные живописью или пластикой. Сцена крещения, в мозаике S. Glovanni in Fonte, представлена очень живо, фигура Иоанна, несколько, массивна, но естественна и не лишена жизни. В образе Христа довольно верно передано действие холода, ощущаемого человеком, вошедшим по пояс в воду.
Почти современен этой мозаике другой, так же, очень замечательный памятник мусивной живописи, находящийся в церкви Галлы Плакидии в Равенне. Известна необыкновенная судьба этой женщины, дочери императора Феодосия Великого. Плененная при взятии Рима Аларихом, и отданная замуж за зятя и преемника последнего, Атаульфа, военачальника готов, она была выкуплена после смерти своего супруга, вышла замуж за Констанция, одного из военачальников брата ее, императора Гонория, и от него имела сына Валентиниана. Лишившись своего второго мужа, Плакидия была удалена в Константинополь; но женщина, чрезвычайно честолюбивая, она воcстановила на престоле западной империи своего сына Валентиниана III-го и управляла под его именем до своей смерти, случившейся в 450-м году. В Равенне, ее обыкновенном местопребывании, Галла Плакидия построила церковь св. Креста и возле нее – часовню, которую посвятила свв. Назарию и Кельсию. В ней до сих пор стоят три саркофага: гробницы Галлы Плакидии, сына ее, императора Валентиниана III-го и, согласно преданию, дочери ее, Гонории. Часовня эта построена равносторонним греческим крестом, и еще при жизни Галлы Плакидии, богато украшена мозаиками. В своде является золотой крест латинской формы, в звездном небе, среди символов четырех евангелистов; на стенах изображены апостолы, в положении ораторов, голуби, пьющие из ваз, олени, идущие к источникам и выходящие из очень красивых, но несколько тяжелых, орнаментальных мотивов, подражающих виноградной лозе и другим растениям. Самая замечательная мозаика этой церкви изображает Спасителя под видом доброго Пастыря, сидящего, как читатель видит в приложенном рисунке), на скале.
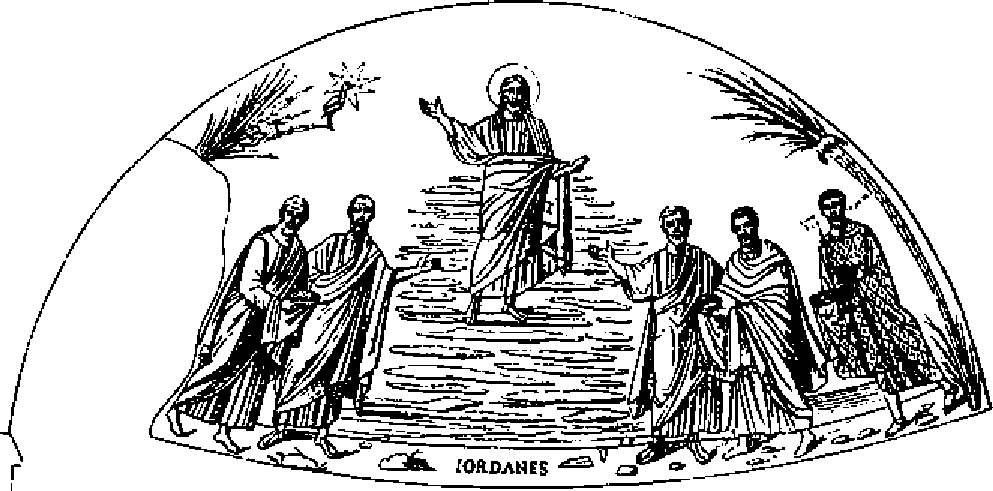
На Нем туника из золотой ткани и пурпуровый палдиум; голова Его окружена нимбом. Это, преисполненная жизни, красивая юношеская фигура, хотя и представленная в несколько неловком и неестественном положении; длинные, разделенные, посередине головы, волосы падают на плечи. Прекрасное, вдохновленное лицо Его напоминает лучшие образцы античного художества. Облокачиваясь на высокий крест, Пастырь ласкает одну из окружающих Его овец. Второй план картины составляет скалистый пейзаж, по которому распределены овцы. В этом памятнике мусивной живописи, мы видим соединение классического христианского искусства катакомб, со стилем восточным; переход от первого, ко второму. Христос является тут, еще, как добрый Пастырь фресок подземных кладбищ, нежно любящий овец Своего стада, среди красивого пейзажа, на цветущем лугу, в идиллической обстановке. Мистический элемент, преобладающий в религиозных изображениях восточных христиан, проявляется тут на кресте, представленном посередине картины на первом плане и на главном месте, никогда не выступающем возле доброго Пастыря в стенописи катакомб и заменяющем тут Его посох. Также, и задумчивое лицо Божественного Пастуха отвращено от окружающей сцены, от мира, и взоры Его устремлены в мистическую даль.
Совершенно простые архитектурные формы этого здания не отвлекают глаз зрителя от мусивной живописи, украшающей его и исполненной на темно-голубом, теплом грунте. Рисунок тут не угловат и не жесток; краски не резки и в них больше созвучия, чем в римских мозаиках. Общий колорит имеет что-то мягкое, а слабое освещение церкви, дает таинственный характер фигурам, представленным в ней, и возбуждает мистическое чувство. Все орнаментальные части тут, как, например, разводы, подражающие растениям, виноградная лоза с плодами, звездное небо, даже животные, олени, овцы и голуби исполнены гораздо лучше, чем фигуры людей, что мы постоянно замечаем в эпохи падения искусства. Декоративные элементы сохраняются без больших изменений и передаются по традиции, тогда как в образе человека, который нельзя рабски повторять, а следует сочинять снова, представлять в различных положениях и одушевлять известными чувствами, резче проявляются несостоятельность художника и все несовершенства искусства разлагающегося.
Мозаичные работы не прекращаются в Равенне при готфах; это мы видим в церкви S. Apollinare nuovo. Трудно определить, когда именно были произведены мозаики этого храма; их относят, обыкновенно, к V-му или VI-му столетию; весьма вероятно, что некоторые части их принадлежат к тем временам, когда этим городом владели готфы. По своим размерам и по сочинению, мозаики церкви S. Apollinare nuovo, едва ли не самое замечательное произведение искусства этого рода, дошедшее до нас от первых веков торжества церкви. Они украшают тут две боковые стены главного корабля базилики и разделены горизонтально на три отделения. В нижнем, с правой стороны, войдя в церковь, видишь, прежде всего, город Равенну и дворец Теодориха; потом, длинную процессию мучеников, идущих ко Христу по цветущему лугу, среди пальмовых деревьев955, неся свои венцы. Спаситель сидит в величественной позе на богатом троне, с нимбом, разделенным крестом и осыпанным фигурами драгоценных камней кругом головы; около Него, как царедворцы, стоят четыре ангела с длинными древками, кончающимися небольшими шарами. С левой стороны, для входящего в церковь, изображена равеннская гавань с кораблями и, вплоть за ней, представлен длинный ряд мучениц в богатых одеждах и драгоценных украшениях на голове, на шее, на руках. Некоторые из них чрезвычайно грациозны и имеют правильные, красивые черты лица. Вообще, эти монументальные процессии, свободно и грандиозно развивающиеся, способны напомнить барельефы, украшавшие храмы древних греков, также изображающие религиозные шествия. Мученицы идут между пальмами по цветущему лугу, неся свои венцы Богоматери, помещенной на богатом сидении, с Младенцем Спасителем на коленях; голова Христа и тут окружена крестовидным нимбом, усеянным драгоценными каменьями. С каждой стороны Богородицы изображены по два ангела. Три волхва также в дорогих одеждах идут к Младенцу Спасителю, нагибаясь и неся свои дары. В среднем отделении, направо и налево, представлены пророки. Мозаика эта поражает своим величием; в ней можно указать недостатки рисунка, но она отличается богатством, тщательным техническим исполнением и живостью красок. Шествие мучеников и мучениц к Спасителю и Богоматери преисполнены торжественности, а фигуры Христа и Богородицы дышат спокойным величием. Точно также и ангелы, представленные под видом прекрасных стройных юношей, не лишены изящности и хорошо пополняют обе эти грандиозные сцены. Красивые декоративные мотивы выведены тут на золотом грунте, что придает им особенный блеск.
Мы постоянно видим, что равеннские мозаики несравненно выше, в художественном отношении, современных им римских памятников мусивной живописи. Пребывание в Равенне императоров, а потом готского короля Теодориха, сделавшегося покровителем наук и искусств, покоренных им, народов956, сосредоточило в этом городе лучшие производительные художественные силы того времени. Это цветущее состояние мозаичных работ не уменьшается, а, скорее, возрастает, после покорения Равенны византийцами. Город этот, сделавшись в середине VI-го столетия местопребыванием экзарха и столицей той части Италии, которая принадлежала восточной империи, находился в постоянных сношениях с Византией и был подчинен ее влиянию957, также, и в области искусства.
Самые замечательные из сохранившихся в Равенне памятников мусивной живописи, византийского периода, находятся в церкви св. Виталия. Она была построена в малом виде, по образцу храма св. Софии (премудрости Божией) в Константинополе. От мозаик, которыми ее украсили в середине VI-го ст., остались только находящиеся в абсиде. В полусводе последней, как читатель видит в приложенном рисунке, Спаситель, под видом юноши, представлен сидящим на сфере; голова Его окружена крестовидным нимбом, усеянным фигурами драгоценных камней. В левой руке Он держит сверток пергамента, символ нового учения.
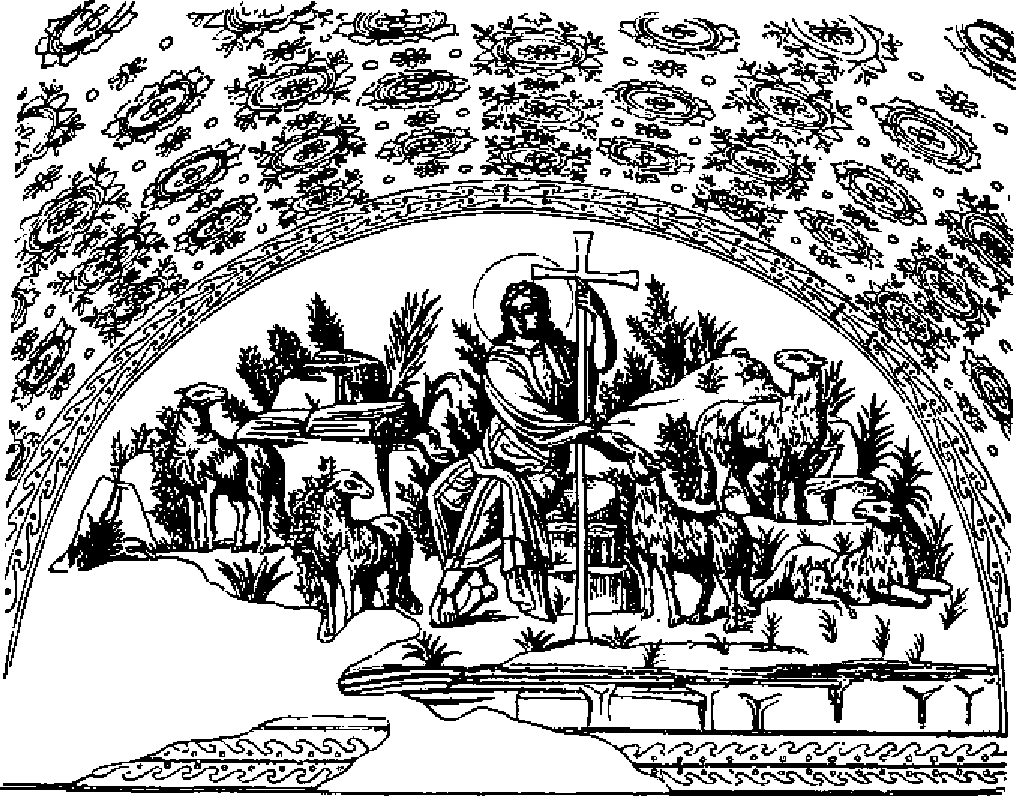
Два ангела, как докладчики, стоят по обе Его стороны; один представляет Ему святого Виталия, изображенного в богатых одеждах, принимающим от Спасителя на руки, покрытые плащом, венец мученичества. Другой ангел подводит епископа Экклезия, строителя церкви, подносящего Христу ее модель. Вся сцена происходит на зеленом лугу, усеянном цветами и оживленном птицами. Из подножия сферы, на которой сидит Спаситель, вытекают четыре райские реки. Наверху, два ангела, представленных на лету, несут звезду, в середине которой видна буква А, что напоминает известные слова апокалипсиса: Я есмь Альфа и Омега, т. е. начало и конец. Монограмма Христа в круге, изображена ниже этой звезды, но также с буквою А в середине, и в центре, довольно грациозного, но, несколько, тяжелого орнамента, состоящего из соединения двух рогов изобилия, между которыми представлены растения с цветами и, сидящими на них, птицами. Очень богатый бордюр, сложного сочинения, окружает всю картину, кончаясь в сводах фигурами птиц чрезвычайно грациозного эффекта. Выше, направо и налево, изображены стены и здания Вифлеема и Иерусалима. Растущий возле каждого из этих городов кипарис, вероятно, символизировал один – общину обращенных евреев, другой – язычников, принявших христианство. Ниже, по обе стороны, поднимаются две пальмы, символ воскресения.
Направо и налево от этого полусвода, на стенах абсиды, находятся одна против другой, на золотом фоне, две мозаики, столько же замечательные по содержанию, сколько и по исполнению. В одной из них – читатель видит ее в приложенном рисунке – изображен Юстиниан в широкой, вышитой золотом пурпуровой мантии, украшенной таким же образом нижней одежде, в обнизанных перлами башмаках, в жемчужной диадеме и с нимбом вокруг головы; он несет в храм плоский золотой сосуд. Трое царедворцев в однообразных позах и несколько солдат почетной стражи сопровождают его; последние вооружены копьями и щитами; на одном из них видна большая, монументальная монограмма, формы, называемой Константиновской, богато украшенная узорами из драгоценных камней. Обыкновение изображать на доспехах монограмму Христа, было введено еще в царствование Константина. Перед императором идут равеннский епископ Максимиан с крестом в руках, узороченным драгоценными камнями, и двое священников; один из них несет книгу, вероятно, евангелие, также украшенное, другой – род кадила.

Против этой мозаики, представлена императрица Феодора, жена императора Юстиниана, известная своими похождениями. Она тут (см. рисунок) в широкой, белой нижней одежде, покрытой золотым шитьем, в пурпуровой мантии, украшенной таким же образом, и в красных, шитых перлами, башмаках. На голове ее, так же, окруженной нимбом, великолепная диадема, от которой нитки жемчуга падают на богатое ожерелье, покрывающее ее грудь.
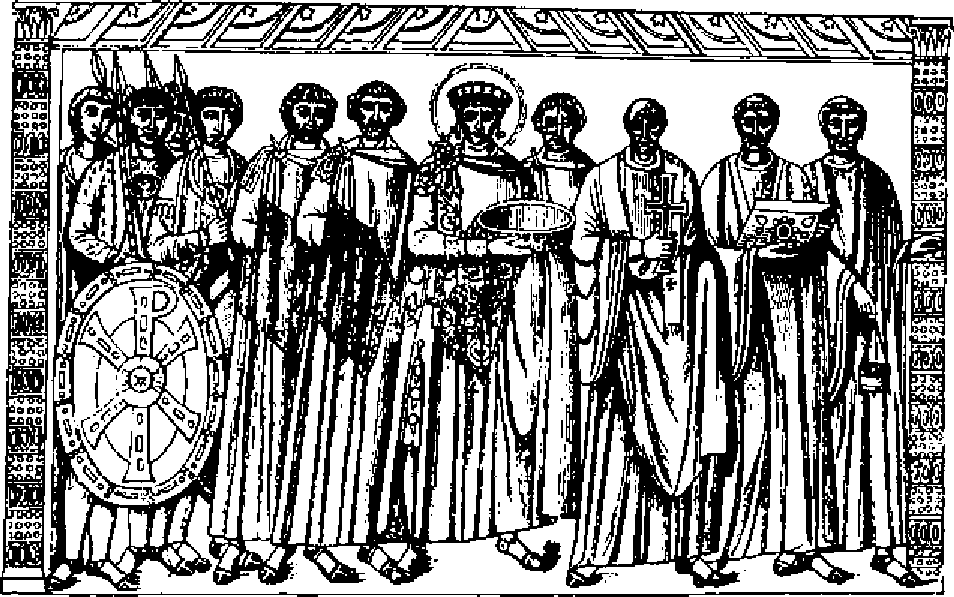
На нижнем бордюре широкой мантии императрицы, вышито поклонение волхвов, но фигура Богоматери скрыта в складках, и видны только два волхва и ноги третьего958. Феодора несет в храм золотую чашу, и один из ее царедворцев, поднимает перед ней вышитую завесу, другой стоит возле императрицы. Он, равно как и царедворцы, являющиеся в свите Юстиниана, скрывает руки под одеждой, как это делалось перед августейшими особами в древней персидской монархии, и во многих азиатских дворах делается и до нашего времени. Очень часто в средневековых христианских мозаиках, святые мученики и апостолы, являющиеся перед Спасителем и Богоматерью, точно также покрывают одеждой руки. За императрицей идут семь придворных женщин в дорогих украшениях и в богатых одеждах, вышитых жемчугом. Одна из них держит род платка, предмет, вероятно, принадлежащий Феодоре; две из этих женщин, ближе стоящие к императрице, старше других, и одеты с большей изысканностью, чем остальные. Сцена эта представлена в красивом преддверии храма; у входа, на полуколонне с коринфской капителью, стоит ваза, из середины которой бьет фонтан для умывания рук и лица, входящих в церковь. Мозаики эти особенно интересны для нас также и потому, что они могут дать нам некоторое понятие об утонченном и преисполненном сложного церемониала византийском дворе, в самую блестящую его эпоху, воскресающем перед нами, как нельзя живее, в этих двух памятниках мусивной живописи. Они, однако, не дают права предположить, что Юстиниан и его супруга посетили Равенну, но, вероятно, они послали церкви св. Виталия богатые подарки, и епископ Максимиан, желая увековечить память щедрости императорской четы, велел исполнить эти мозаики. Некоторые, представленные в них, лица имеют характер действительности, как, например, Юстиниан, его царедворцы, епископ Максимиан, императрица, ее придворные и две, стоящие возле нее, дамы. По всей вероятности – это портреты.
Другой замечательный памятник мусивной живописи Равенны, той же эпохи, мы видим в церкви святого Аполлинария во флоте (S. Apollinare in Classe). Мозаики эти находятся в абсиде и отличаются, также, богатой орнаментацией, равно как и особенного рода символическим изображением преображения Христа на горе Фавор. Внизу, на цветущем лугу, представлены апостолы, под видом 12-ти овец; они стоят у подножия горы, покрытой деревьями, на которых сидят птицы; на вершине стоят три овцы, символизирующие трех апостолов, которых взял с собою Спаситель на гору Фавор. Вместо Христа изображен большой крест латинской формы, усеянный фигурами драгоценных камней, в звездном пространстве, окруженный овальной рамкой, украшенной, подобно кресту. В месте пересечения брусьев последнего, изображена голова Спасителя, уже определенного типа; над крестом написано греческое слово: IXΘVΣ, т. е. рыба, значение которого нам уже известно, а под ним слова: Salus mundi, т. е. спасение мира. По обеим сторонам креста означены греческие буквы А и Ω. В центре полусвода абсиды, над крестом, рука, выходящая из облаков и символизирующая Бога Отца, указывает на орудие искупления. Как, обыкновенно, в сцене Преображения, Моисей и Илья присутствуют в облаках при совершении этого чуда. Тут они представлены направо и налево от креста – заменяющего Спасителя и, вместе, намекающего на Его искупительную Жертву – под видом юношеских фигур, до половины туловища выходящих из облаков и, скорее, римского, чем иудейского типа, особенно, что касается Моисея. Декоративные элементы этой мозаики довольно сложные и не лишены красоты и благородства.
Как мы уже сказали, равеннские мозаики всегда выше в художественном отношении одновременных им памятников римской мусивной живописи. Точно так же, в первых, мы не находим типов варварских народов, которые встречаются во вторых, уже в VI-м столетии, и будут постоянно умножаться в них, как мы это увидим ниже. В мозаиках Равенны влияние византийское было так сильно, что отбрасывало наплывающие варварские элементы, не позволяя им проявиться. Покорение Равенны лонгобардами в середине VIII-го столетия и, вскоре за тем, подчинение ее папам, изменяет, разумеется, к худшему, участь этого города и, вместе с тем, прерывает в нем художественную деятельность, которая с этого времени постоянно слабеет в Равенне. Новые постройки, новые артистические работы, вскоре уже более не предпринимаются здесь, и все заботы направлены только на исправление того, что люди и время попортили в произведениях искусства предшествующих веков. После прекращения связи с Византией, Равенна разделяет судьбу других городов Италии; мы замечаем в ней тот же постоянный упадок художества, как и на западе, до эпохи возрождения.
XXXII
В Риме мозаичные работы не прекращаются, как в Равенне, и каждое столетие до Х-го века может представить нам один или несколько памятников мусивной живописи, но только для того, чтобы показать постепенный ход падения этого искусства. Мы ясно видим это в мозаике базилики св. Лаврентия – вне городских стен Рима, основанной Константином и украшенной папою Пелагием II-м (577–590). Тут Христос представлен, сидящим на сфере голубого цвета, Он одет в темное платье и держит в левой руке длинный крест, а правою – благословляет. Черные волосы, разделенные посередине головы, падают на Его плечи; усы и борода цвета волос. Лицо Его, уже определенного типа, имеет аскетическое, строгое, даже грозное выражение. Направо от Него, в ряд, стоят св. Петр, мученик Лаврентий и папа Пелагий, украситель храма; налево, также в ряд, изображены св. Павел, св. Стефан, св. Ипполит. Лица всех этих фигур почти не сохраняют следов римского типа и представляют уже ту одеревенелость, которая будет постоянно возрастать при изображении человеческого образа в римских мозаиках. Декоративные элементы тут очень бедны, сравнительно с тем, что видишь в Равенне от того же столетия. Невзирая на многочисленные реставрации, которым подвергался этот памятник мусивной живописи, по стилю его фигур, по мотивам его орнаментации нельзя не заметить, что он стоит гораздо ниже в художественном отношении мозаики церкви свв. Козмы и Дамиана, исполненной полустолетием раньше.
До VI-го века в мозаиках Рима мало-помалу изменяли прежние освященные формы, но не позволяли себе оставлять их совершенно. Прошедшее, все-таки, еще не переставало внушать уважение, и влияние варваров не успело вполне обозначиться; только в VI-м столетии в мусивной живописи Козмы и Дамиана, и св. Лаврентия, но, особенно, в последней, художники начинают вдохновляться образами новых людей, наводнивших Италию, изображать их одежды и заменять неправильными, мало привлекательными их лицами классические типы. Это влияние варваров делается особенно заметно в римских мозаиках после VI-го столетия; оно проявляется в размерах, в головах, в телодвижениях фигур, в драпировке их одежд, в декоративных элементах, так что правила и приемы классического искусства, его начала, пропадают почти совершенно. Видно полное забвение пропорций членов человеческого тела; фигуры изображаются несоразмерно длинными для их голов, или короткими и коренастыми. Все это мы замечаем, например, в мозаиках св. Агнии (626 – 638), св. Венанция (639 – 642), св. Стефана (642 – 649) и в других. Упадок искусства в Риме несколько задержало византийское влияние, которое было особенно сильно после уничтожения Готфского царства, когда Рим, освобожденный на короткое время от варваров, сделался греческим, византийским городом, вторым в Италии после Равенны. С этой эпохи, которая не была продолжительна, потому что Рим вскоре был отрезан лонгобардами от Константинополя, мы, однако, находим в римских мозаиках влияния византийские, и, чем сильнее они обозначались, тем медленнее шел упадок мусивной живописи на западе. Полное падение этого искусства в Италии произошло в VIII-м и, особенно, в IХ-м столетии, когда сношения между Римом и Византией сделались труднее и, наконец, стали враждебны, вследствие разрыва восточной и западной церквей.
Проблеск оживления искусств, проявившийся в царствование Карла Великого, отразился и в мусивной живописи Рима; так, например, в мозаиках, произведенных в этом городе в конце VIII-го и первых годов IХ-го столетия, именно, в церкви св. Феодора, построенной папой Адрианом I-м (772–795) и в латеранском triclinium, украшенном папой Львом III-м (795–816), видно известное улучшение форм и даже некоторое изучение природы; но это минутное возрождение художества эпохи Карловингов не имело последствий ни по ту, ни по эту сторону Альп, и, немедленно за ним, варварство берет верх. В царствование того же папы Льва III-го производятся мозаики очень низкого художественного достоинства.
С IХ-го века, в Риме, в области искусств, сгущается мрак: рисунок в мозаиках становится извращенным; основные правила перспективы, выпуклости рельефа забываются; работа становится небрежна, груба; кубы обрезываются неправильно и нехорошо соединяются; краски режут глаза, очерки принимают массивный вид. Образа Христа, Богоматери, апостолов, святых и т. д. делаются тяжелы, утрачивают жизнь, цепенеют, представляются в неестественных позах, их уже не умеют ставить на ноги. Заметно большое непонимание конструкции человеческого тела, и его никак нельзя предположить под очень некрасивой и неловко брошенной драпировкой одежд. Лица изображаются немногими линиями; щеки – двумя темными пятнами без теней; там, где представлено вместе несколько людей, они теснятся между собою. Но, обыкновенно, в мусивной живописи этого периода фигуры изображаются отдельно, в ряд, как на пьедесталах, не имея никакой связи между собою, что придает им еще большую безжизненность. Иногда, это напоминает первые шаги человечества в области фигуративного искусства.
Все эти недостатки мы видим, например, в мозаике церкви свв. Нерея и Ахилея, построенной и украшенной папой Львом III-м (795–816). В ней изображена сцена Преображения, но вполне неудовлетворительно. Христос является в овальном нимбе; Моисей и Илья имеют вид двух карликов, Спаситель, в сравнении с ними, великан; но, взятая отдельно, фигура Его – коротка. Апостолы, свидетели чуда, представлены в неестественных позах; они согнуты и, как бы, ползут к Христу, стоящему на возвышении.
Другой образчик упадка мозаичного искусства на западе находится в церкви S. Maria in Domnica, украшенной папою Пасхалием первым (817–824). Тут изображена Богоматерь в центре абсиды, на богатом троне, среди Ее небесного двора; толпы ангелов с нимбами кругом головы стоят по обе стороны Ее царского сидения; Спаситель Младенец, помещенный на коленях Богородицы, благословляет правой рукою. Папа Пасхалий, представленный гораздо меньше колоссального образа Богоматери, стоит на коленях у подножия трона, держа из почтения в своих руках оконечность Ее правой ноги. Богородица тут не лишена величия, но лицо Ее, как бы, заключенное в четырехугольную рамку, – неудачным мотивом драпировки головного покрывала, падающего на плечи, – имеет печальное, строгое выражение. Это тип тех мадонн, которые будут постоянно изображаться на западе до эпохи возрождения. Фигуры ангелов довольно стройны, но лишены грации; однообразное движение их рук неестественно, натянуто и имеет что-то кукольное. Сонм их передан возвышающимися один над другим нимбами, так что от каждого ряда видно все меньше и меньше этого сияния. Подобный неловкий способ изображать толпу, поднимающимися одна над другой оконечностями годов, шапок или сияний, мы находим и в византийской живописи, времен ее упадка, также, у первых мастеров эпохи возрождения, даже и у Беато Анджелико. Тот же первобытный прием представлять массу народа, мы встречаем в сирийском, египетском и древнегреческом искусстве. Таким образом, при своем упадке, художество возвращается к способам, употребляемым в период его зарождения. Вообще, манера изображать толпу может не только дать нам понятие о состоянии искусства среди известного общества, но и указать степень его нравственного развития. В произведениях живописи и пластики архаического периода Греции, нередко видишь несколько человек вместе, имеющих один профиль, одно выражение, одну позу, повторяющих одно и то же телодвижение. Совершенно подобное находишь в искусстве азиатских народов и древних египтян, но в Греции эти люди оживляются, оставляют свои условные положения, и образы их получают индивидуальный вид; вместе с освобождением личности, являются и способы изображать ее. Напротив, в Египте и в больших монархиях Азии, где, вследствие стеснительных гражданских и религиозных условий не было места самостоятельному развитию каждого члена общества, где в противоположность тому, что происходило в Греции, человек пропадал в толпе, не выделяясь из нее, пластика и живопись все время своего существования изображали массы людей с одними и теми же лицами, в одном и том же положении. Совершенно то же отсутствие индивидуальности, находим мы и в средневековом христианском искусстве. В цветущий период эпохи возрождения, когда рассеялась тьма предшествовавших столетий, и человек начал смелее смотреть вокруг себя, толпу снова стали изображать, составленную из людей, имеющих, каждый свое отдельное выражение, и, если представляли несколько человек, находящихся под влиянием одного общего чувства, то старались передать на их лицах различное действие, производимое этим моральным явлением, согласно натуре и характеру каждого.
Сцена, описанная выше, изображенная в церкви Santa Maria in Domnica, хотя и передана очень грубо, без вкуса, без рисунка, без художественного распределения, производит не столь неприятное впечатление, как мозаика церкви св. Марка в Риме.
Этот памятник может свидетельствовать о полном упадке мозаичного искусства на западе в IX-м веке; он принадлежит царствованию папы Григория IV-го (828–844). Христос тут является в центре полусвода абсиды, в середине шести фигур, поставленных в ряд, подобно Ему, на пьедесталах, имеющих вид скамеек; между ними находится и папа Григорий. Всякое уважение рисунка, всякое понятие о прекрасном, пропадают в этой мозаике. Угловатость, неправильность лиц святых, их большие, ничего не выражающие, глаза, несоразмерная длиннота тела и узкая, условно-повторяющаяся драпировка одежд, тут, в самом деле, поразительны. Фигура Христа, выше почти наполовину, стоящих возле Него, святых, ниже всякой критики; в лице Его мы даже не узнаем повторения установившегося типа Спасителя: оно вытянутое, сухое, безжизненное, необыкновенной худобы, глаза сближены до невозможности, лоб узок, борода заострена, усы падают вниз; черные волосы, разделенные посередине головы, спускаются на плечи. Вся фигура эта дышет чем-то зловещим. Хуже не изображали Христа и совершенно варварские народы. Даже и в живописи на дереве, павшего византийского стиля, вполне дюжинного исполнения, Спаситель не имеет столь ужасного вида. Декоративные элементы этих трех мозаик, равно как и других, принадлежащих к тому же времени, и находящихся в Риме, очень просты. Эта скудость украшения и неуменье придумывать мотивы орнаментации в бордюрах, в углах, одним словом, в местах, не занятых главным сочинением, были следствием упадка искусства, но, также, бедности, в которую впал Рим в IX-м столетии. Золотой грунт не употребляется в мозаиках этого времени и заменяется более дешевым темно-голубым фоном; то же самое происходит и с нимбами.
XXXIII
В восточной Римской империи развилась, скоро после торжества церкви, в очень значительных размерах, мусивная живопись. Известно, что уже Константин украсил многочисленные церкви востока мозаичными работами. Мозаинисты пользовались его особенным покровительством, и он избавил их от некоторых налогов. Его преемники подражали ему в этом, и, таким образом, на берегах Босфора образовалась замечательная мозаичная школа. Цветущее состояние Византии в то самое время, когда западная Римская империя, наводненная варварами, беднела и разрушалась, способствовало развитию искусства на востоке. Мы постоянно видим во всех отраслях его, как, например, в миниатюрах, в эмалях, в работах из слоновой кости, драгоценных металлов и т. д., что все, выходившее из рук византийских мастеров, почти до эпохи возрождения, всегда стояло выше, в художественном отношении, производимого на западе. То же самое можно сказать и о мозаичных работах.
По мозаикам Равенны, в которых отражаются влияния Византии, вкус и способности ее художников, видно, что мусивная живопись в первые века торжества церкви находилась в Константинополе на очень высокой степени, так как равеннские мозаики во многом превосходят, современные им, произведения искусства того же рода, находящиеся в Риме. Надо, притом, не упускать из вида, что Равенна была провинциальным городом и что, следовательно, артистические работы, производимые в ней, не могли иметь ни тщательного исполнения, ни художественного достоинства того, что создавалось в столице.
Но для восточной империи настало, также, время разорения, обеднения, и взятие Константинополя крестоносцами нанесло решительный удар благосостоянию Византии. После этого события, сильнее обозначается также и упадок ее искусства, которое никогда более не возрождалось. В этот последний период существования восточной империи, т. е. от взятия Царьграда крестоносцами до покорения его турками, частью, неискусно реставрировались и портились, частью, разрушались памятники мусивной живописи предшествовавших веков. Конечное завоевание Византии – в противоположность тому, что произошло в западной империи – народом иного племени, иной религии, чем побежденные варварами, неспособными принимать, усваивать культуру покоренных ими арийских народов, исповедовавшими верование нетерпимое, враждебное христианству, осуждавшее, как нечто греховное, фигуративное искусство, порабощение, говорю я, турками восточной империи, подвергло памятники ее систематическому истреблению. Мало, следовательно, могло сохраниться от произведений христианского искусства на востоке. Надо, также, прибавить, что запад, в археологическом отношении, исследован гораздо последовательнее и полнее, чем восток, так как доступ к памятникам, рассеянным по обширной Турецкой империи, лишенной удобных способов сообщения, гораздо труднее, чем в Италии и в других западных странах. Многое, вероятно, на востоке еще не открыто и ждет исследователя. Мы, потому, не можем представить, столько же образчиков восточной мусивной живописи, сколько западной.
Самые замечательные византийские мозаики находятся в церкви святой Софии (премудрости Божией) в Константинополе. Храм этот, построенный Юстинианом, был великолепно украшен им мусивной живописью. К несчастью, очень незначительные части ее сохранились; притом, все мозаики этой церкви, превращенной турками в мечеть, покрыты слоем водяной белой краски, так как закон Магомета запрещает изображение всего одушевленного. Вследствие особенного счастливого обстоятельства, эти памятники сделались известны. В 1847-м году в храме св. Софии были предприняты ресторативные работы, порученные итальянскому архитектору Фоссати; при этом, был смыт белый слой, покрывавший мозаики. Пользуясь этим, немецкий археолог Зальценберг изучил и скопировал их с полной свободой, собрав материалы весьма интересного труда, изданного им в Берлине в 1854-м году959. Сохранившиеся тут мозаики принадлежат к разным временам. В середине купола изображен Христос на радуге, ниже представлены четыре шестикрылых колоссальных херувима, между овнами являются, отдельно, пророки, мученики, епископы. Прекрасная и величественная фигура архангела возле ниши абсиды, с жезлом в одной руке и сферой в другой, грандиозно задуманная, широкого стиля, принадлежит ко временам Юстиниана. В отделении, назначенном для женщин, были изображены сюжеты из нового завета, но только одна из этих мозаик сохранилась, и то она очень попорчена. В ней передано сошествие Святого Духа.
Распределение этих сцен вполне симметрическое. Христос представлен в середине на троне; от Него нисходят лучи на Богоматерь и апостолов, стоящих кругом Него. У иудеев, присутствующих при этом чуде, лица не столь красивы и благородны, как у апостолов. Всего лучше, сохранившаяся в этой церкви, мозаика находится в ее нартэксе, т. е. в преддверии. Тут, отделяясь от золотого грунта, величественный образ Спасителя изображен на троне; Он в белых одеждах, украшенных золотыми полосами; лицо Его, несколько широкое, имеет установившийся тип, оно одушевлено кротким, но, вместе с тем, непреклонно-твердым выражением. К ногам Его падает ниц старик в царском облачении и в короне; это император, преклоняющийся перед Христом, как его подданные, согласно церемониалу византийского двора, преклонялись перед ним. Направо от Спасителя, в медальоне, изображена, по грудь, Богоматерь; овальный, прекрасный лик Ее носит на себе отпечаток эллинической красоты: линии лица необыкновенной чистоты, губы правильно вырезаны, взгляд неопределен. Нельзя сомневаться в том, что художник имел перед глазами античный модель, до такой степени этот образ Богородицы приближается к классическому типу Минервы. Подобные лики Богоматери встречаются часто в византийском искусстве, даже в худшие его времена, нередко искупая своей величественною красотой слабость исполнения и несостоятельность техники. Налево, так же в круглой рамке, представлен бюст архангела Михаила; лицо его напоминает лучшие произведения классической пластики; оно правильно, благородно, одушевлено и приближается к типу Аполлона Бельведерского. В исполнении этого памятника мусивной живописи видны большая тщательность и приемы хорошей школы. Вероятно, эта мозаика была исполнена вскоре после окончания спора об иконах.
Приблизительно к тому же времени, т. е. к царствованию императора македонской династии Василия I-го (866–886), принадлежат другие мозаики, немного попорченные, того же храма, находящиеся на его большой западной арке. Тут изображены Богоматерь, Петр и Павел. Головы последнего не достает, но тело его представлено не без уменья. От фигуры Петра сохранилась только одна голова, вполне индивидуального характера, дышащая энергией. Но особенно замечателен в центре арки – бюст Богоматери, с головою Младенца Спасителя, изображенной на Ее груди. Несколько строгие взоры Богородицы устремлены на находящихся в храме, и лицо Ее, преисполненное достоинства и спокойного величия, поражает своей правильностью, напоминая классический тип Юноны.
Орнаментальные части в сохранившихся мозаиках церкви св. Софии также чрезвычайно красивы. Фон почти всюду золотой; в некоторых местах он заменен серебряным грунтом или такими же полосами, вероятно, для большого созвучия красок. Гирлянды из зелени и плодов, кресты и розетки обозначали, выставляя их, архитектурные линии.
Образчики византийских мозаик мы можем видеть также в г. Фессалоники960, в церкви св. Георгия; ее купол был покрыт мусивной живописью, в центре последнего, в медальоне находилось, вероятно, изображение Спасителя, но оно пропало; Его окружала гирлянда зелени и плодов, следы которой еще заметны. Фугуры, представленные ниже, кругом купола, покрыты турками белой водяной краской или уничтожены. Под ним – другая зона религиозных изображений, частью, сохранилась. Мы видим тут святых, представленных в положении молящихся, но два или больше, в особенных рамках, составленных из богатых архитектурных мотивов разнообразной формы и очень интересных для изучающего византийскую архитектуру. Семнадцать фигур еще видны, но от некоторых из них остались только части. Что касается до времени появления этих памятников мусивной живописи, то можно сказать только, что они были исполнены в период от Константина до конца VI-го столетия.
В церкви святой Софии, того же города, мы находим мозаики, приблизительно, половины VI-го века. В куполе изображено вознесение Спасителя; в абсиде, также на золотом грунте, видна фигура Богоматери, к несчастью, попорченная. Она сидит на византийском, богато украшенном, троне и держит на руках Младенца Спасителя. Богородица занимает тут абсиду храма, как во всех церквах, посвященных премудрости Божией, именно, в св. Софии в Константинополе, в Киеве и т. д. Декоративные мотивы этой мозаики очень богаты и напоминают равеннские, той же эпохи.
Памятники мусивной живописи сохранились и в монастырях Афонской горы. Самые замечательные из них находятся в Ватопедском монастыре, и, именно, в притворе, над главными вратами собора. Тут, на золотом фоне представлен в середине Спаситель. Он сидит на византийском троне, украшенном фигурами драгоценных камней и покрытом красной подушкой; на Нем красная туника с золотым отливом и, с таким же отблеском, голубой плащ, оставляющий свободной правую руку. Голова Христа окружена золотым нимбом, крестообразные лучи, в сиянии, усеяны драгоценными камнями. Красивое лицо Спасителя дышит спокойствием и добротой, глаза большие, открытые, волосы светлые, борода каштановая; правой рукою Он благословляет, а в левой, держит раскрытую книгу. Направо от Спасителя стоит Богоматерь в одежде, украшенной золотыми бордюрами; на голове Ее покрывало, спускающееся на лоб; Она наклоняет голову и протягивает руки ко Христу. Налево от Него изображен Иоанн Предтеча, одетый в длинную тунику темного цвета и в зеленоватый плащ. Он также наклоняет голову и протягивает к Спасителю руки. Никакая надпись не указывает времени этой мозаики. Тут же, на золотом грунте, изображена сцена Благовещения; двери главного входа разделяют ее. С одной стороны представлена Богоматерь; на Ней голубая одежда с золотой бахромой; три небольших креста, означенные золотыми точками, являются на Ее плечах и на покрывале головы, окруженной золотым нимбом. Она сидит на троне, держа в левой руке красную розу, и поднимая правую, в знак удивления. По другую сторону дверей изображен архангел Гавриил. На нем белая одежда с золотым отливом. Он протягивает правую руку по направлению Богоматери, и держит в левой длинный скипетр; лицо его красиво и выразительно. Мозаика эта тщательного и тонкого исполнения; она, несомненно, принадлежит хорошему времени византийского искусства.
Замечательное произведение мусивной живописи превосходной работы украшало, также, церковь Афонского монастыря Ксеноф. От него сохранились только две фигуры: святого Георгия и святого Димитрия, составлявшие часть большого сочинения. Первый из них представлен молодым человеком, в византийской одежде, вышитой золотом и жемчугом. Он протягивает руки к Спасителю, половина фигуры Которого видна в верхнем угле картины. Второй, т. е., св. Димитрий, имеет юношеский вид и одет, подобно святому Георгию. Эти фрагменты мусивной живописи такого же хорошего стиля, как и описанные выше мозаики монастыря Ватопеда.
На Синайской горе, в монастыре святой Екатерины, находится также мозаика961, покрывающая полукупол алтаря и изображающая Преображение. Это одно из замечательнейших произведений раннего византийского искусства. Христос тут, в белом хитоне, и в таком же гиматии, с золотыми клавами, изображен в голубом миндалевидном ореоле, благословляя правой рукою и, держа в левой – свиток. Голова Спасителя окружена серебряным нимбом, разделенным золотым крестом. От тела Его исходят шесть серебряных лучей. Лицо Христа округлое, выражение кроткое, мягкое, глаза большие, широко открытые, брови густые, волосы падают на плечи, борода небольшая, остроконечная. Направо от Спасителя, стоит Илья, налево – Моисей. Ниже Христа представлены в живых позах три апостола: Иоанн, Иаков и Петр; кроме Спасителя тут все фигуры стоят на ровной зеленоватой полосе земли. Нимб дан только одному Христу, и это может служить доказательством древности памятника. Шестнадцать пророков представлены точно также в медальонах отдельно; апостолы точно также в медальонах размещены по шести с каждой стороны равноконечного золотого креста в кругу – прием раннего христианского искусства. Лишь очень немногие, сравнительно, части этой мозаики реставрированы, но переделка резко выделяется от общего тона.
Как в римских и равеннских памятниках мусивной живописи V-го века, композиция в синайской мозаике несколько груба, но в фигурах еще сохранилась жизнь. Юный Иоанн и Иаков, взмахнувшие обеими руками и ослепленные лицезрением преображенного Христа, хотя и изображены с большой заботой собдюдения симметрии, живы и натуральны; в фигуре Петра, ползущего по земле, и поворачивающего кверху голову, чтобы посмотреть, много простого натурализма. Лица апостолов тут прекрасно сохранились и не тронуты реставрацией; они представляют еще античные контуры. Одежды имеют широкую классическую драпировку, округлые и свободные складки. Этот памятник мусивной живописи г-н Кондаков относит к концу древнейшего периода византийского искусства. Другие, находящиеся в этой церкви мозаики, представляющие летящих ангелов с венками, Моисея перед купиною и получающего скрижали, также, погрудные образы Богоматери и Иоанна Крестителя, сильно попорчены более поздними реставрациями, так что от древних частей этих изображений почти ничего нельзя узнать.
Замечательные мозаики находятся также в Константинополе в мечети Кахрие-Джамиси962. Это была, в лучшие времена империи, богатая дворцовая церковь Спаса в Хоре (т. е. в поле), ныне бедная, хотя изящной архитектуры, мечеть. Внутренние стены и, особенно, поверхности куполов и сводов этого здания, покрыты очень интересными по своему сочинению и исполнению мозаиками. Они не тронуты реставрацией, но разрушаются от невежественного обращения и сильно пострадали от фанатизма мусульман. Мозаики эти отличаются изяществом композиции, блеском красок, строгой, но, вместе, изящной манерой передачи византийских типов, особой грацией и тонким, хотя сентиментальным и преувеличенным выражением лиц. По своему стилю и техническому исполнению, равно как и по самому внутреннему содержанию, они составляют произведение, собственно, византийского искусства, без участия в каком бы то ни было виде западных мастеров живописи, и принадлежат периоду вторичного процветания искусства Византии от XI-го до ХIII-го столетия.
Мозаики центрального или большого купола заштукатурены, так как именно эта часть церкви составляет мечеть. В XI-м веке, одновременно с главным куполом, были украшены мусивной живописью и четыре меньшие купола; в своде правого от входа, или южного купола, изображен в кругу Христос благословляющий – колоссальный образ по грудь. Ниже представлены патриархи и еще ниже – ангелы. В левом, северном куполе, в центре, изображена Богородица с Младенцем (замечательно изящного рисунка); от Нее идущие лучи радужных орнаментов, разделяют шестнадцать изображений пророков со свитками, на которых написаны их пророчества о Деве, и ниже – песнотворцев и отцов церкви – многие из последних не имеют нимбов – писавших и толковавших писания о Богородице.
Между мозаиками мечети Кахрие, на первом плане стоит погрудное изображение Христа, в люнете, над входом из внешнего притвора во внутренний. Мощная фигура Спасителя, держащего в левой руке большое евангелие, в золотом окладе, с драгоценными камнями и благословляющего правой рукою, отличается прекрасным широким стилем XII–ХIII века. Христос – в голубом хитоне и в гиматии того же цвета. На первом – широкие золотые клавы, идущие от правого плеча; гиматий окутывает верх фигуры. Над царскою дверью находится другое изображение Спасителя. Он во весь рост представлен на престоле, держа в левой руке евангелие и благословляя правой; на Нем одежда того же цвета, как и в предшествующем примере, но фигура Его отличается худобою и удлиненными размерами. Перед Спасителем стоит на коленях, поднося модель храма, его украситель – Феодор Метохит. В той же церкви представлены сюжеты из жизни Христа и Богородицы. Замечательны, особенно: благословение тремя сидящими священниками – группа символического характера и, может быть, изображающая Троицу; Младенца Марии, принесенной Иосифом; сцены, скачущих за звездою и появляющихся перед Иродом, волхвов; путешествие Иосифа и Марии в Вифлеем; Благовещение и рождение Спасителя с, сопровождающими этот сюжет, подробностями963.
Остатки мозаик сохранились и в церкви Рождества Христова в Вифлееме964; они были исполнены в царствование Эммануила Комнена (1143–1180) и покрывали всю внутреннюю часть церкви и даже крипт. Фигуры в них довольно монотонны и не имеют индивидуальности; движения неестественны и тяжелы. Складки одежд означены тонкими золотыми штрихами. Декоративные мотивы, состоящие из фантастических фигур и арабесок, массивны и неграциозны. Техническое исполнение этой мозаики – не лишенной, впрочем, художественного смысла – очень тщательно, и имеет ту особенность, что в светлых частях ее употреблен перламутр. Известно также, что этот же император украсил несколько залов своего дворца в Константинополе мозаиками, изображавшими победы, одержанные им над варварскими народами. Это были последние работы мусивной живописи больших размеров в Византии. В следующие века появлялись памятники подобного рода, но уже не столь значительные, и императоры ограничивались исправлением уже существующих мозаик, иногда прибавляя к ним и свое изображение, как это сделал в XIV-м столетии Иоанн Палеолог в Софийском соборе; но стенная живопись в эту эпоху преобладала над мусивной.
ХХХIV.
Из замечательных, дошедших до нас, памятников мусивной живописи, находящихся вне пределов прежней византийской империи, по всей вероятности, работы греческих мастеров, мы назовем тут мозаики церкви св. Марка в Венеции и Софийского собора в Киеве. Великолепный венецианский храм был украшен мусивной живописью в различные века. Около сорока тысяч квадратных футов покрыты в нем мозаиками, изображающими Спасителя, Богоматерь, апостолов, святых, хоры ангелов, аллегорические фигуры христианских добродетелей, сцены из жизни апостола Петра, св. Марка евангелиста и т. д. Некоторые из сюжетов, представленных тут, встречаешь в миниатюрах византийских кодексов предшествовавших веков965.
Самые ранние из этих мозаик следует отнести к ХI-му столетию, может быть, даже к Х-му. Несколько веков кряду работали в соборе св. Марка византийские мозаикисты, и по произведениям их, мы можем получить довольно верное понятие о развитии и упадке этой отрасли искусства в Византии966. К XI-му столетию принадлежат, например, мозаики над главным алтарем. В середине представлены Спаситель, под видом юноши, Богоматерь с пророками и другими ветхозаветными лицами. К тому же времени, приблизительно, следует отнести мусивную живопись, находящуюся в двух восточных куполах. Техника этих произведений замечательно хороша, но в них, разумеется, проявляются все особенности византийского стиля того времени; фигуры представлены в однообразных положениях и симметрически распределены, однако, в движениях тела еще видна жизнь: головы не лишены индивидуального характера и лица не имеют монотонного, аскетического склада, заметного уже в более ранних римских мозаиках. Также замечательны аллегорические фигуры добродетелей, под видом женщин, исполненные, может быть, несколько позже. Некоторые из них представлены в византийских придворных одеждах, другие – в классическом костюме; между ними находишь грандиозные, благородные или грациозные фигуры, в которых не трудно угадать образцы античного искусства, повторенные не без умения.
В мозаиках церкви святого Марка более позднего времени, т. е. ХIII-го столетия, уже сильнее проявляется упадок византийского искусства; фигуры представляются то несоразмерно длинными, то слишком короткими; движения неграциозны и угловаты; контуры обозначены грубее и прямыми линиями, одежды падают параллельными, монотонными складками. Византийское влияние заметно тут и в мозаиках последующих столетий. До начала ХVI-го века, итальянские мастера, работая в соборе святого Марка, старались подделываться под византийский стиль, чтобы не нарушать гармонии произведений мусивной живописи всего храма. Этот благоразумный артистический прием был оставлен впоследствии, и мы видим в венецианском соборе мозаики, подражающие картинам эпохи возрождения искусств, исполненные не в одном тоне с сочинениями предшествующих веков и резко отделяющиеся от них.
В мозаиках церкви святого Марка мы не находим, однако, ни одной из тех грандиозных колоссальных фигур Спасителя и Богоматери, вроде, являющихся нам, например, в церкви Козмы и Дамиана в Риме и в Софийском соборе в Киеве, – фигур, сосредоточивающих на себе внимание зрителя, которые так часто встречаются в византийской мусивной живописи и выражают все особенности этого стиля, более поражавшего воображение верующих, чем возбуждавшего их мысли. Один из подобных образов мы видим в мозаиках собора Торчелло967 (Тоrcello) ХII-го столетия. Тут, в полусводе абсиды, представлена, преисполненная достоинства и величия, фигура Богоматери; она стоит, держа Младенца Спасителя на руках, и возле Нее не видно ни ангелов, ни святых. Изображенный на золотом грунте длинный образ Богородицы, представляется взорам молящегося, как видение, и составляет контраст с мозаикой, исполненной на противоположной стене церкви, очень сложного сочинения, – в которое входят около 150 фигур, – передающего славу Спасителя, райские блаженства, страшный суд, мучения ада и т. д. Над главным входом виден образ, по грудь, молящейся Богоматери – Orante. Отсутствие единства композиции и многочисленность сюжетов вредят тут общему действию всей картины. Несмотря на эти недостатки, в означенной мозаике много грандиозного и лица, вообще, выразительны и индивидуальны. Фигуры, представленные в движении, ненатуральны и рисунок их неправилен, но, изображенные в спокойном положении, не лишены величия. Замечательны, особенно, два архангела в верхнем отделении, стоящие, как статуи, по обе стороны Спасителя.
Сохранившиеся в Софийском соборе в Киеве мозаики, принадлежат к первой половине ХI-го столетия. Тут, в полусводе абсиды представлен колоссальный образ молящейся Богоматери; она стоит, как Orante, с поднятыми руками. Это грандиозное изображение того же характера, как и Спаситель в церкви Козмы и Дамиана в Риме и нисколько не уступает, что касается исполнения и техники, лучшим произведениям средневековой мусивной живописи, сохранившимся на западе, и, подобно им, поражает своим величественным видом. Под образом Богоматери представлена, также мозаикой, мистическая Тайная Вечеря. В середине является престол, формы, употребляемой в восточной церкви, покрытый пурпуровой материей, на которой вышиты цветы, круги и полосы. Равносторонний крест лежит на престоле, а за ним возвышается, на четырех колонках, небольшой навес с остроконечной крышей, кончающейся крестом. С каждой стороны этого здания стоит ангел с flabellum – ριπιδιον968 в руке. Христос изображен тут два раза, с чашей или с хлебом в руках, направо и налево от престола, впереди ангела. На Нем золотой паллиум и голубая туника; голова Его окружена нимбом, разделенным крестом. Шесть апостолов, одетых по-античному, в белые паллиумы, с одной стороны и столько же – с другой969, подходят к Спасителю, один за другим сгибаясь и жестами выражая свое благоговение и ничтожество перед Сыном Божьим970. Греческая надпись, сделанная мозаикой же, повторяет слова Христа, произнесенные при благословении Им хлеба и вина. Образы Спасителя и ангелов прекрасны и типы их благородны; но, искривленные униженными телодвижениями, фигуры апостолов и их некрасивые лица имеют мало привлекательного, хотя в техническом отношении, этот памятник указывает еще большое умение изображать мозаикой971.
Другая, сохранившаяся в этом соборе, мозаика изображает сцену Благовещения, разделенную аркой абсиды; направо представлена Богоматерь, налево – ангел. В фигурах этих, не лишенных благородства и исполненных тонко и тщательно, видны приемы хорошей школы.
В том же городе, в церкви св. Михаила, находится мозаика ХII-го столетия, также изображающая мистическую Тайную Вечерю, только в подробностях, несколько удаляющуюся от софийской, но уже низшего художественного достоинства.
Памятники мусивной живописи церкви святого Марка в Венеции, собора Торчелло и Софийского собора в Киеве определяют нам производительные силы византийского искусства веков появления этих мозаик. И, подобно тому, как колонии, высылаемые метрополией, дают нам мерило ее богатства и ее жизненных сил, так эти значительные артистические работы, исполненные мастерами вне их отечества, могут указать состояние искусства в самой Византии и определить степень ее художественной производительности.
ХХХV.
От Х-го и XI-го столетия, т. е. от 868 до 1130 г. не производятся в Риме мозаичные работы. Прекращение этого искусства в Италии видно из того факта, что, когда настоятель известного Бенедиктинского монастыря, до сих пор существующего между Римом и Неаполем, Monte Cassino – аббат Дезидерий972, посещавший Константинополь как папский легат и приобретший там любовь к искусству, захотел в 1066-м г. украсить мозаиками монастырскую базилику, то принужден был послать в Константинополь за мозаикистами, так как мозаика и накладная работа были уже около 500 лет забыты в Италии. Об этом говорит летописец означенного монастыря Monte Cassino – Лев, епископ Остии973. Греческие мозаикисты эти, продолжает он, произвели работы необыкновенного достоинства; фигуры в их мозаиках кажутся живыми, а полы, выложенные ими разноцветными камнями, походят на цветник974. Аббат Дезидерий, согласно тому же историку, поручил греческим мастерам обучить не только их искусству молодых монахов, но и ваянию из золота, серебра, железа, меди, слоновой кости, стекла, дерева, гипса, камня и т. д.975 Рассказ этот имеет несомненную достоверность, и, если не принимать слова епископа Остии в буквальном смысле, если и допустить некоторое преувеличение, когда он говорит, что мозаичное искусство уже 500 лет было забыто в Италии, так как в Риме, например, мы находим памятники мусивной живописи до середины IХ-го ст., то, с другой стороны, никаким образом нельзя предположить, что в 1066-м г. существовала в Италии школа сколько-нибудь искусных мозаикистов, так как аббат Дезидерий не послал бы за ними в Константинополь с большой потерей времени и значительными издержками, если бы мог призвать подобных мастеров из Рима или другого итальянского города. Ясно, потому, во-первых, что в середине XI-го ст. уже некоторое время мозаичные работы не производились в Италии, и, во-вторых, что вскоре после 1066 г. в монастыре Monte Cassino была образована греческими художниками школа мозаикистов. Из нее, весьма вероятно, вышли мастера некоторого достоинства, и это предположение, оправдывается тем, что мы находим в Риме, в церкви S. Maria in Trastevere, украшенной мозаиками папой Иннокентием II-м (1130–1143), памятники мусивной живописи первой половины следующего, т. е., ХII-го столетия, гораздо лучшего художественного достоинста, чем упомянутые выше мозаики IX-го века, находящиеся в церкви святого Марка в том же городе.
Мозаика S. Maria in Trastevere свидетельствует уже о некотором возрождении мозаичной работы, первое движение которому дали, по всей вероятности, византийские мастера в Monte Cassino. В фасаде этой церкви представлены мудрые и неразумные девы. Так как это художественное произведение страдало от дождей и ветров, то его часто реставрировали и, иногда, очень неискусно; несмотря на это, однако, можно заметить, что сцена, представленная в нем, хорошо задумана, просто, монументально. Распределение, хотя и сочиненное с большой заботой сохранить симметрию, не имеет ничего безжизненного, как в мозаиках IX столетия в Риме; позы разнообразны и движения натуральны. Богородица изображена тут на богатом сидении с Младенцем Спасителем на руках, пять дев представлены с одной Ее стороны и столько же – с другой. Все они с нимбами и в богатых одеждах. Стоящие направо от Богоматери, имеют на голове венки и держат, каждая, зажженную лампу. Пять других дев – налево – без венков, и лампы их не горят976. Фигуры эти не лишены грации и вся картина оставляет приятное впечатление. Внутри той же церкви находятся мозаики, исполненные также в царствование папы Иннокентия II-го. Тут, в середине абсиды, представлены Богоматерь и Спаситель на одном троне. Богородица сидит в величественной позе, покрытая дорогими одеждами, как восточная царица; лицо Ее, классической правильности, кротко и дышит добротой. Другие, представленные тут вместе с Богоматерью, лица: папа Каллист I-й, св. Лаврентий, папа Иннокентий II-ой, апостол Петр, папы Корнелий, Юлий I-й и священник Калеподий не столь хорошего стиля, как фигура Богоматери, но они уже освобождены от варварского влияния, и типы их не лишены благородства. Не надо, притом, забывать, что 130 лет еще отделяют этот памятник от Чимабуэ и 150 – от Джиотто. Почему же мусивная живопись возрождается раньше стенной? Нельзя объяснить себе этот факт, иначе, как влиянием Византии, которое было не постоянно одинаково сильно в Италии и возросло, вероятно, именно в эту эпоху, вследствие образования в монастыре Monte Cassino школы греческих мозаикистов.
Но мусивная живопись не имела в Италии уже более будущности. Заменив фрески, преобладавшие в христианском искусстве до торжества церкви, она, в свою очередь, по мере приближения к эпохе возрождения, начинает уступать место стенной живописи. Когда потребовалось украшать большие пространства на стенах многочисленных, воздвигаемых тогда, церквей и соборов, уже не могли более прибегать к медленной и кропотливой мозаической работе. Она не была способна так быстро, как живопись альфреско, передавать новые, рождающиеся идеи, пробудившегося и освобожденного от средневековых уз итальянского ума. Художники этого времени должны были выдумывать и импровизировать, что было легче стенописью, чем мозаикой. Потому, мы видим, что фрески, преимущественно, употребляются в Италии в период возрождения, для украшения храмов. Некоторые итальянские живописцы этой эпохи работают мозаики, но это, как исключение. Новые христианские идеалы, новое понимание характера Божества, изображение Христа не на небе, не в удалении от человека, не в небесном царстве, а действующим среди людей, в ежедневной обстановке, в различных эпизодах Его земной жизни, страдающим в той страшной драме, которая заключила Его пребывание на земле, все это лучше передавалось оживленной, теплой, выразительной стенописью, чем холодной и монументальной мозаикой.
В последние столетия существования восточной империи, в мусивной живописи отразились следы того упадка, который поразил все отрасли фигуративного искусства в Византии. При постепенном ее обеднении, мозаичные работы, требующие больших издержек, производились в ней все реже и, наконец, после взятия Константинополя турками, прекратились совсем.
Мозаику можно назвать живописью торжествующего христианства; она, в самом деле, приобрела большое значение в ту самую эпоху, когда новая вера сделалась религией государства и когда Христа, Богоматерь и святых стали представлять в победительном и повелительном виде.
В художественном отношении, мозаику, которая в известном месте и при известных условиях производит, своего рода, эффект, нельзя сравнить с живописью. Этот мертвый способ передачи предметов, взятых из природы и выражения мысли, напоминающий вышивание, не может иметь живости быстрого провода линий, как в произведениях кисти. Холодный блеск камня и стекла противоречит слишком сильно теплоте жизни и отнимает душу от всего, что изображается ими. В трудной, медленной, требующей большого терпения мозаичной работе чувство мгновенного вдохновения, произвольное выражение мысли не находят места. Мусивная живопись не в состоянии удовлетворить внезапным религиозным стремлениям и порывам. Личный талант художника имел мало возможности выказаться в мозаичной работе и поэтому, до нас не дошли имена мозаикистов, сочинителей и исполнителей этого рода художественных произведений, даже и христианской эпохи. Мозаика была делом традиций мастерской, и когда в Италии забыли технику мусивной живописи, то она не возродилась самостоятельно в этой стране, а была привезена византийскими мастерами.
Что касается до христианских средневековых мозаик, на которых обращено наше внимание, то и в самых лучших из них, фигуры переданы без тонкости, выпуклости и перспективы; колоссальность их часто требовала употребления больших кубов и при этом, разумеется, пропадали линии рисунка. Чистоты последних, потому, не следует искать в мозаиках. Часто, чтобы выставить рельефнее фигуру и отделить ее от грунта, черная линия идет кругом контуров тела и головы. Ярким краскам мозаик, которые большими массами очень резко ложатся одна возле другой, не достает полутонов, отчего происходят очень резкие переходы тонов. Тени или слишком бледны, или слишком ярки. Но, так как на мозаики всегда смотришь издали, то все это несколько сглаживается, и фигуры с большим блеском и энергией отделяются от грунта и одна от другой. Они представлены, обыкновенно, в серьезном, спокойном положении, преисполненном достоинства и величия, редко в профиль, всего чаще в фас, в один ряд, так что каждая из них может быть отделена, составляя нечто целое. Ноги соединены вместе и концы их обращены вниз. Иногда под ними не изображена земля, и фигура представлена, как бы, на воздухе. Симметрия была одна из главных забот мозаикистов; обыкновенно, они помещали одинаковое число фигур с каждой стороны Христа или Богоматери, чтобы не нарушить равновесия картины.
Часто слышишь мнение, что изображение фигур на золотом грунте есть прием варварского или павшего вкуса, любящего, все богатое, блестящее. Это, отчасти, справедливо. Блеск драгоценных камней и металлов ищется постоянно в эпохи упадка искусства и есть его отличительный признак. Но этот способ составлять грунт для религиозных фигур представлял их в удалении от жизни и бросал на них мистическую тень. На этом золотом поле они казались еще грандиознее; величественность их выставлялась еще рельефнее, хотя и получала, отчасти, монотонный характер.
Есть некоторое сходство между грандиозными фигурами мозаик и изображениями эллинических богов архаического периода. Те и другие величественны, по преимуществу, но представлены в условных позах, не действующими, не в движении, а в спокойном, преисполненном достоинства, положении; те и другие являются в удалении от жизни, от ее мелочностей, и имеют одну общую родину – восток. Точно также, в колоссальных, статуйных фигурах мозаик из цветного стекла, на золотом грунте, видно, как бы, воспоминание грандиозных статуй богов древних греков из золота и слоновой кости. В хороших христианских мозаиках слышно веяние искусства классического мира. Размеры фигур часто верны и благородны; они, скорее, стройны, чем массивны; лица серьезны и преисполнены достоинства; глаз, обыкновенно, велик, но без особенно живого индивидуального выражения; только Спасителю дан очень часто проницательный и, несколько, строгий взор. Лоб и скулы сильно освещены и составляют контраст с другими частями лица, менее выступающими и оставленными в тени. Контуры рук и ног выведены довольно нежно. Драпировка одежд напоминает античную манеру; складки падают полно, правильно, красиво. Краски хорошо выбраны, но сильны, блестящи и светлы в одеждах.
Мусивная живопись, по свойству своего харктера будучи способнее представить спокойствие, чем действие, принуждала художника покоряться стилю сдержанному, преисполненному достоинства, который так идет вообще религиозным изображениям. Жизнь и движение пропадали при этих условиях, но зато фигуры, по своему, в известных границах, при особенном освещении и при известной обстановке, способны произвести сильное действие и, как нельзя более, на своем месте, в больших храмах, занимая пространства значительных размеров. Можно забыть многие произведения живописи и пластики, многие статуи и фрески более высокого художественного достоинства, чем памятники христианской мусивной живописи, но грандиозные фигуры средневековых мозаик, наполняющие собою здания, в которых они изображены, так что глаза входящего в храм, невольно должны обратиться на них977, – эти величественные фигуры, говорю я, таинственно взирающие на вас, и являющиеся вам в полусвете, царствующем, обыкновенно, в церквах, долго остаются врезанными в вашу память. Если цель религиозного искусства поражать воображение, то никогда не была достигнута она с такой полнотой, как средневековыми мозаиками. Легко себе представить, какое сильное впечатление они должны были производить на юные народы, наводнявшие Италию или находившиеся в постоянных сношениях с Византией, которые, вероятно, оставались равнодушны перед прекрасными памятниками классического искусства.
Гравюра, и даже хромолитография, могут дать только очень неполное понятие о мозаиках; копии небольших размеров не в состоянии передать всех особенностей стиля этого рода художественных произведений, ни их величественного характера. Все резкости и угловатости их заметнее в рисунке, чем в оригинале, где многое пропадает в грандиозном общем. Кто не видел на месте эти памятники искусства, тот не может представить себе действия, производимого ими на зрителя.
Круг средневековых мозаик окончился в Италии с эпохой возрождения; фрески, как мы сказали выше, заменили мусивную живопись на западе. Куполы, абсиды и стены церквей расписывались альфреско. Мозаичная работа продолжалась, однако, но уже не в столь значительных размерах и, впоследствии, мозаики стали подражать живописи масляными красками. До сих пор еще существует в Риме мозаичная фабрика при Ватиканской базилике, в которой копируются замечательные картины; но при этом мозаикисты удаляются от традиций средневековой мусивной живописи. Краски простые, несложные, теперь уже недостаточны, художники, поэтому, начали умножать оттенки и переходы тонов, прибегая к микроскопической работе, к фокусам, чтобы подделываться под колорит живописи масляными красками. Церковная мозаика в наше время потеряла, вследствие того, тот грандиозный, оригинальный характер, который имела в средние века.
Памятники византийской живописи
ХХХVI
Разумеется, мы не описали тут всех, дошедших до нас, христианских средневековых мозаик и указали только на самые главные из них, для определения изменения, – причины которого будут объяснены ниже – произошедшего, с течением веков, в характере религиозных изображений верующих. То же самое изменение замечаем мы и в средневековой стенной живописи христиан. В Италии, вообще, на западе, памятники ее немногочисленны; они вполне варварского, падшего стиля, или носят на себе следы византийского влияния; то, что в них оригинального, всегда безобразно, а то, что в них византийского, вполне провинциально и составляет, как бы, слабый отблеск художественной деятельности христиан востока. Это, например, можно сказать о фресках, открытых в последнее время в древней базилике святого Климента в Риме, принадлежащих, по всей вероятности, к Х-му и ХI-му столетиям.
В восточной империи стенная живопись имела, столь же значительное развитие, как и мусивная. Образчики ее уцелели в церквах и в монастырях Греческого королевства, Фессалии, Македонии, Малой Азии, как, например, в городе Трапезунде. Но, всего более памятников византийской живописи, сохранилось в монастырях Афонской горы978, в этом убежище искусства, где оно пользовалось тем спокойствием, необходимым для развития его производительных сил, которого оно не имело ни в столице, ни в провинциях империи, подвергавшихся нашествиям варваров, разворительным войнам и постоянно волнуемых похитителями престола. Большая часть живописи в монастырях Афонской горы реставрирована, но и в ней можно еще различить типы, составившиеся прежде, и потому легко воcстановить ее первоначальный вид и получить понятие о ее художественном достоинстве. Она покрывает внутренние, иногда, и наружные стены церквей и часовен снизу доверха, и распределена отделениями или, лучше сказать, горизонтальными полосами. Каждый сюжет имеет свое определенное место в известной части церкви. Во внешнем портике, занимая большое пространство, представлен, обыкновенно, страшный суд, с ужасающими подробностями. Тут же, святые воины Георгий, Димитрий, Евстафий и другие, покрытые латами, и с обнаженным мечом охраняют вход в храм. Некоторые из них представлены почти юношами, имея правильные лица классического типа; вид других, напротив, довольно строг, даже грозен. Иногда эти величественные, хорошо поставленные фигуры979, напоминают статуи и имеют тот же характер, как ангел, упомянутый выше, изображенный в мозаике времен Юстиниана, находящейся в храме св. Софии в Константинополе. Образы этих святых воинов, которые могут дать очень выгодное понятие о византийском искусстве известных эпох, иногда заменены другого рода религиозными сюжетами, всего чаще взятыми из апокалипсиса. В предхрамии, представлены сцены из ветхого завета или из жизни мучеников. Войдя в церковь, видишь, обыкновенно, над дверьми великолепную композицию смерти Богоматери. Кругом изображены сюжеты, взятые из жизни Спасителя: вход в Иерусалим, воскрешение Лазаря, умножение хлебов и т. д. В боковой правой абсиде представлены главные эпизоды юношества Христа: Его рождение, Его крещение и т. д. В левой абсиде написаны страсти Спасителя: распятие, снятие с креста, положение во гроб, воскресение. В центральной большой абсиде почти всегда видишь притчи и чудеса Христа. Во всех этих сценах Спаситель и Богоматерь, хотя и изображенные действующими на земле, среди людей, сохраняют свой божественный характер и духовно отделены от последних. Евангелисты являются, обыкновенно, в центральном куполе на вершине четырех, поддерживающих его, столбов. Колоссальная фигура Христа изображена наверху купола. Внизу, кругом, представлена процессия ангелов в блестящих одеждах: одни с кадилами или орудиями страдания Христа, другие несут Его тело. Стены нижней части церкви покрыты образами святых в иератических позах, имеющими очень определенный, пластический характер; это, скорее, барельефы, чем живопись. Фигуры, обыкновенно, резко отделяются от голубого грунта; ни правильного рисунка, ни созвучия красок не следует искать тут; но в работах этих проявляются традиции замечательной декоративной школы. Так распределена стенопись в большей части церквей Афонской горы. Это обыкновение расписывать стены храмов сюжетами из ветхого и нового завета было распространено с очень ранних времен среди христиан востока. Св. Нил, как мы уже видели (см. гл. 2-ю), говорит об этом в IV-м столетии.
В монастырях Афонской горы монахи возобновляют живопись в своих церквах; подобного рода реставрации повторяются через каждые 3 или 4 столетия и делаются, обыкновенно, самими иноками, между которыми всегда есть живописцы. В монастырях восточного берега этого полуострова большая часть фресок была возобновлена в конце прошедшего или в начале этого века. В обителях западного берега это произошло приблизительно в XVI-м столетии.
Христианские миниатюры до иконоборства
XXXVII
Характер религиозных идей средневековых христиан выражается также и в других памятниках живописи, которые, несмотря на свои незначительные размеры, могут представить нам, в сокращенном виде, современные им большие произведения этого искусства. Мы говорим о миниатюрах или раскрашенных рисунках, находящихся в рукописях, по большей части, религиозного содержания.
Обыкновение украшать манускрипты живописью, имеющей связь с текстом, иногда, поясняющей его, существовало и раньше христианства; о нем говорят Плиний980, Сенека981 и другие писатели античного мира. Но эта отрасль живописи не имела большого развития в хорошие времена римского искусства, и Плиний говорит о миниатюрах, присоединенных Барроном к одному биографическому сочинению, в таком смысле, что из слов его можно заключить о редкости подобного рода иллюстраций. Они вошли в большее употребление только под конец существования Римской империи. В эту эпоху, древние писатели Греции и Рима уже были малопонятны; одежда, нравы и самые обряды религии значительно изменились, и многое из того, что прежде объясняли сама жизнь и окружающий мир, требовало толкования. Это, вероятно, и повело к иллюстрации текстов столько же, сколько и желание украсить рукопись рисунками.
Самые ранние, дошедшие до нас, Римские языческие миниатюры, принадлежат к IV-му или к V-му столетию; они украшают текст Илиады Гомера и Энеиды Виргилия982; в сценах, представленных ими, много драматического; они переданы живо, естественно и не без смелости, что указывает навык художника к, подобного рода, работам. Костюм и позы вполне античные, раскраска напоминает колорит фресок, дошедших до нас от римлян; это особенно касается миниатюр Илиады. Но рисунок уже довольно неправилен, композиция групп не имеет единства и, часто, запутана. Можно, потому, предположить, что иллюстрации той и другой рукописи были скопированы с более ранних образцов, так как при, почти постоянно, несколько, грубом исполнении, в них встречаешь благородные и красивые образы. И в последующие века продолжали украшать миниатюрами творения языческих писателей; так, например, мы имеем иллюстрированные списки сочинений Виргилия, Теренция и Сенеки.
Точно также и христиане присоединяли иногда к религиозному тексту миниатюры, отчасти, для пояснения его, но, вместе, и с целью украсить священное писание и возвысить этим его значение. Сюжеты этой книжной живописи заимствованы из ветхого и нового завета, из сочинений писателей церкви, из жизни мучеников, святых и т. д. Были ли у христиан иллюстрированные рукописи в века гонений, нам неизвестно, потому что самые ранние, дошедшие до нас, памятники живописи подобного рода принадлежат ко временам торжества церкви. Мы можем сказать только, что вскоре после Константина, у верующих появились кодексы великолепные, писанные золотыми или серебряными буквами, на дорогом, окрашенном пурпуром, пергаменте, иногда иллюстрированные. Св. Ефрем и блаженный Иероним говорят, что монахи IV-го столетия проводили время в изготовлении богатых списков священного писания. Крышки этих манускриптов делались из золота, серебра и украшались драгоценными каменьями. Также, из слов историка Евсевия, IV-го столетия983, мы знаем о существовании у верующих евангелий, украшенных живописью.
Самые древние, сохранившиеся христианские кодексы с миниатюрами, принадлежат востоку. И, так как очень мало памятников стенной и мусивной живописи уцелели в Византии от этого раннего периода, а время многочисленных византийских икон, написанных на дереве – появившихся, как кажется, по большей части, при иконоборстве или после – трудно определить с точностью, то миниатюры, время которых указывается портретами императора, иногда, означено в надписи, или определяется шрифтом текста, получают особенную важность, для изучающих византийское искусство и могут дать нам понятие о стиле живописи, о способности мастеров понимать и передавать сюжет, изображаемый ими, вообще, о состоянии художественной деятельности в эпоху появления этих памятников книжной живописи.
Следуя хронологическому порядку, мы, прежде всего, должны обратить внимание на греческую живопись, написанную, частью золотыми, частью серебряными буквами на двадцати шести листах пурпурового пергамента, заключающую в себе отрывки из книги Бытия. Этот манускрипт, украшенный сорока восьмью миниатюрами, сюжеты которых взяты из сопровождающего их текста, и приобретенный в Константинополе, находится теперь в библиотеке города Вены. Он был издан уже в 1690 г. и в последние годы – Garrucci984. Форма букв и стиль живописи указывают тут времена очень ранние, может быть, VI-го, даже V-го ст., и работа живописца предшествовала, кажется, письму каллиграфа, так как текст иногда слишком приближается и даже переходит линию раскрашенного рисунка. Миниатюры эти скопированы, вероятно, с иллюстраций нескольких более древних кодексов, что подтверждается также и повторением тут два раза одного и того же сюжета. Они, потому, не имеют одинакового художественного достоинства; в некоторых из них рисунок довольно правилен, фигуры просты и натуральны, движения их выразительны; обнаженное тело передано и раскрашено верно; композиция почти всегда удачна, в ней проявляются даже иногда поэтические мотивы, свидетельствующие о довольно чистом вкусе. Живописец не приведен в затруднение, распределяя фигуры в, сочиненных им, сценах; он оживляет их, не производя замешательства. Напротив, в других миниатюрах этого же кодекса, люди, представленные на ходу, валятся, в них видно мало оживления; головы и позы однообразны. Животные изображены неправильно, хотя и с тенденцией к натурализму, и имеют смешной вид; когда они мелки, то трудно иногда даже различить их породу, а верблюды, лошади и быки несоразмерно малы. В рисунке заметны промахи, указывающие звачительный упадок искусства; так, например, в сцене обещания Бога Ною и его сыновьям, что «не будет более истреблена всякая плоть водами потопа», голова патриарха, смотрящего вверх на десницу Всевышнего, появляющуюся над радугой, опрокинута противоестественно и принимает положение, невозможное в действительности. Надо пропустить несколько столетий, чтобы снова встретить, и уже в средневековом искусстве запада, подобный неправильный ракурс головы человека, смотрящего вверх. Но в живописи этой, однако, преобладают традиции классического стиля и она иногда приближается к фрескам христианских кладбищ; так, например, представленный тут слуга Исава, ведущий на своре двух собак и несущий на палке зайца, напоминает аллегорическую фигуру осени, из стенописи катакомб. Складки одежд, особенно женщин, бροшены иногда просто и изящно; вообще, одеяние, украшенное на плечах и на полах кругами – Calliculae, мало отличается от костюма христиан, представленных на стенах их ипогеев. Колорит довольно силен и не удаляется от природы. В художественном отношении, некоторые из миниатюр этого кодекса стоят выше иллюстраций списков Гомера и Виргилия, упомянутых выше. Великолепие венской книги Бытия, ее язык, богатство украшений и, особенно, некоторые мотивы в ее живописи, повторяющиеся в более поздних византийских миниатюрах, все это ведет к предположению, что она была написана и иллюстрирована восточными христианами.
Другой кодекс, может быть, одновременный с предшествующим, также заключающий в себе отрывки на греческом языке книги Бытия, находится в Британском музее в Лондоне. Он известен под названием Коттоновой библии. Рукопись эта была привезена в Лондон и поднесена королю Генриху VIII-му, который подарил ее кавалеру Cotton. В 1731-м году она сильно пострадала от пожара; из 250-ти миниатюр, украшавших ее, сохранилось 130, из которых только 12 не попорчены; от остальных уцелели части. До повреждения этого манускрипта, рисунки его, к несчастью, не были скопированы, но по сохранившимся фрагментам их видно, что они имели тот же характер, как и иллюстрации венской книги Бытия. В миниатюрах Коттоновой библии, рисунок, однако, небрежнее, складки одежд гораздо мельче, что напоминает уже очень определившийся византийский манер. Ангелы, изображенные в голубых хитонах и пурпурных гиматиях, с золотыми полосами и такими же бармами на плечах и красных сапожках, имеют вполне византийский характер. Также и золото употреблено тут с большой щедростью.
Ниже, в художественном отношении, но чрезвычайно интересны, миниатюры евангелия на сирийском наречии, находящегося теперь в Лаврентинской библиотеке во Флоренции. История этой рукописи хорошо известна. Она происходит из монастыря святого Иоанна в городе Загба в Месопотамии и была написана на пергаменте монахом каллиграфом, по имени Рабула, который окончил ее в 586-м г., как это видно по надписи, сделанной им же. Приблизительно, до Xl-го столетия манускрипт этот сохранялся в монастыре святого Иоанна; потом, по повелению патриархов Антиохии, перешел в монастырь Божией Матери в Ботре; оттуда – в другой монастырь в Каннубине близ Ливана, и в 1497-м году был приобретен фамилией Медичи и поступил в Лаврентинскую библиотеку. Миниатюры этого кодекса не сопровождают текст, который вовсе не украшен, даже в заглавных буквах, а написаны на 14-ти отдельных листах пергамента. Они, или нарисованы отдельно, занимая всю страницу, или являются по обе стороны канонов985, написанных столбцами между колонками и заключенных в архитектурный орнамент, и тогда имеют незначительные размеры. Орнаментика играет большую роль в миниатюрах этого кодекса; она состоит из архитектурных мотивов, как, например, тонких и грациозных колонок или пиластр, поддерживающих высокие портики или арки полукруглые и подкбвообразные. Вершины этих фантастических зданий, принимающие, всего чаще, вид куполов, украшены вазами, цветами, растениями, на которых сидят голуби, павлины и другие птицы с блестящими перьями. По сторонам между священными сюжетами изображены подобного же рода фигуры, а внизу – олень, лань или овца возле растения. Все это представлено натурально, свободно, исполнено в грациозном, но несколько изысканном стиле и было раскрашено яркими красками с примесью золота. Некоторые из изображенных тут животных могут иметь символическое значение, как, например, павлины, голуби, олени. Сцены, представленные в этих миниатюрах, взяты из нового, реже, из ветхого завета. Но, так как места на полях по обе стороны архитектурных орнаментов было мало, то живописец часто не мог поместить всех лиц, требовавшихся для полноты сюжета, и прибегал к сокращениям, так что его сочинения напоминают иногда барельефы саркофагов. Притом, неизвестно, когда края нескольких листов были варварским образом срезаны, вследствие чего, крайние фигуры попорчены или уничтожены.
Много из главных мотивов, сделавшихся впоследствии неизменными в византийских композициях, встречаешь уже в живописи этого кодекса. Так, например, сцена Благовещения представляет тип, от которого мало отступали византийские живописцы и мозаикисты последующих веков, и который был передан ими итальянским мастерам эпохи возрождения. Известно, что сюжет этот изображен всего один раз во фресках подземного Рима и снова появляется потом довольно поздно в христианской иконографии. В сирийском евангелии, Богоматерь поднялась с сидения формы кресла и стоит у дверей Своего дома, на широкой, украшенной скамейке – suppedaneum – той формы, которая является в более поздних византийских миниатюрах под ногами, сидящего на троне, Спасителя. На Ней туника и паллиум темно-красные, а на голове, окруженной нимбом, такого же цвета покрывало с белою каймой; на ногах Ее красные башмаки. В левой руке Богородица держит полосу шерстяной пурпуровой материи, конец которой уходит в род вазы темно-зеленого цвета. Правая рука Ее поднята к крылатому ангелу, в диадеме, с зеленым нимбом кругом головы, обращающемуся к Ней с речью. Византийские живописцы и мозаикисты очень часто, изображая эту сцену, разделяют Богоматерь и ангела, помещая их, например, по обе стороны главной, так называемой, триумфальной арки базилики или церкви986. В миниатюре этого кодекса, Богородица отделена от ангела портиком с его арками. Исключая сцены Благовещения, на полях канонов мы видим, также, Христа с самаритянкой у колодца, въезд в Иерусалим, различные чудеса, совершенные Спасителем, и Тайную Вечерь, представленную следующим образом: Христос стоит, держа чашу в левой руке, и подавая правой, хлеб подходящим к нему апостолам. Тот же мистический сюжет мы находим на, так называемой, императорской далматике, сохраняющейся в Риме в ризнице Ватиканской базилики и в мозаике Софийского собора в Киеве.
Один из больших раскрашенных рисунков этого кодекса особенно замечателен тем, что в нем мы видим первый, сколько до сих пор известно, пример изображения распятия Христа987. Под ним, на том же листе, как бы, для уменьшения неприятного впечатления, производимого картиной мучения и казни Спасителя, и, чтобы напомнить торжество Христа над смертью, написано Его воскресение. В середине, окруженная деревьями, вероятно, кипарисами, изображена гробница Спасителя, имеющая вид античного круглого мавзолея с двумя колонками; из полуоткрытой двухстворчатой двери ее вырываются лучи света, поражающие трех солдат стражи, которые бросают свои щиты и, убегая, падают. Направо от гробницы, изображен крылатый ангел, сидящий на камне, с золотым нимбом и диадемой; в руках его жезл, кончающийся наверху небольшим шаром, данный, иногда, ангелам в византийском искусстве988. Он красиво задрапирован в паллиум и, вообще, имеет величественный вид; это чисто фигура классического художества. Поднимая правую руку и складывая пальцы, как начинающий речь, этот вестник неба обращается к двум стоящим перед ним женщинам, из которых одна, с нимбом, несет бутылочку с узким горлом; это – Мария Магдалина; другая, без сияния, следует за первой, держа в правой руке жаровню для курения ароматов, имеющую вид кадила; это – Мария, мать Иакова. Художник тут следовал тексту евангелия от Матфея (Мф. 28). Налево от гробницы представлен Христос, уходящий в белых одеждах; у ног Его, обе Марии и снова, только вокруг головы Магдалины нимб.
Сошествие св. Духа на апостолов и Вознесение изображены, также, на отдельных листах этого кодекса. Все миниатюры его, представляющие большой интерес в иконографическом отношении, имеют мало художественного достоинства и исполнение их довольно слабо. Фигуры неловки, коротки, приземисты; члены их толсты, руки и ноги слишком велики; техника небрежна и грубовата. Напротив, в композиции сцен проявляется известный навык и, вероятно, миниатюрист подражал более ранним образцам. Декоративные мотивы, особенно состоящие из архитектурных элементов, как, например, арки, своды, пиластры, колонки, с их капителями и основаниями, красивы и грациозны; точно также, хорошо написаны птицы, звери, цветы, растения, вазы. По всему видно, однако, что это не один из тех кодексов, которые назначались императору или какой-либо другой значительной особе, которые писали и иллюстрировали лучшие каллиграфы и художники столицы. Живописец монастыря св. Иоанна в Загбе не был без достоинства, но он не учился у хороших мастеров и работал скоро. Труд его нельзя, потому, считать образчиком византийской миниатюрной живописи этой эпохи; он не составляет ступени в развитии этой отрасли искусства, а есть произведение провинциальное, лишенное тонкости и артистического смысла.
Следует упомянуть, также, раскрашенные рисунки, хотя и не религиозного содержания, но чрезвычайно характеристические. Они сопровождают текст сочинения знаменитого греческого медика Диоскорида, жившего, как известно, в 1-м столетии по Р. Х., уроженца города Аназарбы в Киликии. Кодекс этот in-folio и находится теперь в Императорской Венской библиотеке. Он был написан и иллюстрирован в начале VI столетия, несомненно, в Византии, для Юлианы-Аниции дочери Аниция Олибрия, западного императора, и Плакидии дочери Валентиниана III-го, следовательно, внучки известной Галлы Плакидии. После смерти своего отца, Юлиана удалилась в Константинополь, где пользовалась большими почестями. Она умерла в первые годы царствования Юстиниана. В одном из больших раскрашенных рисунков этого кодекса, изображена на золотом троне, несомом орлами, Юлиана в драгоценных византийских одеждах, пурпурной тунике с широкими золотыми полосами и золотом гиматии; на голове ее – диадема с жемчугом и украшением на лбу – лицо принцессы несколько попорчено, в ушах ее жемчужные серьги; голову накрывает красная повязка, спереди положена коса, покрытая жемчужной сеткой. Держа книгу в левой руке, она принимает другую, раскрытую, от нагого гения, имеющего вид крылатого мальчика – олицетворение строительного искусства; закутанная в белых одеждах фигура, как кажется, женщины, падшая перед ее троном, вероятно, также составляет олицетворение, может быть, страны, облагодетельствованной щедростями Юлианы-Аниции. По сторонам принцессы стоят две классические фигуры; одна из них с золотом на груди – аллегория великодушия, другая – с книгой в руке, представляет благоразумие, как указывают надписи. У трона стоят два круглых ящика, которые можно принять за цилиндры, для сохранения рукописей, или за меры зернового хлеба, символизирующие, в таком случае, раздачи бедным хлеба, производимые Юлианой. Кругом, в углах, составленных помещением круглого медальона, заключающего всю эту сцену, в восьмиугольнике, изображены гении, имеющие вид крылатых мальчиков, занятых живописью, пластикой и другими художественными работами, относящимися к строительному искусству. Эти небольшие, но вполне миловидные картины, сочинены чисто в классическом стиле и напоминают, как нельзя более, подобного же рода сюжеты, написанные на стенах Помпеи и в римских катакомбах. Тут они, может быть, должны намекать на деятельность принцессы и, в особенности, на построение ею церкви Божией Матери в Константинополе в 505 году. Несмотря на повреждение лица Юлианы, можно, однако, видеть, что оно было чрезвычайно миловидно, даже прекрасно. Красивы также и лица других фигур, имеющие вполне античные типы; особенно, это можно сказать об аллегории благоразумия. Драпировка одежд Юлианы изысканна; не лишена благородства и драпировка других лиц. Все эти фигуры могли быть скопированы с античных образцов. Напротив, фигура, закутанная в белых одеждах, падшая перед троном Юлианы, образца которой не находится в греко-римском искусстве, чрезвычайно плоха; она согнута в неестественном положении, напоминая женщин, изображенных в барельефах христианских саркофагов IV-го и V-го столетий, падшими к ногам Христа при воскрешении Лазаря и в других сценах.
Сюжеты четырех других больших раскрашенных рисунков этого кодекса следующие: 1. семь древних медиков сидят, оживленно разсуждая о медицине; 2. семь других медиков беседуют в том же расположении; в центре – Гален989 спорит с Диоскоридом. Обе эти миниатюры, написанные на золотом грунте, вероятно, повторяют древний оригинал; в том же характере и расположении представлена школа врачей в римской мозаике из терм Каракаллы, теперь в вилле Альбани990; 3. Диоскорид сидит на складном кресле в голубом пышном гиматии. Держа в левой руке свиток, он указывает на растение, как кажется, мандрогору, которую представляет ему прекрасная женская фигура – аллегория изобретения – в золотом безрукавном хитоне и пурпурном гиматии, с ожерельем на шее и с браслетами на руках. Это древнегреческий образ, сделавшийся типическим для олицетворений в византийском искусстве. У золотого подножия Диоскорида, собака умирает от съеденного ею ядовитого растения; 4. Диоскорид и живописец описывают и срисовывают растение мандрогору, которую держит перед ними та же женская фигура, но в голубом хитоне с рукавами и, вышитым перлами, воротом; на голове ее диадема. Мастер, в коротком подпоясанном хитоне розового цвета и в длинных черных сапожках, как рабочий. Сцена представляет внутренность портика с коринфскими колоннами и нишею со сводом формы раковины. На заглавном листе кодекса изображен павлин – символ бессмертия у первых христиан.
Множество животных, птиц, врачебных растений написаны на полях этого кодекса очень искусною рукою. Краски всех этих миниатюр – которые могут нам служить доказательством возрождения византийского искусства на античной почве – первоначально должны были иметь необыкновенную яркость, и теперь даже они не вполне утратили ее, но, положенные очень густыми слоями, отстали от пергамента в некоторых местах.
Замечательный памятник христианской миниатюрной живописи составляют также иллюстрации, довольно хорошо сохранившиеся, сопровождающие греческий текст книги Иисуса Навина или, лучше сказать, извлечение из нее, написанные на пергаментном свертке991, 16 аршин два вершка длины. Миниатюры тут следуют одна за другою, и текст приведен, как объяснительная надпись; может быть, даже, он был присоединен позже. Кодекс этот не дошел до нас в целости. Иллюстрации его начинаются со второй главы книги Иисуса Навина и прекращаются на 10-ой. В художественном отношении, эти миниатюры, которые, обыкновенно, относят к VII-му или VIII-му веку, мало уступают иллюстрациям венской книги Бытия. Но неясный и робкий колорит их – недостатки которого могли, впрочем, быть увеличены временем – указывает заметный упадок искусства. Военные сцены, битвы с многочисленными фигурами, хорошо сочинены, переданы натурально и не лишены жизни; всадники скачут, пешие солдаты бьются копьями, беспорядок сражения представлен довольно удачно. Некоторые фигуры величественны и могут напомнить античные статуи, как, например, архангел Михаил в воинских доспехах и с обнаженным мечом, являющийся Иисусу Навину; этот последний, останавливающий солнце среди битвы или сидящий на троне, окруженный своими солдатами, равно как и аллегорические образы рек и городов. Неискусство живописца проявляется яснее в подробностях и, иногда, в фигурах, представленных в движении. Это можно, например, сказать о евреях, несущих кивот завета: рисунок тут неправилен, людям дано неестественное положение, одушевление всей картины не отражается в каждом человеке, принимающем участие в действии. Часто также члены тела представленных людей несоразмерны, головы слишком велики или слишком малы для туловища. Различие между отдельными, выступающими в композиции, образами, хорошо исполненными и массой других, представленных неудовлетворительнее, равно как и контраст между исполнением и сочинением, ведет нас к заключению, что художник копировал фигуры и целые сцены с памятников античного искусства.
В миниатюрах этих можно заметить очень частое употребление олицетворений стихий, гор, городов и т. д., взятых из мира греко-римского. Точно так же и в венской книге Бытия, в двух спенах из истории Ревекки, когда она дает пить рабу Авраама и принимает от него подарки, источник олицетворен Наядой, с обнаженной грудью, сидящей на земле, облокачиваясь правым локтем на опрокинутую урну, из которой бежит вода, а в сцене оставления Адамом и Евой рая, их сопровождает женщина с печальным выражением лица, вероятно, аллегорическая фигура изгнания. Подобного рода образы, как мы это уже видели, и увидим дальше, сохраняются в христианском искусстве, но встречаются чаще в миниатюрах, чем в других отраслях его. Даже в Византии, несмотря на языческое происхождение этих олицетворений, они долго остаются в употреблении и число их не только не уменьшается, а, напротив, пополняется. Поклонение богам греко-римского политеизма, особенно, второстепенным, долго не угасало среди народов классического образования, принявших христианство, и следы его встречаешь в их искусстве, повериях и песнях. Олицетворения эти повели к созданию прекрасных величественных типов, часто живо выражающих силы натуры. Но надо также согласиться, что этот способ передавать природу и предметы, находящиеся в ней, удалил от прямого представления окружающего мира и придал изображению его некоторую сухость и условность. В миниатюрах, даже и при отсутствии олицетворений, природа представлена часто, как бы, в сокращении, двумя деревьями или голубым грунтом, а здания изображены, нередко, двумя колоннами или аркой. Мы замечаем также, что христианские миниатюристы, в понимании и изображении красот природы, не удаляются от живописцев мира классического.
Большой интерес представляют и миниатюры, украшающие греческую рукопись Козмы Индоплова, получившего это прозвище, вследствие плавания его в Индию. Окончив путешествие, этот ученый своего времени, уроженец города Александрии в Египте и современник императора Юстиниана, постригся в монахи и написал «Христианскую топографию», сам украсив это сочинение миниатюрами. В нем он, преимущественно, разбирает вопрос, по его мнению, догматический, о вращении солнца кругом земли, которой он придает форму конуса. До нас не дошел оригинальный кодекс Козмы Индоплова, а два списка с него, пополненные раскрашенными рисунками. Один из них находится в Ватиканской библиотеке, другой, меньших размеров, в Лаврентинской во Флоренции992. Миниатюры их несколько разнятся. Предполагают, что первая из этих копий вернее передает оригинал и, вероятно, была сделана около VII-го столетия. Вторая, принадлежит ко временам более поздним, может быть, к Х-му веку.
Миниатюры ватиканского списка представляют характер византийского искусства Юстинианова века почти столь же полно, как и равеннские мозаики. Рисунок тут часто широк, монументален, пластичен, и краски блестящи, теплы993. Есть фигуры полные, с классическим овалом лица, напоминающим типы греческих богинь. Это можно, например, сказать о святой Анне, представленной в медальоне, в положении Orante. Встречаются также и образы тощие, с тонкими худыми членами, аскетического вида, которые в следующие века будут чаще появляться в живописи восточных христиан. Но вместе с сюжетами вполне византийского характера, сделавшимися впоследствии типичными в этом искусстве, как, например, Христос в славе, сидящий на богато украшенном троне, между двумя шестикрылыми серафимами994, являются и картины, прямо повторяющие фрески катакомб, например, Иона, поглощенный чудовищем, выброшенный им, и лежащий под тенью растения. В миниатюрах этого кодекса изображены, также, патриархи, пророки, апостолы, жертвоприношение Исаака Авраамом, обращение Савла, смерть первомученика Стефана, царь Давид, сидящий в короне и одежде византийского императора на богатом троне, возле которого стоит маленький Соломон, наследник престола, так же в короне, скрывая под одеждой, по восточному обычаю, свои руки, в присутствии властелина. Кругом их написаны шесть хоров, каждый из восьми певцов и музыкантов, расположенных по радиусу в кружках. Под троном Давида изображены две танцовщицы, как их представляли у римлян. Они в безрукавных туниках, с обнаженными ногами, и пляшут, держа шарфы, которые, развеваясь, закругляются над их головами, что дает им вид тех аллегорических фигур свода небесного, какие встречаются в классическом искусстве и в барельефах христианских саркофагов. В византийском костюме представлены и другие лица кодекса; Мелхиседек имеет тип и одеяние императора, на Моисее, в сцене купины, короткая безрукавная туника, шитая жемчугом; обувь, снятая им, имеет форму не сандалий, а сапожков из красной кожи, которые носили в Византии только люди знатные и богатые. При вознесении Илии на небо, лошади нехорошо нарисованы и ненатуральны, равно как и многие другие животные этих миниатюр. Внизу мы видим аллегорическую фигуру реки Иордан, под видом старца, лежа облокачивающегося левым локтем на опрокинутую урну, из которой бежит вода. Страшный суд представлен следующим образом: Христос в голубом овале, окруженном синею полосою, т. е. на небе, имея лицо уже установившегося типа, с нимбом кругом головы, разделенным крестом, сидит, как обыкновенно, в византийском искусстве, на продолговатой, круглой, красной подушке, положенной на богато украшенный трон; левая рука его опирается на книгу, переплет которой покрыт драгоценными каменьями. Он задрапирован в пурпуровый паллиум, и его ноги покоятся на Suppedaneum. Под троном Спасителя изображены восемь ангелов, смотрящих вверх, а под ними – ряд людей, так же, с поднятыми головами; внизу мы видим, как сказано в объяснительной надписи, восстающих из мертвых; они поднимаются по грудь из земли и обращают вверх свои взоры. Это очень редкий пример изображения страшного суда в столь ранние времена. Только незначительное число рисунков ватиканского кодекса Козмы Индоплова посвящено космографии.
Иконоборство и его влияние на византийское искусство
XXXVIII
Очень мало рукописей, украшенных миниатюрами, сохранилось от столетий, предшествовавших эпохе иконоборства, равно как и от того времени, когда шел этот спор. Напротив, сравнительно, довольно значительное число иллюстрированных кодексов дошло до нас от веков, следовавших за воcстановлением иконопочитания. Без сомнения, это произошло от того, что в период борьбы за иконы, большое число манускриптов, украшенных живописыо, было истреблено. Иконолюбцы не раз упрекали своих противников в уничтожении множества церковных книг с изображениями религиозного характера995.
Вообще, можно сказать, что спор, возникший в VIII-м столетии среди восточных христиан о том, следует ли поклоняться иконам, отразился в византийском искусстве и стоит с ним в тесной связи996. В эту эпоху в Византии развились и, в некоторой степени, применялись к делу идеи, давно высказанные некоторыми христианскими писателями – которых можно назвать предшественниками иконоборцев, осуждавшими фигуративное искусство, а, следовательно, иконопочитание, выражая мнение жителей известных стран христианского востока997. Вражда к иконам обнаруживалась там, по временам, и протесты против поклонения им проявились гораздо раньше эпохи иконоборства. Так, например, уже ариане осуждали иконопочитание. В минуту торжества своего в Константинополе, они сожгли изображение Богородицы и портреты епископов этого города. В конце V-го столетия, в окрестностях Антиохии на реке Оронте, один из учеников Константинопольского архимандрита Евтихия, известного основателя еретического учения, согласно которому, Христос, обладая божественной натурой, не имел истинного человечества, проповедовал истребление икон. Во второй половине VI-го века, в той же Антиохии, произошло восстание народа против обожателей икон. Столетие спустя, богомолец, посетивший восток, рассказывает случаи фанатического разрушения религиозных изображений; так, например, в городе Диосполе в Палестине живопись, исполненная на мраморе, была уничтожена ударами копий. В самом Константинополе, где, как в столице, были представлены народности всего государства и выражались идеи, распространенные среди жителей разных, даже и самых отдаленных стран его, тот же богомолец присутствовал при осквернении изображения Богоматери. Мы, также, видели выше, что некоторые из епископов восточной церкви осуждали иконы и истребляли их, когда могли. Так, например, в V-м ст., при императоре Зеноне, Филоксен, епископ города Иераполиса в Сирии, хотел уничтожить все иконы, находящиеся в его епархии. Известный церковный писатель Иоанн Дамаскин, VIII-го столетия, ревностный защитник иконопоклонения, говорит в своем сочинении против иконоборцев, что многие еретики в прошедшие времена уже распространяли подобное нечестивое учение. Уже самый факт защиты некоторыми епископами, до эпохи иконоборства, поклонения иконам, доказывает, что оно было, иногда, осуждаемо.
Спор об иконах был вызван тем значительным, даже, блистательным развитием, которое получило художество на востоке после перенесения столицы империи в Константинополь, но, отчасти, и заменою, в века, следовавшие за торжеством церкви, символических фигур портретными изображениями. На Константинопольском соборе 692-го года было постановлено предпочитать настоящий образ Христа фигуре агнца, под видом которого Спасителя прежде часто представляли. Понятно, что прямое изображение Христа, может быть, принимаемое в эти века многими из верующих за портрет, делалось предметом большого почитания и поклонения, чем одна из Его символических фигур. Представлять живописью и пластикой Спасителя и святых с определенными типами и молиться этим изображениям могло казаться людям, склонным удаляться от фигуративного искусства, возвращением к язычеству.
Идеи отвержения поклонения иконам, стало быть, постоянно ходили среди христиан востока, иногда и проявляясь в свет, но пока это были только протесты немногих лиц или членов духовенства. Вмешательство светских властей в этот вопрос произошло уже при императоре Филиппике (711–713) из армянского рода Бардан, который обнародовал постановление, осуждавшее поклонение религиозным изображениям, что вызвало большие споры. Несколько лет спустя, более решительным образом объявил себя противником иконопочитания император Лев III Исаврянин, и с этой минуты, силы партии, отвергавшей иконы, организуются и она получает власть. Очень вероятно, что распространение учения Магомета, столь же враждебного иконам, как и закон Моисея, оживило среди христиан востока и привело в движение идеи того же характера, которые многие из них постоянно были склонны оправдывать. Известно, что магометане обвинили христиан в том, что они, обожая священные изображения, возвратились снова к идолопоклонничеству. Этому упреку, оскорбительному и ненавистному для верующих, были, разумеется, подвержены более христиане, жившие в соседстве с арабами, преисполненными тогда религиозной ревности, фанатически настроенными и гордившимися славой своих побед. Мы, в самом деле, видим, что император иконоборец Лев, солдат по ремеслу и низкого происхождения, был, родом из Исаврии, области южной части Малой Азии, жители которой находились в частых сношениях с магометанами и легко могли подвергнуться их влиянию, так как Исаврия граничит с Киликией, завоеванной в VII-м столетии арабами. Как протесты против религиозного искусства выходили, преимущественно, из среды христиан востока семитического, где в большей или меньшей степени преобладало удаление от фигуративного искусства, так и осуждение иконопочитания оживилось среди верующих восточной империи, вследствие сношения их с семитами, снова воскресившими вражду к изобразительному художеству в законе Магомета. Мы увидим дальше, что не только Лев Исаврянин, но и другие императоры икономахи были родом из Малой Азии или Сирии; так, например, Лев V-й родился в Армении, Михаил II-й – во Фригии. Точно также, и епископы, враги икон, были, по большей части, уроженцы тех же стран. Легионы, употребляемые императорами в борьбе с иконопочитателями, набирались в Азии; европейские легионы не были столь ревностны. Напротив, императоры или императрицы, воcстановившие поклонение иконам, были родом из европейских провинций империи. Так, например, Ирина была афинянка, а Василий I-й, усердный покровитель религиозного искусства, родился в Македонии.
Епископ Феофил и один окрещенный магометанин по имени Бесер, убедили Льва III-го распространять христианство среди иудеев и мусульман; но этот император скоро увидел, что главным препятствием обращения их, было поклонение христианами иконам. Именно в это же самое время калиф Езид II-й приказал уничтожить священные изображения христианских церквей, находящихся в его владениях. Первые меры, принятые императором Львом против иконопочитания, не были круты, а, скорее, осторожны; он собрал в 726-м году тайный совет сенаторов и епископов, на котором было решено удалить из алтарей священные изображения и поместить их в церквах на такой высоте, где их можно было видеть, но не прикасаться к ним и не целовать их, дабы они не делались предметом идолопоклоннического почитания. Эти распоряжения привели в негодование иконолюбцев и не удовлетворили иконоборцев. Ропот иконопочитателей и сопротивление их, раздражили императора. Второй эдикт повелевал уже уничтожение религиозных изображений. Его исполнению противился Константинопольский патриарх Герман, поддерживаемый папой Григорием II-м. Последний созвал провинциальный синод, постановления которого противоречили эдикту императора. В самой столице империи, в ее провинциях, равно как и в тех частях Италии, которые принадлежали Византии, истребление икон подало повод к беспорядкам, даже к мятежам. Так, например, толпа иконолюбцев, в которой было много женщин, перебила солдат, посланных императором уничтожить изображение Спасителя, находившееся в преддверии дворца, над главным входом его, и очень уважаемое народом. Виновные были казнены, но иконолюбцы признали их мучениками. Самая особа императора не раз во время этих возмущений подвергалась опасности. Острова Греческого архипелага восстали против Льва III-го, вооружили многочисленный флот и явились перед Константинополем с претендентом на престол, но были разбиты и сожжены греческим огнем. В 730-м году, патриарх Герман был удален императором, и его место занял Анастасий – враг икон; с этого времени все эдикты против иконопочитания приняли характер предписаний церкви. На живопись и пластику начали смотреть, как на языческие искусства. Запрещено было, под опасением строгого наказания, изображать ангелов, святых, мучеников; властям было повелено всюду, где подобные образы уже находились, разрушать их. Преследование иконолюбцев приняло характер междоусобной войны. К этой партии принадлежали члены низшего духовенства, женщины всех сословий, не исключая, даже, и императорских родов, и масса народа. На стороне иконоборцев стояло большинство войска, сам император, его двор. Вся империя разделилась на две враждебные партии и даже во дворце императора были тайные иконопочитатели. Особенно, терпели тут монахи, которые возмущали народ, противились истреблению священных изображений, фанатически защищая их, презирая при этом казнь и жестокие мучения. Они оказались ревностными поклонниками икон, может быть, и потому, что в монастырях того времени производились в значительном количестве религиозные изображения. Этим монахи кормились и, вместе, приобретали популярность в народе. В упорном, столько же, как и жестоком преследовании их за сохранение икон и произведение новых, следует также видеть стремление светской власти лишить духовенство орудия его влияния и сломить враждебную ей силу.
Еще с большим ожесточением продолжалась борьба за иконы при сыне и наследнике Льва III-го Константине IV-м (741 – 775), которому иконолюбцы дали отвратительное название Копронима, говоря о нем, как об антихристе, как об отпрыске змея, соблазнившего нашу прародительницу, и т. д. Собор, созванный им в Константинополе в 754-м году, постановил отвержение икон. Отряды солдат были посланы императором Константином для истребления священных изображений. Те из них, которые не разрушали, покрывали слоем белой водяной краски, – прием, употребленный несколько столетий спустя турками, после завоевания ими Византийской империи, при превращении христианских церквей в мечети. Жестоко преследовали в царствование Константина монахов-художников; их выгоняли из монастырей, жгли или рубили им руки и т. д. Но, чем более они терпели, тем упорнее сопротивлялись. Некоторые из них скрывались в лесах, в пещерах и там продолжали писать образа. Другие оставляли отечество и переселялись в Италию, встречая там благосклонный прием и покровительство пап, которые давали им убежище и даже основывали для них монастыри. Разумеется, при этом им была дана возможность упражняться в их искусстве, и, так как они были способнее современных им итальянских мастеров, и техника их была лучше употребляемой западными живописцами, то последние подражали им, что доказывается многими памятниками. Работы византийских монахов имели, таким образом, влияние на итальянское искусство этих веков.
Преследование икон продолжалось при сыне Константина, Льве IV-м, но уже супруга последнего, императрица Ирина, афинянка по рождению, была на стороне иконолюбцев, и в правлении ее, на соборе, созванном ею в городе Никее (787-м г.), поклонение иконам было воcстановлено на том основании, что священные изображения не составляют изобретение художников, а исполняются по указанию священного писания и согласно древним преданиям. Но статуи были исключены из христианского искусства, так как они употребляются только одними язычниками. Этим, однако, не окончилась борьба за иконы; она снова возобновилась при императоре Льве V-м Армянине (813–820). Наследник его, Михаил II-й (820–829) хотел примирить обе партии и ввести полную терпимость в вопрос о поклонении иконам, но иконоборцы понемногу склонили его на свою сторону. Сын Михаила, Феофил (829–842), явился ярым врагом почитателей икон; напрасно, однако, боролся он с ними, хотя и прибегал к строгим мерам; гонение монахов повторилось с прежней жестокостью и живописцам снова рубили руки и выкалывали глаза. Это был последний император, преследовавший иконопочитание. Оно было восстановлено – в смысле постановлений второго Никейского собора 778 г. – супругой Феофила, императрицей Феодорой, управлявшей империей во время малолетства ее сына Михаила III-го. Девятнадцатое февраля 842 г. было днем воcстановления почитания икон в Византии, и он ежегодно праздновался с этого времени. На вселенском соборе в Константинополе, в 869-м году, иконопочитание было окончательно утверждено, и с тех пор осталось неизменно в восточной церкви.
XXXIX
Первоначально, как кажется, намерение императоров и людей, разделявших их мнения, среди которых находились и члены высшего духовенства, было не только уничтожить иконопочитание, но и преобразовать гражданские учреждения государства, прекратить злоупотребления, вкравшиеся в управление страной, искоренить пороки, подтачивавшие общество, остановить его разложение, одним словом, задумывалось обновление столько же религиозное, сколько и гражданское. Но императоры, и люди их партий, увлеченные борьбой, ожесточенные сопротивлениями иконопочитателей, удалились от первоначальных здравых намерений и усиливались, прежде всего, сломить упорство иконолюбцев. Реформа, вследствие этого, приняла исключительно характер преследования икон и сделалась яростной борьбой светской власти с монашеством, удалившись от своих первоначальных разумных, политических и гражданских целей. Попытка социального и общественного исправления, потому, не удалась и не имела никакого результата.
На западе отвержение икон не принялось и не встретило сочувствия. Повеления императоров не исполнялись в тех частях Италии, которые не принадлежали Византии, и угрозы не имели действия. Римские папы постоянно объявляли себя противниками иконоборцев, и, установившееся в продолжение веков, почитание икон не прекращалось в Италии. Папы защищали священные изображения, отчасти, вследствие убеждения, но были побуждаемы к тому и политическими причинами. Противясь вмешательству византийских императоров в дела западной церкви, они упрочивали свою независимость. В самом деле, с эпохи иконоборства римские папы, видимо, начинают освобождаться от восточных самодержцев.
Императоры иконоборцы в спорах с папами, противившимися истреблению икон, искали опоры у Франкских королей, но последние не объявили себя в пользу того или другого мнения и хотели сделаться примирителями враждующих сторон. Император Карл Великий послал папе Адриану в 790-м году три книги, так называемые, «Libri Саrolini» написанные по его повелению и, вероятно, под его непосредственным влиянием, одним из ученых того времени, может быть, Алкуином. В сочинении этом разбирался вопрос об иконах, разумеется, не с художественной, а с религиозной точки зрения; оно вело к следующему заключению: церковные изображения не должно разрушать, но, также, и не поклоняться им: «Nec frangimus nec adoramus». На соборе, созванном императором Карлом Великим в городе Франкфурте под его председательством и состоявшем из 300 членов, между которыми находились епископы, аббаты и значительные светские лица, было осуждено истребление икон, но, вместе, и почитание их. Вообще, этот император был того мнения, что религиозные изображения не следует отвергать, ни изгонять из церквей, если они не делаются предметом обожания. Он хотел положить конец поклонению им, но не желал их истребления. Иконы, согласно ему, должны украшать христианские храмы, напоминать события прошедшего времени, но не больше. Фигуративное религиозное искусство не только не прекращалось в царствование Карла Великого, но даже имело, своего рода, возрождение, хотя и кратковременное. Этот император был, как известно, ревностным покровителем искусств и постоянно заботился о сохранении и возобновлении уже существовавших художественных памятников, равно как и о создании новых. Замечательно, однако, что, выражая свое мнение о религиозных изображениях, Карл Великий не оправдывает аллегорическое представление сил природы, светил небесных, земли, бездны, рек и т. д., под видом человеческих фигур, или же изображения чудовищные, как, например, соединение людских и звериных членов. Осуждение это направлено против образов, слишком напоминающих языческое художество. В мнении Карла Великого о фигуративном религиозном искусстве, уже видны, как бы, в зачатке те идеи, которые выразятся и разовьются народами германского племени северной Европы несколько столетий спустя, в эпоху реформации, но еще с большей исключительностью, так как протестанты удалили религиозные изображения из церквей своих и, когда могли, истребляли их.
Значительное количество художественных произведений было истреблено в восточной империи в период иконоборства, но нельзя, однако, сказать, что борьба за иконы причинила большой вред художеству в Византии. Не надо упускать из вида, что иконоборцы, даже и во времена самой ожесточенной борьбы их с иконолюбцами, никогда не отвергали икон с той исключительностью, как магометане, и не осуждали, подобно последним, всякое изображение живого существа. Ни Лев Исаврянин, ни наследники его на престоле, разрушая религиозные образы, не помышляли об уничтожении, вообще, фигуративного искусства. Портреты императоров иконоборцев, их жен и детей постоянно писались и выставлялись в местах собраний их подданных, для воздания им почестей. Царские дворцы великолепно украшались, стены их, потолки, полы были покрыты живописью и мозаиками, изображающими морские сцены, пейзажи с фигурами людей, охоту и даже исторические сюжеты. Так, например, Феофил и сын его Михаил украсили дворец свой мусивной живописью, представляющей зверей, собирание плодов и эпизоды войн. Даже и в церквах появились фрески и мозаики декоративного характера, для наполнения, образовавшихся, вследствие удаления икон, пустых пространств, которые народ не привык видеть и, вообще, чтобы оживить внутренность храмов, лишившихся всех, украшавших их прежде, памятников фигуративного искусства, что должно было придать им обнаженный, однообразный вид протестантских церквей, столь непривлекательный для южного человека, столь неприятно поражающий глаз его. Употребление декоративной живописи в церквах привело в негодование защитников икон и один из них с ужасом рассказывает, что император Константин, сын Льва Исаврянина, велел написать вместо сцен из жизни Спасителя, находившихся в церкви Богородицы, деревья, журавлей, воронов, павлинов, других птиц, и этим обезобразил храм Божий, превратив его в огород и птичник. Тот же самый иконолюбец упрекает одного из патриархов иконоборцев, что он сожигает или разрушает образы Спасителя и Богоматери, тогда как оставляет и даже заботливо сохраняет изображения деревьев, птиц, театров, гипподромов и т. д. В том же самом обвиняют иконолюбцы Феофила, последнего, из императоров икономахов. Мы видим, следовательно, что враги религиозных изображений не касались светского искусства, что оно было вне вопроса в споре об иконах, продолжая существовать в Византии весь этот период и не только не преследовалось иконоборцами, но даже одобрялось ими. Притом, надо заметить, что, несмотря на последовательное, по временам, истребление икон и на усердие, с которым иконоборцы исполняли повеление императоров, производство религиозных изображений не прекращалось в Византийской империи. Монахи продолжали снабжать верующих иконами и писали последние в убежищах, где их редко могли застигнуть гонители, или, презирая мучения и смерть, работали перед глазами своих палачей, иногда, даже в темницах. Вместо казненных художников, заступали ученики их, так что число живописцев не уменьшалось, и, как всегда бывает при преследовании идеи – возобновляющей под гнетом свои силы – усердие гонителей вызывало еще более упорное сопротивление им. Можно, потому, сказать, что применение фигуративного искусства для выражения религиозных стремлений не приостанавливалось в Византии, и традиции его не были прерваны иконоборством. Нетрудно заметить, что живопись, исполненная вскоре после прекращения спора об иконах, представляет те же мотивы, те же отличительные черты, те же художественные приемы, как и написанная до царствования Льва Исаврянина.
Невзирая на все это, однако, борьба за иконы, разумеется, не могла не оставить следов в византийском искусстве; так, например, декоративная живопись, исполненная блестящими красками и изображающая птиц с яркими перьями, цветы, фруктовые деревья, различные растения и тому подобные предметы, принявшая значительное развитие в Византии в период иконоборства, и занимавшая место религиозных изображений, удержалась в ее искусстве, как это можно видеть по кодексам, украшенным миниатюрами в века, следовавшие за воcстановлением иконопочитания. В этой живописи мы находим орнаментику, составленную из арабесок, гирлянд цветов, деревьев, птиц, животных и т. д., писанных на золотом грунте с большим разнообразием, яркими красками, частью, как украшение архитектурных элементов, частью, как самостоятельный декоративный мотив998.
Другим последствием иконоборства было окончательное исключение статуй из византийского искусства. Они и прежде, как мы уже видели, не были многочисленны, вообще, у верующих, и производство их, несколько значительное в первые столетия по перенесении столицы в Константинополь, шло, постоянно уменьшаясь, на востоке, по мере того, как слагались, отражаясь в их искусстве, религиозные идеи восточных христиан. Мы можем проследить, по памятникам, как в Византии постепенно определяется предпочтение живописных священных изображений статуям. Вообще, можно сказать, что редкие и незначительные памятники пластики, создаваемые в Византии, не соответствуют тем большим работам в области мозаики и живописи, какие появятся тогда в восточной империи. Статуи были уступлены еще в самом начале борьбы иконолюбцами иконоборцам. Почитатели икон отклоняли от себя обвинение своих противников в идолопоклонстве тем, что они не обожают статуй, подобно язычникам. Уже патриарх Герман, в самом начале борьбы за иконы, защищая их, говорит, что он не подразумевает статуй, так как они в употреблении только у язычников, и на Никейском соборе 767 г., благоприятном иконоборцам, были, как мы видели, разрешены религиозные изображения живописью, но не статуи. С тех пор, восточные христиане не допускают последних в свои церкви. Благосклонная иконопочитателям императрица Ирина, вместо древней статуи Спасителя, разбитой иконоборцами, велела заменить ее не пластическим образом Христа, а мусивным. Даже и барельефы, изображающие фигуру человека в натуральную величину, не встречаются более в византийском искусстве, после эпохи иконоборства; остались только произведения пластики небольших размеров и, преимущественно, из драгоценных металлов и слоновой кости. Это не до такой степени оскорбляло людей, склонных отвергать иконы, как изваяния в натуральную величину человека; но и в этих произведениях пластики малых размеров, предпочтение отдается барельефам, а не отдельным, наподобие статуй, фигурам.
Другой причиной прекращения в Византии изображения людей пластикой, было то обстоятельство, что художники перестали изучать природу, и в эпоху иконоборства произошла остановка в пластической деятельности, так как лепить статуи, скрываясь в убежищах, труднее, вообще, чем писать иконы.
Потеря эта, впрочем, была не велика для византийского искусства, и можно сказать, что иконолюбцы, уступив иконоборцам произведения пластики больших размеров, отдали то, чего более не имели. В христианской скульптуре, как мы уже видели, с каждым столетием обозначался все больший и больший упадок, и в VIII-м веке произведения пластики на западе имели уже безобразный вид. В цветущем состоянии, она не могла находиться и в Византии при начале иконоборства, где уже преобладало удаление от изучения природы, где ваятели делались постоянно все менее искусны, и где число их уменьшалось. Удаление от изучения натуры, не до такой степени парализует силы артиста в произведениях живописи, как в пластических работах. Скульптура больше других фигуративных искусств требует сближения с природой, и ваятель, удаляющийся от нее, пресекает себе пути творчества. Пластические формы, однажды выработавшиеся в искусстве, могут повторяться в нем долгое время с известным успехом; но, если они не оживлены новыми наблюдениями натуры, постоянным изучением тела человека и, особенно, если происходит временное прекращение пластической деятельности, то они окончательно теряются, что и случилось в византийском искусстве, когда в эпоху иконоборства была оставлена скульптура. Следовательно, удаление от пластических произведений больших размеров произошло в Византии не только, как результат борьбы за иконы, но, отчасти, и вследствие неспособности мастеров византийских к подобного рода работам.
Что скульптура, в самом деле, не имела живучести в Византии, видно из того, что светская пластика, не будучи осуждена постановлениями церкви, подобно религиозной, вышла, однако, постепенно из употребления. Константин V-й (780–796) поставил на площадях Константинополя статуи матери своей, Ирины, и свои, но это были последние произведения подобного рода. Справедливо, что Константин VII-й (919 – 959) украсил дворец свой Буколеон статуями, но, как положительно говорит его историк, привезенными из разных мест, а, следовательно, уже существовавшими прежде. Отсутствие пластических работ в Византии отразилось невыгодным образом и на самую живопись. Она потеряла правильность рисунка и рельефность форм, которые не вырабатываются в ней без содействия пластики. Живопись в Византии, потому, делалась все суше и площе.
После окончания борьбы за иконы, византийская живопись во всех ее видах, вследствие торжества благоприятных ей идей, получила новую силу и расширила свою деятельность, как это мы можем проверить самыми памятниками. Художники, т. е. живописцы, миниатюристы, мозаикисты, финифтчики и т. д., не страшась более преследований, работали с новым усердием, и иконопочитатели, не стесненные в своей набожной наклонности, спешили украшать религиозными изображениями свои жилища и церкви. Все это оживило искусство, вызвало его к новой производительности и воскресило античные типы. Таким образом, эта борьба, которая, как кажется с первого взгляда, должна была причинить вред византийскому художеству, в результате, оказалась ему полезна. Оно было обязано своим цветущим состоянием также и Македонской династии, занявшей византийский престол, вскоре после окончания борьбы за иконы, и, особенно, покровительствовавшей искусству. Императоры этой фамилии – Василий I-й (866–886), сын его Лев VI-й Философ (886–911) любили пышность и украсили столицу и многие города провинции художественными произведениями. Константин Порфирородный (919 – 959), сын последнего, не только поощрял искусства и направлял своими советами художников, но сам был живописец, мозаикист и работал из драгоценных металлов.
Невыгодно подействовала икономахия на византийское искусство, в том отношении, что во время этой борьбы настоящее значение художественного произведения было затемнено и на него начали смотреть, только как на предмет, достойный поклонения или отвержения, упуская из вида, его артистическое достоинство, что, разумеется, должно было отразиться неблагоприятно на религиозных изображениях.
Удаление от искусства проявилось, как мы сказали выше, среди христиан востока в первые века распространения новой веры и было выражено писателями церкви, но оно, разумеется, имело несколько другой характер, чем отвержение икон византийцами в VIII столетии. В ранние времена христианства еще близко было язычество, и изобразительное религиозное искусство могло возмущать, как нечто напоминающее идолопоклонничество. В эпоху иконоборства, подобные воспоминания уже не могли существовать; точно также, в начале распространения учения Спасителя, почитание священных изображений не успело еще принять идолопоклоннический характер, как впоследствии в Византии. Но основание было одно и то же, в том и другом случае, именно, малая склонность к фигуративному искусству жителей семитического востока, в сравнении с греками и римлянами, происходящая от действия природы, отразившаяся в идеях первых христиан востока и оживленная в религиозных понятиях византийцев эпохи иконоборства влиянием арабов.
Иконоборческие идеи возникали в последующие столетия во многих христианских сектах, среди народов центральной и северной Европы; так, например, у гусситов и протестантов являлись столь же ярые иконокласты, как и византийские солдаты, полчища которых были посылаемы императорами в провинции разрушать религиозные изображения. Но отвержение икон удержалось, и до сих пор преобладает у протестантов. Мы видим, таким образом, что в странах, природа которых мало способствует развитию фигуративного искусства, как, например, северной Европы999, иконоборство восторжествовало, тогда как те же самые идеи, занесенные к жителям южных стран ее, т. е., на Балканский полуостров и в Грецию, где натура вызывает человека к художественной деятельности – из пустыни Аравии, столь же бедной фигуративными формами, как и пустыня севера, эти иконокластические идеи, говорю я, были побеждены и искусство религиозное, несколько уступив, сохранило свои права и продолжается.
Пустыня песчаная имела такое же действие на обитателей ее, и привела к такому же результату, как и пустыня снежная. Так и тут, природа однообразная, лишенная пластических форм и ярких колоритов, не развила в людях любви к фигуративному художеству, ни способности передавать, посредством него, свои идеи и религиозные стремления, а, напротив, побуждала их, при всяком самостоятельном проявлении их мысли, при пробуждении их духовной жизни, отвергать это искусство, занесенное к ним извне, вследствие особенных обстоятельств, и смотреть на него, как на начало греховное. Это мы видели в северных странах Европы, при проявлении реформы, и в Аравии с торжеством религии Магомета. Иконокласты юга и севера действовали под влиянием одних и тех же причин.
Христианские миниатюры после эпохи иконоборства
XXL
Следы озлобления партии в эпоху иконоборства мы видим, например, в миниатюрах рукописи псалтиря IХ-го века из собрания г. Хлудова в Москве1000. Этот памятник миниатюрной живописи занимает весьма важное место в истории византийского искусства. Художественная манера тут легка и проста; живопись не лишена древней моделировки, несколько огрубелой, но все еще изящной и натуральной. Рисунок исполнен не каллиграфом, но художником, не прибегавшим для обозначения теней к мелкой штриховке, которая займет потом столь значительное место в византийской живописи. Местами проявляются небрежность и торопливость, но свежесть античного смысла, достоинство и изящество манеры выкупают недостатки исполнения. Композиция ясна, фигуры, передающие сюжет, немногочисленны. Аскетическое начало, разъедающее в византийском искусстве классические традиции, еще не наполняет тут сочинение, как в более поздних произведениях этого стиля. Лица просты и характерны, толпа изображена не так бесцветно, как в следующие века. Образы юны, как в византийском искусстве первой эпохи. Миниатюрист занят исторической правдой и личной характеристикой типов. Оригинальны лица евреев; образ Христа составляет переход от мозаического типа VI-го века к поздне-византийскому Х-го столетия. Красивое лицо Спасителя обрамлено черными, густыми волосами и маленькой, раздвоенной бородой. Богородица представляется юной девой.
В раскрашенных рисунках этого кодекса, евангельские сюжеты воплощены в слова псалтири, т. е. сценами нового завета объясняются псалмы; так, например, слова: «нет скудости у боящихся Его» (Пс. 33:10) передаются чудесным умножением хлебов, или стих: «ревность по доме Твоем» (Пс. 68:10) представляется Спасителем, изгоняющим из храма мытарей и продавцов, или слова: «у Тебя источник жизни» (Пс. 35:10) выражены Христом, беседующим с самаритянкою. Нельзя не сознаться, что в подборе эгом проявляются иногда тонкий ум и много смысла. Некоторые рисунки посвящены тут страстям Христа. Эти сцены отличаются жизненною и историческою правдою, но они набросаны, несколько, поверхностно. Замечательно, особенно, изображение Тайной Вечери. Апостолы сидят, теснясь за столом, формы сигмы – С, и лица их обращены к Христу; Спаситель сидит в профиль, на краю стола, обращаясь к Иуде, помещенному на противоположном конце и опускающему руку в солонку; Иоанн сидит по правую сторону Христа; посреди стола, в большом блюде, на подножке, символическая рыба. На столе перед каждым из апостолов изображены небольшие круги, имеющие вид хлебов; других яств тут нет. Только у Христа и у Иоанна нимбы. Это, скорее, евхаристическая трапеза мистического характера, чем историческая Тайная Вечерь. Другая миниатюра изображает причащение апостолов под двумя видами, т. е., мистическую Тайную Вечерь. Христос, стоя под навесом или киворием, за престолом, раздает куски благословенного хлеба; впереди стоящий апостол, сгибаясь, как в киевской мозаике Софийского собора, принимает от Христа этот дар; другие, так же почтительно наклоняясь, ожидают своей очереди. Налево от Спасителя стоит другая группа, причащающаяся из чаши; апостол в согбенном, почти под прямой угол, положении, пьет из сосуда; другие пять учеников стоят в той же позе. По сторонам изображены: направо от Христа – Давид, а налево – Мельхиседек; последний приносит хлебы и вино. Три раза представлена в этих миниатюрах сцена распятия и в одной из них по обе стороны Спасителя распяты разбойники на крестах меньших размеров. Наверху изображены солнце и луна. В двух примерах на Христе туника. Некоторые раскрашенные рисунки этого кодекса представляют известное сходство с иллюстрациями сирийского евангелия конца VI-го века, находящегося в Лаврентинской библиотеке.
В общем, однако, содержание этих миниатюр преисполнено воспоминаниями событий VIII-го столетия и рисует нам характер религиозного и умственного состояния в эпоху иконоборства, т. е. в них представлено заседание нечестивых врагов икон во Влахернах1001, в царствование Льва Армянина (815-го года), икономаха. Император, окруженный телохранителями, сидит на троне, выслушивая рядом сидящего, и вновь посвященного, иконоборческого патриарха Феодота. Фигура императора имеет портретную натуральность, а лицо его – восточный характер; дикие глаза властелина сверкают из-под насупленных бровей; густые локоны черных, как смоль, волос охвачены тоненьким ободком диадемы; рядом группа иконоборцев занята поруганием иконы Христа, имеющей вид круглого медальона; один из них, насадив икону на древко, намерен окунуть ее в вазу с кипящею смолою; другой, подражая одному из палачей Христа, подносит к лику Спасителя губку. Сцены поругания иконы и распятия Христа представлены в этих миниатюрах в параллель друг другу, и эпизод губки повторен в распятии. В этом проявляется оригинальная мысль сравнить иконоборцев с иудеями, распявшими Спасителя. Торжество иконопочитания представлено тут в образе патриарха Никифора, известного защитника икон, умершего в заточении за свои мнения. Он представлен с нимбом и держит в левой руке образ Христа. Вероятно, полное воcстановление иконопочитания только что совершилось, когда писались эти миниатюры. Другие раскрашенные рисунки этой замечательной рукописи, интересны столько же в художественном отношении, сколько и по своему содержанию, намекая на современные им события, совершившиеся при дворе и среди высших чинов церкви, но все-таки же имеющие отношения к спору об иконах. Иконоборство изображается в этих миниатюрах наущением диавола, иудейским предательством Христа и церкви, исходившим из гнусного сребролюбия; но иллюстратор кодекса смотрит на иконоборство с узко-монашеской точки зрения. Все выгодные стороны этого реформационного движения и нравственно-политический характер борьбы, исчезают в этой односторонней оценке, выразившейся в означенных миниатюрах. Но не надо упускать из вида, что в этой живописи отражается взгляд людей, сильно пострадавших при борьбе за иконы.
Миниатюрная живопись, как кажется, сделалась особенно любима в Византии после эпохи иконоборства, как и вообще, все произведения искусства, очень украшенные и представляющие небольшие размеры. В эту эпоху, манускрипты религиозного содержания писались и украшались миниатюрами, для значительных лиц, и до нас дошли кодексы, принадлежавшие императорам. От конца IХ-го до начала XI-го столетия сохранилось больше памятников византийской миниатюрной живописи, чем от других эпох, и, если исключить период, предшествовавший иконоборству, то это было самое лучшее время для означенной отрасли искусства в Византии. Рисунок миниатюр рукописей этих веков, обыкновенно, начерчен тонкими штрихами и рукою, довольно верной; колорит часто силен, естествен; краски положены густыми слоями; они ярки, теплы, но не резки и, обыкновенно, созвучны; пропорции членов человеческого тела почти всегда верны; изображение обнаженных частей его, иногда, вполне удолетворительно. Руки нередко хорошо нарисованы и движения их естественны. Мы все еще видим тут понимание формы, не столько приобретенное изучением природы, сколько полученное по традиции от классического искусства, но, несмотря на это, совершенно правильное. Лица не лишены выражения и верно передают все особенности состояния души. Портреты встречаются часто в кодексах этой эпохи, и видно, что они близко и смело подходят к правде. Драпировка одежд, обыкновенно, античного характера. По всему заметно, что изобретательные силы тут еще не угасли; многочисленные исторические картины, которыми поясняли текст, иногда, новы и сочинены удачно; композиция распределена искусно; но особенное уменье выказывают живописцы этого времени применять к своим целям фигуры и даже целые сочинения из классического искусства, выражая ими христианские идеи, и нельзя не удивляться столько же пониманию красоты античного художества, проявляющемуся при этом у византийских миниатюристов, сколько и свободе, с какою они вводили в христианские сюжеты мифологические фигуры.
Вследствие борьбы за иконы, византийское исусство, несомненно, должно было утратить часть самостоятельности и непринужденности. Доводы, приводимые иконоборцами при обвинении иконопочитателей в идолопоклонничестве, не могли быть забыты, и художников должна была озабочивать мысль не оскорблять тех, которые еще недавно осуждали, вообще, всякое религиозное изображение. Самому духовенству сделалось необходимо заботиться об исключении всего, способного поднять снова вопрос об иконах, что должно было поставить византийское искусство в большую зависимость от церкви, чем в предшествовавшие века. Это подчинение, разумеется, выражалось сильнее, когда дело шло об украшении церквей, монастырей и других религиозных зданий и, особенно, когда художник был монах. Но в иллюстрации священного текста, светский живописец был, конечно, свободнее от влияния духовенства. Мы, в самом деле, видим, что в миниатюрах, после окончания борьбы за иконы, появляются возле пророков или святых аллегорические фигуры, несомненно заимствованные у классического искусства и взятые с какого-нибудь памятника живописи или пластики. В некоторых кодексах они встречаются почти на каждом листе и соединяют с христианскими идеями прелесть своей, никогда не увядающей, красоты. Особенная любовь к эллинической древности и к ее литературе проявилась, как реакция после эпохи иконоборства в Византии. По крайней мере, неоспоримо, что миниатюристы того времени развивались, копируя классические образцы и вдохновляясь этими, вечно прекрасными, произведениями искусства. Нельзя сказать, что тут дело идет о рабском подражании, что красота фигур, встречающихся в христианских кодексах, принадлежит классическому художеству, а недостатки их явились, вследствие малой искусности византийского мастера. Но, чтобы хорошо скопировать какое-либо произведение искусства, надо понимать его красоты и уметь ценить их. Есть эпохи в искусстве, когда, даже копируя, искажают. Следовательно, уже один факт влияния памятников античного художества в эту эпоху, доказывает, что живописцы понимали прекрасное и желали передать его.
Можно упрекнуть миниатюристов этого времени в незнании закона перспективы; фигуры их иногда также нетвердо поставлены и лишены пластической выработки. К этим недостаткам присоединяются условные особенности, парализующие художественное действие всего сочинения; так, например, святые, мученики, особы знатные, в отдельных случаях, и все женщины представлены с светло-зеленым телом, а люди обыкновенные – с темно-красным. Это был способ, вполне неудовлетворительный, выражать нежность существ духовно возвышенных, или стоящих над обыкновенным уровнем. При изображении новых святых встречаются уже аскетические типы, вытянутые фигуры, тощие члены и даже менее живые краски. В эту эпоху стали также применять чаще золото в миниатюрной живописи, которое налагалось кистью и служило орнаментом или употреблялось в нимбах, и для возвышения света в складках одежд. Иногда, весь грунт покрывали сплошной золотой массой, так что фигуры являются, вполне удаленные от жизни, от окружающего их мира, и это, разумеется, распространяет некоторую холодность на всю картину.
XLI.
Два самых замечательных из, дошедших до нас, памятников византийской миниатюрной живописи, веков, следовавших за периодом иконоборства, находятся в парижской библиотеке. Один из этих кодексов (№510), заключает текст проповедей святого Григория Назианзского; он написан и иллюстрирован для Василия I-го, изображение которого помещено в начале книги. Так как этот император царствовал от 867 до 886 года, то время маниатюр, украшающих эту рукопись, нетрудно определить. Они богаче, и стоят выше, в художественном отношении, всего, что сохранилось от этой отрасли византийского искусства. Перед каждой проповедью находился, прежде, отдельный лист с раскрашенным рисунком, сюжет которого имел известное отношение со следовавшим поучением. Сорок шесть листов, по большей части, с несколькими миниатюрами, некоторые, однако, с одной только картиной, дошли до нас. Тут встречаются библейские сцены, формы которых уже сложились раньше, но, также, и изображения событий более новых, как, например, борьба с арианами, преследования христиан при императоре Юлиане, собор, происходивший в царствование императора Феодосия, сцены из жизни святых православной церкви и самого Григория, как, например, отвращение им града. В сочинении этих новых сюжетов видно, что миниатюрист не был лишен изобретательности; он передал их очень живо; головы фигур выразительны, преисполнены достоинства, лица красивы и круглы, тело полно и румяно, краски ярки, рисунок почти всегда правилен, и замечательно, что художник, изображая Спасителя на кресте, нарисовал Его, прежде, нагим, как это видно по отпавшему в некоторых местах слою краски, и потом уже написал одежду, что выказывает желание приблизиться к натуре. Фигуры, представленные в спокойном положении, в церемониальной позе, удались лучше, изображенных в движении. Здания имеют стиль поздней классической архитектуры; по большей части, они небольших размеров и пестро раскрашены; формы и краски пейзажа условны, перспектива постоянно неверна. Несмотря на эти недостатки, живописец почти всегда достигает своей цели и производит впечатление на зрителя. Особенно замечателен Иезекииль, задрапированный по-античному – как и все другие фигуры миниатюр этого кодекса, не без вкуса, хотя и несколько сухо – взывающий к Богу на поле костей (Иез. 37), устремляя вверх взоры и поднимая руки. Голова пророка преисполнена выражения и лицо его вдохновлено; вообще, это величественный образ. Но тут же, скалы представлены вовсе ненатурально, вполне условно. По всему, однако, видно, что художник пользуется формами, предшествовавшего развития этой отрасли искусства, которые начинают несколько каменеть под его кистью. Богатство украшений этого манускрипта и роскошные костюмы лиц, изображенных в нем, объясняются его назначением. Вероятно, эти иллюстрации – работа царских мастеров.
Другой замечательный памятник миниатюрной живописи означенной эпохи, находящийся в парижской библиотеке, это псалтирь (№ 139), как видно по письму его текста, Х-го века. Из четырнадцати раскрашенных рисунков этого кодекса in-folio, восемь – изображают сцены из жизни Давида; содержание остальных шести взято так же из ветхого завета. Живопись тут не отличается особенно тонким исполнением, – она, может быть, так же копирует более ранние типы, – но замечательно преобладающими в ней элементами античного искусства. Они проявляются, например, в пластичности фигуры человека, в драпировке одежд, в статуарной позе людей, в способе выражать чувства, в раскраске, иногда, очень приближающейся к колориту помпейских фресок, в классической манере представлять пейзаж, украшая его архитектурными мотивами. Только костюм и, иногда, несколько связанные телодвижения царей, форма их корон, золотые нимбы и золотой грунт, употребленный, однако, всего два раза, напоминают нам, что мы стоим на византийской почве. Но всего сильнее проявляется влияние классического искусства в изображении олицетворений, которые встречаются тут в большем количестве, чем в других кодексах. Не только силы природы и предметы, взятые из нее, постоянно представлены в миниатюрах этого псалтиря аллегорическими фигурами, но этот вид принимают даже нравственные качества, свойства и чувства людей. Так, например, при изображении Давида прекрасным юношей, в античной одежде, с длинными вьющимися волосами, среди идиллического пейзажа, развлекающегося у своего стада игрою на лире – картина, очень напоминающая помпейские фрески – Мелодия1002, имеющая вид красивой женщины, сидит возле Пастыря, грациозно опираясь левою рукою на его плечо. На ней греческий костюм; верхняя часть ее, грудь и руки обнажены, они хорошо нарисованы и рельефно переданы. Голова Мелодии несколько наклонена и приятная улыбка оживляет ее правильное лицо. Ниже, лес представлен полунагой мужской фигурой с венком из зелени на голове, сидящей у скалы со стволом дерева в руке, а вдали видна античная вилла. Из-за мраморной круглой колонны или фонтана, боязливо выставляя лицо, пугливое эхо, под видом молодой девушки, слушает пение Давида. Кругом распространяется игривый свежий пейзаж, пополненный, как мы уже сказали, зданием. Миниаютюра эта, которая была бы, скорее, на своем месте возле текста идиллий Феоктиста, чем в рукописи песней Давида, перешла в позднейшие византийские псалтири. В борьбе со львом, Давида поддерживает олицетворение крепости, представленное женщиной, в сражении с Голиафом – крылатая сила, а аллегорический образ хвастовства удаляется от великана и рвет на себе волосы. При помазании Давида, является крепость, античная женская фитура в дубовом венке, указывая рукою на царя, как на образец для подражания. В сцене коронования Давида он, по обычаю франко-германских народов, поднят на щит – тип, перешедший в другие миниатюры, как выражение торжества; в этой же сцене полунагая фигура, с нимбом, опускает на голову царя, так же, окруженную сиянием, корону. При покаянии, Давид изображен падшим на землю, в той же позе, как и император перед троном Христа, в мозаике софийского собора в Константинополе. Над царем тут стоит раскаяние – величавая, классическая, выразительная фигура, в безрукавном хитоне, с пурпурною повязкою и с голубым нимбом; она изображена на кафедре, задумчиво и грустно наклонив голову1003. Когда царь Иезекия просит Бога, в присутствии пророка Исаии, о продлении ему жизни, молитва олицетворена женщиной с голубым нимбом, указывающей на небо. Сцена перехода через Чермное море представлена живо, с классическими воспоминаниями, и не столь запутанно, как в барельефах саркофагов. Она повторена и в других, более поздних византийских кодексах, но, иногда, без олицетворений. Фараон увлечен в глубину вод, хватающим его за волосы, молодым, сильным мужчиной, вынырнувшим до половины туловища – олицетворение бездны; а на первом плане – обнаженная женщина с светло-зеленым покрывалом кругом бедр, и веслом в руке, изображает Чермное море. На земле стоит женщина – аллегория пустыни; она приветствует израильтян, а сзади, их провожает ночь в голубом нимбе и в лиловой одежде, держа над головой распущенное покрывало. В сцене молитвы пророка Исаии в лесу, на утренней заре, пред десницею, позади его изображена высокая, стройная женщина с большим развевающимся темно-голубым покрывалом, усеянным звездами, принимающем вид арки над ее головой, окруженной нимбом; левой рукой она держит опрокинутый факел; перед пророком изображен красивый бескрылый гений, имеющий вид мальчика, в легких одеждах, с поднятым факелом. Эти фигуры, как указано надписью, олицетворяют ночь и утреннюю зарю, чтобы выразить слова пророка: Душею моею я стремился к Тебе ночью, и духом моим я буду искать Тебя во внутренности моей» (Ис. 26:9) Странное впечатление производит худой, изнуренный образ старика между величественной женской фигурой, напоминающей статуи богини Юноны, и оживленным полуобнаженным мальчиком. В греческой ватиканской рукописи (№755) книги Исаии, принадлежащей к тому же времени, как и парижский псалтирь, изображена совершенно таким же образом и с теми же подробностями молитва пророка Исаии. Это может служить доказательством, что византийские миниатюристы повторяли уже составившиеся типы, и копировали их друг у друга.
Замечательно, также, в парижском псалтире величавое изображение пожилого царя Давида, стоящего на богато-убранном подножии, в церемониальной позе, подобно византийскому императору, являющемуся перед народом. В левой руке он держит псалтирь, а правою благословляет; с каждой стороны его по аллегорической фигуре; одна из них – мудрость; она с книгою и, подняв руку, как бы, говорит, что в небесах ее источник; другая – пророчество; она указывает на псалтирь, как на сочинение вдохновенное.
Все олицетворения этого кодекса представлены натурально и имеют живой, одушевленный вид; им дан красноватый, нормальный цвет тела жителей юга; напротив, фигуры священного цикла – Давид, Исаия и т. д. представлены со светло-зеленоватым телом. Золотые сияния даны царям, пророкам, а голубые – аллегорическим фигурам. Последние, если они не олицетворяют христианских добродетелей, как, например, мелодия, крепость, сила и т. д., иногда лишены нимба, – прием, не встречающийся прежде в в христианском искусстве.
Мы замечаем в миниатюрах этого кодекса несколько рук, не одинаковой художественной силы. В какой степени живописцы копировали тут для своих сочинений иллюстрации более ранние, и в какое время образовались типы последних, сказать трудно, так как для определения всего этого у нас нет достаточно данных. Можно только свидетельствовать заимствование; так, например, легко заметить, что иногда миниатюрист копирует, и, при этом, не вполне понимает оригинал, пропуская известные подробности, отчего страдает ясность сочинения; но, в общем, однако, нельзя не удивляться столь долгому сохранению в Византии классических мотивов, в довольно чистом виде. Олицетворения нравственных качеств, чувств и состояний души, встречающиеся в миниатюрах этого кодекса, и которых мы не находим ни в римском языческом, ни в первоначальном христианском художестве, следует считать наследием эллинического искусства, некоторые элементы которого ожили в новом стиле христианской живописи, восточном, сложившемся на эллинической почве.
Другой образчик византийской миниатюрной живописи Х-го столетия, в котором проявляется некоторое изменение, сравнительно с предшествующими памятниками искусства подобного рода, находится, так же, в парижской библиотеке (№ 64). В кодексе этом изображены два императора, имена которых не выставлены, но, вероятно, это Константин Порфирородный и его соправитель и тесть Роман I-й Лакопен (920–944). Замечательно тут тонкое и чрезвычайно старательное исполнение фигур, имеющих очень незначительные размеры, что с этого времени начинает часто встречаться в византийских кодексах. Но эти люди представлены слишком крохотными, и одежды их, переполненные складками, драпированы угловато. С большой роскошью украшен один из листов этого манускрипта. Тут видны архитектурные элементы, исполненные блестящими красками, на золотом грунте, и оживленные сценами охоты, фигурами зверей, павлинов и других птиц, пьющих из фонтанов и т. д. Все это написано очень тщательно, живо, и ярко раскрашено.
К тому же веку принадлежат другие миниатюры, украшающие евангелие, находящееся в парижской библиотеке (№ 70), и написанные в царствование императора Никифора Фоки (963). Тут изображены только четыре евангелиста, которые, несмотря на их незначительные размеры, не лишены выражения и имеют вид серьезных ученых, размышляющих или читающих.
Это новое направление византийской миниатюры, изображать легкие фигуры и орнаменты, написанные чрезвычайно тонко, с большим старанием, яркими красками, имело свою выгодную сторону, так как недостатки, происходящие вследствие удаления от изучения природы, преобладавшего в Византии, менее заметны в живописи мелкой, чем больших размеров. Образчик этой новой манеры иллюстрации кодексов мы видим в рукописи конца Х-го столетия теперь в парижской библиотеке (№ 543) и заключающей в себе проповеди св. Григория Богослова, епископа Назианзского и другие теологические сочинения. Тут мы находим виньетки в начале текста, составленные из сплетающихся ветвей, цветов и пестрых птиц, все чрезвычайно живого действия. Даже и заглавные буквы украшены фигурами или сами состоят из них1004. До этого времени в византийских миниатюрах отделяли живопись от письма. Эта каллиграфическая орнаментация, выработка которой начиналась гораздо раньше у северных народов и, как мы это увидим дальше, в период Карловингов достигла очень значительного развития, была незнакома в Византии, где даже и в самых богатых кодексах, писанных золотом или серебром, на пергаменте, окрашенном пурпуром, заглавные буквы не отличаются от других и имеют только несколько большие размеры. Это нововведение повторяется в византийских рукописях последующих веков.
Превосходный образчик византийской миниатюрной живописи Х-го века находится в библиотеке города Парма в Италии. Это евангелие (№ 5) в большой ин-кварто. Замечательны в нем, особенно, орнаменты, отличающиеся необыкновенно тонкой работой и живостью красок. После стольких веков, они до сих пор еще имеют, скорее, вид эмали, чем живописи. Во многих местах греческого текста изображены сцены из святого писания, небольших размеров, не представляющие ничего особенного и не столь хорошего исполнения, как фигуры во всю страницу, четырех евангелистов, на золотом грунте. Вполне прекрасен и натурален св. Матфей, хорошо задрапированный и величественно сидящий, напоминая собою образы апостолов в Пуденцианской мозаике, протягивая руку к аналою, на котором лежит евангелие. Также, чрезвычайно выразительно тут вдохновленное и энергическое лицо Луки, готового писать слово Божие.
Два замечательных иллюстрированных кодекса дошли до нас от царствования Василия II-го Порфирородного (976–1026); один из них – это псалтирь в библиотеке св. Марка в Венеции (№ 17). Тут, на заглавном листе, мы видим портрет самого императора, – к несчастью, несколько попорченный, – во весь рост, на золотом грунте. Поза его натуральна и не лишена энергии; он стоит в великолепном вооружении, на золотом подножии, как статуи на пьедестале. Вообще, во всей фигуре его, много статуйного, размеры членов – правильны. Правая рука императора держит копье совершенно натурально, как статуя Августа в Ватиканском музее. В общем, это свободно и широко написанная фигура, не имеющая ничего натянутого; лицо монарха вполне индивидуально и довольно тонкого исполнения. У ног его, падают ниц и простираются перед ним его подданные, представленные меньших размеров, чем их властелин; над последним – изображен Спаситель и два архангела; один из них надевает на голову Василия корону. Другой лист этого кодекса наполнен шестью миниатюрами, изображающими историю Давида. Толпа представлена, в сцене помазания, совершенно натурально; каждое лицо имеет свое индивидуальное выражение. Не лучше передавал толпу Джиотто в своих фресках. Особенно замечателен тут Голиаф1005 в золотых латах, со щитом в левой руке и копьем в правой. Подобно императору, он имеет статуйный вид, как и, вообще, многие фигуры в византийском искусстве, представленные в неподвижных позах, что постоянно лучше удавалось живописцам Византии, копировавшим, вероятно, греческие статуи, находившиеся у них перед глазами, чем изображение людей в движении. Что касается Голиафа, то надо идти далеко в эпоху возрождения, чтобы найти у итальянских живописцев фигуру, подобную ему, столь выразительную, так хорошо поставленную на ноги и правильно написанную. Давид, убивающий льва, представлен довольно живо, но в других сценах, движения его вялы и связаны. Звери изображены тут ненатурально, точно так же, горы и пейзаж переданы вполне условно; но здания, обстановка архитектурная и комнатная представлены верно.
Второй кодекс – это менологий, сохраняющийся в ватиканской библиотеке (№ 1, 613). Он был написан золотыми буквами in-folio и иллюстрирован, как видно из посвящения, для того же императора. При каждом жизнеописании святого, которые следуют одно за другим, по календарному порядку, находится миниатюра, занимающая половину ненаполненного текстом листа; но, так как в некоторые дни празднуются несколько святых, то в этом манускрипте, заключающем в себе только шесть месяцев, с сентября по февраль включительно, 430 раскрашенных рисунков. Миниатюры тут написаны на золотом грунте с большой тщательностью, подписавшими имена под своими произведениями, восьмью художниками царской, т. е. светской, не монастырской школы, и потому, живописцами-специалистами, не любителями-монахами. Следовательно, в означенной художественной работе сосредоточились лучшие артистические силы этой отрасли искусства в Византии конца Х-го столетия. Но иллюстрации тут не одинакового художественного достоинства; некоторые – ребячески слабы, другие, напротив, более удачного исполнения; лучшие из них, однако, уступают не только миниатюрам предшествовавших столетий, но даже и украшающим, описанный выше, псалтирь того же императора. Здания, представленные в миниатюрах менология Василия II-го, блестящие куполы, поставленные на колонки, базилики, портики из разноцветного мрамора, с занавесами между колоннами, аркады, водопроводы, дома с плоскими крышами и красивыми балюстрадами, двухэтажные постройки с открытой колоннадой наверху, ограды, разнообразно украшенные, все это может дать нам понятие о великолепии архитектуры Царьграда этой эпохи, если предположить, что мы видим тут здания, в самом деле, существовавшие, а не произведения фантазии живописцев, как во многих картинах и фресках итальянских мастеров эпохи возрождения. Но традиции античного искусства уже значительно ослабели в этих миниатюрах; иногда, правда, художник изображает на зданиях и на саркофагах античные барельефы, рисует кариатиды, статуи нагих воинов, но все это только, как мотив орнаментики. Даже одежды не имеют тут той легкости, как в более ранней византийской живописи; они, или массивны, или распадаются в мелкие складки. Обнаженное тело, однако, передано не без умения и рисунок, местами, не лишен правильности, но сух и не привлекателен. Отдельно изображенные фигуры – безжизненны, движения их неловки. При изображении толпы, художник не может внести в нее жизни и разнообразия; он группирует фигуры в правильные и глубокие массы, так что головы поднимаются одна над другой. Композиция не всегда удачна, но нельзя сказать, что она повторяется; напротив, видно желание разнообразить ее и сочинять новые мотивы; но все это вращается в очень узкой сфере. Сценам из жизни и деяний святых, предпочтены тут картины их мучения и смерти за веру, изображенные резко, с неприятными подробностями и утомительным однообразием. В эту эпоху, сюжеты подобного рода начинают чаще встречаться в искусстве восточных христиан – факт, объясняющийся тем, что, вследствие их частых сношений и войн с азиатами и с варварскими народами, наводнявшими восточную империю, нравы с каждым столетием становились суровее в Византии и казни, чрезвычайно жестокие, стали входить там в употребление, сделавшись даже очень обыкновенными. Картины мученической смерти святых, занимающие две трети этих сочинений, чередуются со сценами церковных церемоний, торжественных шествий и, отдельно стоящих, священных фигур; все это напоминает равеннские мозаики; но то, что в мусивной живописи и в больших размерах выходит грандиозно, монументально, в миниатюрах делается сухо и чопорно. Замечательно тут, также, приближение к раннему христианскому искусству; так, например, изображения похождения Ионы напоминают, в некоторых деталях, представления того же сюжета на стенах катакомб. Также, очень часто встречаются фигуры молящихся.
По раскрашенным рисункам этого кодекса заметно, однако, что возвращение к началам классического искусства, вообще, оживление, проявившееся после эпохи иконоборства в миниатюрной живописи, прекратилось уже в ХI-ом столетии, и, что исключительно монашеский характер, который будет с этого времени идти, постоянно возрастая, начинает обозначаться в художественных произведениях подобного рода, даже и исполненных светскими мастерами. Образы анахоретов, в этом кодексе, имеют уже сухой и мрачный вид.
Достойный внимания, также, греческий кодекс ин-кварто1006, вероятно, работа монастырских мастеров, с начала до конца писанный золотом, может быть, в Константинополе, во второй половине Х-го или в начале XI-го столетия, и заключающий в себе евангелие. На первой странице изображен Христос, на четырехугольном подножии, осыпанном жемчугом, держа в левой руке евангелие, и благословляя правой; на Нем пурпурный хитон с широкими золотыми клавами и голубой гиматий; драпировка Его одежд угловата и, как бы, ломается. У Спасителя тот же тип, как и в мозаиках ХI-го и ХII-го веков, но лицо тут – строгого выражения, продолговатее и худощавее; вся фигура, непропорционально длинна. То же самое можно сказать и об изображении Богоматери, имеющем, впрочем, много изящного. Она одета в голубой хитон, лиловое покрывало окутывает Ее с головою; Она прижимает к груди правую руку, а в левой держит свиток. Четыре евангелиста, написанные в этом кодексе, как обыкновенно, в византийских евангелиях, имеют уже установившиеся типы и утрируют, несколько, выражение строгости и величавости. Последняя, и важнейшая из этих миниатюр, написанных постоянно на золотом грунте, изображает преподобного Петра. Он имеет мрачную, аскетическую фигуру старца, с бородою до пояса, в темно-коричневом монашеском одеянии. С его кожаного, с металлическим набором, пояса висят вериги. Это – патриций, времен царицы Ирины, сделавшийся монахом.
В византийских кодексах второй половины ХI-го века, фигура человека уже представлена сухо и безжизненно; она вытягивается и удлинняется; этим художник желал передать ее изящность. Заметна и некоторая бедность духовного содержания; также, и техника ухудшается. При этом, фантастическая орнаментация принимает все больше и больше значения; она является и раньше, но пока была подчинена религиозному сюжету и отличалась вкусом и умеренностью; заглавные буквы не представляли больших размеров, никогда не занимая половину, или даже целый лист. Напротив, в кодексах этого времени декоративные элементы делаются главной заботой миниатюриста, и к тому же, принимают очень неестественные, нередко, оскорбляющие вкус, формы: так, например, заглавные литеры часто составлены из людей или из зверей, изображенных, чтобы передать искривины некоторых букв, в согнутых, скрученных положениях, не достижимых в натуре, без вывиха или перелома членов. При возрастающем удалении византийских живописцев от изучения природы, этого рода украшения, напоминающие орнаментику, но более грубую, западных кодексов, делаются особенно любимы. Заключенные в квадратные рамки и окруженные растениями, птицами, зверями и написанные на золотом грунте, эти византийские виньетки приближаются к манере украшения, так называемого, арабского стиля.
Подобные декоративные мотивы мы видим именно в греческом кодексе 1063 г. (№ 463 в Ватиканской библиотеке), заключающем в себе проповеди Григория Богослова, епископа Назианзского. Пишущая фигура последнего, имеет уже очень безжизненный вид, тогда как заглавными буквами, часто совершенно произвольными сокращениями, – представлены некоторые религиозные сюжеты; так, например, художник, желая сценой крещения Спасителя передать букву X, сблизил головами Христа и Иоанна и, поместив между ними голубя, изобразил наверху, с каждой стороны, по низлетающему вкось ангелу. Также, и микроскопические фигуры встречаются в этом кодексе. Прием этот часто скрывает неискусность живописца и придает его работам вид оконченности и тонкости.
В очень богато украшенной рукописи (№ 74 в Парижской библиотеке) четырех евангелий ХI-го столетия, мы видим также смешение, до тех пор неизвестное в искусстве восточных христиан, фигур и орнаментов. Перед каждым евангелием изображен пишущий евангелист, не как обыкновенно, больших размеров, т. е. во всю страницу, но в маленьком медальоне, в середине большой квадратной виньетки, состоящей из сплетающихся ветвей и других декоративных мотивов. При этом, однако, евангелисты, несмотря на то, что они очень малы, не лишены выражения. Фигуры людей в других священных сценах, изображенных в этом кодексе, также крохотны и представлены в церемониальных позах; они несоразмерно длинны, руки их тонки, жесты утрированы. Недостатки византийского стиля уже сильно эаметны тут. Но отделка мелочна, тщательна, краски блестящи, и мелкая, золотая штриховка одежд, заменяет складки и тени.
Другой замечательный кодекс (№ 79 в Парижской библиотеке) того же времени, содержащий в себе собрание сочинений Иоанна Златоуста, был написан для императора Никифора Вотониата (1070–1081) и заключает четыре раза повторенное изображение его. Раз, он представлен на троне между аллегорическими фигурами правосудия и правдивости, окруженный царедворцами, изображенными гораздо меньших размеров, чем властелин. В другом случае, он стоит между архангелом Михаилом и святым Иоанном Златоустом, от которого принимает книгу. В третьем – он изображен на троне, слушая чтение монаха, и, наконец, в четвертом – является вместе с императрпцей, в полном облачении, получая благословение Христа. Техническая часть этой живописи еще очень удовлетворительна; краски сильны и не лишены созвучия, головы представляют индивидуальный характер, но одежды, еще более, чем в миниатюрах предшествующих веков, пристают к телу, тяжелы от шитья, арабесок, жемчуга и других украшений.
Очень характеричны и миниатюры, украшающие кодекс Догматической паноплии, сочинение Евфимия Загабена, написанное по повелению Алексея Комнена (1081–1118), с целью опровержения ересей. Эта рукопись, сохраняющаяся в ватиканской библиотеке (№ 666), заключает в себе портрет императора, где он представлен уже стариком; из чего можно заключить, что иллюстрации ее были исполнены под конец его царствования, следовательно, в. начале ХII-го столетия. Сюжеты их относятся к составлению׳текста и участью в этом императора. Раскрашенные рисунки тут занимают всю страницу и исполнены тщательно на золотом грунте, вероятно, лучшими мастерами того времени, так как кодекс этот назначался для самого императора. В первом из них изображены писатели церкви со свитками пергамента, т. е. их сочинениями, из которых была составлена книга, опровергающая ереси. Во втором – представлен император, принимающий Догматическую паноплию; в третьем – он подносит ее Спасителю, сидящему на троне, благословляя. Рисунок этих миниатюр сделан верною рукою; это, особенно, можно сказать про фигуру Христа, сидящего на троне; краски блестящи, но холодны и мертвы; в общем, видишь тут все недостатки плохой живописи византийского стиля. Писатели церкви в первой картине составляют густую, безжизненную толпу; фигуры их, несмотря на церковное облачение, более живописное, чем светская византийская одежда, представляются монотонными, перпендикулярными линиями; мрачные лица их однообразны. Прежний тип величественного старца, задрапированного по-античному, встречающийся в более ранних миниатюрах, и, особенно, в мозаиках, пропадает в христианском искусстве этой эпохи и вместо него являются угрюмые старики с исхудалыми, морщинистыми лицами и фанатическим взглядом. Еще хуже представлен во втором рисунке сам император, принимающий книгу; он покрыт, вместе с протянутыми руками, тяжелыми складками императорской мантии, что дает ему массивный, неуклюжий вид.
Очень богатую орнаментику и, также, олицетворение отвлеченных идей, мы находим в кодексе ХI-го столетия (теперь в библиотеке святого Марка в Венеции № 540), заключающем в себе евангелия. В мелкой живописи его, тщательно исполненной блестящими красками на золотом грунте, мы видим фантастическую архитектуру, колонны, стоящие на людях и на зверях и т. д. Также и аллегорические фигуры ветра, месяцев, добродетелей. Последние представлены 24-мя женскими образами, единственными в своем роде. Мудрость показывает на свой лоб, благоразумие – на уста; милостыня сеет, истина держит факел и т. д. Небольшие фигуры эти, может быть, не очень удовлетворительные в художественном отношении, интересны, как проявление мысли в пределах искусства. Олицетворения подобного рода встречаются в мозаиках почти одновременных с этим кодексом, именно, в церкви святого Марка в Венеции. Несколько столетий спустя, они появятся в работах итальянских мастеров, особенно – Джиотто, как, например, во фресках его церкви Мадонны dell’ Аranа в Падуе.
В рукописи1007 ХII-го столетия четырех евангелий, изображен император Иоанн со своим сыном Алексеем, коронуемые Христом. Оба они в узких, плотно прилегающих к телу, тяжелых и очень украшенных византийских одеждах того времени и стоят прямо, как колонны, в безжизненной позе. По обе стороны Спасителя, представленного наверху, две женские фигуры в мантиях и коронах, которые, как бы, шепчут Христу на ухо; в надписях они названы правосудием и милосердием. Сюжеты других многочисленных миниатюр этого кодекса, написанных, вероятно, около 1128 г., взяты из евангелия; исполнение их очень неудовлетворительно. В распределении фигур, иногда, небрежно нарисованных, видно большое замешательство; движения их слишком сильны или, напротив, вялы. Толпа людей и хоры ангелов представлены возвышающимися пирамидально, одна над другой головами, как в мозаиках Рима, времен полного упадка искусства, и в византийской живописи на дереве. Некоторые фигуры еще довольно натуральны, как, например, Иоанн Предтеча в сцене крещения. Традиции хорошей миниатюрной школы пока заметны тут, но материал, сохранившийся от предшествовавшего развития этой отрасли искусства, с неумением и неловкостью употребляется в дело. Аллегорический образ Иордана, представленного, как обыкновенно, в полулежачем положении, с урной, свидетельствует о бессознательном повторении мотивов классического искусства. Как и во многих других византийских кодексах предшествующих веков, исполнение ниже техники в миниатюрах рукописи1008, так же ХII-го столетия, заключающей в себе текст четырех евангелий, украшенный богатыми виньетками, на золотом грунте, ярко раскрашенными.
О состоянии византийского искусства этой эпохи, мы можем получить некоторое понятие и по миниатюрам, написаниым в двух экземплярах книги проповедей Иакова, монаха Кокцинобафского монастыря, о праздниках Богоматери. Один из них находится в парижской библиотеке (№ 1208), другой – в ватиканской (№ 1162). Первый список составляет, по всей вероятности, копию второго, и оба они происходят от начала ХII-го столетия. Колорит и золотой фон тут блестящи; драпировка одежд почти всегда хорошо понята и приближается к античной, но рисунок сух; фигуры длинны, безжизненны, столбообразны, движения неловки, композиции разнообразны, но спутаны и произвольны: так, например, живописец, изображая несколько раз сцену Благовещения, передает ее различным образом, и помещает Богородицу, то у фонтана, то у дверей Ее дома, то, окруженную ангелами. Он любит ландшафты, но пишет их на золотом фоне и условно, Вознесение Спасителя представлено в фантастической базилике. Последняя миниатюра особенно интересна для изучающих византийскую архитектуру: пять, блистающих золотом и красками, куполов этого здания несколько напоминают куполы святой Софии и базилики святого Марка в Венеции; но и тут, на заднем плане, за учениками изображены деревья. Многие из иллюстраций этого кодекса вошли, впоследствии, в византийскую иконографию и даже в произведения первых мастеров эпохи возрождения искусств в Италии. Не лишены вкуса, также, и виньетки, составленные из сплетающихся ветвей растений, среди которых изображены звери и птицы, а в заглавных буквах, состоящих из различных животных, сирен, сфинксов, грифонов и т. д., проявляется юмористическое направление, заметное также и в западных миниатюрах. В книжной живописи, с падением искусства, орнамент не столь быстро утрачивает свои формы и теряет в художественном отношении, как изображение фигуры человека. То же самое мы могли уже заметить и в мозаиках.
Не менее интересны, но более низкого исполнения, миниатюры кодекса ватиканской библиотеки (№ 394), заключающего в себе, вместе с другими теологическими сочинениями, книгу Иоанна, аббата Синайской горы, жившего в конце XI-го века «О Лествице духовной», прозванного потому, Климаком, т. е. Лествичником1009. В ней он говорит о добродетелях, как о, ведущей к небу, Лествице, восхождению по которой препятствуют пороки. Эти последние олицетворены тут черными, иногда, крылатыми людьми, а добродетели – ангелами. Несмотря на мелкие размеры живописи, рисунок ее, вообще, плох, фигуры несоразмерно длинны и тощи, лица имеют строгое, печальное выражение; положение их не определено и они стоят нетвердо на ногах, а когда представлены в движении, то имеют изломанный вид. Можно сказать, что композиции, в художественном смысле, тут не существует, и живописец, вытвердив одно расположение, повторяет его несколько раз; техника, однако, стоит выше сочинения и некоторые маленькие фигуры отделаны с точностью.
Но и в эту эпоху падения искусств, византийские миниатюристы продолжают копировать старые образцы, что мы видим по, дошедшим до нас, иллюстрациям ХII-го столетия греческой рукописи Октотевха (она находится в Ватиканской библиотеке № 746), т. е. первых восьми книг библии. Тут раскрашенные рисунки книги Иисуса Навина имеют большое сходство с миниатюрами кодекса того же содержания VII-го или VIII-го века, описанными выше, и, очень вероятно, что те и другие были заимствованы из одного, более раннего образца. К тому же заключению приходишь, сравнивая иллюстрации венской книги Бытия с миниатюрами, сопровождающими ту же часть текста в Ватиканском Октотевхе. Нельзя не согласиться, что между ними много общего. Кроме этого, мы видим в иллюстрациях Октотевха мотивы, встречающиеся в кодексах Илиады, Энеиды, Козмы Индоплова, парижского псалтиря и других, упомянутых выше. Это может служить доказательством, как долго в византийском искусстве ценились и повторялись классические типы, но и, вместе, что живописцы очень часто копировали произведения своих предшественников, а не создавали новые композиции и поступали в этом случае, подобно каллиграфу, переписывавшему текст. Однажды выработанный тип, повторялся долгое время миниатюристами, как это делалось и в других отраслях византийского искусства. В исполнении 350-ти миниатюр Октотевха, писанных многими художниками и заимствованных, как мы сказали, из разных кодексов, заметна уже большая художественная несостоятельность. Есть фигуры, написанные широко и свободно, но их немного. Даже и копируя, живописцы изображают тощих безжизненных людей, с маленькими руками и ногами; драпировка одежд суха, но отделка тщательна и, несколько, изыскана.
Разграбление Константинополя крестоносцами в 1204-м году, обеднение страны, вследствие этого бедствия, равно как и основание латинского королевства в Византии, прервали традиции ее искусства и ускорили упадок его. Все памятники миниатюрной живописи, дошедшие до нас от эпохи, следовавшей за взятием столицы империи, очень низкого художественного исполнения; фигуры уже совершенно иссушены и работа имеет поверхностный характер. Даже и техника, столь богатая средствами, столь выработанная и ловкая в своих приемах, дошедшая до большого совершенства в цветущий период византийского искусства, долго сохранявшая свои качества, при падении формы, – даже и техника эта утрачивает свои качества в произведениях миниатюрной живописи этого времени.
Образчик последней, мы находим, например, в кодексе Мануила Палеолога. Этот император объезжал в 1408-м году дворы многих европейских государств, прося помощи в борьбе против турок, и, в благодарность за гостеприимство иноков монастыря «St. Denis», около Парижа, подарил им древний экземпляр мнимых сочинений св. Дионисия. К этой рукописи (она хранится в Луврском музее) присоединена миниатюра, изображающая императора и членов его семейства, под покровительством Богоматери. Без сомнения, мы видим тут произведение одного из лучших живописцев того времени, так как оно было заказано самим императором; но, несмотря на это, фигуры представлены оцепеневшими, лишенными жизни; одежды покрыты золотом и под их плотностью пропадают формы человеческого тела; лица однообразны и изнеженны, но не лишены выражения, а исполнение – уже вполне неудовлетворительно.
Ни в одной из отраслей византийского искусства не проявляется в такой степени сродство между ним и эллиническим художеством, как в миниатюрах. Эту свявь мы, вероятно, столь же ясно могли бы видеть и в византийских мозаиках, но, к несчастью, очень незначительное число их дошло до нас. Что византийские миниатюристы широко заимствовали и вдохновлялись – помимо римского классического художества – мотивами эллинического искусства, традиции которого были живы на той почве, где составился и развился византийский стиль, мы уже видели по миниатюрам многих кодексов, но, особенно, парижского псалтиря, где сгруппированы олицетворения отвлеченных идей, состояний души, имеющие вполне эллинический тип. Вероятно, также многие другие фигуры и целые композиции, с изменением костюма и некоторых подробностей, перешли из древнегреческой живописи и пластики в миниатюры восточных христиан. Произведения византийских миниатюристов стоят, следовательно, в прямой связи – разумеется, уступая им значительно, в художественном отношении – с созданиями греческих живописцев, и в первых слышен часто, как бы, отдаленный отголосок художественных инстинктов искусства более совершенного.
От западных христиан мы имеем гораздо меньше памятников миниатюрной живописи, чем от восточных. Эта отрасль искусства, в которой отражалась современная ей стенная и мусивная живопись, не могла иметь такого значительного развития в Италии – наводненной и разоренной варварами – редкие фрески и мозаики которой, как мы видели уже в VII-м столетии, отличаются бедностью художественного замысла, плохим исполнением и неудовлетворительной техникой; миниатюрная живопись, говорю я, не могла развиться в такой степени в Италии, как в Византии, процветавшей столько же в умственном, сколько и в материальном отношении, в то время, когда Италия беднела. В этой стране не было монастырей, особенно замечательных производством миниатюрной живописи, как в Германии или во Франции. Потому, если мы сравним одновременные иллюстрированные кодексы итальянского происхождения с восточными, то увидим между ними огромную разницу, и убедимся, что первые стоят гораздо ниже, в художественном отношении, вторых1010.
В итальянских миниатюрах иногда нет холодного золотого грунта; фигура человека, может быть, передана с большей правдой, не так суха и вытянута, как в византийских кодексах некоторых эпох; но западные миниатюристы впадают в противоположную крайность и изображают массивных, грубых людей, с большими ногами и руками, с коротким, коренастым туловищем и крупными чертами лица. Немногие миниатюры, написанные в VI-ом столетии живописцем по имени Сервандус в латинском списке библии, сохраняющемся в Лаврентинской библиотеке во Флоренции, свидетельствуют о большом упадке искусства. Точно также, иллюстрации латинской библии VIII-го века, находящейся в библиотеке Перуджии, может служит образчиком вполне варварской живописи. Фигуры тут, при очень бедной технике, исполнены совершенно поверхностно. Художники не знают; как члены человеческого тела примыкают один к другому, люди кажутся собранными из частей, не принадлежащих им и плохо соединенных. Черты лица определены несколькими грубыми линиями, щеки представлены красными пятнами; тени означены твердыми штрихами пера. Элементы орнаментики, в том и в другом кодексе, поражают своей бедностью.
Еще ниже падает в Италии миниатюра от Х-го до ХIII-го столетия; тогда изображаются в кодексах фигуры каллиграфического характера, напоминающие детские рисунки, без света и теней; контуры нетвердо и неправильно означены широкими цветными линиями, а колорит определяется пятнами. Только в Византии сохранилось в эти века художественное понимание сюжета1011.
Византийская живопись на дереве
XLII
Одна из отраслей искусства, которая получила значительное развитие в последние века независимого существования Византии, особенно, после взятия Константинополя крестоносцами, и продолжавшаяся даже, когда империю покорили турки, была живопись на дереве. Это предпочтение последней, в период обеднения Византии, может объясниться тем, что мозаика – искусство царского торжества и богатства, и миниатюрная живопись – искусство ученых, стоили гораздо дороже, чем живопись на дереве. Что требовалось тогда в Византии от художества, это воспроизведение догматов церкви и ее учения, недорогим способом. Исторические сюжеты встречаются редко в, этого рода, памятниках, и цель их была служить выражением церковной или домашней набожности. Мы видим всего чаще тут, одну или несколько фигур, но постоянно без действий, как, например, Христа между святыми, особенно почитаемыми там, где писалась икона, или ее соорудителями. Часто, также, представлена Богоматерь с Младенцем, окруженная ангелами, и т. д. Иногда, ряд библейских сюжетов идет по краям образа, составляя, как бы, рамку главным большим фигурам. Живопись на дереве получила особенное развитие в эпоху упадка византийского искусства и потому, в ней выступили все те недостатки, которые заметны, но не в столь сильной степени, в других отраслях фигуративного художества восточных христиан предшествующих столетий; так, например, на образах, писанных на дереве, мы видим худощавые фигуры, с неестественно длинными членами тела, без соразмерности между собою, лица с впалыми щеками и углубленными глазами, в оцепенелых позах, или с натянутыми, угловатыми движениями; иногда, однако, проявляется желание придать грацию и нежность этим окаменелым образам, что не всегда удается. Волосы, бороды и головы переданы монотонно. Заученый традициональный рисунок, вполне удаляющийся от натуры, постоянно преобладает в этого рода живописи. Тело представляется оливковым или темно-желтым, иногда, светло-серым, свинцовым, и не имеет никакой свежести; вследствие этого, лица получают безжизненный вид и, иногда, очень напоминают мумии. Краски имеют темный, тяжелый, хотя почти всегда ровный тон. Этот особенный колорит приписывают действию времени, отвердению лака, покрывающего живопись, копоти свечей и ламп, горевших в продолжении столетий перед этими образами; может быть, тут есть доля справедливости, тем более, что в византийских миниатюрах не встречаешь подобного темного колорита; его находишь, однако, но не в такой степени, в некоторых мозаиках. При изображении известных святых, смуглый цвет их лица, может быть, также должен был указывать их южное происхождение. В драпировке одежд еще заметны воспоминания классического стиля, но уже видно полное непонимание его. Складки распределены приблизительно так, как им следует лежать при положении тела изображаемой фигуры; но они представлены неловко и неполно, принимая вид узких, сжатых, параллельно бегущих полос, которые, изгибаясь длинными линиями, окружают тело, представляющееся, как бы, изрубленным.
Живопись этих образов, имеющих иногда довольно значительные размеры, отличается, обыкновенно, ремесленным, дюжинным исполнением, но техника ее твердо установлена и не лишена достоинств; также, и композиция почти всегда хорошо распределена, хотя постоянно с несколько монотонной симметрией. Иногда даже в самых фигурах виден, как бы, отблеск грандиозного стиля мозаик предшествующих веков. Лик Богоматери, особенно, больших размеров, изображенный на дереве, имеет, иногда, правильность и величие хорошего времени византийского искусства, но уже с известной сухостью в исполнении. Некоторые из, дошедших до нас, образов подобного рода, могут принадлежать к эпохе иконоборства или повторять типы, составившиеся в то время. При преследовании икон, живопись на дереве, легко исполняемая скрытно, или в убежищах, должна была особенно развиться и сосредоточиться в руках монахов. Вообще, можно сказать, что эта отрасль искусства имеет в Византии, по преимуществу, монастырский, а не светский характер.
Мало изменений происходит в живописи на дереве; еще меньше, чем в мозаиках и в миниатюрах. В ней повторяются одни и те же мотивы, одни и те же образцы, с погрешностями рисунка и с недостатками в сочинении. Потому так трудно определить время памятников этого рода1012, так как они, в продолжении нескольких веков, почти не меняются. В более поздние времена, в византийском искусстве, вошло в обыкновение покрывать фигуры образов ризами из золота и серебра, окружать головы лучами из тех же металлов, украшать все это драгоценными каменьями, монетами и т. д. При таких условиях, художественное достоинство живописи оценить невозможно, и она делается почти ненужной, для выражения религиозного сюжета.
Произведения византийской пластики из слоновой кости и драгоценных металлов
XLIII
Мы уже сказали выше, что в Византии, после эпохи иконоборства, деятельность скульптуры была ограничена и создавались только небольшие пластические произведения из слоновой кости и металлов.
Слоновая кость считалась материалом очень ценным в древнем мире, с ранних времен1013, и способным передавать пластическия формы. Работы из слоновой кости мы находим например в гробницах и развалинах городов Египта, Ассирии, Персии и других древних монархий Азии. В библии также часто упоминается этот материал, как украшение дворцов и различных предметов, например, трона Соломона и т. д. Греки, не зная еще существование слона, украшали костью его клыков сидения, кровати, ножны мечей и т. д. Об этом говорится уже в Илиаде и в Одиссее. Известно также, что этот материал у Греков употребляли в цветущий период их искусства, в скульптуре, вместе с золотом, для статуй богов, иногда, колоссальных размеров. При этом, тело изображалось слоновой костью, а одежды – золотом. Вероятно, техника обработки слоновой кости перешла к Грекам от азиатов; до нас дошли слоновокостные барельефы от времен, отдаленной древности, ассирийского и древнего азиатского стиля1014. Этруски, и после них римляне, также очень ценили слоновую кость; у последних, она стояла наравне с драгоценными металлами; из нее делали изображения богов и ею украшали различные предметы: курульные кресла, музыкальные инструменты, сосуды и т. д. Сношения с Грецией распространили в Риме слоновокостную пластику и, в первые века империи, статуи богов из золота и слоновой кости не были редкостью у Римлян. Замечательны также слоновокостные крышки консуларных диптихов, с барельефами религиозного или светского содержания.
У первых христиан слоновокостная резьба началась во времена, относительно, довольно ранние; по крайней мере, есть произведения этой отрасли искусства, которые следует отнести к первому веку торжества церкви, может быть, даже несколько ранее, и, тогда как формы в мраморной скульптуре постоянно понижаются, в слоновокостной они удерживаются дольше. Это можно объяснить тем, что, если нужно больше терпения в резьбе из слоновой кости, чем в скульптуре из камня, то в первой не требуется особенной смелости. Художники времен упадка классической пластики чувствовали себя бодрее перед куском слоновой кости, чем перед глыбой мрамора. Они уже разучились рубить его, но слоновую кость сверлят не без уменья, с большим терпением и с любовью деталей, так что часто представляют много фигур и предметов, довольно трудного исполнения, на небольшом куске слоновой кости. Притом, в произведениях пластики незначительных размеров, все недостатки и несовершенства, свойственные падающей скульптуре, не столь заметны, как в работах, изображающих человека в натуральную величину.
В то время, когда скульптура из мрамора, вообще, из камня, свидетельствует о постоянном упадке художественного вкуса, когда произведения ее делаются все реже и реже, слоновокостная резьба приобретала в искусстве религиозном, равно как и в гражданском, все больше и больше значения. Начиная с IV-гo столетия, и все средние века, в Византии существовала школа резьбы из слоновой кости, произведения которой были очень распространены даже и на западе. Эти памятники не подвергались такому систематическому истреблению в период иконоборства и при наводнении восточной империи турками, как другие создания искусства больших размеров. Незначительный, представляемый ими, объем, помогал скрывать их от разрушителей икон и от варваров; но довольно трудно определить время этих произведений неизвестных скульпторов – вещей, разбросанных теперь по разным музеям, церквам и частным собраниям Европы. Традиции этого искусства сохранились в резьбе из дерева, которая до сих пор производится в монастырях Востока1015, и из Византии перешла в Россию. Она имеет те же приемы и достигает в деталях той же тонкости, как и резьба из слоновой кости.
В Византии художественные произведения из слоновой кости имели иногда большие размеры; так, например, согласно преданию, в первоначальной церкви святой Софии в Константинополе стояла статуя из этого материала святой Елены, матери Константина. Известно также, что слоновокостные барельефы украшали, во времена Юстиниана, двери нового, построенного им, храма святой Софии и, что около 803 года Карлу Великому из Византии были присланы в дар богатые резные двери из слоновой кости; но, разумеется, обыкновеннее были произведения небольших размеров из этого материала. Слоновокостные доски, покрытые барельефами религиозного содержания, украшали переплеты евангелий, служили образами; соединенные вместе – составляли складни, небольшие ларцы церковного употребления, иногда и дароносицы. Некоторые из памятников подобного рода принадлежат к раннему периоду византийского искусства и отличаются хорошим исполнением, так что в них виден, как бы, отблеск классической пластики.
Слоновокостные доски с барельефами, украшающие кресло епископа Максимилиана (546 – 552), сохраняющееся в ризнице Равеннского собора, составляют самое замечательное произведение этой отрасли искусства, исполненное в эпоху полного преобладания византийского стиля в Равенне, именно, в VI-м столетии. Сохранилось только 18 из этих досок, другие пропали. Сюжеты, представленные в их барельефах, заимствованы из жизни Христа и Иосифа, сына Иакова; некоторые сцены переданы с известным драматическим чувством; это, особенно, можно сказать об отчаянии Иакова, увидевшего окровавленную одежду своего сына. Жизнь проявляется и в других эпизодах истории Иосифа; головы часто не лишены характера, и на лицах удачно выражены различные чувства; но, вообще, можно сказать, что исполнение этих барельефов, – представляющих, впрочем, не одно артистическое достоинство и принадлежащих, вероятно, многим скульпторам, – выказывает довольно плохую технику и мало художественного вкуса; это особенно заметно в сюжетах из нового завета, и следует предположить, что некоторые из них относятся к более позднему времени. Иоанн Креститель и 4 евангелиста являются тут между двумя колонками в нишах, кончающихся наверху раковиной, формы, встречающейся в барельефах саркофагов. В фигурах этих проявляется стремление к индивидуальности, но они грубого и угловатого исполнения; ноги поставлены неправильно, в профиль, совершенно так, как у египетских статуй, но архитектурные орнаментальные части исполнены лучше людей. Богатый орнамент этого сидения, – в котором преобладает виноградная лоза и видны многочисленные птицы и звери, очень грациозного эффекта и менее тяжелой симметрии, чем, обыкновенно, в византийском искусстве – вероятно, скопирован с античного памятника.
Другое произведение, очень характеристической византийской слоновокостной скульптуры, находится в Британском музее в Лондоне. Это крышка диптиха; на ней изображен барельефом ангел, стоящий под богато украшенной аркадой, поддерживаемой двумя красивыми колоннами. В левой руке его – жезл, кончающийся шаром, а в правой – сфера, увенчанная крестом. Складки его паллиума брошены, как у античных статуй, с некоторой, однако, изысканностью, не всюду составляя удачный мотив драпировки. Лицо его правильно, но, несколько, материального типа; положение всей фигуры свободно, не имеет ничего натянутого и не лишено благородства, даже величия, но ноги представлены неловко на ступеньках, ведущих в нишу, и в натуре не могли бы принять такое положение. Тут, без сомнения, мы видим образчик византийской пластики лучшего времени1016.
К самым замечательным и самым древним слоновокостным работам следует отнести барельеф, вероятно, украшавший крышку церковной книги, находящийся теперь в парижской библиотеке. Он изображает человека в античной одежде, стоящего с поднятой правой рукою, как начинающий речь, и с книгой в левой руке. Голова его окружена нимбом, разделенным крестом, что ясно указывает намерение представить Спасителя, так как подобный нимб давался в христианской иконографии только одному Христу; но лицо изображенного тут человека, немного удаляется от обыкновенного типа Иисуса. По стилю, памятник этот следует отнесть к эпохе иконоборства.
Несколько позднее является византийский триптих, или тройной складень, находящийся в христианском отделении Ватиканского музея. Фигуры на нем изображены в двух ярусах, разделенных рядом бюстов, в медальонах. В средней части триптиха представлен Христос на троне, между Богоматерью, Иоанном и некоторыми святыми; другие угодники изображены на боковых частях складня. Имена их написаны по-гречески. Все они одеты в античное платье; головы выразительны и индивидуальны; фигуры, может быть, несколько длинны, но, вообще, благородны, и исполнение выказывает известную тщательность и тонкость.
Невыгодные стороны византийского стиля и упадок его, выражены в слоновокостном барельефе второй половины Х-го столетия1017, который был сделан, без сомнения, по случаю бракосочетания сына императора Оттона I-го, впоследствии, императора Оттона II-го, с греческой принцессой Феофаной. На нем изображена эта чета, в богатых византийских одеждах; Оттон и Феофания стоят каждый на скамейке, и между ними Христос, преставленный больших размеров, чем остальные фигуры, на высоком подножии; отделяя руки от туловища у локтей, Он кладет их на головы венчающейся четы, как бы, благословляя ее. Образ Спасителя не лишен величия, и исполнение барельефа довольно тщательное, но уже несколько угловатое; сочинение всей группы монотонно; фигуры безжизненны и не имеют полноты форм человеческого тела. Употребление латинских и греческих букв, в надписи этого памятника, дает право предположить, что он был произведен в Германии, но греческим мастером, сопровождавшим византийскую принцессу.
Слоновокостная скульптура производилась также и среди западных христиан; им приписывают довольно много барельефов из этого материала, которые относят к векам, следовавшим за торжеством церкви. Значительное число подобных памятников принадлежат к периоду карловингов, но эпоху появления их определяют, основываясь, преимущественно, на их стиле. Надписи и другие, столь же положительные, данные позволяют точнее указать время только некоторых из этих произведений искусства. Много западных слоновокостных барельефов, иногда, светского характера, украшают предметы церковного служения и сохраняются теперь в ризницах и сокровищницах церквей и соборов Европы. Вообще, этого рода пластические работы, имеют большое сходство с барельефами мраморных саркофагов, и составляют, как бы, подражание последним. Сюжеты их те же самые, и Христос представлен, так же, молодым человеком в паллиуме.
Самый замечательный образчик подобной скульптуры находится в Берлинском музее1018: это цилиндрический сосуд, вероятно, служивший дароносицей. В барельефе, с наружной стороны его, изображен Спаситель – юноша; он сидит на красивом троне, окруженный 12-ю апостолами; Петр и Павел сидят у Его ног. Христос держит свиток пергамента в левой руке и складывает пальцы правой, как оратор античного мира, начинающий речь. На противоположной стороне представлено жертвоприношение Исаака Авраамом. По стилю, памятник этот нельзя отнести к эпохе большого упадка ускусства; в нем живы традиции классической пластики; особенно замечательны красивый образ Спасителя, напоминающий сидящие статуи античного мира, и юношеские фигуры двух, стоящих возле трона, Его апостолов. Можно, потому, смело предположить, что это произведение искусства появилось вскоре после торжества церкви. Вероятно, к тому же времени принадлежит другой слоновокостный барельеф, хорошего технического исполнения, сохраняющийся в ризнице собора города Салерно, и изображающий очень драматически смерть Анания и Сапфиры. Оба эти памятника не уступают, в художественном отношении, лучшим барельефам саркофагов.
Укажем также на ящик, находящийся в Брешии в библиотеке Guiriniana1019, составленный из слоновокостных досок с барельефами. В верхней части, заключенные в медальоны, представлены бюсты Спасителя, под видом юноши, почти отрока, и апостолов. Ниже их, в три яруса изображены сцены из ветхого и нового эавета, очень полного и, можно даже сказать, сложного сочинения, иногда, не лишенного драматизма, как, например, в сценах Анания и Сапфиры, отречения апостола Петра и появления Христа перед Пилатом. Пропорции членов человеческого тела переданы довольно правильно, хотя уже попадаются фигуры короткие и коренастые, столь часто встречающиеся в западной средневековой скульптуре; драпировка одежд иногда брошена очень удачно, но, в общем, тяжела и лишена отделки. Головы, вообще, грубоваты, но есть лица выразительные, которым старались придать жизнь; в большинстве, впрочем, они мало оживлены, имеют вид масок и однообразны. Попадаются и неправильные, иногда даже смешные движения фигур. Это один из самых замечательных памятников подобного рода скульпуры первых христиан, вероятно, конца IV-гo или начала V-гo столетия.
О состоянии слоновокостной пластики на западе мы можем также получить некоторое понятие по крышкам диптихов. Они принадлежат, по большей части, V-му и VI-му столетию, и, так как на них изображены консулы, то это позволяет, иногда, с точностью определить год их появления. Барельефы тут исполнены, в общем, не без вкуса, но уже в VI-м веке заметен сильный упадок в этой отрасли пластики на западе. Техника сохраняется, исполнение остается довольно тщательное, но фигуры теряют жизнь и имеют сонный вид. Это проявляется, например, в барельефах двух слоновокостных досок, составлявших, может быть, крышку евангелия и исполненных в царствование Карла Лысого (840–877), вероятно, в монастыре Сен-Галлене1020. На одной из этих досок изображен Христос-юноша, в славе, в овальном сиянии; с каждой стороны Его представлен, парящий, шестикрылый херувим. В углах являются пишущие евангелисты и около них – их символы. Солнце и луна изображены под видом человеческих фигур, по грудь, с факелами; голова одной из них окружена лучами, а другая – увенчана серповидным месяцем. Внизу, океан представлен аллегорически, как в классическом искусстве, человеком с урной и морским чудовищем, земля – женщиной с рогом изобилия. На другой доске мы видим Успение Богородицы; Она изображена с поднятыми руками, между двух ангелов. Тут же передан один из эпизодов легендарной жизни основателя Сен-Галльского аббатства. Наверху одной из досок вырезан орнамент из акантовых листьев, на другой – изображена травля зверей. Исполнение всего этого довольно грубо, фигуры тяжеловаты, натянуты, без пропорции в членах; аллегорические образы удались лучше других, потому что, вероятно, были скопированы с античного образца. Вообще, тут видно влияние классического искусства, хотя и проявляющееся в очень грубой форме.
Как низко пала на западе слоновокостная скульптура, мы видим по диптиху IХ-го столетия1021 из монастыря Рамбона в Мархии, в Италии1022. Спаситель представлен тут распятым; солнце и луна являются под видом человеческих фигур, с факелами. С одной стороны креста стоит Богоматерь, с другой – евангелист Иоанн. В медальоне, поддерживаемом двумя ангелами, над орудием казни Спасителя, видно Его изображение по грудь; внизу, представлена волчица, кормящая Ромула и Рема. На другой стороне диптиха, в верхней половине, является Богоматерь в славе, с Младенцем Спасителем на коленях, между двумя херувимами; их шесть крыльев покрыты многочисленными глазами; внизу, стоят трое святых. Под ними, в особенном отделении, представлен ангел на лету, но без крыльев; в одной руке он держит пальму, а в другой – предмет, трудноопределимый, может быть, бич. Барельефы эти очень низкого исполнения; головы некоторых фигур слишком велики для туловища, черты лица означены грубо и лишены индивидуальности. В изображении полуобнаженного Спасителя, свесившегося со креста, проявляется совершенное незнание конструкции человеческого тела. Фигуры поставлены на ноги таким образом, что они непременно упали бы, если бы им вдруг дана была жизнь. Это – вполне старческие, отжившие формы искусства, уродливые и, вместе, вялые, лишенные силы, которая одушевляет неловкие, но, часто, энергические образы художества в его младенческий период.
В слоновокостных барельефах западных христиан проявляются два стиля; один местный – пример его мы видим в, только что описанном, диптихе Рамбона. Это стиль варварский, в котором заметны отдаленные традиции классического искусства, но почти неузнаваемые; его формы, приемы, фигуры уже очень огрубелые; техника этих памятников вполне неискусна. В барельефах другого стиля, видно византийское влияние, и эти последние выше первых в художественном отношении. Понятно, что произведениям искусства Византии более совершенной техники, привозимым в Италию, вообще, на запад, должны были подражать местные художники. Многие из этих памятников искусства, небольших размеров, переходили путем торговли, личных сношений и т. д. на запад, особенно, в эпоху иконоборства и крестовых походов, делаясь там предметом удивления. Так, например, известно, что при вступлении в брак, в 972-м году, сына императора Оттона I-го с греческой принцессой Феофаной, были привезены в Германию предметы, для церковного служения, из слоновой кости и драгоценных металлов византийской работы, и что эти произведения художества имели влияние на стиль местных мастеров.
Можно сказать, что слоновокостная скульптура имела в Византии ту же участь, как и миниатюрная живопись. Время особенной производительности, в той и другой отрасли искусства, совпадает, это, именно, от VIII-го до первых годов ХIII-го столетия, и в них появляются одни и те же достоинства, сменяемые, впоследствии, одинаковыми недостатками.
В Италии, упадок слоновокостной скульптуры идет быстрее, чем в Византии; то же самое произошло и во всех других отраслях искусства. Если мы сравним одновременные барельефы запада с византийскими, то увидим, что формы и традиции классического искусства сохраняются дольше в последних, чем в первых и что они, вообще, выше в художественном отношении.
XLIV.
Металлы и, преимущественно, драгоценные, употреблялись, также, восточными христианами, для пластических произведений искусства. Что верующие востока, уже в IV-м столетии имели золотую и серебряную утварь, видно из того, что, когда в царствование Юлиана отступника Квестор Феликс, посланный этим императором в Антиохию для конфискации имений христианских церквей, вошел в одну из них, то воскликнул, увидев богатства, собранные в ней: посмотрите, с какой драгоценной утварью служат они (т. е. верующие) сыну Марии. Из слов писателей церкви и из книги пап1023 нам известно, что Константин подарил некоторым церквам Рима изображения из золота, Спасителя, апостолов, ангелов, вышиною в 5 футов и значительного веса, равно как и большое число предметов церковного служения из драгоценных металлов. В церкви св. Лаврентия, вне городских стен Рима, серебряный барельеф изображал мученическую смерть этого святого. По всей вероятности, император Константин сделал подобные же богатые подарки великолепным храмам, построенным им на востоке. Евсевий, описывая церковь в Иерусалиме, прибавляет: «Трудно перечислить все те украшения и предметы из золота, серебра и драгоценных камней, исполненные с большим искусством, которыми император Константин обогатил этот храм. Они замечательны столько же многочисленностью своей, сколько значительными объемами и разнообразием»1024. В другом месте, того же сочинения, Евсевий, говоря о постройке церкви св. апостолов в Константинополе, упоминает барельефы из бронзы и из золота.
Можно указать и другие тексты этого писателя, в которых он говорит о произведениях того же рода. Известно также, что в VI-м столетии император Юстин II-й подарил церкви св. Петра в Риме много предметов церковного служения, из золота и серебра, украшенных драгоценными камнями. До сих пор сохраняется в христианском отделении Ватиканского собрания серебряный вызолоченный крест, с изображением по грудь, на поперечном брусе в медальонах, как предполагают, императора Юстина II-го и жены его Софии, в положении молящихся. Роскошь предметов церковного служения развилась особенно в цветущие годы Византии; справедливо было сказано, что в начале VI-го столетия, изготовление предметов из драгоценных металлов было главной промышленностью в Константинополе. Из слов писателей мы знаем, что никакая церковь не была столь богата предметами божественного служения и, вообще, украшениями из золота и серебра, как храм Софии премудрости в Константинополе, построенный Юстинианом. В этого рода работах, удовлетворявших неизменной любви византийцев к роскоши, и составлявших значительную часть торговли жителей Константинополя, были возможны та оконченность и мелочная тщательность исполнения, которая всегда составляли любимую заботу византийских художников. Все средние века Византия снабжала запад, вообще, христианские страны того времени, предметами из золота и серебра, религиозного и светского назначения. До нас дошли художественные произведения из драгоценных металлов византийского происхождения, отличающиеся своей тонкой работой, своей техникой и вкусом размещать украшения и оправлять драгоценные камни.
Один из замечательных памятников подобного рода, это золотая крышка евангелия императора Карла Лысого, находящаяся теперь в библиотеке г. Мюнхена. Из подписи видно, что она присоединена к переплету Ромуальдом, аббатом монастыря святого Эммермана в 975 г., слова, вырезанные на евангелии, которое держит Спаситель, и другие надписи этой крышки – латинские, но юношеский образ Христа в славе, четыре евангелиста, изображенные кругом Его, длиннота фигур, являющихся тут, многочисленность складок их одежд, точно также, как и богатый орнамент с драгоценными камнями, окружающий четыре евангельские сцены, все это носит на себе отпечаток византийского стиля; таким образом, можно заключить, что это произведение искусства, отличающееся оконченностью и большим умением работать золото, было исполнено или в Византии, или одним из ее мастеров в Германии.
Ко временам, несколько более поздним, т. e. IX-го или Х-го столетий, следует отнести другой памятник подобного рода, несомненно, византийской работы, сохранившийся на западе1025; это золотая доска с барельефом и греческой надписью. В нем представлены обе Марии у гроба Господня и ангел, встречающий их. При, довольно неудовлетворительном исполнении тут, замечаешь, однако, очень хорошие мотивы; так, например, фигура ангела не лишена красоты и величия. Подобно тому, как и во многих других памятниках византийского искусства, мы видим в этом барельефе, что художник, подражая образцам более раннего времени, создает фигуры хорошего стиля и помещает их возле образов своего сочинения, меньшего художественного достоинства.
Но незначительное число подобных памятников дошло до нас, так как драгоценные металлы более способны возбудить алчность грабителей, чем мрамор и слоновая кость. Много художественных произведений из золота и серебра погибло в Константинополе, было унесено, разбито или расплавлено, при разграблении этого города крестоносцами в 1204 г. Надо, однако, заметить, что изображение человека драгоценными металлами никогда не может иметь большого художественного достоинства. Линии и жизнь лица, пластичность форм тела сглаживаются, пропадают при представлении их блестящей массой. Подобные религиозные изображения небольших размеров продолжали производить и после эпохи иконоборства, так как они не могли, в такой степени, оскорблять набожные стремления восточных христиан, как статуи и барельефы, изображающие образ человека в его натуральную величину.
Гораздо менее значительны были пластические работы из драгоценных металлов на западе, и в этом отношении можно повторить то же самое, что было сказано о слоновокостной скульптуре, именно: что те западные произведения искусства из золота и серебра, в которых отражается византийский стиль, лучше, в художественном отношении, работ местных мастеров.
Подобно мусивной живописи, пластика из драгоценных металлов, была снова вызвана к жизни в Италии настоятелем монастыря Монте-Кассино, аббатом Дезидерием. Мы уже знаем (см. гл. XXXV), что греческие мастера, призванные им из Константинополя, обучили монахов, также, и ваянию из золота и серебра; но кроме того, историк Лев, епископ Остии, говорит: что аббат Дезидерий заказал в Константинополе, для своего монастыря, многочисленные предметы церковного служения, и по перечислению их, мы можем видеть, что артистическое, золотых дел, мастерство, производство эмали и даже искусство плавить бронзу, были столько же забыты в Италии, сколько и мусивная живопись. Эти предметы, привезенные из Константинополя, служили итальянским художникам, согласно тому же летописцу, образцами для новых работ1026.
К художественным произведениям из золота следует также отнести и эмаль или финифть1027, имеющую, отчасти, характер живописи. Искусство наводить на металлические пластинки или другого рода поверхности, как, например, на обожженную глину, окрашенное примесью металлических окислов расплавленное стекло, и изображать им фигуры различных цветов, существовало уже на востоке во времена отдаленной древности, именно, у египтян и ассириян. Мы встречаем эмаль на украшениях, дошедших до нас от этрусков и древних греков; но в цветущее время эллинического художества, эмаль была оставлена, и только в Византии мы снова находим ее, уже в VI-м столетии, вероятно, принесенную с востока; в Х-м веке она получает в Константинополе значительное развитие. Эмаль обладает качествами, которые всего более ценили греки восточной империи, как вполне удовлетворявшие их вкусу, как, например, ярким блеском красок, возможностью украшать ею предметы из драгоценных металлов, трудностью технического исполнения; притом, это одно из наиболее богатых украшений. Потому, финифть, требующая необыкновенной тщательности и точности работы, была в большом употреблении в Византии; ею украшали предметы церковного, равно как и светского назначения. Мы знаем, например, из слов писателей, что на золотой утвари дворца Юстиниана были изображены эмалью его победы. Преимущественно, любили в Византии самую красивую, но, вместе, и самую дорогую эмаль, именно, наведенную на золотые пластинки, особенно же, называемую перегородчатой, известной со времен отдаленной древности народам центральной Азии. В этого рода эмали, рисунок обозначался припаянной золотой тонкой проволокой, которая, как бы, делаясь перегородкой, образовывала отделения, наполнявшиеся эмалью известного цвета. Понятно, что при подобной трудной технике, рисунок не имел ни жизни, ни свободы и не мог хорошо передавать представляемый им предмет; но это выкупалось блеском и гармонией красок, и нельзя не удивляться некоторым финифтяным работам византийцев.
Два из самых известных памятников византийской эмали, время которых можно определить с точностью, находятся в сокровищнице города Лимбурга. Первый из них, это крест, заключающий в себе часть орудия казни Спасителя. По греческой надписи видно, что он был исполнен по повелению Константина Порфирородного и его сына и соправителя Романа II-го (945–959). Второй, это ковчег для сохранения креста, сделанный сыном Романа, императором Василием II-м, но до его восшествия на престол (976). Оба означенные предмета украшены многочисленными финифтяными фигурами, в рамках, осыпанных драгоценными каменьями и жемчугом. Тут представлены архангелы и ангелы, как хранители этой святыни; на крышке ковчега, Христос изображен в славе и, вместе с Ним, Богоматерь, Иоанн, два архангела и апостолы. В особенности, фигуры ковчега отличаются очень тщательным исполнением и деликатностью форм; несмотря на незначительность их размеров, они не лишены достоинства, даже величия. Головы индивидуального характера, серьезны, выразительны, благородны; про некоторые можно даже сказать, что они прекрасны; драпировка одежд приближается к античной, хотя несколько изыскана.
Но самый замечательный по размерам, равно как и по художественному достоинству, из, дошедших до нас, памятников византийской эмали, находится в церкви св. Марка в Венеции. Это, так называемая, Pala d’Oro, большая престольная доска, на которой представлены эмалью 83 изображения разных размеров, по золотому грунту. В двух латинских надписях, объясняющих происхождение этого художественного произведения, сказано, что оно было сделано в 1105 г. при доже Орделаффо Фальери, в 1209 г. возобновлено и в 1345 г. при доже Андрее Дандоло было украшено богатой рамкой, осыпанной драгоценными каменьями. Тут, в самом деле, изображены дож Орделаффо Фальери и его современница, императрица Ирина, жена императора Алексея I-го Комнена. Дож представлен не в одежде его сана, но в костюме византийского царедворца; его имя означено латинскими буквами, а императрицы – греческими. Надо, однако, заметить, что дож Петр Орсеоло, начавший постройку собора св. Марка, в 976 г. заказал в Константинополе, для престола этого храма, алтарную доску необыкновенной работы из золота и серебра. Такое положительное утверждение летописей, из которых первая, упоминающая это событие, была написана при жизни дожа Орсеола, не позволяет сомневаться в достоверности его. Следует, потому, предположить1028, что эта доска была переделана в 1105 г., вследствие перемены положения ее на алтаре, причем, к ней были прибавлены новые фигуры из эмали и изменено место старых, как это теперь еще можно заметить, особенно, по образам ангелов. Работа эта была исполнена греческими мастерами или в Константинополе, или в самой Венеции, под покровительством, может быть, с помощью императрицы Ирины, как указывает изображение ее и византийский костюм дожа Фальери. Как бы то ни было, несомненным остается то, что Pala d’oro византийского происхождения, и что большая часть ее фигур принадлежит к концу X столетия. Они могут служить доказательством, что византийское искусство в эту эпоху, еще способно было создавать прекрасные образы. Техника некоторых из них превосходна, краски сильны и блестящи, рисунок тщателен и означен тонкой золотой проволокой, часто повторенной в складках одежд, для большого освещения их. Стиль грандиозен и чист. Прекрасны, особенно, фигуры апостолов; они принадлежат к лучшим, дошедшим до нас, произведениям византийской финифти. Шесть больших исторических картин изображают сцены из жизни Спасителя и Богоматери; фигуры в них распределены с заметным старанием сохранить симметрию; они иногда слишком длинны; перпендикулярно падающие складки их одежд монотонны, но, несмотря на эти недостатки, в композициях много достоинства и благородства, и отдельные образы не лишены величия. Лица молящихся ангелов выразительны, но они представлены слишком тонкими, вероятно, с намерением придать им воздушный, небесный характер. Не в такой степени удалась маловыразительная и безжизненная фигура архангела Михаила, с его огромными крыльями; также, и образ Христа, сидящего на троне, не стоит на высоте хороших произведений финифтяной живописи этой доски. Лицо Спасителя холодно и не одушевлено; рисунок сух, а в техническом исполнении не проявляется особенной тонкости. Может быть, две последние фигуры принадлежат к поздним прибавлениям. Большое количество драгоценных камней и жемчуга покрывают эту доску, составляя рамки между ее изображениями.
Кроме этих замечательных произведений византийской эмали, на западе сохранилось еще довольно значительное количество предметов церковного служения, как, например: крышки евангелий, кресты и т. д. с финифтяной живописью, исполненной, приблизительно, в то же время, как и Pala d’oro.
XLV
Произведения другой отрасли художества, развившейся на византийской почве, но памятники которой мы находим, преимущественно, в южной Италии, могут также дать нам понятие о состоянии искусства восточных христиан после эпохи иконоборства. Это, именно, бронзовые или железные доски, покрывающия церковные двери1029, с изображениями сцен и фигур религиозного характера, или только крестов, зверей, птиц и т. д. Все это представлено не рельефно, но вырезано, и в штрихах, потом, проведена и припаяна серебряная, иногда золотая проволока или какая-нибудь цветная масса1030. Но в тех местах, где приходятся обнаженные части тела, как, например, голова, руки, ноги, вплавлены пластинки более светлого металла, всего чаще, серебра1031. Подобные двери находятся в соборе города Амальфи (1066 года), в церкви монастыря Монте-Кассино (1070 года), в церкви Monte S. Angelo al Gargano (1076 года), в Salvatore в Атрани возле Амальфи (1087 года), в соборе города Салерно (1084 года) и, наконец, в соборе святого Марка в Венеции. (1112 года). Точно такие же двери украшали вход базилики святого Павла в Риме, но были сильно попорчены пожаром в 1822 году. Время появления этих памятников указано в, вырезанных на них, надписях; но только в двух из них, именно, находящихся на дверях базилики св. Павла в Риме и церкви Monte S. Angelo сказано, что они вылиты в Константинополе. О заказе в этом же городе дверей церкви Монте-Кассино, аббатом Дезидерием, который, увидев двери в Амальфи, был поражен их красотой и пожелал иметь подобные же в своем монастыре, говорится в, современной ему, хронике Льва, епископа Остии1032. Этот факт может служить нам доказательством, что и двери церкви Амальфи происходят из Царьграда. Что касается венецианских дверей, то предполагают, что они были вылиты в Венеции, но в подражание более древней двери, несомненно, византийского происхождения, как это видно уже из того, что на книгах, изображенных тут, в руках пророков вырезаны слова греческого текста библии. Техника и стиль фигур, представленных на всех, выше названных, дверях, вполне византийские1033.
Двери Амальфи, Монте-Кассино, св. Павла, Monte S. Angelo, Salvatore в Атрани, хотя и находятся в довольно отдаленных друг от друга местах, были сооружены амальфитянином Панталеоне и его сыном. Богатая и цветущая, в то время, республика Амальфи была в тесной связи и в частых торговых сношениях с Константинополем, где она имела колонию. Понятно, что при упадке искусства в эту эпоху в Италии, амальфитянские граждане, равно как и все желавшие приобрести художественные произведения, обращались с заказами в Константинополь, снабжавший, как мы уже видели выше, все христианские страны того времени изделиями по разным отраслям искусства религиозного, равно как и светского характера.
Самые замечательные из всех, перечисленных выше, дверей подобного рода были те, которые находились у входа в базилику св. Павла вне городских стен Рима. Так как они были почти совершенно уничтожены пожаром, то мы знаем их только по рисункам; самые подробные из них помещены в сочинении d’Agincourt1034. Из 54-х рамок, на которые разделена была поверхность бронзовой доски, покрывающей дверь, 12 заняты сценами из жизни Спасителя; в других изображены стоящие фигуры пророков, апостолов или представлена смерть последних. Две рамки наполнены надписями, в двух других появляются кресты, а внизу первого и последнего, из шести столбцов, составленных рамками, изображено по орлу. В надписи на латинском языке сказано, что двери эти были сделаны в Константинополе в 1070 г. за счет, или с вспоможением консула Панталеоне. Как соорудитель этого памятника, Панталеоне представлен, падающим ниц, перед апостолом Павлом. Тут же изображен и Христос. В греческой надписи, художник по имени Staurakios, литейщик, говорит, что он исполнил эти двери своими руками и просит молиться за него. В другой надписи, на халдейском языке, сказано, что эту дверь работал, по милости Божией, Staurakios из Хиоса; «тот, кто читает (эту надпись), да молится за него». Латинская надпись указывает, несомненным образом, время и происхождение памятника, две других – имя мастера. Эти последние могут также служить доказательством, что работам подобного рода придавали большое значение в Константинополе, так как художник, в противоположность тому, что, обыкновенно, встречаешь в византийском искусстве, называет себя на своем произведении и говорит о нем с некоторым самодовольством, чем и определяет нам мерило художественной силы и способности этой эпохи в Византии.
Изображения,украшавшие эти бронзовые двери, которые по их характеру следует, скорее, отнести к эмали, чем к барельефам, не лишены достоинства. Рисунок фигур довольно верен, композиция не спутана и распределена ясно. Некоторые сцены имеют даже что-то величественное; это можно, например, сказать о Благовещении1035. Особенно замечателен тут грандиозный образ ангела, напоминающий лучшие сочинения этой фигуры в византийском искусстве. Также удачно представлено Успение Богоматери. В других сюжетах, лица распределены с изысканной симметрией и некоторые сцены переданы монотонно, без изменения, и повторяются слишком часто. Фигуры, противоестественно длинны и некоторые, из отдельно стоящих, уже довольно безжизненны; мотивы драпировки разнообразны, но складки, иногда, представлены не там, где следует и, собираясь, они составляют неправильные массы одежды. Эти недостатки проявляются, но в более сильной степени, в изображениях других, вышеназванных, бронзовых дверей. Замечательно также и техническое исполнение подобных произведений искусства, чрезвычайно трудное и требующее большого умения плавить и соединять металлы1036. Эти памятники свидетельствуют нам о малой склонности византийцев этой эпохи к пластике. Бронза, материал столь способный для кругловыпуклой работы, столь легко обрабатываемый, употреблена тут не для рельефа, а служит площадью, для рисунка, чрезвычайно трудного исполнения. Ни общественное мнение, ни церковь не осуждали религиозных изображений барельефов, но глаз византийцев уже отвык от созерцания пластических форм, они чувствовали влечение только к живописи, и ко всему, что, более или менее, приближалось к ней.
Особенности произведений византийского искусства
XLVI
По перечисленным выше памятникам византийского искусства, которые мы описали, с целью определить перемену, совершившуюся в характере христианских религиозных изображений первых веков – что будет сделано дальше – по этим памятникам, говорю я, мы видим, что византийское искусство, до падения империи, прошло различные фазы существования, и что у него были эпохи цветущего состояния и упадка. Никогда не изменяясь во внутреннем содержании, постоянно выражая идеи того же характера, оно, однако, что касается форм, имело периоды повышения и понижения.
Искусство в Византии развилось на греческой почве и, в некотором отношении, его можно считать продолжением эллинического, от которого оно многое наследовало прямым путем, без посредства Рима. Непереступаемых преград между цивилизациями, сменяющими одна другую в одной и той же стране, не бывает. Тесные связи открываются между ними, при более внимательном рассмотрении их, даже и тогда, когда с первого взгляда они кажутся вполне непримиримыми, вполне противоположными одна другой. Угасая, известный стиль искусства, если он преобладал в народе многие столетия, слившись с его умственной жизнью, неминуемо должен иметь влияние своими традициями, поддерживаемыми рядом, оставляемых им, памятников, на новый вид художества, который ему наследует. Воспоминания прошедшего должны были жить среди византийских мастеров; они имели перед глазами его памятники, и не удивительно, потому, что употребляли для выражения идей новой веры формы эллинического художества, не потерявшего для них своего значения.
Мы часто находим в византийских мозаиках, в живописи, особенно, в раскрашенных рисунках, аллегорические фигуры, олицетворения элементов, чувств, качеств, не встречающиеся в пластике и живописи римлян, не созданные мастерами Византии, так как они имеют языческий характер, а, следовательно, заимствованные у древнегреческого искусства. Точно также, и в грандиозных образах византийских мозаик видишь, как бы, отблеск тех величественных статуй эллинических богов из золота и слоновой кости, работы скульпторов лучшего времени греческого искусства. Неоспоримо, также, что в некоторых примерах и в хорошую эпоху византийского художества, лица Христа, Богоматери, ангелов, отличаются той правильной и спокойной красотой, тем величием, которым мы удивляемся в, дошедших до нас, произведениях эллинической пластики. Особенно поразительно сходство некоторых ликов византийских – Богоматери – с типами Минервы или Юноны, и архангелов – с изображениями Аполлона. В драпировке одежд и в декоративных мотивах точно также мы постоянно видели подражание классическому.
Изучая памятники византийского фигуративного искусства, часто удивляешься уменью мастеров заимствовать у классического художества черты величия и красоты, которых они не находили в окружающем их мире, и способности применять эти элементы для композиций христианского значения. Но эти следы влияния классического искусства на византийское, имеют, преимущественно, пластический характер, хотя и выражаются в живописи восточных христиан. Мы, в самом деле, постоянно встречаем во фресках, мозаиках, миниатюрах византийского стиля фигуры в статуйных позах, напоминающие произведения ваяния, и это может объясниться тем, что до византийцев дошло больше памятников древнегреческой скульптуры1037, чем произведений кисти, так как первые меньше страдают от времени и, вообще, от случайности, чем вторые, и, наконец, что самая эллиническая живопись имела много пластичного. Этим влиянием греческого художества, так сказать, поддерживается византийское искусство. Оно заметнее в цветущие периоды последнего, но идет, угасая с течением времени. Следы его еще довольно живы и в художественных созданиях византийских мастеров до ХII-го столетия, но слабеют в следующие века. Разумеется, что красота древнегреческого искусства не могла переходить к другим народам, менее способным понимать, ценить и воспроизводить ее; самые римляне, не обладая тонким эстетическим вкусом греков, отклонились, несколько, от эллинического искусства, подражая ему, и низвели его на более низкую ступень. Потому, если мы говорим о заимствованиях византийских мастеров у греческого художества, то вовсе не разумеем тут полной красоты последнего, которая даже в руках римлян утратила свою чистоту, а только о некоторых видах ее, всего чаще, о позах и о драпировке одежд.
В произведениях византийских мастеров, приближающихся к памятникам классического искусства, созданных под влиянием последнего, мы очень часто не находим энергии создания, живого творческого художества; они, скорее, составляют плод подражания, чем самостоятельную работу живописца или мозаикиста. Но, даже и при этих условиях, образы византийского искусства не лишены красоты, благородства, величия, и нельзя не согласиться, что в подражании, тут проявляется иногда что-то самостоятельное.
Нетрудно отличить в живописи византийской фигуры оригинальные, не заимствованные у искусства эллинического, или в которых влияние последнего слабо. Они, обыкновенно, довольно низкого художественного достоинства, не красивы, худощавы, оцепенелы. Недостаток вдохновения живописца, и его несостоятельность очень ясно проявляются в них. Аскетическое направление того времени видело в худощавости, в изнурении, признак святости, и, вероятно, византийские мастера, между которыми было много монахов, более занятых религиозными идеями, чем художественным достоинством произведения, для которых писать священные образы было делом набожности, угодным Богу, а не художественного призвания, часто брали в модели иноков-аскетов, подвергавших себя тяжелым испытаниям, и потому, необыкновенной худобы тела, и с лицом утомленным и мрачным. Такой вид, в самом деле, имеют, особенно, в более позднем византийском искусстве, образы новых святых, типы которых не составились под влиянием классического искусства. Эти религиозные фигуры являются с длинными туловищами, с небольшими, очень тонкими оконечностями, с сухими, строгими, морщинистыми, вытянутыми, старческими лицами. Тело их принимает темно-оранжевый, иногда, даже совершенно мумийный цвет. Напротив, аллегорические фигуры, олицетворения и, вообще, те образы, при создании которых можно было вдохновляться произведениями эллинической пластики, имеют совершенно другой вид. Эти два начала очень заметны в религиозных изображениях восточных христиан. Первое из них, т. е., собственно, византийское, берет верх и заменяет, постепенно, второе, т. е. эллиническое; но еще до сих пор мы находим в византийской живописи образы ангелов и святых воинов, в которых нельзя не признать формы античного искусства, возле фигур исхудалых, монашеского типа. Эти последние, однако, искупаются часто тем отблеском классического художества, какое выражается или в спокойной, величественной позе фигуры, или в благородном типе лица, или в простоте и ясности сочинения, или в красивых складках одежд, – отблеском, никогда не сглаживающемся окончательно в византийском искусстве, даже в худшее его время, даже и в самых дюжинных его произведениях.
Мы встречаем в византийском искусстве неизменное повторение одних и тех же типов, одних и тех же сюжетов. Каждый святой получает свои определенные черты лица, как бы, портрет, которого художник постоянно придерживается. Однако, нельзя сказать, что это однообразие происходит, первоначально, от бедности мысли и несостоятельности артиста. Постоянное воспроизведение тех же типов составляет отличительное свойство всякого религиозного искусства. В глазах народа они получают священный характер, и удаление от них всегда оскорбляет его набожные наклонности1038.
В первый период христианского искусства, мы видели, что художники имели большую свободу в выборе и передаче сюжета; но, когда после торжества новой веры начали умножаться Христианские изображения, когда они сделались средством обучения верующих, церковь не могла более оставить на произвол художника сочинение сюжетов, передающих ее догматы. Это, особенно, сделалось заметно в Византии, где религиозное искусство превратилось в иератическую формулу, все более и более костенея. Но склонность сохранять, раз составившиеся, священные первообразы, была всегда сильнее в религиях народов Азии, чем в верованиях западных арийцев. Особенность первых – это придерживаться типов, освященных временем, а вторых, напротив, преобразовывать их и создавать новые. Иератические фигуры греческих богов архаического периода переродились по мере того, как развивался эстетический вкус греков; точно также, в эпоху возрождения искусств, итальянские мастера постепенно удаляются от византийских типов и работают в ином смысле. Напротив, религиозные изображения Египта, Ассирии не изменяются в продолжении многих веков1039; нечто подобное мы находим и в византийском искусстве, имеющем более восточный, чем западный характер.
Повторение одних и тех же типов, освященных церковью и временем – сильнее, впрочем, обозначившееся в византийском искусстве в период упадка, чем в эпоху его цветущего состояния – повторение это, говорю я, без обновления образов введением в них индивидуальности художника, должно было привести к натянутости и окаменению. Все оригинальное исключалось при таких условиях; но, вместе с тем, это дало византийским типам известную религиозную важность и священное достоинство.
Некоторые исторические события помогли, также, набожному сохранению в Византии установившихся типов и укрепили склонность не изменять священные изображения. Это, в особенности, можно сказать о борьбе за иконы, волновавшей, как мы видели, долгое время восточную империю. Когда началось преследование иконоборцев и истребление икон, искусство византийское уже прошло эпоху большой производительности и цветущего состояния. Это испытание дало ему освящение и славу мученичества. Уважение народа возросло к религиозным изображениям, и точное повторение уничтожаемых икон сделалось, как бы, протестом против гонений их и заявлением своей набожности. В глазах иконолюбцев, произведения религиозного искусства приняли характер не простых созданий людей, а предметов священных, обладающих чудесной силой. В византийских легендах того времени иконы двигаются, говорят, действуют. Эти идеи существовали и раньше иконоборства, но были развиты, усилены им и повели к еще более ревностному сохранению старых образов.
Ошибочно было бы, однако, предполагать, что после сформирования и установления религиозных типов в византийском искусстве, всякое отклонение от них сделалось невозможным. Хотя они и имеют, с очень давних времен, характер полного однообразия, можно все-таки же, при внимательном рассмотрении их, открыть некоторые варианты. Справедливо, однако, что художник не мог изменять их по своему произволу. Церковь наблюдала за ним и направляла его. Он был рукою исполняющей, а не головою задумывающей. Тот же принцип самодержавия и централизации, который лежал в основании гражданского строя византийской империи, выразился и в ее религиозном искусстве, повторявшем типы, признанные властями церкви. На втором Никейском соборе 787 года в защиту икон, отцы церкви говорили, что художники ничего не изобретают, а руководятся древними традициями; священники, освящающие религиозные изображения, – составители и сочинители их. Это подчинение религиозной живописи церкви и неподвижность византийского искусства в, раз выработанных, формах, всего яснее доказываются, так называемым, Подлинником или, лучше сказать, руководством живописцев, открытым господами Durand и Didron в 1839 году, в одном из монастырей Афонской горы. Подобных руководств, вероятно, было много в византийских монастырях. Они заключали в себе наставления, как писать религиозные сюжеты, и должны были ходить по рукам монахов художников. Древние изображения, передаваемые из поколения в поколение, освященные временем и признанные церковью, сделались образцами, от которых не должен был отступать живописец более поздних времен. Сумма сведений, как писать эти религиозные типы, превратившихся в правила, и заключает в себе руководство живописцев, открытое господами Durand и Didron1040. Составитель его, монах и живописец Дионисий, говорит в предисловии о своем таланте с известным смирением, однако, и не без чувства собственного достоинства, но восторгается и превозносит произведения живописца Эммануила Панселина из Фессалоник, находящиеся в монастыре Афонской горы1041. Положительно не известно, когда жил Дионисий; но основные части этого руководства – к нему были сделаны позднейшие прибавления – принадлежат, вероятно, к ХII-му столетию. Многие из правил, собранных Дионисием, существовали, разумеется, и прежде его, во времена более ранние, может быть, даже до борьбы за иконы. Книга эта, посвященная Богоматери, состоит из трех частей; в первой – излагается техника и даются наставления, как приготовлять краски, лаки, как золотить и т. д.; указаны также размеры членов человеческого тела, не основываясь, однако, на наблюдении природы. Вторая – заключает правила, как писать священные сцены, как размещать фигуры, в каком костюме изображать их и т. д.; в ней мы находим, также, очень подробный перечень сюжетов религиозной иконографии; между ними есть композиции, не встречающиеся в искусстве западных христиан, как, например, рождение Каина и Авеля или прошение Иосифа Аримафейского к Пилату отдать ему тело Христа; также, сцены, понятные только, вследствие объяснительной надписи, как, например, беседа Иосифа с учениками Иоанна Крестителя (Мф. 11:2–19). Традиции классического искусства воскресают и тут в некоторых наставлениях; так, например, при описании сцены крещения Спасителя сказано, что в реке следует представить фигуры обнаженного человека, в лежачем положении, смотрящего со страхом на Спасителя; это, без сомнения, аллегорический образ реки Иордан, встречающийся, как мы видели, в византийских мозаиках и в миниатюрах. При таких условиях, игре воображения художника и проявлению его индивидуальности остается, разумеется, мало места. В третьей книге, самой короткой, дано руководство, как распределять сюжеты в церквах, в трапезах и в других религиозных зданиях. Ни одно место на стенах их не забыто в этом распределении.
Но не всегда, как было замечено выше, художники следовали предписаниям церкви и руководствам, составившимся, вероятно, под ее влиянием; по крайней мере, в византийских кодексах встречаются, как мы видели, раскрашенные рисунки, сочинение которых, разумеется, не могло быть почерпнуто из подобных указателей. Не трудно заметить, что в Византии, рядом с церковным, монастырским искусством, шло и религиозное светское искусство, более свободное, но, как кажется, не столь производительное, не столь живучее и, потому, менее заметное первого.
Незьзя, также, упускать из вида, говоря о неподвижности типов в византийском искусстве, что большая часть живописцев его были иноки, беспрекословно покорявшиеся священным преданиям; потому, в монастырях, где находились рассадники художников и, где с большим постоянством держатся старины, чем в миру, повторялись, без изменений, религиозные образы, полученные от предков. Но, если художник был в зависимости от церкви и работал, согласно ее идеям, то, ведь и они не оставались неизменными; так, например, увеличение аскетизма, обозначившееся в Византии после эпохи иконоборства, повело к созданию новых типов в ее искусстве, и самый лик Богоматери, первовачально правильный, спокойный, невозмутимый, иногда, классической красоты, меняется впоследствии, под влиянием аскетических идей, и получает грустное, печальное, сокрушающееся о грехах людей, выражение. Но следует заметить, что однообразие начинает преобладать в византийском искусстве в период его упадка и возрастает по мере того, как увеличивается последний. В эпоху полного падения его, т. е. после взятия крестоносцами Константинополя, художников должны были стеснять уже не столько рамки, определенные церковью и священными традициями, сколько собственное бессилие.
Разумеется, византийские мастера не передавали, именно, того, что видели в природе. Люди в натянутых положениях и аскеты, изображаемые ими, не могли бы существовать в действительности, так как продолжение жизни, в подобных окоченелых и изнуренных телах, противно законам природы. Но эта оцепенелость, эта безжизненность выражали для них и для современного им общества величие и известные нравственные качества. Они потому, смотря на природу сквозь призму своих понятий, подчиняли ее своему идеалу. Натянутые позы и аскетическое направление существовали, без сомнения, в Византии, но не в такой степени, как в произведениях ее художников. Портреты императоров и других лиц, встречающиеся в памятниках византийской живописи, имеют несколько более оживленный, менее аскетический вид, чем религиозные изображения, фигуры святых, мучеников и т. д. Точно также, фараоны и их подданные, представленные на египетских памятниках, никогда не имели того окоченелого неодушевленного вида, никогда не принимали тех натянутых положений, которые придавали им художники, потому что кровеобращение невозможно в подобных телах. Но направление ума египтян было такого рода, что эти безжизненные, однообразные позы и монотонные движения имели для них нравственное значение; под этим влиянием, живописцы и скульпторы, стремясь достигнуть своего идеала, преувеличивали в своих произведениях то, что они видели кругом себя, и создавали в Египте, равно как и в Византии, вполне противоестественные фигуры.
Образы, напоминающие ранние создания греческого художества архаического периода, встречаются, как мы уже видели, в византийском искусстве. Это та же величественная неподвижность, те же натянутые, но грандиозные позы, те же иератические лица, та же серьезная, даже строгая важность. Сходство это может объясниться тем, что в раннюю эпоху эллинического искусства, в нем выразились начала художеств народов Азии; но эти, перенесенные на греческую почву, элементы искусства средиземных азиатов и египтян были переработаны греками, как, вообще, все, что перенимали они у других народов, что брали из других центров цивилизации, тогда как в византийском искусстве, также, азиатские начала, на которые будет указано ниже, не меняются и удерживаются в полной силе все время его существования.
Справедливо сравнивают искусство византийское с египетским, и, несмотря на то, что производительные силы египетского художества уже угасли несколько столетий, когда византийское искусство начало формироваться, и что одно из них развилось в языческом мире, а другое в христианском, между ними, нельзя не согласиться, есть что-то общее, и это может служить лучшим доказательством выражения в византийском искусстве элементов художества азиатских народов. В Египте, при создании религиозных изображений, художник следовал известному правилу, точно так же, как и византийский живописец. Отступление от этого канона считалось нарушением закона, освященного временем и преданием. Как в Египте, так и в Византии, священники руководили художников и контролировали их работы. В том и в другом искусстве, величие ищется в неподвижности поз, и мы встречаем постоянное повторение одних и тех же типов, мало изменяющихся, и преобладание образов оцепенелых, натянутых. Византийское искусство, которое стоит в тех же отношениях к художеству возрождения, как искусство берегов Нила к начинающемуся эллиническому художеству, приближается к египетскому также и потому, что в обоих художники в известных, уже раньше их определенных пределах, внося в свои произведения мало индивидуального, достигают, особенно, что касается техники, большого совершенства. Даже и в типах египетской и византийской живописи есть, иногда, некоторое сходство; так, например, в фигурах, написанных на некоторых деревянных гробах, заключающих в себе мумии, и в раскрашенных барельефах Египта, уже виден тот тип, который впоследствии будет часто встречаться в византийской живописи1042. Как в Египте, так и в восточной империи, неподвижность в искусстве соответствовала неподвижности гражданского строя, неизменности его учреждений, и, можно сказать, что византийское художество столько же приближается к египетскому, сколько государственное устройство первой из этих стран, походит на социальный строй второй.
Постепенное падение человеческого типа, заметное в византийском искусстве, было последствием общественного разложения. Как красивый тип можно считать отличительным признаком здорового состояния общества, согласия в развитии всех его частей, доказательством его разумной жизни и прогресса его моральных сил, так падение типа, есть признак нравственного понижения общества, уничтожения в нем гражданских доблестей и стеснения его умственной деятельности. Это мы можем, например, проследить по бюстам императоров западно-римской империи, сохраняющимся в Капитолийском музее в Риме, по другим памятникам искусства и по монетам. В Византии, тип теряет свое благородство, также, вследствие смешения с варварскими народами. Высшие сановники государства, приближенные императоров, изображавшиеся вместе с ними в последние века существования восточной империи, были иногда варварского происхождения или евнухи. Даже и сами царские роды не всегда были чисты от смешения с азиатами или варварами. Как и в искусстве западных христиан, в период его упадка, художники начали изображать людей низкого происхождения, которые не могли иметь благородных черт лица, например, атлетов, гладиаторов, так и в Византии живописцы представляли шутов, кучеров цирка, мимов и т. д., так же, низкого типа.
Наследовав традиции эллинического искусства, византийские художники долго сохраняли их, не искажая, но не могли почерпнуть новых сил из природы. Изучение нагого тела, той плоти, осужденной и проклятой, которая ввела в грех род человеческий, считалось делом нечестивым. Это удаляло художников от натуры и было одною из причин упадка византийского искусства. Фигуры обнаженные, очень тщательно избегались византийскими мастерами. Даже и Младенец Спаситель почти всегда представлен одетым; точно так же, Христос на кресте изображен, иногда, в одежде, как это мы видим в миниатюре сирийского евангелия, на фляжках собора города Монцы и в других примерах. Византийское искусство получило, вследствие этого, даже и в лучшее его время, что-то старческое, лишившее его той силы, какую приобретает изобразительное художество, сближением с природой. Так, например, в Х-м столетии писались миниатюры некоторого художественного достоинства и не уступающие произведениям, первых по времени, итальянских мастеров возрождения, может быть, даже, превосходящие их. Но в этих художественных созданиях византийцев не заметно задатков будущего развития. Мы видим в них, например, сцены, хорошо распределенные, образы, имеющие величественный статуйный вид, правильную драпировку одежд, но, при всем этом, сочинение холодно, бесцветно, фигуры не принимают энергического участия в действии; одним словом, тут не выказывается своеобразность, проявляющаяся в картинах и фресках Джиотто и его школы, может быть, несколько неловкая, угловатая и наивная, но выразительная и сильная, как все, почерпнутое из живого источника природы, а не полученное по традиции от искусства отжившего. Византийские памятники, это – взгляд назад, возрождение – взгляд вперед.
Но повторение форм эллинического искусства имело, как мы уже сказали, свою положительную сторону, и мы видим, что самые грубые, самые несовершенные фигуры византийского стиля сохраняют, несмотря на крайнюю неправильность рисунка, на незнание анатомии, величественную позу и красивую драпировку, вообще, известную грандиозность, не умаляемую ни несовершенством деталей, ни вполне неудовлетворительным исполнением. Потому, упадок в византийском искусстве не столь заметен, как позже в итальянском художестве, в конце эпохи возрождения. Вращаясь, однако, постоянно в сфере торжественного величия, без тонкой выработки индивидуальности, византийские мастера должны были неминуемо придти к неверному, неправильному представлению природы.
Многие столетия, но, особенно, в IX, X и XI веках, Византия была единственным центром художественной деятельности христианского мира. В ней формировались лучшие живописцы, ваятели, литейщики, мозаикисты, архитекторы того времени. Если мы посмотрим на запад, то увидим, что там, в области искусств, нет того непрерывного развития, как в восточной империи. Оно и не могло быть иначе: бедствия различного рода, обеднение и, особенно, наводнение и разорение Италии варварами, препятствовали развитию умственной и художественной деятельности. Только одна Византия пользовалась, в эти века, относительно большим спокойствием и благосостоянием, успевая отбрасывать наплывающий поток варварских народов. В Италии, где постепенно разлагался гражданский строй и прерывались общественные отношения, не было спокойствия души, необходимого для интеллектуальных наслаждений. Когда, притом, добывание средств к существованию дедалось для ряда поколений главною заботой жизни, эстетическое чувство, любовь к прекрасному, ко всему тонкому и деликатному пропадает. В современном нам обществе, это мы можем видеть в низших классах народа даже образованных стран. В Византии, напротив, сохранявшей начала гражданской жизни и формы социальных отношений, развитые предшествовавшими цивилизациями, вообще, то, что уцелело от крушения классической культуры, – в Византии, говорю я, которая процветала и обогащалась торговлей и промышленностью, искусство, приняв, правда, другое направление и другой характер, чем оно имело до торжества церкви на западе, но, унаследовав предания эллинического художества, долгое время держалось, окаменев впоследствии в, выработанных ею, формах, на известной высоте.
В IV-м столетии, искусства в Италии и в Византии стоят пока на одной степени, но в VIII-м веке между ними уже значительная разница. Это было время большого упадка живописи и пластики на западе. В мозаиках Рима, как мы видели, фигуры изображаются оцепенелыми, усталыми, пластические работы безобразны до невозможности. Вообще, видно равнодушие к подражанию природе, к соблюдению правды при изображении форм человеческого тела. Падение литературы и языка в Италии шло параллельно с упадком искусства, и было результатом тех же причин, именно: наводнения страны варварами и затмения самостоятельной умственной и гражданской жизни. Слог писем папы Григория Великого (604 г.) не лишен достоинства и указывает на связь с классической литературой. Напротив, письма папы Адриана первого (772–795) прямо можно назвать варварскими. В них мы встречаем неправильное употребление падежей, неясные периоды, ошибочную орфографию, доказывающую, что не знали более происхождения слов, и небывалое до того времени составление их. Когда язык пал так низко среди жителей Италии, то понятно, что и в их искусстве пропал смысл к прекрасному, гармоническому, к ясному, определенному выражению мысли фигуративно, к логике наружных форм.
Византийское искусство во все времена своего существования отличалось богатством и пышностью. Очень обыкновенно в его живописи употребление золота. Сияния вокруг голов Христа, Богоматери, апостолов и святых представляются сплошной золотой массой. Одежды, или только части их, особенно, освещенные стороны, проштрихованы золотом; фон картин, часто, золотой. В церквах своды, стены покрывались мозаиками, нередко, на золотом грунте; выступающие архитектурные части, даже и плоские стены, выкладывались плитами драгоценных металлов или редкого цветного мрамора, яшмы, слоновой кости, и этот способ украшения плоских пространств очень напоминает, употребляемый халдео-ассирийцами и другими азиатскими народами. Точно также и в византийском орнаменте иногда находились мотивы, заимствованные у народов Азии, как, например, вполне условно представленные животные и растения. Подобные элементы орнаментики напоминают, также, встречающиеся на древних греческих вазах и на других памятниках эллинического художества архаической эпохи, когда в нем отражалось влияние азиатского искусства.
Элементы Азии заметны и в византийской архитектуре. Если мы сравним, например, простые, не сложные, но вполне соответствующие своему назначению украшения греко-римских храмов, их артистически выработанные и законченные формы, с, неизменно тяжелой и блестящей, изощренной орнаментацией церквей восточных христиан, то увидим, что мы стоим тут на совершенно иной почве, и в этой изысканной роскоши византийских построек, в этом пышущем, возбуждающем фантазию великолепии, в этом искании необыкновенных эффектов, во всем этом, слышно дуновение Азии.
Стремление поражать воображение, производить сильное впечатление, преобладало, как мы видели, также и в византийской пластике; оно выражалось в выборе материала, который предпочитался блестящих красок. Особенное внимание обращалось на его дороговизну и на трудность обработки. Бронзу золотили или серебрили. Вместо благородного, легко обрабатываемого мрамора, начали употреблять трудно приспособляемый – по причине своей необыкновенной твердости – к пластическим работам порфир. В художественном отношении, это, разумеется, были очень невыгодные условия. Все внимание ваятеля устремлялось на внешность его произведения; иногда, самый материал был так труден для обработки, что все усилия художника направлялись на механическую часть. Нередко даже и цвет материала препятствовал выработке красивой формы. Но эти недостатки византийской пластики имели свою положительную сторону. Художники были принуждены работать с большой тщательностью и точностью, вследствие чего, техническая часть в их произведениях достигала, иногда, большого совершенства. Это богатство материала, трудность его обработки и техническая оконченность поражали западные полуобразованные народы, с которыми Византия была в сношениях, и возбуждали их удивление. И в наше время, даже в образованных странах, для массы народа, для детей, всего важнее в произведении искусства его цена и трудность работы.
В древней Греции, в цветущий период эллинического искусства, употребляли драгоценные металлы, золото и слоновую кость в пластике, но вовсе не с целью увеличить художественное достоинство произведения; этим выражалось только почитание богов. В Византии, напротив, драгоценные металлы должны были поднять степень артистического достоинства памятника. То же самое мы видим и в Риме языческом, во времена упадка искусства, когда дороговизна материала и трудность его обработки заменили художественное значение произведения. Эти идеи постоянно существовали среди народов востока семитического, вообще, Азии, и выражение их в римском искусстве, определило его падение. В Византии, ближе стоящей, по характеру своей культуры, к востоку, чем Рим, это особенное понятие об изящном азиатских народов развилось полнее.
Но богатство и великолепие, преобладающие в византийском искусстве, хотя и не прямым путем, привели к значительным результатам; действуя на воображение варварских народов, оно располагало их к принятию христианства. Мы, в самом деле, видим, и не в одном примере, что пораженные пышностью религиозного искусства столько же, сколько торжественностью церковных церемоний, юные народы, входившие в сношения с восточной империей, крестились. Византийское искусство говорило варварам того времени единственным понятным для них языком – оно ужасало их. Христа нежного, Христа доброго Пастыря, люди грубые, суровых нравов, не были бы в состоянии понять; они могли молиться только Христу грозному, торжествующему. Как сильно византийские религиозные сюжеты поражали воображение варварских народов, видно из следующего факта: в IХ-м столетии Богорис, царь Болгарский, призвал в город Никополь монаха св. Мефодия, проповедника – вместе с братом своим, св. Кириллом – христианства среди славянских народов и переводчика церковных книг на славянский язык. Мефодий был, также, и живописец, и Богорис поручил ему расписать большую залу царского дворца. Сюжет, выбранный Мефодием, был страшный суд. Он изобразил ангелов и праведных в положении молящихся, кругом Спасителя, а ниже – грешников, влекомых диаволами в ад и подвергаемых там ужасным мучениям. Богорис велел объяснить себе значение этой картины и был до того испуган ею, что крестился со всем своим войском. Вообще, можно сказать, что фигуры византийского искусства, с их изнуренными, мертвыми лицами, соответствовали религиозным идеям, преобладавшим в средние века, и способны были вызвать удивление и почитание.
Но блеск художества восточных христиан, однако, нельзя с этим не согласиться, особенно, в периоды упадка его, был внешний и часто скрывал однообразие и бедность внутреннего содержания.
Кто ищет в византийском искусстве плодотворность, живое движение и вдохновенную природу, часто ошибается; но, желающий найти в нем выработанные приемы, соблюдение постановленных правил, техническое совершенство, тот редко обманется. Почти постоянно произведения византийских мастеров, по всем отраслям искусства и даже в периоды падения его, отличались, очень тщательно и полно выработанной, техникой; в этом отношении, они стоят несравненно выше современных им художественных памятников других христианских стран. Это, несомненно, одно из достоинств византийского искусства и, также, наследство мира классического, пополненное познаниями и сведениями, полученными в продолжении веков от народов востока, преимущественно, персов и, потом, арабов, но усовершенствованные византийскими мастерами. Необходимым условием для применения к делу этих технических приемов, была большая точность в работе, неутомимая старательность, полное понимание свойства металлов, равно как и отношения красок между собою и умение гармонировать их. Этими качествами, в высшей степени, обладали византийские мастера; мы и тут узнаем в них потомков древних греков. Нередко, верность проведения линий в барельефах из слоновой кости, чистота рисунка, яркость красок в миниатюрах, совершенство эмали и мозаик, приводили в удивление западные народы1043, точно так же, как государственный византийский строй изумлял своей правильностью и определенностью. Франко-германские народы постоянно ставили выше своей собственной византийскую культуру.
Несомненно, что взятие Константинополя крестоносцами в 1204 году, и основание затем латинского государства на берегах Босфора, нанесло значительный удар византийскому искусству. Его падение заметно уже и раньше; оно было, вообще, результатом понижения благосостояния страны, упадка торговли, промышленности и частых раззорительных войн с варварскими народами; но завоевание и разделение империи довершило то, что началось уже прежде. Искусства в Византии, не только от того, что при разграблении Константинополя многие из, существовавших тогда в этом городе, произведений классической пластики были уничтожены, разбиты или расплавлены, что лишило художников моделей, которые до этого события имели влияние на артистические работы, но, так же, и потому, что место – правда, изнеженных, но любящих роскошь и великолепие – византийских греков заняли грубые, малообразованные франкские рыцари. Художники должны были удовлетворять вкусу этих новых властелинов-полуварваров, или работать для обедневших, подавленных несчастьями своего отечества, греков. И, так как, вообще, византийское искусство требовало богатого материала и поддерживалось изысканной техникой, то полное разорение должно было нанести ему значительный удар. Понятно, что при таких условиях, художества не могли процветать, и, что в произведениях мастеров появились небрежность и ремесленное исполнение. В Италии, в ХIII-м столетии, началось то пробуждение в искусстве, которое привело к возрождению его. Этот же век был для византийского художества, также, решительной эпохой, но только тут движение было обратное.
После воcстановления восточной империи (1261), может быть, несколько раньше, искусство в Византии получает новое направление, предохранившее некоторые из отраслей его от совершенного падения. Перемена эта состояла, именно, в том, что художество в Византии, всегда имевшее более религиозное, чем гражданское направление, сделалось в XIII столетии еще определеннее, церковным. В первые века существования восточной империи, искусство византийское, хотя и имело, по преимуществу, религиозный характер, отражало в себе, однако, также, и принципы самодержавия, великолепия императорского двора, воспоминания римского величия, традиции классического художества и эллинической красоты. В период, следовавший за покорением Константинополя, начала и предания эти, потеряли прежнюю силу или стали забываться, тогда как церковный строй в борьбе с враждебным католицизмом, приобрел новое значение в народе, для которого православие сделалось одной из форм выражения национальности, перед притесняющими латинцами. Это повело к сближению между искусством и религией. Оно обозначилось еще сильнее после падения восточной империи и порабощения ее турками. Религия осталась тогда единственным моральным центром, и с нею должны были соединиться все живые, все уцелевшие части разбитой византийской культуры, столько же для продолжения существования, сколько и для протеста против турецкого варварства. Фигуративное искусство в Византии еще теснее слилось тогда с тем началом, которое представляло большую силу и держало знамя народности, т. е. с церковью. При этом, в некоторых отраслях византийского художества проявилось больше деятельности, чем в остальных, как, например, в живописи на дереве и в стенописи, имеющих популярный характер и, вместе с тем, не требующих значительных издержек, подобно мозаикам, эмали и пластическим работам из драгоценных металлов. Вследствие этого нового союза искусства с церковью, освященные временем типы еще с большей ревностью стали сохраняться в византийской живописи. Это имело невыгодную сторону, лишая художество жизни. Но, с другой стороны, повторение одних и тех же фигур, и сюжетов, составившихся в более благоприятные для византийского искусства времена, мастерами, избавлявшимися от труда создавать новое и приобретавшими верность руки и навык писать старые образцы, удержало искусство от совершенного падения и дало ему возможность существовать при самых невыгодных условиях, какие только можно себе представить, для продолжения художественной деятельности.
Изменение в характере религиозных изображений первых христиан и причины, под влиянием которых оно совершилось.
XLVII
Сравнивая памятники первоначального христианского искусства, находящиеся в катакомбах, с теми, которые после Константина начинают украшать базилики и церкви, уже торжествующей веры, нельзя не заметить между ними существенной разницы, и эта перемена в стиле христианского художества есть отражение изменения, постепенно совершившегося в религиозных идеях верующих. Мы замечаем ее уже в катакомбах в IV-м столетии, когда в христианской живописи начинают выражаться элементы, до тех пор совершенно чуждые ей. Все это не касается художественного достоинства памятников искусства верующих первых веков, и идей, выраженных в них, и характера, придаваемого религиозным образам. Мы видим, например, что первоначальная простота, преобладающая во фресках катакомб, пропадает в мозаиках, что идиллическое направление, проявляющееся в стенописи христианских кладбищ, утрачивается с течением времени. Спаситель из милостивого Пастыря, несущего заботливо на плечах заблудшую овцу к стаду или пасущего его с посохом в руке, играя на свирели у светлого источника, в тени деревьев, на зеленом лугу или стоящего среди Своих овец, преисполненного попечения о них; Спаситель, говорю я, из молодого, красивого римлянина, классически задрапированного в тогу, совершающего чудеса, окруженного учениками, в земной обстановке; из Орфея, укрощающего своим сладкозвучным пением свирепость диких зверей, превращается в мозаиках в небесного властелина, является, утрачивая нежный, милостивый, близкий к человеку, мирской характер, в славе, на облаках, в звездном небе, как в центре Своего небесного царства, благословляя величественным движением руки, удаленных от Него людей. Одетый в золотые или серебряные ризы, иногда, Он представлен на, богато украшенном драгоценными каменьями и дорогими материями, троне, подобно восточному властелину, окруженный апостолами, святыми, как царедворцами и ангелами, как стражей, готовой исполнять Его повеления. Природа, все, что приближает к жизни, к земному существованию, пропадает в этих небесных, грандиозных, внушающих страх и благоговение образах. Спаситель является тут, как Судья, строго призывающий верующих к ответу; это Бог грозный, образ Его вдохновлен словами псалма: «Начало мудрости – страх Господень» (Пс. 110:10).
Бог Отец изображается уже не под видом старца, как на барельефах саркофагов, а десницей, выходящей из облаков; образ Его невидим.
Точно также, и Богородица, из нежной матери, как Она представлена во фресках катакомб и в барельефах саркофагов, кормящей грудью Младенца Спасителя или прижимающей Его с любовью к сердцу, одетой в простое платье римских женщин, принимая поклонение, подходящих к Ней, волхвов, превращается в Царицу Небесную, удаленную от земли; изображается на небесах, в других одеждах и драгоценных уборах; часто в короне, как восточная царица на великолепном сидении. Ангелы окружают Ее, отделяя от людей; к Ней нельзя приблизиться без известного церемониала. Младенцем Спаситель помещен на Ее коленях; Он сидит независимо, как бы, на троне, и правильно, подобно взрослому, задрапирован в паллиум. Чертами лица и даже формами тела – это, скорее, миниатюрный человек, чем ребенок. Он серьезно смотрит на подходящих, держа в одной руке сверток пергамента, как законодатель, или сферу – символ Его владычества над миром – и благословляя другой. Вид Его вполне официален, нежные связи между Ним и Матерью прерваны.
Преисполненные натуры произведения искусства катакомб, очень приближающиеся к классической живописи и пластике, в которых положения просты и непринужденны, оставляются. Веселый характер фресок первых христиан заменяется, мало-помалу, темными, аскетическими образами. Рай, в катакомбах представляли садом, наполненным прекрасными растениями, цветущими деревьями, наводненным яркими цветами, и, иногда, в этой веселой рамке живописец изображал умерших, один возле другого, в положении молящихся. В мозаиках, напротив, рай передан более мистически, более безжизненным образом, золотым или темно-зеленым грунтом.
Подобное же изменение совершается постепенно в характере других христианских образов, начиная с IV-го столетия, исполненных фресками или мусивной живописью, на стенах церквей и монастырей. Изображения в катакомбах, выражающие любовь к жизни, а не презрение к ней, не вражду ко всему земному, меняются; фигуры делаются неподвижны, натянуты, теряют жизнь и принимают вместе с условным положением, иногда величественным, но, постоянно, малоестественным, равнодушно-бесстрастное выражение. Блеск и слава заменяют прежнюю простоту; апостолы изображаются с сиянием вокруг голов; золотой грунт удаляет от земли религиозные сцены. Нельзя не согласиться, что христианский идеал изменился, и это преобразование совершилось именно в первые времена торжества церкви, когда христиане получили возможность строить храмы и украшать их. Но совершенно ошибочно было бы предполагать, что изменение это произошло от того, что большие пространства в церквах нельзя было расписывать таким же образом, как и, незначительные по размерам, стены усыпальниц катакомб. Те же самые сюжеты и фигуры, написанные около гробниц в подземельях, не могли, говорят некоторые археологи, повторяться в больших базиликах, что и повело к колоссальным изображениям Христа, Богоматери, святых средневековых церквей. Многие того мнения, что фрески, которые были на своем месте в катакомбных комнатах, не могли украшать стены базилик, так как композиция их была слишком проста; художник в подземных кладбищах, имея мало места, не давал развития представляемому им сюжету. Но трудно понять, почему некоторые фигуры, изображенные на стенах катакомб, как, например, добрый Пастырь, Христос под видом римлянина, совершающий чудеса, нельзя было представить в колоссальном виде, подобно образу Спасителя, сидящего на троне или стоящего на облаках, тогда как другие сюжеты, взятые из катакомбной живописи, например, Богоматерь, под видом Orante, или в сцене поклонения волхвов, перешли, принимая, разумеется, более значительные размеры, в мозаики средневековых базилик и церквей христиан востока и запада. Меняются не внешний вид, не размеры религиозных изображений, а их внутреннее содержание, их задушевный характер. Есть, также, несколько примеров украшения христианских церквей мозаиками, повторяющими мотивы катакомбной живописи; это мы видим, именно, в церкви святой Констанции (см. гл. XXIX) в Риме; в Неаполитанской крестильне, в часовнях, посвященных Иоанну евангелисту и Иоанну Предтече1044, пристроенных к Латеранской крестильне, в церкви Назария и Кельсия в Равенне и т. д. Тут мусивною живописью, но в больших размерах, изображены сцены, написанные на стенах катакомб. Это доказывает, что украшение церквей живописью и мозаикой, в манере фресок усыпальниц, было возможно, и что появились грандиозные изображения Христа и Богоматери в базиликах, что, вообще, преобразовался стиль христианского искусства не потому, что при новых условиях можно было изображать одни образы торжествующие, больших размеров, одним словом, не от материальных причин, а оттого, что изменились среди христиан характеры религиозных идей, их понимание божественного идеала, и, следовательно, манера представлять его. Чтобы указать причины, под влиянием которых совершилось это изменение, необходимо бросить взгляд назад.
XLVIII
Разбирая характер богов народов востока семитического и заgадных арийцев древнего мира, в более тесном смысле, греков и римлян, мы замечаем между ними существенное различие. Боги классической мифологии являются с человеческими образами; они одушевлены чувствами и страстями смертных, ближе стоят к ним, более способны понимать их и быть постигнуты ими; в идеи о них входит больше философских начал; вообще. они не так страшны для человека и не так самовластны с ним. как боги востока семитического и Египта, загадочные, удаленные от людей, отделенные от них непроницаемой тьмой, не имеющие ни их физической, ни нравственной натуры; грозные для человека, не проявляющиеся ему во всей своей полноте, сущность которых разум смертных не может постигнуть.
Этот различный характер богов греко-римских и племен востока семитического, может объясниться действиями природы столько же, сколько и умственными способностями народов, в воображении которых создались эти божественные образы. Неоспоримо, что значительное влияние на их формацию должны были иметь естественные явления, вид и феномены окружающей природы. Все непонятное для человека, ум которого не вооружен наукой; все, что для него невозможно, объясняется им, как чудесное, как заключающее в себе силу, преобладающую над ним1045; и, так как действия природы сильнее способны поразить его воображение, потрясти его ум, чем события его обыкновенной жизни, то физические явления, непонятные человеку, всего чаще ведут его к созданию сверхъественных существ.
Сменяющиеся времена года, появление света, наступление тьмы, жар и холод, богатство или бедность растительного царства, точно так, как и другие, подобные же феномены облечены постоянно в религиях древнего мира в божественные образы. Физические явления лежат, потому, в основании мифологических систем, а последние – составляются по впечатлению, производимому на человека действиями натуры. Если климат, вид природы, в которой живет человек, делают его веселым или мрачным; если он иначе чувствует себя в лесу или в поле, в равнине или на горах, в пустыне или среди обработанных полей, на берегу моря, широкой реки или возле ручья, то и, равного рода и не одинаковой силы явления натуры, иначе действуя на людей, вызывают в их воображении сверхъестественные создания различного характера.
Если, потому, филология доказывает нам, что боги многих мифологий не что иное, как олицетворение явлений природы, и что новый божественный образ составляется из качества, придаваемого уже создавшемуся, при этих условиях, божеству, то самое свойство явлений натуры, благоприятных или враждебных человеку, большая или меньшая сила, с которой они поражают его рассудок и действуют на его чувства, определяют характер самого божества и обусловливают понятие, составляющееся о нем. Под этим влиянием формировались и, впоследствии, преобразовались религии. Следы действия натуры не трудно найти во всех мифологиях древних народов, и оно никогда не теряет, вполне, своей силы при дальнейшем развитии последних, при посторонних влияниях и преобразовании их верований.
Так, например, в Греции, где природа не имеет тропической силы, покоряющей человека, где все умеренно, созвучно, прекрасно, где явления натуры редко страшат, редко угрожают смертному, где нет неизмеримо высоких гор, где ураганы и грозы не имеют характера катаклизмов, где нет обширных лесов, ни всепоглощающей исполинской растительности, бесконечных равнин и беспредельного океана, где нет чрезмерно широких рек, в природе этой, не подавляющей человека, развилось светлое понятие о божестве, благосклонно расположенном к смертным. Боги Греции являлись в воображении создавших их поклонников, как существа близкие к ним, сущность которых постигается разумом людей, как образы вечно юные и неизменно прекрасные, разделяющие страсти и слабости смертных, имеющие их достоинства и их недостатки. Атрибуты греческих богов напоминают занятия и удовольствия людей; они покровители их искусств, их развитых вкусов, их умственной деятельности. Иногда грозные, вследствие безрассудства и дерзости смертных, но не постоянно ужасающие, не постоянно пригибающие их к земле. Жители Олимпа входят в сношения с людьми, иногда, принимают их в свою среду, даже борятся с ними. Боги Греции, разумеется, сильнее смертных, но сила их не обращена на чудовищные действия; они произвольны в своих поступках, но человек может избегнуть их гнева. Греки дерзали уподоблять свои деяния действиям богов и судить их. Герои или полубоги стояли между богами и смертными, составляя переход от последних к первым. Как исключение, мы находим у греков мифы, не имеющие вполне этого характера, что следует приписать влиянию, в ранние времена, семитического востока и Египта, или, может быть, тут сдедует видеть наследство прежних поклонений, составившихся вне Греции в период переселений, после оставления общей колыбели всех арийских народов. Во всяком случае, эти, чуждые характеру греческой мифологии, начала скоро пропадают, побежденные более гуманными принципами, более человеческими образами поклонения древних греков, развившегося на эллинической почве. Богам Греции поклонялись в храмах, удивляющих нас своей красотой, общей гармонией частей, но не поражающих ни колоссальностью, ни соразмерностью.
Такое же точно влияние явлений природы заметно в формации божественных образов, созданных воображением народов, населявших Италию, центральные и южные части которой мало отличаются климатом и внешним видом натуры от Греции. Боги римлян и греков, отчасти, вследствие этого, имели почти один и тот же характер, разнящийся только в подробностях.
В Индии, напротив, вид и явления природы поражают необыкновенной могучестью. Горы в этой стране неизмеримо высоки, реки широки, бури и ураганы имеют ужасающее, разрушительное действие и разражаются внезапно; леса непроходимые; растительность получает гигантскую силу и является, как всепоглащающий элемент. Все физические феномены принимают в Индии страшные размеры и, нередко, характер катаклизмов. Подобная природа, представляющая так много ужасного, пугала, страшила человека, заставляла смотреть на жизнь, как на испытание, считать счастьем освобождение от нее, жаждать уничтожения, и создавала, в воображении людей, грозные божественные образы. Культ одного из богов индийской триады, самого ужасного – IIIивы – был более распространен в Индии, чем поклонение другим богам, не столь страшным. Шива изображался чудовищем с тремя глазами, опоясанным змеями, в ожерелье из человеческих костей. Держа в руке человеческий череп, он блуждает, как помешанный, а на левом плече его лежит самая опасная из ядовитых змей. Боги Индии грозны для человека, удалены от него и не имеют с ним ничего общего. Хотя они и изображаются, подобно людям, но принимают противоестественные формы; так, например, другой член индийской триады – Вишну – представляется с четырьмя руками, Браама – с пятью головами. Гнев этих богов является без причин и губителен для человека. Действия их – вполне чудовищны, и выходят из пределов возможного. Смертный не дерзает уподобить свою деятельность поступкам богов. Храмы их громадны и соответствуют понятию, составившемуся о богах.
Подобное же влияние на характер богов имела природа и в Египте; там мы не видим таких страшных феноменов натуры, как в Индии, но в долине Нила совершается периодическое повторение одного и того же явления – разлития этой реки – благотворного, когда оно не переходит известных границ, но столько же непонятного и загадочного для людей. Природа в Египте, вообще, благоприятнее человеку и жить ему там легче, чем в Индии. Но в Египте натура не всегда и не всюду является благосклонной людям. В тех местах, куда проникает вода – плодородие, где ее нет – пустыня; изобильная почва граничит с бесплодной. Ветры, дующие из пустыни, сушат и заносят песком плодородные поля; летом солнце жжет и пожирает растительность. Эти особенные явления природы повели в Египте к созданию богов загадочных, натуру которых человеку не дано постигнуть, добрых и злых, находящихся в непрерывной вражде. Но борьба человека с пагубными для него элементами не была так ужасна в Египте, как в Индии, и враждебные боги не имели в долине Нила такой силы, как на берегах Ганга. Боги благоприятные, боги света, солнца, плодородия побеждают, наконец, в Египте богов тьмы, бесплодия, вредящих человеку, так как после тьмы наступает свет, после засухи лета разливается Нил, оплодотворяя землю, и другие враждебные, для благосостояния человека, явления сменяются благоприятными.
Вражда доброго и злого начала сильнее обозначилась под влиянием более резких, чем в Египте, благоприятных или пагубных для человека явлений и свойств природы, в религии древних персов. В стране, где обитали последние, бесплодие и изобилие граничат между собою; контрасты тут, едва ли, не поразительнее, чем в Египте, и переход от плодотворной почвы к пустыне, от суровой зимы и холодных ветров к теплой весне, от летнего зноя к осенней прохладе, совершается с большой резкостью. Это не могло возбудить в человеке идею об исхождении мира из одного начала, не представляющего противоречия, как в религии древних индийцев, а должно было наводить мысль на существование доброго и злого начал. Религиозные идеи древних персов, в самом деле, были основаны на этом дуализме. Благодетельные боги, согласно учению Зороастра, давали природе жизнь, людям – плодотворную почву, изобилие, воду, умеренную температуру, полезных животных. Враждебные божественные силы, напротив, портили эти благодеяния, заносили песками пустыни возделанные поля, посылали метели, холод, томящую жару, засуху и вредных человеку зверей. В долине Бактрианы и Согдианы было изобилие, возле находилась безводная пустыня, в которой бродили хищные звери; там дули истребительные ветры. Бороться с этим вредным началом человек мог, посредством труда и прилежания, сажая деревья, разрабатывая землю, проводя воду, распространяя плодотворную почву на счет пустыни, уничтожая вредных для земледелия животных и размножая полезных. Этим трудом люди уменьшали владычество злых богов и боролись с ними, в союзе с добрым началом.
В Сирии, напротив, не было места развитию дуализма в религии. Проявления природы там сильны, но не имеют характера контрастов, палящие лучи солнца иссушают летом растительность; грозы не прохлаждают воздуха, как в Персии, и солнце делается грозным божеством, поклонники которого, чтобы умилостивить его, отдают ему на жертву своих первенцев, людей и животных, свои лучшие части, сжигая их, как бы, напоминая этим существо того бога, которому приносят жертву. Аскетические идеи, преобладающие, в большей или меньшей степени, в религиях народов востока семитического и неизвестные арийцам запада, родились, вследствие желания умилостивить страшного бога мучениями своей плоти.
Такое же точно влияние на формацию религиозных идей имела и пустыня. Однообразная, малофигуративная, она своим монотонным видом, скорее всего, создавала в воображении ее жителей одного бога, чем многих и очень часто развивала монотеистические идеи; точно так же, как, беспрестанно возобновляющаяся пышная жизнь натуры стран умеренного климата, способнее возбудить мысли политеистического, чем монотеистического характера, а сильная, всепоглощающая растительность вызывает, всего скорее, идеи пантеистического направления. При прозрачности и сухости воздуха в пустыне, чувства человека не подвергаются тем обманам, которые ведут к созданию сверхъестественных образов. В лесу, например, звуки, происходящие от столкновения ветвей и шелеста листьев, равно как и разнообразные формы деревьев, их кореньев, стволов, представляющихся при различном освещении, воображение человека приписывает оживленным существам и создает многочисленные фантастические образы. В пустыне не происходит ничего подобного; картины, создаваемые в ней фантазией людей, немногочисленны, но грандиозны. Величественная в своем неизменном однообразии, она порождает мысль о бесконечности, но не создает в воображении ее обитателей божества, постоянно творящего, как в природе богатой, плодородной. Имя Бога у жителей пустыни не происходит от какого-нибудь физического феномена; по понятиям их, натура не имеет жизни, и Бог отделяется от природы, становится отвлеченной идеей, скорее, чем лицом, удаляется от человека: его называют господином, владыкой, а не обладающим какой-либо особенной силой или качеством, как, например, тучегонителем, громовержцем и т. д. При монотеизме, Бог дальше стоит от смертного, чем при политеизме. Последний вызывает часто вражду между богами и, вследствие этого, человек смотрит с меньшим страхом на разъединенные силы бессмертных. У жителей пустыни каждое явление природы не принимало божественного образа, но сумма впечатлений, произведенных этими явлениями, приводила часто к созданию одного Бога.
Итак, божественные образы нередко составляются под влиянием феноменов натуры1046, а свойства последних – образуют характер божества. Так, например, солнце, смотря по тому, в какой стране оно обоготворяется, делается благодетельным или, напротив, истребительным богом. Влияние физических явлений на религиозные идеи народов можно проверить и при переселении последних. Боги меняют свой характер, когда поклонники их переходят и основываются в странах, нового для них климата. Первобытные арийцы, в религиозных понятиях которых так же резко выразились климатические действия, видели в благоприятных для них явлениях природы дело добрых богов, а в злотворных – враждебные силы. Свет возбуждал их радость, темнота – печаль. Ночь и тьма пугала, свет ободрял их; появление зари, солнца, снова возбуждавшие жизнь в природе, они приветствовали с веселием сердца. Исчезновение этого светила за тучами беспокоило и страшило их. Но боги грозные, произвольные, истребители людей были им неизвестны. Сумма их религиозных идей была довольно светла. Это понятие о божестве изменилось у той ветви ариев, которая населила Индию, и приняло, как мы видели выше, совершенно иной характер, под влиянием физических явлений другого рода, чем совершающиеся на плоской среднеазийской возвышенности, как предполагают, общей колыбели арийских народов. Таким же точно образом изменились, под влиянием новых климатических условий, религии других отраслей ариев: латинской, эллинической и т. д., после их переселения в Европу. Всего менее удалилось от религий первобытных арийцев поклонение древних персов, которые, из всех отделившихся ветвей арийского ствола, остались всего ближе к стране, считаемой колыбелью народов арийского племени. Но и в религиях персов дуализм, т. е. борьба доброго и злого начал, определился резче, нежели у древних ариев, тогда как он почти совершенно сгладился в мифологии греко-римской, составившейся в природе, не представляющей резких переходов от благоприятных человеку явлений натуры к враждебным; точно также, мы видим в истории, что монотеистические идеи развиваются среди народа, получают определенный характер и силу, каких они прежде не имели при жизни и странствовании его в пустыне.
XLIX
Разумеется, не одни климатические условия и вид страны, в которой живет человек, создают его богов. В этом участвуют многие другие явления из окружающего его мира, как, например, смерть и разрушение, вообще, все, что страшит, пугает его, или ему непонятно. Это повело многих народов к обоготворению духа умерших и некоторых зверей, особенно опасных, или особенно полезных. Притом, одни и те же явления природы и внешнего мира, поражая людей разных племен, различных мыслительных способностей, различного склада ума, различных свойств языка1047, вызывают, разумеется, не одни и те же результаты. Израильтяне в Аттике не сделались бы афинянами, точно так же, как афиняне в пустыне не сделались бы израильтянами. Семиты в Греции не выработали бы философского политеизма, как греки в пустыне не пришли бы к отвлеченному монотеизму и не дали бы в своей умственной и гражданской жизни преобладающего места религиозным началам. Мы видим также, что иногда поклонения совершенно иного характера образуются в одном и том же климате, но у народов различного склада ума; а с другой стороны, религия, не составившаяся в народе, но сообщенная ему, меняется, согласно характеру и моральному состоянию людей, ее принявших. Менее народов арийского племени одаренные философскими способностями, семиты не только под влиянием действий природы, в которой они жили, но и вследствие особенного состояния их умственных сил, представляли себе Бога более отвлеченного, более удаленного от человека, тогда как первые, т. е. арийцы, внося философское начало во всякое отправление своей моральной жизни, создавали постоянно в своем воображении Бога, более близкого к ним, более доступного их разуму.
Но феномены натуры и климатические условия никогда вполне не теряют своих сил и могут, с течением времени, изменить моральные способности человека. Явления природы большой могучести устрашают его, он перед ними чувствует собственную ничтожность; энергия его ограничена, парализована; это не может не препятствовать освобождению его мысли и должно породить суеверия. Нельзя не согласиться, что, чем сильнее потрясен ум человека, тем непоколебимее его религиозные убеждения. Испуганный явлениями натуры человек, даже способный к размышлению, к науке, не дерзает анализировать их, как это мы видим, например, в Индии. Напротив, в стране умеренного климата, где физические феномены не страшат человека, не пугают его, не потрясают в сильной степени его рассудок, где натура не истомляет, а, напротив, вызывает к деятельности, как, например, в Греции, там человек сознает свою силу, доверяет ей, получает более высокое мнение о себе самом; ум его действует свободнее, и он начинает изучать природу, подвергая ее своему анализу. Независимость человека перед натурой, точка отправления всякой науки, могла развиться только в тех странах, где она его не подавляла. При этих условиях возможно развитие философской мысли среди тех племен, которые вообще способны на подобную умственную деятельность. Два народа арийского племени, греки и индийцы, пришли не к одним умственным результатам, и культура их приняла совершенно иной характер, преимущественно, под влиянием явлений природы, возбуждающих деятельность человека в Греции и уничтожающих ее в Индии.
При всем этом, однако, хотя арийские поклонения древнего мира Греции, Персии, Мидии и т. д., очень удаляются одни от других, они все-таки сохраняют, не теряя его при преобразованиях, склад философских идей, заметный уже и в религиях древних ариев; но постоянно отсутствующий в верованиях и культуре семитических народов, что делало семитов всегда более религиозно нетерпимыми, чем народы арийского племени.
Составившаяся, таким образом, под влиянием природы, явлений внешнего мира и умственных способностей народа, сумма религиозных идей, не меняется у него в своем основании при движении жизни и при посторонних действиях. Новое, возникающее среди какого-либо народа, верование, результат реформы, преобразования нравственной жизни, или сильнее обозначившегося религиозного убеждения, никогда не отделяется совершенно от, прежде образовавшейся, религиозной почвы; точно так же, как верование, приносимое извне, преобразовывается, в некоторой степени, по религиозным идеям, ему предшествовавшим.
L
Мы видим поэтому, что. вследствие объясненных причин, религиозные идеи совершенно иного характера преобладали в странах востока семитического с одной стороны, и у греков и римлян – с другой. Это понятие о Боге, близком к человеку, распространенное в мире классическом, отразилось в верованиях и выразилось в фигуративном искусстве первых христиан в Риме. Разумеется, это произошло в христианских пределах; религиозное чувство первых последователей веры Спасителя в Риме не слабело; их искренность не страдала, вследствие того, что в христианском идеале они поняли и развили те стороны, которые всего более соответствовали их душевному настроению, их нравственной натуре и складу религиозных идей, уже преобладавших среди них и перешедших к ним по традиции. Идеи эти, приняв, конечно, христианский характер, выразились, как нельзя яснее, в живописи и пластике верующих Рима. И тут мы не говорим о подражании классическому искусству, о заимствовании у последнего декоративных мотивов, фигур, типов для передачи христианских надежд и стремлений, а о задушевной стороне христианских религиозных изображений, об идеях, выраженных в них, имеющих тот же характер, как и религиозные понятия мира классического. Это сходство уже не одной формы, а сущности. В самом деле, нельзя не заметить, что идеальные образы искусства первых христиан Рима представлены не удаленными на небо, но в земной, идиллической обстановке, близкими к человеку, милостиво расположенными к нему и что, вообще, они являются в классическом свете1048.
Точно таким же образом в христианстве, распространившемся на востоке семитическом, отразился, без сомнения, и склад религиозных понятий народов этих стран. Но до нас дошло или, лучше сказать, до сих пор еще открыто слишком мало произведений первоначального искусства верующих востока, чтобы дать возможность определить это по памятникам. Мы увидим, однако, что религиозные идеи народов востока семитического, перенесенные ими в новую веру – выразившиеся, впоследствии, полнее в византийском стиле – начали отражаться в искусстве римских христиан, вскоре после торжества церкви; это дает право предположить, что идеи эти проявились среди христиан востока раньше, при распространении учения Спасителя.
Можно, потому, сказать, что христианство всюду, где его проповедовали в Италии, в Азии, в Египте, в северной Африке, в Галлии и т. д., было понято с различными оттенками, и в нем обозначались влияния местных верований, разумеется, в ограниченных пределах, не изменяя сущности нового учения. Нельзя, однако, не заметить, что преобладающее начало прежних религий выразилось в христианстве новообращенных народов. Так, например, аскетический, отчасти, нетерпимый характер, принятый христианством в Сирии, в Египте, на берегах северной Африки1049, существовал и в прежних верованиях этих стран. Абстрактный взгляд на божество, удаленное от всего мирского, народов востока семитического, отразился в их христианском идеале; точно также, как более земной характер богов римлян, удаление от религиозной нетерпимости, умеренность и практический смысл в религиозных вопросах этих великих завоевателей перешли у них и в новую веру. Повторение в христианстве, уже существовавших прежде него, религиозных идей, особенно ясно выказывается в христианских сектах, которые почти всегда были отклонениями в сторону прежних верований, но уже столь сильными, что сущность христианского учения нарушалась и происходил раскол. Все это доказывается историей распространения христианства и творениями писателей церкви, но подтверждается, как нельзя более положительно и ясно, самыми искренними и непреложными произведениями умственной деятельности первых христиан, именно, памятниками их фигуративного искусства, явившимися у них раньше литературы.
Такое же точно различие, как и в понимании идеала божества, мы замечаем в древнем мире, в гражданских учреждениях, в направлении умственного развития, в понятии о прекрасном, одним словом, в культуре греко-римской, с одной стороны, и народов востока семитического, вообще, Азии, с другой. Определение этого различного направления цивилизации, оценка ее, точно также, как и указание влияния, в известные эпохи, элементов культуры семитических центров на нравственную и гражданскую жизнь греков и римлян, и результаты его, отвлекли бы нас от нашего сюжета, и могут составить предмет отдельного исследования. Мы не должны оставлять тут области религиозного искусства и определения, выразившихся в нем, идей различного склада. Мы можем только заметить, что влияние религиозных и гражданских начал востока семитического на мир греко-римский возрастало постоянно в эпохи упадка и социального разложения последнего.
О появлении среди греков и римлян восточных поклонений и о влиянии на них элементов верований семитических народов мы уже говорили. Подобное же отражение религиозных идей востока мы замечаем и в священных изображениях римских христиан, и, если мы разберем то изменение, какое совершалось в христианском идеале, те перемены, какие произошли в искусстве верующих Рима и которые превратили Спасителя из доброго Пастыря во властелина – Судью вселенной, Богородицу из простой матери в Царицу Небесную, то убедимся, что это удаление от земли божественных образов совершается под влиянием идей востока семитического, и что в этих новых, чуждых в первые три столетия верующим Рима изображениях, отразился идеал божества, всегда бывший в мечтах народов востока семитического, перенесенный ими, в известных пределах, в новую веру и выразившийся потом в искусстве христиан, все полнее и полнее, по мере того, как в Италии гасли традиции классической культуры.
Это отражение в искусстве римских христиан религиозных идей народов востока семитического, проявляется уже в IV-м ст., т. е. раньше возникновения византийского стиля, в котором начала эти, как мы увидим дальше, выразились полнее, с преобладающей силой. Так, например, в изображении Богоматери из катакомбы св. Агнии, ясно выражен обрядный, представительный характер. У Богородицы восточный тип лица; Она в драгоценных уборах и принимает положение молящейся; Христос сидит на Ее коленях. Отношения между матерью и сыном официальны. Тут нельзя не согласиться, что перед нами – идеал божества, уже начинающего удаляться от всего земного, и в этом образе Богоматери переданы совершенно другие идеи, чем в Мадоннах более раннего времени в Риме. Когда была написана эта фреска – ее относят к первой половине IV-гo столетия – столица империи была только что перенесена Константином на берега Босфора. Византийский стиль еще не сформировался, и этот образ Богоматери нельзя считать результатом его влияния. Мы, однако, видим в этой стенописи катакомбы Агнии, уже в зачатке, отличительные черты византийских религиозных изображений. Точно так же и в некоторых ранних мозаиках римских христиан, как, например, в Пуденциановской, относимой к концу IV-го столетия, мы замечаем выражение идей того же восточного склада, хотя эти памятники мусивной живописи не могли быть исполнены под влиянием еще неразвившегося художества Византии. Это подтверждает предположение, что начала, выразившиеся, впоследствии, в византийском искусстве, составив его отличительный характер, обозначились раньше в произведениях живописи верующих Рима и должны были явиться у христиан востока семитического вместе с распространением новой религии.
LI
Религиозные изображения римских христиан меняются, потому, под влиянием идей востока семитического. Такое же точно отражение начал культуры восточных народов мы замечаем в нравах, в понятиях о прекрасном, в социальном строе римлян в последние века существования западной империи. Но эти элементы востока, религиозного, равно как и гражданского характера, заметные в Риме, выразились окончательнее в Византии.
Решительный перевес социальным и нравственным принципам востока над началами культуры запада, в главном, живом, арийском центре того времени – Риме – дало перенесение столицы империи Константином на границы Европы и Азии.
В Византии дошли до полного выражения те восточные элементы, которые и до Константина обозначились уже с достаточной ясностью в Риме, переполненном нарядами, нравами, вообще, формами жизни востока. Строй культуры римлян должен был окончательно измениться, подчиняясь все более и более восточному влиянию; но этот процесс был ускорен сближением с Азией, вследствие основания на рубеже между нею и Европою новой столицы империи, в которой гражданский строй и идеи народов востока устраняют принесенные туда элементы римской цивилизации. Появление в эллиническом мире, в период его разложения, восточных начал, которые обозначились там, особенно, в эпоху Александра Македонского и поддерживались сношениями с большими центрами грекоазиатской культуры, как, например, Александрией, Антиохией и т. д., было, как бы, подготовкой к образованию византийского строя. Зачатки его уже существуют в эту эпоху, точно так же, как и в Риме, в века империи, наводненном восточными нравами и идеями; но эти чуждые арийцам запада начала гражданской и нравственной жизни народов Азии, ни в Греции, ни в Риме не определились с такой положительностью и не развились с такой полнотой, заглушив элементы арийской культуры, как в Византии.
Свободные, гражданские учреждения Рима республиканского уже давно потеряли в нем силу, когда Константин перенес столицу на берега Босфора. Но власть императора в Риме никогда не принимала столь определенный, столь резкий характер, как в Византии, где проявлению ее не препятствовали стеснения, вызываемые традициями республики, которым она все-таки подвергалась в Риме, даже и при последних императорах западной империи. Представитель государства, византийский самодержец, является уже со всеми атрибутами азиатского властелина и окружается восточной пышностью, как персидский царь. Тронное кресло, отличавшееся уже чрезвычайно роскошной отделкой у римских императоров, было заменено в Византии, и еще при Константине, восточным царским троном, стоящим на высоком помосте, под балдахином, со всею его пышною обстановкою1050. Педантический, сложный и точно определенный церемониал, установленный и превращенный в систему, сделавшийся гордостью византийцев, распределяет малейшие подробности сношений их монарха с внешним миром, отделяет его от народа, от простых смертных и отводит его в полубожественную даль, как Фараона в Египте. Это начинается уже в Риме, при последних императорах. Сперва, дом их был основан на патриархальных началах, но с течением времени превратился в дворец монарха самодержца и, наконец, преобразовался в двор азиатского властелина. Диоклециан очень дорожил внешней представительностью и окружал себя восточной придворной обстановкой, затруднявшей доступ к его особе; стража оберегала дворец и сохраняла в нем порядок. Допущенные к императору, увидев его, падали ниц. Уже и прежде Диоклециана Рим имел вполне вид Византии, но Византии языческой, именно в царствование сирийских императоров, как, например, Гелиогабала. Но то, что в Риме является, как исключение, даже, как что-то небывалое, странное, на берегах Босфора возводится в принцип.
В Риме власть императора никогда не получала того священного характера, никогда не считалась нисходящей от Бога, как в Византии. Справедливо, что павшие римляне, вследствие раболепия и низкой лести, превращали императоров, после кончины их, иногда даже и при жизни, в богов и воздавали им почести наравне с бессмертными; но в божественность их никто не верил, и она не принимала характера догмата официального поклонения. Подобное превращение человека в Бога возможно только при политеизме. С торжеством христианства об этом более нельзя было и помышлять; но самодержец византийский, как получивший свою власть от Бога, как помазанник Его, как избранный Им, как имеющий с Ним прямые сношения, делался священным лицом и предметом поклонения, подобно властелинам Азии, имевшим также в глазах своих подданных священный характер.
Местопребывание византийского императора, его дворец, постель, его одежда, чернила, которыми писались повеления, даваемые им, и все, что он употреблял в ежедневной жизни, было священно. Сомневаться в его мудрости, справедливости, в его способности управлять империей, считалось святотатством. Он стоял выше законов. Приближавшиеся к нему, падали ниц перед ним и считали себя счастливыми, когда могли коснуться полы его одежды или поцеловать его ноги. Члены семейства императора, его приближенные, слуги, все они пользовались долей почестей, воздаваемых самодержцу, и, обыкновенно, занимали высшие должности в государстве, имея значительное влияние на ход общественных дел. Эти же принципы преобладали в Египте и в больших монархиях Азии. Значение императорского двора, составившегося по образцу персидского, и перенявшего, впоследствии, многое от двора арабских калифов, постепенно возрастает в Византии; число царедворцев умножается, и сложная иерархия разделяет их на множество степеней. Между ними, как при дворах азиатских монархов, встречаются евнухи, которые окружают императора, иногда, занимают высшие должности в управлении страной и в войске. Торжественная помпа сопровождает всякое действие, всякое проявление воли императора; самый придворный этикет получает священный характер, и обряды восточной церкви слагаются по дворцовым церемониям и подражают им.
В восточную империю были перенесены формы римской жизни, но не душа их; те свободные республиканские учреждения, какие существовали в Риме только номинально со времени установления империи, когда-то, однако, имели силу и действовали там даже со славой. В Византию, напротив, куда перешли только названия их, одна мертвая буква, у них не было ни корней, ни традиций. Самодержец восточной империи управлял государством из столицы, посредством своих посланных. В провинциях не было самостоятельной жизни; она была сосредоточена в Константинополе или, лучше сказать, в дворе императора, в нем самом. От престола, как разветвление самодержавия, распространялась по всему государству сеть многочисленных чиновников различных степеней, от высших до низших. Все силы империи были бюрократически распределены; централизация была вполне достигнута. Самостоятельные муниципальные учреждения, сохранившиеся во многих городах западной империи, даже после падения ее, из которых, впоследствии, развились итальянские республики, были в восточной империи уничтожены централизацией. Один из результатов ее был тот, что многие общеполезные постройки в городах востока, как, например, водопроводы, мосты, гавани и т. д., не поддерживаемые более ни жителями, ни правительством, приходили в упадок и разрушались.
Но эта, систематически развитая, последовательная и искусно составленная централизация всех сил византийской империи, имела и свою выгодную сторону; она дала этой монархии ту способность сопротивления наплыву варварских народов, которой не имела разъединенная западная империя. Вследствие этого, элементы культуры, богатые вклады цивилизации греков и римлян, сокровища их наук и искусств, накопленные в продолжение многих столетий и уцелевшие, хотя и в обломках, после крушения классического мира, сохранились в Византии в некоторой чистоте, тогда как варварские народы севера и юга, в других частях прежней римской империи, разрушали, уничтожали выводы и результаты этой вековой культуры или, усваивая, искажали их. Из этого византийского хранилища, германцы, арабы, славяне и другие народы, явившиеся варварами на сцену истории, в большей или меньшей степени, заимствовали элементы своей цивилизации.
Византия оставалась неподвижна в выработанной ею гражданской форме жизни, как азиатские монархии, как Египет. Военные и дворцовые революции, очень часто происходившие в ней, не имели в виду изменения образа правления; цель их была – перемена династии, возведение на престол нового лица его приверженцами. При этом, менялись только император и его приближенные; бесчисленные служащие административной сети, брошенной на всю империю, оставались на своих местах. Не изменялись также ни государственные принципы, ни система управления.
Народ в Византии вовсе не жил гражданской жизнью и не помышлял о свободных учреждениях. Уважение человеческого достоинства и личная независимость не могли развиться на византийской почве. Ристания в колесницах – любимое зрелище византийцев – и теологичфские вопросы, всего более способны были волновать и поднимать их. Не раз, по поводу последних, они возмущались против императоров и низвергали их. Эта склонность к теологическим спорам преобладает в Византии все время ее существования. Христианство, распространяясь на востоке эллиническом, нашло там выродившуюся и измельченную философию павших греков, состарившуюся в диалектических спорах, и приняло этот характер, отчасти, и потому, что в борьбе с нею, последователи новой веры должны были употреблять то же оружие, прибегая к теологической тонкости и мелочности в определениях. Западная церковь, находившаяся в сношениях, преимущественно, с грубыми германскими народами, которых прежде всего следовало воспитывать, обращала всего более свое внимание на практическую сторону религии и потому не касалась тонких догматических вопросов. Теологические споры охватили в Византии не только двор, – вмешивавшийся в церковные вопросы и решавший их, – духовенство и образованные классы общества, но и весь народ, который принимал в этом живейшее участие, изощряя ум в разрешении богословских вопросов и делал это с необыкновенной страстью и увлечением. Писатель церкви IV-го столетия, Григорий, епископ Нисский, в одном из своих сочинений очень живо изображает эту страсть константинопольцев его времени к теологическим спорам: «Улицы, дворы менял и лоскутников, овощные рынки наполнены, говорит он, людьми, рассуждающими о непонятных для них предметах. Спрашиваешь ли ты у торговца, сколько обол это стоит? – вместо ответа тебе объясняют зачатие или незачатие; хочешь ли ты купить говядины, – тебе говорят: что Бог Отец главнее Сына; спрашиваешь ли ты: испечен ли хлеб? – тебе отвечают, что Сын Божий создан из ничего».
Но при этой страсти к исследованию тайн религии, к теологической утонченности, самые грубые предрассудки и суеверия были распространены в народе. Можно вообще сказать, что умственные силы византийцев поглощались этими богословскими спорами; собственной интеллектуальной жизни не было; поэты воспевали политические события и то, что происходило при дворе императоров; историки писали сухие хроники; в области науки не делалось открытий; философия была оставлена и, в царствование Юстиниана, школы ее закрыты. Византийскую эпоху справедливо называют периодом дряхлости классического развития; в ней мы замечаем все отличительные свойства старчества – болтливость, мелочность, склонность к педантству и к повторениям.
Азиатские элементы заметны также и в нравах византийцев; они делаются более жестоки, чем были в Риме, даже и при последних императорах, и с каждым столетием, по мере того, как Византия отделяется от запада и приближается к востоку, становятся суровее. Это выражается в изображениях византийскими живописцами страшных мучений ада, не встречающихся до того времени в христианском искусстве и перенятых, впоследствии, итальянскими художниками возрождения. Казни ужасные, незнакомые ни грекам, ни римлянам, а только азиатам, как, например, увечье, ослепление, различные виды мучительной смерти, начали постепенно входить в употребление в Константинополе и во всей восточной империи; им подвергались, особенно, государственные преступники и еретики. Ни общественное положение, ни высокий сан, ни даже царское происхождение не спасали от них, и они сопровождали, обыкновенно, дворцовые революции и религиозные преследования.
Но, вместе с жестокостью азиатов, появилась в Византии и их изнеженность; она проявляется, например, в одеянии византийцев. Что касается до костюма императоров, то уже в Риме некоторые из них украшали свой наряд по-восточному, драгоценными каменьями и жемчугом. Коммод, Гелиогабад, даже и Диоклециан, вместо пурпурных одежд, обыкновенно, носимых императорами, одевались в шелковые и золотые ткани, а голову покрывали повязкой, украшенной перлами, или короной, осыпанной дорогими каменьями. Царские облачения Константина были еще великолепнее и напоминают собой костюм азиатских монархов. Евсевий говорит, что этот император носил диадему, ожерелье, браслеты, золототканные одежды с вышитыми на них цветами, узорами и украшал себя, с особенной изысканностью, перлами и драгоценными каменьями. Даже и обувь его была унизана жемчугом. Впоследствии, византийские императоры к диадеме прибавляли нити жемчуга или дорогих камней, которые падали вдоль щек. Подданные, разумеется, следовали примеру, данному императором, и костюм византийцев постепенно принял форму азиатских одеяний. Шелковые и другие драгоценные материи ярких цветов, пестрых красок, с, вотканными в них, золотыми нитями, во все времена и до наших дней любимые народами Азии, вошли тогда в употребление в Византии, и, чем выше был сан чиновника, тем великолепнее был его костюм и платье его жены1051.
Известно, что уже в V-м столетии одежды богатых людей в восточной империи мужчин, женщин и детей были покрыты вытканными изображениями. Это были яркие цветы, львы, пантеры, собаки и другие звери, леса, скалы, охотники, иногда, целые сцены с значительным числом фигур. Люди благочестивые, изображали на своих одеждах сюжеты, взятые из священного писания; так, например, в бордюре богатой мантии императрицы Феодоры, супруги императора Юстиниана, в мозаике церкви св. Виталия в Равенне, представлено поклонение волхвов. Великолепие одежд было особенно замечательно в эпоху Юстиниана, который, как известно, ввел шелководство в свои владения1052. Точно так же, одеяние бедных людей и народа, постепенно, но, впрочем, не очень скоро, изменилось в Византии и приняло покрой одежды западно-азийских народов. Замена простых, но изящных одежд классического мира – белой тоги и паллиума – платьем восточного покроя, произошла, разумеется, в ущерб красоты костюма византийцев. Одеяние азиатов было тяжело и под ним нельзя было различить формы тела. Уже на самых ранних памятниках византийского искусства мы видим фигуры, пропадающие под массивными складками одежд. Не только в покрое платья, но и в утвари, вообще, во всех предметах домашнего обихода, проявляется в Византии отражение вкуса азиатских народов; формы их массивны, а орнаментика тяжела. Постели, сидения в богатых домах теряют свою форму под пурпуровыми, вышитыми золотом материями и азиатскими коврами, которыми их покрывают.
С течением времени, азиатские элементы постоянно берут верх среди римских греков в Византии над началами западной цивилизации. Это можно подметить в неподвижном, по-видимому, состоянии византийского общества. Одно начало уступает место другому, без борьбы, которая и не могла произойти, так как элементы классической культуры слабели с каждым столетием на берегах Босфора. Вскоре после разделения империи на восточную и западную, при сыновьях Феодосия Великого, Византия, сделавшись центром государства, которого самые значительные провинции находились в Азии и в Африке, по своему гражданскому строю, по характеру своей культуры, представляет все отличительные черты азиатской монархии. Греция, которая в языческом мире представляет, как нельзя более, полный тип арийской цивилизации, в христианский период, напротив, получила характер азиатский и выразила в себе все отличительные черты культуры народов семитического востока.
В этом новом центре, столь же близком к Азии по своему географическому положению, как и по характеру своей цивилизации, была, разумеется, более приспособленная почва, для развития тех восточных элементов, которые, как мы уже видели, выразились в религиозных изображениях римских христиан, еще до перенесения столицы Константина на берега Босфора. В самом деле, если мы разберем характер религиозных идеалов, выраженных в произведениях византийского искусства, или создавшихся под его влиянием, то увидим, что идеи, переданные в них, очень близко подходят к тем, которые преобладали среди народов семитического племени.
Подобно тому, как в религиозных изображениях первых христиан в катакомбах развились одни стороны идеала новой веры, преимущественно, перед другими, так и в византийском искусстве известные стороны христианского учения обозначились с большей силой, чем другие и выступили вперед. В том и в другом случае, это особенное направление религиозных идей произошло не в ущерб веры, и не вышло из христианских пределов, но отразило в себе, в известных границах, склад понятий, преобладавших в верованиях, предшествовавших христианству.
Те восточные начала, которые обозначились в искусстве римских христиан, после торжества церкви, развиваются в византийском стиле. Это мы, например, очень ясно можем видеть в религиозных сценах, представленных в мозаиках, исполненных византийскими мастерами, или под их влиянием, особенно, если мы сравним эти сюжеты с написанными на стенах катакомб или вырубленными на саркофагах. Возьмем, например, сцену поклонения волхвов. В подземных кладбищах римских христиан, на их гробницах, она передана следующим образом: Богоматерь без уборов, в простом платье, сидит на обыкновенном кресле, прижимая Младенца Спасителя к груди. Волхвы подходят к Ней, неся свои дары. В мозаиках, этот же сюжет представлен с иным характером: Богородица, покрытая богатыми облачениями, является на великолепном троне, подобно царице; Она окружена ангелами, и предполагается на небе. Но, чтобы еще более убедиться, какая резкая перемена произошла в искусстве верующих первых веков, в понятиях их о христианском идеале, пускай читатель сравнит сцену поклонения волхвов, представленную в мозаике середины V-го столетия Либериевой базилики, с изображением того же сюжета, во фреске III-го века, катакомбы святых Марцеллины и Петра. В мозаике Спаситель, не младенец, а, скорее, отрок, помещен, покрытый богатыми одеждами, на троне; возле Него Богоматерь, в драгоценных украшениях, представлена на отдельном сидении. Позади Христа стоят четыре ангела. Вся сцена преисполнена официального характера, преобладающего в пышной и великолепной обстановке восточного двора. Спаситель имеет вид малолетного сына монарха Византийской империи; волхвы остановились, подходя к Нему, как бы, ожидая позволения приблизиться. В катакомбной фреске, напротив, все дышит простотой и нежностью. Богоматерь в небогатых одеждах, сидит на простом неукрашенном стуле, держа Младенца Спасителя на коленях и опустив глаза, делает невольное движение правой рукою, чтобы оградить Его от, подходящего с дарами, волхва.
Такой же контраст мы находим между типом, усвоенным римскими скульпторами для изображения этого сюжета, и манерой представлять его византийскими художниками. В многочисленных примерах изображения сцены поклонения волхвов, в барельефах римских саркофагов, она преисполнена простоты и лишена официального характера. Совершенно иначе передана она, например, в барельефах конца IV-гo столетия Фессалоникийского амвона, описанного выше. Тут Богоматерь помещена в отдельной нише, величественно заседая, с Младенцем Спасителем на руках, и, как бы, не принимая участия в совершающемся действии, принадлежа другому миру. Скульптор изобразил бы не иначе Богородицу и Христа-ребенка, если бы намерение его было представить их отдельно, вне евангельского эпизода. Маленький Спаситель, как бы, сознает свое царское достоинство. Ангел – посредник между человеком и Богом – ведет волхвов, подобно докладчику в церемониале византийского двора. Начала иерархии, на которых основаны Восточные общества и преобладающие во дворцах азиатских властелинов, перенесены в этом изображении на небо. Художник работал тут при тех же условиях и в таких же размерах, как и современные ему скульпторы римских саркофагов, и, если изменил эту сцену и придал ей другой характер, то потому, что иного склада были его религиозные идеи. По внутреннему содержанию, барельеф Фессалоникийского амвона напоминает изображения того же сюжета в мозаиках Либериевой базилики в Риме и святого Аполлинария Нового в Равенне.
То же самое различие читатель заметит между изображениями, открытыми в катакомбах, где Спаситель является под видом доброго Пастыря, с овечкой на плечах, среди игривого ландшафта, близкого к овцам Своего стада, преисполненного попечения о них, обещающего спасение1053, и образами Христа мозаик, в полном торжестве, идущего по облакам или сидящего на сфере, в удалении от людей, как властелин мира и как Судья его. Нельзя не согласиться, что во фресках катакомб выражен идеал, близкий к понятиям классических народов, а в византийском искусстве переданы религиозные идеи восточного семитического склада, и этот особенный характер постоянно преобладает в произведениях византийских мастеров. Христос и Богоматерь смотрят у них с безучастным спокойствием на сцену этого мира. Элемент торжественности берет верх над идеями более задушевного характера, вдохновляющими произведения катакомбных художников.
Есть, разумеется, в византийском искусстве, Богоматери, выражающие большое сострадание к людям, глубокую скорбь об их печалях, вместе с невыразимой грустью об их падении и грехах, или Богородицы нежного, материнского характера, кормящие грудью Младенца Спасителя, иногда, с любовью обнимающие Его. Мы видим, например, подобные образы во фресках монастырей Афонской горы1054; но при этом, Богоматерь изображена в великолепных одеждах, в царском облачении, в венце, окруженная всей пышностью византийских императриц; титул царицы небесной никогда нельзя отнять у Нее, и тут перед нами не простая мать, а официальное лицо. Точно также, и Христос в византийском искусстве, в сюжетах, заимствованных из евангелия, где Он является среди земной обстановки, как, например, в сценах блудницы, самаритянки и т. п., изображается, как читатель мог видеть по вышеописанным памятникам, с особенностями, отделяющими Его от людей; часто Он сидит на голубой сфере, для указания Его власти над миром, или на Нем драгоценные одежды и золотой диск кругом головы. Святые, являющиеся перед Ним, прячут под платьем свои руки, как царедворцы перед восточным властелином. Спаситель, в изображениях этого рода, всегда более Бог, чем человек, тогда как в живописи и пластике катакомб, это, скорее, человек, чем Бог. Одним словом, Спаситель и Богородица, в религиозных изображениях византийского стиля, даже и среди людей, постоянно отделены от смертных и сохраняют свое царское величие. Земное представление их избегается, как не внушающее должного уважения. Спаситель – царь небесный, и это должно проявляться в Его изображениях1055. Даже и на кресте, в византийском искусстве, Христос представлен иногда не страдающим, с торжествующим видом, совершая Свою жертву небесным, а не земным существом, обыкновенно, с подробностями, подтверждающими Его божественность и намекающими на Его торжество над смертью.
Понятие классических народов о божестве, не подверженном страданиям смертных, отразилось, как мы видели, и в первоначальном христианском искусстве, в котором долго не встречаешь изображений мучения и распятия Христа. Эти идеи, хотя и продолжали жить среди верующих несколько веков, но шли, однако, постепенно угасая, и были уже забыты в Византии, равно как и на западе, после эпохи иконоборства. Мы, в самом деле, начинаем находить в миниатюрах кодексов этого времени частое повторение картин страдания и казни Христа. Они попадаются и раньше; так, например, сцена распятия написана в миниатюрах сирийского евангелия, конца VI-го ст., но тогда подобного рода изображения были чрезвычайно редки и в рукописи этой не представлены другие сцены страстей Спасителя. Только после окончания борьбы за иконы они делаются обыкновенны. Но в Византии сохранилась – вследствие особенных религиозных понятий восточного семитического склада, определенных выше, – наклонность изображать Христа нестрадающим. Это мы видим, например, в миниатюре кодекса Григория Назианзского IХ-го столетия. Тут Спаситель стоит у креста, прислонившись к нему, в позе, преисполненной достоинства, а не висит на нем; тело Его выпрямлено и покрыто пурпурной одеждой. Есть и другие примеры подобного изображения распятия в византийском искусстве. В ХII-м столетии византийские мастера перешли в другую крайность и стали представлять распятого Спасителя, умирающим в жестоких страданиях, повисшим на четырех гвоздях. Склонность к изображению подобных ужасов может объясниться одичалыми нравами византийцев этой эпохи и употреблением ими жестоких казней и мучений.
Могущество и власть Всевышнего, постоянно выступают вперед в произведениях византийских мастеров. Это делается центром, и около его группируются другие сюжеты, в которых, также, преобладают величие божества и удаление его от всего земного. Важный, монументальный характер сохраняется в произведениях византийского стиля, малых, равно как и больших размеров. Те же приемы, те же отличительные черты, ту же манеру представлять религиозные образы, мы находим в монументальной мозаике церквей, точно также, как и в миниатюрах рукописей. Рассматривая памятники византийского искусства, постоянно замечаешь, что художник занят, прежде всего, мыслью передать славу небесных сил, и что другие христианские идеи удалены у него на второй план.
Нет, например, и следа в произведениях византийского стиля игривости, веселости и того светлого вэгляда на идеалы новой веры, которые мы находим во фресках подземных кладбищ. Элемент ландшафтный, точно так же, как и любовь к природе и жизни, преобладающие в них, совершенно пропадают в монументальной, равно как и миниатюрной живописи. Если попадаются в ней изображения растений, деревьев, цветов и предметов, взятых из натуры, то они представлены условно и как декоративный мотив, не сливаясь вместе, и не составляя полной картины природы. Исключения очень редки, и то, это копии с произведений классического искусства. Все строго, холодно, величественно, преисполнено важности в византийском искусстве; человек подавлен, уничтожен этими грандиозными образами. Аскетическое начало проявляется тут все сильнее и сильнее. Исхудалые, морщинистые, печальные лица, с выступающими скулами, впалыми щеками, углубленными глазами строгого мрачного выражения; фигуры с тощими, изнуренными членами, одним словом, со всеми признаками ранней старости, вследствие, умерщвления плоти, мы находим нередко у византийских художников. Таким образом, мы замечаем тот странный, с первого взгляда, факт, что христианское искусство под землею, в катакомбах, во время гонений, но в классический период своего существования, имело веселый, живой, светлый, игривый характер, а, напротив, на поверхности земли, после торжества новой религии, вследствие преобладания в нем элементов востока семитического и идей аскетизма, получило мрачное и строгое направление.
Под влиянием тех же причин, происходит изменение в христианском символизме. Прежние фигуры его, добрый Пастырь, Орфей, молящаяся (Orante) и все любимые изображения христиан первых веков оставляются именно потому, что они не могут уже выражать идеи нового склада. Но нельзя сказать, что начало символическое пропадает в искусстве верующих, после торжества церкви; оно только меняется и при этом, скорее, увеличивается, чем уменьшается, получая более сложный, более изысканный характер. Где можно найти больше элементов символизма, как не в многочисленных апокалиптических видениях, очень часто изображенных в мозаиках, или, например, в сцене преображения базилики святого Аполлинария во флоте в Равенне, где Христос заменен крестом, а апостолы – овцами. Справедливо, что собор Константинопольский в 692 г. признал неполезными символические изображения и указал предпочитать им исторические; но сюжеты, взятые из откровения св. Иоанна, художники продолжают изображать. Ошибочно было бы, потому, предполагать, что стиль христианского искусства меняется со времен Константина, вследствие исключения из него символического элемента; последний развивается и вне катакомб. Начало историческое было даже более обозначено в религиозных изображениях верующих в первый период, чем в средние века, как это мы видим, например, по многочисленным сценам, взятым из ветхого и нового завета и изображенным на стенах катакомб в барельефах саркофагов.
Мистическое начало будет постоянно возрастать в византийском искусстве, и только у итальянских мастеров эпохи возрождения элемент исторический берет окончательный верх над символическим.
Трудно не признать в этом удалении от земли и от людей религиозных идеалов византийцев, в той торжественности, которою окружены их священные изображения, в их царском характере, в преобладании в них мистических и аскетических начал, неизвестных поклонениям классического мира, но преобладающих в верованиях народов Азии, трудно не признать во всем этом, говорю я, влияние религиозных идей восточного семитического склада.
Таким образом, мы видим, что понятия, очень близкие к преобладавшим среди классических народов до христианства, отразились в первые века распространения новой веры в религиозных изображениях последователей ее в Риме; что искусство катакомб меняется под влиянием идей народов востока семитического и что, наконец, они выражаются с преобладающей силой в византийском искусстве. Нельзя сказать, что религиозные изображения катакомб имеют более христианский характер, чем византийские образы и наоборот; те и другие удовлетворяли складу набожных стремлений тех людей, среди которых они появились.
Восточный христианский стиль, вероятно, образовался бы среди верующих запада, даже и без перенесения столицы империи Константином в Византию. При постоянном наплыве на Италию и Грецию восточных идей, религиозные образы первых христиан постепенно преобразовались бы в изображения восточного характера, так как прототипы последних мы находим уже в IV-ом столетии во фресках катакомб Рима и в мозаиках его церквей. Но окончательное сближение Европы с Азией на берегах Босфора развило быстрее то, что совершилось бы медленнее и обраковало религиозный стиль искусства, называемый византийским. В нем мы замечаем два преобладающих начала; одно из них можно назвать классическим, другое – восточным. Первое явилось, как результат наклонности византийцев, наследников древних греков, перенимать формы, усваивать приемы греко-римского искусства, для выражения идей новой веры. Это вызвало изображение мифологических образов, аллегорий и тех грандиозных святых воинов, ангелов и других фигур, напоминающих статуи и задрапированных, подобно им. Второе начало – восточное – сформировалось и постоянно преобладало в искусстве византийцев, вследствие отражения в их понятиях религиозных идей народов семитического востока. Это повело к представлению Христа, Богоматери, святых на небе в удалении от людей и т. д. Форма классическая, перенятая иногда с большим художественным тактом, служит постоянно в византийском искусстве оболочкой, заключающей в себе идеи восточного склада; и как в гражданский строй Византии вошли формы и названия учреждений Рима республиканского, вместе с деспотизмом азиатских монархий, так и в византийском стиле соединились формы классического художества с религиозными понятиями народов востока семитического.
Влияние Византии в пределах искусства
LII
Византия, в средние века, была центром художественной деятельности, из которого, как лучи, выходило влияние ее искусства на близкие к ней и дальние страны. Пока Константинополь был самым богатым, самым цветущим городом, и византийские греки самым образованным и деятельным народом этой эпохи, они имели влияние на умственное и художественное развитие тех племен, с которыми входили в сношения дружелюбные или враждебные. Неудивительно, потому, что мы находим в религиозном искусстве всех христианских народов в средние века следы влияния византийского стиля. Что произошло бы, в самом деле, без его поддержки, с христианским искусством западных стран Европы, начиная с V-го столетия? Но влияние это происходило не всюду в одинакой степени и с равной силой. Одни народы усвоили византийский стиль, другие принимали только главные его основания и из них вырабатывали своеобразное национальное искусство. Это зависело от степени образования и от художественных способностей народа, подпадавшего под влияние византийской культуры.
Действие это было, особенно, сильно там, где оно опиралось на религию, принесенную греками варварскому народу. В этом случае, преимущественно, в первые времена, религиозное искусство принималось без изменений и со всеми особенностями, отличавшими его в Византии. Что-то подобное произошло, например, среди славянских племен, обращенных в христианство греческими миссионерами.
Очень значительно было, также, влияние византийского искусства на западные страны, где, вследствие обеднения их и нашествия варваров, почти совершенно прекратилась художественная деятельность. Там византийское искусство, вполне соответствовавшее характеру религиозного настроения верующих, переполненного началами востока семитического, было принято и вызывало удивление, подражание, даже художественную деятельность, чему способствовала также и техника, более совершенная у византийских мастеров, чем у западных. Вообще, Византия своим великолепием, своим богатством, своими произведениями искусства, поражала воображение западных народов. Очень понятно, что художники, вследствие сознания своего бессилия, обращались к византийцам. Известного рода предметы, как, например, дорогие ткани, эмали, произведения из драгоценных металлов, слоновой кости и т. д. были изготовляемы в Византии. На западе иногда старались подражать, и не всегда успешно, тому, что приходило из Константинополя путем торговли, или как подарки. Особенно, посредством миниатюрной живописи кодексов, легко перевозимых, византийское искусство давало тон художественным работам запада, и мы находим в средневековых мозаиках Италии, Сицилии сцены, прямо скопированные с византийских раскрашенных рисунков, более раннего времени, чем эти памятники мусивной живописи1056.
В мозаике Рима, как мы видели, замечаешь в форме одежд, в шитье, в орнаменте восточные элементы. Но влияние византийского искусства, разумеется, сильнее выразилось в тех провинциях, которые долгое время были подчинены восточным императорам, как, например, Сицилия, южная часть Италии (бывшее Неаполитанское королевство), Равенна. Надо, однако, заметить, что произведения искусства византийского стиля в Италии стоят постоянно ниже, в художественном отношении, того, что создавалось одновременно в Византии, так как полуостров этот был провинцией Константинополя. Потому, о византийском искусстве ошибочно было бы судить по памятникам, находящимся в Италии.
Другие доказательства влияния византийского искусства в Италии были указаны выше; самые решительные между ними, это призвание греческих художников аббатом Дезидерием в монастырь Монте-Кассино, присутствие их в Венеции, заказы бронзовых дверей в Константинополе и т. д.
Также, и во многих средневековых монастырских хрониках говорится о греческих монахах, пребывающих в Италии, и присутствие их там доказывается не одним этим свидетельством. Уже в эпоху иконоборства, греческие иноки живописцы искали убежища в монастырях Италии и были приняты там благосклонно папами, осуждавшими вражду к иконам. Эти факты имеют большое значение, особенно, потому, что церковная живопись была тогда в руках монахов. Даже и по ту сторону Альп находишь следы присутствия греческих иноков в монастырях, как, например, в Сан-Гальском аббатстве в Швейцарии. В Кентербери, греческий монах объяснял Илиаду в IX-м столетии и т. д.
Посредством Италии, которая была постоянно в более частых сношениях с Византией, чем франко-германские страны, начала византийского искусства расходились по ту сторону Альп. Они появлялись там и непосредственно из Константинополя, даже в очень отдаленных странах, как, например, в Нидерландах и в Англии. В Германии влияние византийского искусства делается особенно заметно в конце Х-го столетия, в работах небольших размеров из слоновой кости и драгоценных металлов, в миниатюрной живописи, в эмалях и т. д., вероятно, потому, что образцы этих художественных произведений были привезены именно в это время в Германию из Константинополя греческой принцессой Феофаной, в свите которой находились, также, византийские мастера. В продолжение XI-го столетия, византийское влияние на германское религиозное искусство возрастает. Присутствие греческих мастеров можно указать также и во Франции1057.
Византийское искусство во Франции, Германии, Англии и т. д. дало, вместо грубой неопределенности варварского художества, установленные, точные, неизменные формы и было, в высшей степени, способно возбуждать религиозные чувства, чего требовало тогдашнее состояние умов. Оно распространилось в тех странах, где за несколько столетий перед ним преобладало классическое искусство и заменило последнее, но переступило пределы его и появилось у народов отдаленных стран, которым византийские миссионеры приносили христианство.
В средние века на западе, и, особенно, в Италии, рядом с произведениями искусства византийского характера являются также памятники художеств, преимущественно, пластики и мусивной живописи, в которых преобладает падшая классическая латинская форма, вполне грубая, но, более или менее, свободная от византийских влияний.
Как пример подобных произведений западного средневекового искусства, можно назвать мраморные барельефы, украшающие портал или главный вход церкви св. Зенона в Вероне ХII-го столетия, и изображающие сцены из ветхого и нового завета, от сотворения женщины, до распятия; колонки с барельефами, поддерживающие навес над главным алтарем собора св. Марка в Венеции; барельефы бронзовых дверей, вылитых итальянскими мастерами на юге Италии в ХII-м столетии, находящихся в церквах различных городов бывшего Неаполитанского королевства; барельефы купели в церкви S. Frediano в Лукке, середины ХII-го века; барельефы капителей, колонн и кафедры ХII-го столетия, работы Бенедетто Антелами, сохраняющиеся теперь в музее города Парма и т. д. Можно назвать и многие другие памятники западного искусства, свободные от византийского влияния. В художественном отношении, эти произведения искусства стоят довольно низко; в них есть фигуры, более удавшиеся, чем другие, но все вместе имеет грубый, тяжеловесный, аляповатый вид. Люди представлены короткими, приземистыми; головы их слишком велики для туловищ или они искривлены, неестественны и представлены в невозможных позах.
В этих изображениях, однако, не выражены идеи, преобладающие в христианском искусстве катакомб, а, скорее, религиозные понятия восточного семитического склада. Ошибочно, потому, было бы предполагать, что религиозное искусство в Италии, вообще, в западных странах, выражало эти особенные идеи, вследствие преобладания там византийского художества и его техники. Восточные начала, как мы уже видели, выразились в искусстве первых христиан до сформирования византийского стиля и были результатом постоянного наплыва идей востока семитического на запад арийский. Влияние византийского искусства нашло себе в Италии и среди франко-германских народов, принявших христианство, в тот период, когда оно получило преобладающий восточный характер, подготовленную уже почву.
Новые идеи, появляющиеся в религиозном искусстве Карловингской эпохи
Каждый раз, однако, как самостоятельная нравственная жизнь проявлялась в средние века у итальянцев и франко-германских народов, и как обнаруживались первые проблески их развития, они отклонялись от византийских, вообще, от типов восточного склада, и создавали свои религиозные идеалы, в которых выражаются идеи уже более арийского характера, чем семитического.
Так, например, в царствование Карла Великого, с пробуждением классической культуры или, лучше сказать, наклонности подражать всему римскому1058 и, с оживлением умственной жизни и художественной деятельности, некоторые своеобразные черты выражаются в фигуративном искусстве1059. Известно, что этот император покровительствовал художествам, и мы видели выше, что, противясь поклонению иконам, он считал присутствие их в церквах необходимым. Во дворце его, в Ахене, были изображены победы, одержанные им в Испании. Подробнее, известна нам живопись, украшавшая его дворец в Ингельгейме. Там, в большой зале, с одной стороны, были изображены сюжеты из древней истории, с другой – из жизни христианских народов. В дворцовой церкви художники представили сцены из нового и ветхого завета. Эти фрески, равно как и находившиеся в Ахене, известны нам только по описаниям. Карл Великий украсил, также, купол Ахенского собора – построенного по образцу св. Виталия в Равенне – мозаикой, уничтоженной в начале прошлого столетия. Она изображала Спасителя, сидящего на сфере, в звездном небе и окруженного ангелами. Внизу на земле стояли двадцать четыре старца апокалипсиса, меньших размеров, чем остальные фигуры, поднимая к Христу свои короны, – сцена, встречающаяся довольно часто и в итальянских средневековых мозаиках. Другой памятник мусивной живописи царствования Карла Великого (806 года) сохранился в небольшой церкви в Germigny-les-Pres (департамент Loiret). Сюжет этой мозаики, несколько, оригинален и указывает на византийское влияние. Тут изображен кивот завета, с, лежащим на нем, святым писанием, хранимый херувимами, и наверху – десница; все это симметрически распределено.
Бронзовые двери Ахенского собора и Ингельгеймской дворцовой церкви – последние, частью позолоченные – вышли из Ахенского литейного завода, устроенного Карлом Великим, находившегося под его прямым надзором и управляемого художниками его двора. В орнаменте Ахенских дверей видно желание приблизиться к античному искусству, так что можно предположить прямую копию какого-нибудь античного памятника. Известные неловкости, однако, и несовершенства исполнения изобличают руку неопытного художника.
Из слов историков мы знаем также, что во дворцах Карла Великого находилось значительное число художественных произведений небольших размеров из золота и серебра. Две трети их он, по духовному завещанию, оставил многочисленным соборам своего государства, а остальную треть – наследникам и, для раздачи милостыни. Епископами и настоятелями монастырей Карл Великий назначал своих приближенных, получивших, в сношениях с ним, любовь к наукам и искусствам, и, таким образом, то развитие, центр которого был императорский двор, распространялось и на всю державу. Вследствие этого, многие монастыри сделались не только средоточием образования, но и художественной деятельности.
Итальянские художники, по всей вероятности, работали при дворе Карла Великого. Для исполнения мозаик, для перевозки и постановки, взятых из Италии, произведений искусства, как, например, конной статуи Теодориха, перевезенной этим императором из Равенны в Ахен, были необходимы итальянские мастера. Точно также, нельзя предположить, что одни местные художники написали те фрески больших размеров и сложного сочинения – как это можно заключить из слов историков – находившиеся во дворцах Ахена и Ингельгейма. У франкских живописцев, для исполнения подобного рода работ, не было традиций. В Италии, напротив, несмотря на упадок художества, на ее обеднение и разорение варварами, еще жили предания фигуративного искусства предшествовавших веков, оживленные, именно, в эпоху Карла Великого греческими живописцами, изгнанными из их отечества иконоборством. Нельзя, также, отвергать и византийское влияние на искусство времен Карловингов, усиленное более частыми сношениями франко-германских народов с Византией, после основания Карлом Великим новой западной империи. Нам известно, что он очень ценил все произведения художеств, привозимые из Константинополя. Многие из этих предметов получались, как подарки, от византийских самодержцев Карлу Великому; кроме этого, последний пользовался посольствами и всяким другим случаем, чтобы приобретать в Византии произведения искусства небольших размеров, легко перевозимые. Стиль этих миниатюр, этих работ из золота, слоновой кости и т. д., византийского происхождения, должен был отразиться в произведениях местных художников.
Но, невзирая на это иностранное влияние и на наклонность Карла Великого подражать всему классическому, римскому и ввести то, что еще сохранилось, что было спасено от крушения классической культуры в начинающуюся цивилизацию варварских, едва обращенных в христианство народов, соединенных под его скипетром, несмотря на все это, говорю я, в памятниках художества времен Карла Великого и его наследников, проявляются своеобразные элементы, и это мы всего лучше можем видеть в миниатюрах Карловингских кодексов. Им предшествовала оригинальная книжная живопись, о которой следует сказать тут несколько слов.
Во времена, относительно, довольно ранние, составился своеобразный стиль миниатюрной живописи по ту сторону Альп, именно, в Ирландии, где уже в VI-м столетии, в значительных монастырях этого острова, были между монахами замечательные, в своем роде, каллиграфы и миниатюристы. В работах их не видно следов традиций античного художества, а северный, национальный элемент, варварский, самобытный. Даже и техника, употребляемая ими, имеет оригинальный характер и не получена по преданию от классического искусства. Орнаментика играет главную роль в этой живописи и распространяется по полям страниц, сосредотачиваясь, преимущественно, в заглавных буквах, которым даны большие размеры. Симметрическое расположение фигур, чрезвычайно фантастических, нечто среднее между растениями и животными, между змеями и птицами, делается основанием этого рода орнаментики, или же она состоит из соразмерного распределения линий спиральных, ломанных, кривых, сплетающихся и симметрически повторяющихся. Часто эти декоративные элементы, образовавшиеся, как предполагают, среди кельтийских народов1060 и, переданные последними скандинавам и германцам, принимают чисто каллиграфический характер. В этой фантастической игре орнаментики проявляются мотивы первобытного характера, которые каллиграфы стараются сохранить, пополняя и развивая их. Рисунок орнаментов исполнен почти всегда резкими чертами, но с большой точностью, очень часто на черном грунте, тогда как разводы делаются белой, светло-желтой или темно-красной краской. Образ человека встречается, также, в этих миниатюрах; но, если орнаментика их, состоящая из линий и геометрических фигур, иногда, красива и колорит ее не лишен гармонии, так что все вместе производит приятное впечатление, то люди и звери, представленные тут, имеют постоянно противоестественный вид. Непонимание форм органического существа, становится в ирландских миниатюрах художественным законом, и образ человека, переданный тонкими искусными штрихами пера, распускается в каллиграфических линиях и разводах. Рисунок, при этом, совершенно плосок, лишен теней и рельефа. Лица, черты которых означены вычурными линиями, не раскрашены и представлены в фас. Волосы имеют вид или высокого, волнообразного парика, или массы локонов и хохлов; им дан светло-желтый или голубой цвет, с красными точками. Люди, изображенные таким образом, получают, нельзя уже сказать фантастический, а прямо противоестественный вид, что не может не оскорблять вкуса. В изображении одежд также вовсе не видно желания представлять самый предмет; художник озабочен только симметрической игрой линий. На миниатюрную живопись он вообще смотрит, как на каллиграфическое упражнение: о выражении лиц, об отражении в них духовной жизни не могло, при таких условиях, быть и речи. Исключая отдельные фигуры, встречаются, также, но редко, в ирландских кодексах, и сцены религиозного характера, как, например, распятие. Мы видим его в евангелии монастыря Сан-Галлен, в Кембриджском псалтире (St. John’s College), и в Вюрцбурском кодексе Посланий святого Павла. Можно заметить, что художники, изображая этот сюжет, вовсе не думали о натуре. Под одеянием распятого Христа, имеющим вид плаща, или, скорее, переплетающихся полос материй, никак нельзя предположить тела. Такое же точно удаление от природы проявляется тут и в колорите; так, например, в миниатюре Сан-Галенского евангелия, обнаженные руки Спасителя красные, ноги голубые, лицо вовсе не раскрашено. Еще необыкновеннее представлен Христос на кресте в Вюрцбурском кодексе. Ему дано тут большое, некрасивое, окруженное черною бородою лицо, тогда как одеяние Его состоит из, положенных одна на другую, чешуек складок, попеременно, красного и желтого цвета; крест – черный с красными точками.
Этот особенный стиль живописи был перенесен из Ирландии в галло-франкские страны ирландскими монахами, которые, как известно, основали на материке много монастырей, сделавшихся центрами производства подобного рода иллюстраций манускриптов. Самое значительное из этих оснований, было бенедиктинское аббатство Сан-Галлен в Швейцарии.
Довольно много кодексов, с раскрашенными рисунками ирландского стиля, дошло до нас, и это – преимущественно, евангелия. Первые по времени принадлежат к VI-му столетию; большинство их находится в различных библиотеках Великобритании. Особенно замечателен кодекс, называемый «Воок of Kells», сохраняющийся в библиотеке «Trinity College» в Дублине. Он имеет большие размеры, украшен многочисленными миниатюрами, богатой орнаментикой и, относительно, колосальными заглавными литерами. Ирландский манер орнаментики, но без тонкости его, был перенят англо-саксонскими миниатюристами, тогда как фигуры, написанные ими, приближаются к древнехристианским типам, с византийским оттенком. Этот особенный стиль украшения манускриптов появился и в Италии, именно, в монастыре Боббио в Ломбардии; но, несмотря на низкое состояние искусства в эту эпоху на всем полуострове, не был усвоен итальянскими миниатюристами.
LIII
Менее варварски, менее уродливо, чем в ирландской книжной живописи, выражаются своеобразные начала западных народов в миниатюрах карловингской эпохи. В них мы замечаем не только довольно искусное и разумное подражание античным образцам, но и некоторые самобытные черты, хотя, впрочем, и очень слабо выраженные. Кодексы великолепные, писанные золотом и серебром, на пурпурном и фиолетовом пергаменте, появились в это время.
Замечательный памятник миниатюрной живописи эпохи Карла Великого, это – евангелие, исполненное по его повелению и находящееся теперь в Луврском музее. Тут орнаментация чрезвычайно роскошна, и золото, не встречающееся в ирландских кодексах, употреблено с большой щедростью; а украшение заглавных букв, составленных из сплетающихся полос, более правильно, и краски не представляют столь резких переходов, как в иллюстрациях ирландского стиля. Христос – юноша, сидящий на троне, и четыре евангелиста, занимая всю страницу, представлены в этом евангелии. Тут же мы видим символический колодец, окруженный зверями и летающими птицами. Нельзя сказать, что исполнение этих миниатюр вполне удовлетворительно. Размеры людей не всегда верны; лица имеют вытянутый овал; глаза велики и мало выразительны; руки длинны, ноги, напротив, слишком малы. Краски лежат резко одна возле другой; тону дан темно-красный цвет; но, если мы сравним эти иллюстрации с ирландскими миниатюрами, то увидим в первых большой прогресс над вторыми и старание сблизиться с натурой. Человеческие фигуры уже не имеют в карловингских кодексах вида каллиграфических разводов, но одушевлены и являются с определенным выражением. Христу, представленному юношей, дан германский, своеобразный, не аскетический тип. Византийского влияния не видно, исключая, разве, употребления золота в живописи, но заметно желание подражать раннему итальянскому искусству. Изображая одежды, художник старается повторять античные мотивы драпировки, что, однако, не всегда ему удается.
Выше, в художественном отношении, миниатюры евангелия, также написанного золотыми буквами в царствование Карла Великого (№ 8850 в Парижской библиотеке). Оно вполне свободно от влияния ирландской книжной живописи. Светло-желтую краску, столь часто встречающуюся в последней, вовсе не находим в этом кодексе, и очень редко, светло-красную и светло-голубую, также любимые ирландскими миниатюристами. Напротив, подражание античному, высказывается яснее в иллюстрациях этого евангелия. Колорит довольно силен, но, несколько, темен; архитектурные орнаменты вполне классического стиля. Фигуры людей имеют совершенно тот же вид, как и в, выше упомянутом, евангелии.
Своеобразны также, в некоторой степени, юношеские, хорошо написанные образы евангелистов в кодексе времен Карла Великого, так называемом, aureus, в библиотеке города Трира. Они имеют вдохновленный вид и представлены в римской одежде, мелкие складки которой напоминают, однако, византийскую драпировку. Лица евангелистов не так хорошо исполнены, как самые фигуры их. Вообще, можно сказать, что в миниатюрах перечисленных кодексов, проявляется старание художников передать натурально представляемых ими людей, но это выходит, иногда, несколько грубо в рисунке и в колорите. Число манускриптов с раскрашенными рисунками, дошедших до нас от царствования Карла Великого, незначительно, и в них не часто изображена фигура человека.
Что движение, данное художеству основателем новой западной империи, продолжалось и при его наследниках, видно и по миниатюрам, исполненным в царствование его сына и внуков. Некоторые из любителей искусств, воспитанные при дворе Карла Великого, пережили его многие годы. В монастырях продолжалась художественная деятельность, начавшаяся при нем, производились значительные постройки и писались фрески. До нас не дошли кодексы с раскрашенными рисунками царствования Людовика Благочестивого, но несколько образчиков миниатюрной живописи времен сыновей последнего, Карла Лысого и Лотария, и мы видим, что произведения этой отрасли искусства сохраняют тот же характер, как и при Карле Великом. Это постоянно та же наклонность к натурализму, но несколько более развитая; в технике видно улучшение; краски богаче, живее, созвучнее и положены без резких переходов с полутонами. В рисунке, напротив, успех не велик, и фигура человека представляется неловко, без умения. Светло-зеленоватый цвет тела, данный людям в этих кодексах, – прием, употребляемый, как мы видели, и миниатюристами Византии, – равно как и появление в них аллегорических образов, олицетворяющих силы природы, стихии, светила небесные, времена года и т. д., взятых из манускриптов восточных христиан, все это указывает на византийское влияние. Но ему, однако, не следует исключительно приписать относительное художественное достоинство Карловингских миниатюр. Артистические силы в эту эпоху, по крайней мере, что касается книжной живописи, скорее, возрастают, чем уменьшаются с течением времени; так, например, в миниатюрах царствования Карла Великого мы видим только типические, уже прежде выработанные образы Христа на троне и евангелистов, а при Лотарии (840–855) художники изображают более сложные священные сцены, также, самого императора, сидящего на троне и окруженного людьми его свиты, иногда, в сопровождении аллегорических фигур.
Одни из самых замечательных миниатюр этого времени, находятся в библии, происходящей из монастыря святого Мартина, в городе Тур во Франции1061, и написанной для императора Карла Лысого (840–877). Некоторые из этих раскрашенных рисунков имеют довольно сложные сюжеты. Тут мы видим, например, сотворение мира и человека, грехопадение, изгнание из рая, другие сцены из ветхого завета, Христа в славе, с четырьмя евангелистами и четырьмя пророками, сцены из жизни апостола Павла, святого Иеронима и фигуры из Апокалипсиса.
В псалтире1062, также императора Карла Лысого, на заглавном листе, Давид изображен не как царь, а как певец, играющий на арфе, с непокрытой головой, с обнаженными ногами, в короткой тунике, сверх которой наброшен плащ. Он представлен вместе с тремя музыкантами, играющими на различных инструментах, и с плясуном. Все они одеты, подобно Давиду, но без плаща. Фигуры эти, написанные в сильных движениях, недурно нарисованы; Давид и плясун напоминают фигуры стенной живописи римлян. Последний – с раскинутым и закругляющимся над головою покрывалом, вероятно, копия образа, олицетворявшего свод небесный в мире античном.
В византийских миниатюрах, одновременных с Карловингскими, или близких к последним, фигуры лучше нарисованы, выражают более тонкие чувства, вообще, благороднее; все сочинение яснее распределено, тогда как в работах франкских книжных живописцев более наивности, вместе, однако, и более грубости, но без аскетизма, который постоянно отсутствует в религиозных самостоятельных идеях арийских народов и составляет отличительную черту верований семитов. Даже в миниатюрах, написанных монахами, фигуры, скорее, полны и массивны, чем исхудалы. Если художники карловингской эпохи не всегда понимали верно природу, то это происходило от их грубых нравов, а не вследствие удаления от нее, как от злого, греховного начала.
Самобытные элементы еще очень неопределенны в Карловингских миниатюрах и обнаруживаются неловко, несколько варварским образом. Движения фигур утрированы, неестественны; руки и ноги неправильно присоединены к туловищу. Художники в своих созданиях говорят грубым языком, но им удается выразить их мысли. Если, рассматривая эти миниатюры, не будешь испуган недостатками рисунка, то в нескладных движениях представленных фигур все-таки угадаешь причины, заставляющие их действовать, а в их угловатых лицах, отражение разнообразных, одушевляющих их, чувств. Даже и глаза, несмотря на данные им большие размеры, не лишены выражения, и, если иногда все это до того преувеличено, что делается неуклюжим и смешным, то все-таки не теряет энергии. Апостолы и другие фигуры изображены в тогах, воины – с римским оружием, но народ представлен в галло-франкском платье, в узкой верхней одежде, в коротких, перевязанных у колен, панталонах и в отвернутых сапогах. Вместо спокойного положения, в каком изображены, обыкновенно, фигуры в классическом художестве, в Карловингском искусстве они представлены в движении, иногда, слишком сильном, для их действия, и в развевающихся, в беспорядке, одеждах. Но, если художники этой эпохи не пользовались традициями древней школы живописи, подобно византийским и даже итальянским мастерам, то были, зато, менее связаны в своих произведениях установленными формами и типами.
Орнаментика в кодексах времен Карла Великого имеет своеобразный характер; справедливо, что в состав ее входят классические мотивы, именно: меандры, акантовые листья и тому подобное; но элементы более самобытные преобладают в ней, как, например, сплетающиеся тонкие полосы и извивающиеся тела, немного напоминающие миниатюры ирландского стиля. Эти формы соединены, иногда, очень удачно с мотивами классической орнаментистики. В заглавных буквах, составленных из растений, птиц, зверей и фигуры человека, проявляется веселый взгляд на природу, даже и некоторый юмор. По всему видно, что в Карловингскую эпоху повеяло свежим воздухом. Есть, потому, что-то оригинальное, что-то самостоятельное в этих миниатюрах, выражающих идеи людей мало образованных, но искренних. Нельзя, однако, сказать, чтоб это самобытное начало пустило глубокие корни. Подобно другим отраслям искусства, несколько оживленным в период Карловингов, не только подражанием античному, но и собственными задушевными силами, миниатюры этой эпохи не оставили по себе ни школы, ни развития. Уже в кодексах, иллюстрированных в царствование Карла Толстого (884 – 887), виден упадок формы, художественного вкуса, техники.
Но надо заметить, что оживление искусств при Карле Великом имело центром двор основателя новой западной империи, а главным двигателем – личные вкусы последнего. Оно мало обязано развитию общества и выработке им самостоятельных элементов в области живописи и пластики, но, скорее, было вызвано искусственным образом. Потому то это дворцовое возрождение художеств царствования Карла Великого не имело дальнейшего развития, ни живучести, ни полноты. Оно не продолжалось в средневековом искусстве франко-германских народов, а кончилось вместе с Карловингами и проявилось только в некоторых отраслях художеств, как, например, в миниатюрной живописи, мало касаясь других искусств и, всего меньше, архитектуры.
Новые религиозные начала, выраженные в искусстве эпохи готического полувозрождения
LIV
Гораздо заметнее и положительнее проявляются самобытные идеи в религиозном искусстве франко-германских народов в ту эпоху, когда города их начинают приобретать известную независимость и материальное благосостояние, именно, с ХII-го столетия. Свободные граждане строят тогда готические соборы, до сих пор еще возбуждающие наше удивление, украшая эти здания барельефами и статуями, в которых выражаются их своеобразные идеи. Пластика этой эпохи, справедливо названной готическим полувозрождением, сохранив исключительно религиозный характер, осталась подчиненной архитектуре; но, несмотря на это, в ней уже заметно отступление от традиционального, и в работах скульпторов слышатся новые мысли, новое понятие о христианском идеале. Это преобразование стиля религиозного искусства, результат умственного освобождения, решительнее обозначается в начале ХIII-го столетия, но мы замечаем легкие следы его и несколько раньше. Так, например, в соборах Сен-Дени и Шартр (1140–1145) находятся, в некоторых порталах, т. е. в главных входах, статуи, чрезмерно длинные, узкоплечие, тощие, аскетического вида, с маленькими, мало оживленными, несколько наклоненными вперед головами, в натянутых, однообразных позах, завернутые в одежды, падающие параллельными, монотонными складками и украшенные на коймах изображениями драгоценных камней; одним словом – фигуры, очень напоминающие плохие произведения византийских живописцев того же века. Но, при всем этом, в некоторых головах этих статуй, особенно женских, замечаешь уже черты индивидуальности, составляющие контраст с оцепенелым, мумиеподобным, туловищем. Точно также, и одежда в других примерах, именно, в двух, более древних порталах собора города Мант, сохраняет еще прежний покрой, но уже более просторна и не стесняет движения. В готических соборах северной и средней Франции можно указать другие статуи того же времени и подобного же характера, в которых проявляется что-то оригинальное и слышится дуновение новой жизни, как в архаических статуях греческого искусства – предвестницах цветущего развития пластики.
Но освобождение от условной формы и оживление фигур обозначаются положительнее в готической скульптуре в начале ХIII-го столетия. Художники этого времени принадлежали к свободным корпорациям, составившимся в городах; они вдохновлялись идеями, преобладавшими в освободившихся коммунах, и работали для соборов, постройкой и украшением которых граждане хотели не только удовлетворить своим религиозным чувствам, но и, вместе, заявить свою независимость и силу, что не было возможно, посредством связанных, сжатых фигур византийского стиля или испуганных лиц средневекового искусства. Отсюда, старание скульпторов готического полувозрождения, изображая религиозные сюжеты, представлять живых, сильных людей, близких к природе; и в готических соборах этой эпохи мы начинаем встречать уже не прежние тощие и оцепенелые фигуры, а образы материального вида, с смелыми свободными движениями; не со смиренно опущенными, а с поднятыми головами; не с запуганными, а с бодро и весело смотрящими на окружающий мир, на природу, лицами; не в узких одеждах с их монотонными складками, а в просторных, развевающихся платьях. Эти наивные фируры, может быть, иногда, несколько грубоватые, преисполнены, однако, жизни и силы. Точно также, в орнаментах этого времени пропадает условный акантовый лист романской эпохи, отголосок классического искусства, и заменяется декоративными элементами, составленными из растений местной природы.
Развитию свободного стиля в пластике способствовали, также, и перемены, происшедшие в начале ХIII-го столетия в готической архитектуре, получившей тогда более полные и широкие размеры, вследствие чего, статуям были даны места просторнее прежних, в которых могли свободнее развернуться их формы.
Это преобразование проявляется нам с большой ясностью, например, в произведениях пластики, украшающих архивольты западного портала собора города Лана (Laon) во Франции, первых годов ХIII-го века. Лан был тогда богатым, населенным городом, граждане которого защищали с оружием в руках свои права, подтвержденные, наконец, в мирном договоре с Французским королем Филиппом Августом в 1191-м г. Смелый, настойчивый характер граждан Лана отражается в статуях, украшающих их собор, бодро стоящих, энергически поднимающих головы и самоуверенно смотрящих вокруг себя.
Менее резкие, и лучше выраженные формы, представляют статуи, явившиеся несколько лет позже (1215), и находящиеся в портале главного фасада церкви Богоматери (Notre-Dame) в Париже. Головы апостолов и епископов имеют тут тихое и набожное выражение; лики ангелов красивы, а в барельефах проявляется наивный и свободный взгляд на жизнь граждан богатой коммуны, равно как и ученое направление, данное обществу университетом этого города. Мы видим здесь аллегорические женские фигуры добродетелей, изображения работ и удовольствий различных времен года. Пороки представлены не без юмора; так, например, трусость изображена бегущим, бросившим меч, и боязливо оглядывающимся назад, человеком, которого преследует заяц. В других готических соборах Франции мы также встречаем сцены, взятые из жизни, но имеющие некоторое отношение с религией, равно как и юмористическое, часто даже карикатурное направление. Вообще, в этих произведениях, вместо преобладавших прежде в христианском искусстве франко-германских народов, аскетических монастырских идей, выражены любовь к природе и свежая, веселая жизнь; может быть, иногда, мало утонченная и изящная, но искренняя и безыскусственная. Даже в серьезных и спокойных фигурах королей, королев, епископов и других значительных лиц, изображенных в эту эпоху на их гробницах, проявляются наклонность к натурализму и отклонение от условного.
Иногда, впрочем, сохраняется в готической скульптуре, как бы, воспоминание прежнего, более строгого стиля. Это мы видим, например, в пластических памятниках фасада собора города Амиэн (1238 года). Тут складки одежд падают параллельными, довольно монотонными линиями, головы статуй, сравнительно с их туловищем, малы; в остальном, однако, соразмерность, даже и в колоссальных изображениях, соблюдена; фигуры не лишены достоинства и лица их оживлены; движения разнообразны и переданы с уменьем, так что все вместе имеет величественный вид. В главном портале Амиэнского собора изображена грандиозная, даже несколько строгая фигура Христа; голова Его выразительна, но корпус, представленный в сжатой позе, узок и не развит. Апостолы, окружающие Спасителя, имеют живое и индивидуальное выражение. В южном портале того же собора, между другими фигурами, является и Богоматерь, в спокойном положении и в одеянии, падающем широкими складками. В лице Ее мало оживления. Вообще, произведения эти не столь свободного резца, как одновременные с ними статуи и барельефы других соборов Франции.
Царствование Людовика IХ-го было особенно богато памятниками готической скульптуры; мы назовем тут северный боковой фасад собора Богоматери в Париже и, так называемую, Св. Капеллу. Статуи этих зданий исполнены со вкусом и тонкостью, удаляясь от резкого материализма и, вместе, от условного стиля. Апостолы, находящиеся внутри означенной капеллы, преисполнены жизни, драпировка их одежд проста и красива; также, вполне миловидны небольшие ангелы, стоящие на коленях. Очень грациозная статуя Богоматери в северном портале Нотр-Дам производит приятное впечатление; на устах Ее милая улыбка. Плащ, покрывающий Ее, брошенный легкими складками, несколько поднят и удержан под правой рукой, – удачный мотив драпировки, очень любимый скульпторами этой эпохи. Ангелы в архивольтах представлены в разнообразных, вполне натуральных и грациозных позах.
Также, замечательны некоторые статуи собора города Шартр, принадлежащие, по всей вероятности, к середине ХIII-го столетия. В главном портале южной части этого храма находится величественное изображение Спасителя, держащего в левой руке книгу, и поднимающего правую. Стиль этих статуй довольно строг, но торжествен; головы сухи и несколько резки; художник хотел придать им индивидуальное выражение, но не вполне успел в этом. У скульпторов тут находились перед глазами более ранние статуи, украшающие другие части этого собора, которые, несомненно, имели влияние на их работы; они были, в некоторой степени, связаны традициями предшествующего века; но, несмотря на это, их произведения, в которых мы замечаем юношескую свежесть и наивность понимания и передачи религиозных сюжетов, принадлежат к эпохе освобождения. Можно сказать, что стиль старый и новый борятся тут, и последний, хотя и с трудом, но побеждает.
Высшей степени своего развития и красоты, пластика готического полувозрождения достигает в работах, украшающих собор города Реймса, справедливо названный готическим Парфеноном. Число статуй и барельефов этого храма, принадлежащих, по большей части, к концу ХIII-го столетия, так значительно, что архитектурные линии пропадают под ними. Но не все произведения эти одинакового художественного достоинства. Тут встречаются фигуры старого стиля, тяжелые, короткие, с большими грубыми головами, с тупым выражением, возле образов прекрасных, стройных, с ясным лицом и привлекательною улыбкой на устах, в натуральной, грациозной позе, в красиво драпирующихся одеждах. Другие статуи, напротив, слишком длинны, с маленькими головами, с искривленными улыбками, неловкие в своих движениях, с жеманными жестами. Несомненно, это работа различных мастеров. Одни из них отстали от художественного развития их времени и повторяли старые образцы. Другие – следовали природе, выбирая, насколько умели, лучшие ее мотивы и разрабатывали их, для выражения своих идей. Третьи, не столь даровитые, желая подражать произведениям более талантливых скульпторов, впадали в манерность и утрировку. Но при таких значительных работах, каковы порталы готических соборов с их многочисленными барельефами и статуями, надо было пользоваться всеми артистическими силами, находившимися налицо. Потому-то, в пластических произведениях, украшающих готические соборы, находишь иногда столь значительную разность в их художественном достоинстве и столь сильное несходство стиля. Большинство статуй Реймсского собора, однако, счастливо задуманы и удачно исполнены. Распределение всей художественной композиции не лишено грандиозности. Особенно красивы в южном портале фигуры королей и епископов, в непринужденных позах и натуральных движениях. Сцены из нового и ветхого завета, из жизни некоторых святых, недурно сочинены и верно переданы. Но, всего более, замечательна большая статуя Христа, находящаяся в северном портале, которую можно считать лучшим произведением готической скульптуры. Она безукоризненных размеров и прекрасного исполнения. Лицо Спасителя, окруженное волнами волос, падающими на плечи, имеет серьезное, но, вместе, кроткое и доброе выражение. Эта фигура Христа может стать рядом со статуями Спасителя итальянских мастеров возрождения1063.
Произведения пластики готического полувозрождения мы находим, сперва, в северных провинциях Франции, и только в конце ХIII-го, но, более, в XIV-м веке, появляются они в южной части ее. Мы видим их в Нарбоннском соборе, в церкви Св. Северина, в Бордо, в фасаде Лионского собора и т. д.
Подобное же художественное движение в пределах пластики проявилось в ХIII-м столетии и в Германии, но, скорее, разъединенное и не имевшее столь богатых результатов, как во Франции. Потребность в этой последней стране украшать церкви пластическими работами была так сильна в эпоху готического полувозрождения, а производительность в области скульптуры так велика, что очень незначительные и даже деревенские церкви, равно как и светские постройки, не лишены статуй и барельефов. Эти памятники искусства нового стиля производились за счет граждан муниципального города, иногда, в союзе с епископами и капитулами каноников; напротив, богатые и влиятельные монашеские ордена того времени представляют в этом движении консервативное начало и придерживаются старой манеры, не допуская нововведений.
Рассматривая, дошедшие до нас, памятники готической пластики, мы видим уже не мертвые восточные типы, не бессознательное повторение условных, полученных по преданию религиозных изображений, в определенных формах, освященных церковью, а фигуры новые, оживленные, чувствующие. Мастера этой эпохи воспроизводят, не стесняясь, безыскусственно то, что видят; если и встречается неловкое в их работах, то оно почти всегда наивно, просто и происходит не от желания произвести эффект. Это было возвращение к природе, от которой удалило аскетическое направление, преобладавшее в предшествовавшие века в католической церкви, но возвращение к природе, почти всегда робкое. Скульпторы, как будто бы, не решаются открыть глаза совершенно, не постоянно, и не вполне следуя натуре. Если вглядываешься в статуи, созданные ими, то увидишь в них некоторые реалистические подробности, некоторые особенности, встречающиеся в действительности, наивно повторенные и, иногда, поражающие правдой, но не полное подражание природе, не полное исследование и воспроизведение форм, представляющихся в ней. Так, например, есть образы, делающие какое-либо телодвижение, улыбающиеся или имеющие выражение лица, вполне натуральное, согласное с их характером и исполняемым ими действием, тогда как в остальной фигуре заметно мало наблюдения натуры. Вообще, в статуях готических соборов, кроме редких исключений, не видно той смелости, той развязности, какие являются, вследствие знания конструкции человеческого тела и положений, принимаемых им при любом движении. Размеры фигур, в общем, довольно правильны, но руки, обыкновенно, слишком тонки и малы, бедра поставлены или слишком высоко, или низко. При выражении чувства и страстей, не соблюдена настоящая мера, а при определении характера, часто заметно отсутствие положительности и полноты. Тихие движения души переданы удачнее энергических; так, например, особенно удавалось скульпторам этой эпохи выражать скромную грацию женщин, чистоту и ревность ангелов; в этом, несмотря на другие несовершенства, они иногда были неподражаемы. Одежда в некоторых примерах напоминает античную, но часто, также, фигуры представлены в средневековом платье, прилегающем к телу и падающем грациозными складками, у женщин, перерезанными поясом, что образует особенный, нередко, счастливый мотив драпировки.
Некоторые недостатки готических статуй происходят оттого, что место их в порталах соборов было строго определено. Они подчинялись ритму архитектурных линий и законам симметрии, потому, часто получали невыгодное, для развития их форм, помещение и, вследствие этого, делались, иногда, чрезмерно длинны или принимали стесненное, неестественное положение, находясь, например, между двумя пилястрами или в кривизне арки. Надо также заметить, что песчаник, из которого вырублены эти статуи, менее мрамора способен передавать пластические формы.
Производя художественную оценку скульптурных работ готических соборов, не следует рассматривать каждую статую, как составляющую отдельное целое. Фигуры тут не развиваются самостоятельно, сообразно со своей личностью и силой, но, делаясь частью всей композиции, находятся в связи между собою и в зависимости от главного сюжета. В общем, однако, действие этих обширных сочинений, имеющих более живописный, чем пластический характер, часто поразительно.
Основная мысль больших скульптурных композиций готических соборов и развитие в них идей христианского учения, в соотношениях его с местными условиями и легендами из жизни местных святых, все это, вероятно, определялось учеными теологами и духовенством. Но нельзя не удивляться искусству и умению художников этой эпохи, не оставивших нам своих имен, передавать столь сложные идеи пластическими формами и размещать статуи и барельефы, давая каждой фигуре должное ей место и настоящее выражение, тем более, что сочинения эти представляют почти всегда громадные размеры. Так, например, многие порталы главного фасада церквей заключают в себе около двухсот, иногда, и больше статуй, статуэток и барельефов. В Римском соборе, целый мир каменных фигур. Куда ни взглянешь, всюду видишь статую или барельеф, даже и в таких местах, где их, обыкновенно, не находишь в других постройках подобного рода.
Готическое подувозрождение не имело дальнейшего развития; оно быстро угасло, не сдержав всего, что следовало от него ожидать. Освобождение мысли, проявившееся в эту эпоху, остановили преследования духовных властей столько же, сколько и узкий взгляд на науку и педантство схоластики, тогда как независимость франкогерманских муниципальных республик, была скоро уничтожена монархической властью. Вместе с потерей свободы, обозначилось падение в искусстве, как это произошло, несколько столетий спустя, в итальянских коммунах, где точно также самостоятельное художество возродилось одновременно с пробуждением нравственной жизни свободных граждан и потухло с нею, но привело, разумеется, к большим результатам, чем готическое полувозрождение, проявившееся только в скульптуре, не коснувшись других отраслей изобразительного искусства. В ХIV и последующих столетиях уже не предпринимаются, более, столь значительные пластические работы, как в предшествующие века, и в статуях, выходящих из мастерских готических скульпторов этого времени, проявляются манера, аффектация, желание произвести эффект и отсутствие искреннего, религиозного чувства.
Мы бросили тут беглый взгляд на памятники готического полувозрождения только для того, чтобы показать, как в эту эпоху франко-германские народы, умственно пробужденные, удаляются от религиозных понятий семитического характера и развивают в среде своей идеи, более сходные с духовными стремлениями арийских народов. В самом деле, если мы сравним материальные, и. преисполненные жизни, и силы, смело смотрящие на окружающий мир готические статуи, с религиозными фигурами предшествовших веков, местного или византийского стиля, в которых выражаются аскетические начала и слышится влияние восточных идей, то увидим, что в первых, преобладают арийские, а во вторых – семитические религиозные понятия.
Пробуждение арийской мысли, выражающееся в итальянском искусстве возрождения
LV
Но еще с большей полнотой и с несравненно значительнейшими результатами, чем в готический период, пробудилась арийская мысль в Италии, в эпоху возрождения. Как следствие этого явления, было удаление от прежних религиозных идеалов и создание новых, более согласных с требованиями освободившихся умов, что всего яснее проявляется в итальянском искусстве этого времени.
Все средние века, как мы видели, художество в Италии имело вполне византийский характер и было подчинено влиянию центра артистической деятельности, образовавшегося на берегах Босфора. Но к элементу византийскому, примешиваюсь, в искусстве итальянцев и франко-германцев, начало самобытное, только варварское. Народы, под ударами которых рушилась западная Римская империя, дают упадку художества в Риме его настоящий характер. Они ничего не строили, ничего не создавали оригинального, а, скорее, разрушали. Потому, можно сказать, что нет стиля варварского, но есть влияние варваров на артистические работы этого времени в Италии; оно выражается, например, в исчезновении римского типа в произведениях художества запада, что дает им уже в V-м столетии непривлекательный вид. Искусство этой эпохи в Риме находилось, так сказать, под покровительством варваров. Они платили художникам, власти церкви обращались с просьбою к готтским и лонгобардским королям украшать христианские храмы. Мало-помалу, варварские народы стали подражать побежденным ими римлянам и перенимать, в сношениях с ними, их культуру. Даже и лонгобарды, которые были грубее готтов и менее их образованы, научились ценить искусства. В руках варваров сосредоточились богатства страны; их военачальники, обращенные в христианство, делались, иногда, очень щедрыми покровителями церкви. Из религиозной ревности или из тщеславия, они строили храмы, дворцы, украшали их, поощряли художников, поддерживали деятельность их. Но последние, работая для варваров, должны были подчиняться их вкусу, подделываться под их идеи, удовлетворять их прихотям, опускаться до их умственного уровня. Надо было, также, изображать в своих художественных сочинениях их типы, которые, разумеется, казались варварам красивее римских. Это объясняет, почему мы видим в памятниках искусства Рима, как, например, в мозаиках, начиная с VI-го столетия, грубые лица, не встречающиеся до того времени в христианских религиозных изображениях. Можно, потому, не преувеличивая, сказать, что варвары, наводнившие Италию, были вредны искусству, не столько тем, что они разрушали, сколько тем, что создавали.
Вследствие всего этого, произведения художества, как мы уже видели по памятникам скульптуры, стояли в Италии, в века, предшествовавшие эпохе возрождения, на очень низкой степени, и возрастающее значение папства не могло воскресить его. Этот факт может служить нам лучшим доказательством, что папы не участвовали в возрождении искусства в Италии; это движение вышло из народа, и главы западной церкви воспользовались им для возвышения католицизма. Некоторые из пап сделались покровителями искусства, но не они первоначально вызвали его к новой жизни. Художества не поднялись в Италии в благоприятные и, даже, славные, для папского владычества царствования Григория VII-го (1073–1085) и Иннокентия III-го (1198–1216), но остались на столь же низкой степени, как прежде, и, напротив, стояли уже очень высоко, когда папы Пий II, Юлий II, Лев X и другие, сделались их покровителями. В века, предшествовавшие эпохе возрождения, искусство в Италии находилось ниже, чем в других западных странах.
Следовало бы ожидать, что художественные способности, которыми так щедро наделены итальянцы, созерцание стольких памятников искусства, уцелевших от крушения классической цивилизации и традиции греко-римской культуры, не вполне заглохшие в образованных классах общества, должны были удержать искусство в Италии от такого глубокого падения. Но вышло противоположное, и в то время, когда во франко-германских странах, прежде в эпоху Карловингов, а потом в период готического полувозрождения, искусство пробудилось, стало представлять живых людей и в нем начали вырабатываться новые формы, в Италии – детски повторяли или совершенно грубые, варварские фигуры, или высохшие образы, обладающие отрицательными сторонами византийского стиля, но не имеющие его достоинств, а только его недостатки. Когда рассматриваешь фигуры римской мусивной живописи, как, например, мозаики церкви святого Марка в Риме, то невольно спрашиваешь себя, каким образом потомки людей, создавших столько прекрасных типов человеческой красоты, могли так далеко отойти от идеала своих предков и до такой степени потерять всякое понятие об изящном, чтобы изображать столь безобразные фигуры. Аскетическое направление, принятое христианством, и идеи греховности плоти, сделавшейся предметом презрения и ненависти, равно как и удаление от изучения натуры, не могут объяснить этого падения, потому что в Византии мы видим преобладание тех же принципов, не вызвавших, однако, такого глубокого упадка формы. Скорее, это происходит, вообще, от значительного понижения культуры и материального благосостояния в средневековой Италии. В произведениях искусства этой страны отражаются нравственные страдания общества того времени. Бедствия, которым оно подвергалось, его непрочное положение, его беспокойное состояние, должны были препятствовать тщательному исполнению художественных работ.
Религиозные идеи семитического характера, проявившиеся, как мы видели, еще до сформирования византийского стиля в искусстве западных христиан, развиваются и торжествуют в нем все средние века. Начала аскетические, умерщвления плоти, незнакомые римским христианам, до влияния религиозных понятий восточного склада, преобладают в их средневековом церковном искусстве. Никогда эти морщинистые, серьезные, мрачные, испуганные лица не просветляются, на устах их никогда не видно улыбки.
LVI.
Итальянская мысль пробудилась в муниципальных республиках, когда граждане их достигли независимости, выработав свободные учреждения, а благосостояние их упрочилось развитием промышленности и торговли, расширивших горизонт их деятельности и ознакомивших их с другими странами. Свободные и обеспеченные материально, жители итальянских коммун начали смелее, чем предки их, жившие не при столь благоприятных условиях, смотреть вокруг себя и постепенно освободились от сил, которые до того времени владели их умами. Мало-помалу, они стали отвергать аскетические идеи, удалились от средневекового мистицизма, от безусловной покорности духовным властям, от добровольной бедности. Перешли от схоластики к свободному анализу и начали принимать деятельное участие в гражданской и политической жизни своего отечества, т. е. муниципальной республики. Каждый гражданин ее порывался заявить свое право на свободу мысли, на проявление своей личности, жаждал деятельности и избегал праздности, – выдающегося недуга современных итальянцев. Возвышение человека – главная идея, оживляющая общество этой эпохи. Характеров столь сильной индивидуальности, подобных развившимся тогда в Италии, не находишь в ней раньше возрождения, что и объясняет бури, сопровождавшие это моральное и гражданское пробуждение.
Освобождение мысли, наплыв новых идей и удаление от средневековых суеверий должны были изменить составившиеся при других условиях, отвечавшие иному состоянию умов, религиозные идеалы, и породить новые, соответствовавшие изменению, происшедшему в понятиях итальянцев. Люди, бросившие суеверную боязнь, созерцавшие с большим доверием, чем прежде, окружающий их мир, разумеется, с меньшим страхом смотрели на небесные силы. Нельзя сказать, что набожные чувства при этом, уменьшились; уже одни многочисленные церкви, соборы и различные художественные произведения религиозного характера, воздвигнутые и созданные в эпоху возрождения, опровергают подобное предположение; но религиозные стремления приняли иное направление, иной характер. Всего рельефнее изменение это выразилось в искусстве итальянцев того времени, народа, богато одаренного природой, художественными способностями, в котором пробуждение умственной жизни всегда сопровождается увеличением деятельности в сфере фигуративного искусства. Последнее, вследствие оживления итальянской мысли, получило значительное развитие, и художественная форма воскресла среди итальянского народа, вместе с его моральным освобождением.
Удаление от аскетических идей, от осуждения натуры, плоти, как начала греховного, происходившее в умственно освобождающемся итальянском обществе возрождения, возбудило любовь к природе. Мастера этой эпохи понемногу возвратились к изучению ее, и проявления обыкновенной, окружающей их, жизни примешивались к идеалу небесному в их религиозных изображениях.
LVII.
Новая жизнь проявилась, прежде всего, на юге Италии, именно, в муниципальных республиках: Амальфи, Гаэты, Неаполя, которые приобрели свободные учреждения и достигли известного благосостояния раньше, чем города средней и северной части полуострова. Но об изобразительном искусстве в этих центрах новой культуры мы имеем мало сведений; очень вероятно, что оно не успело развиться в них, так как период независимого существования этих муниципов был непродолжителен. Притом, тесные торговые и политические связи, существовавшие между Византией и республиками южной Италии, выразились, преобладающим образом, и в художестве последних, как это мы можем видеть по памятникам, дошедшим до нас от этой эпохи.
Заметнее делается возрождение итальянского искусства при императоре Фридрихе II-м Швабском, в его владениях на юге Италии. Главным принципом царствования этого, опередившего свое время, императора, было воcстановление прав человеческого разума, отвержение, преобладающего в средневековом христианстве, мистицизма и идей умерщвления мысли и плоти. Фридрих II-ой обладал замечательными, для своего века, знаниями, неутолимой любознательностью и аналитическим умом, но его либеральные усилия разбились о духовные католические учреждения того времени. В царствование этого императора, однако, начинается на юге Италии особенная деятельность в области искусства, произведения которого имеют уже очень ясно определившийся характер возрождения. Чтобы убедиться в этом, стоит только взглянуть на золотые монеты – augustali–выбитые при Фридрихе, с его изображением. Но это умственное и художественное движение было пресечено завоеванием южной Италии и Сицилии полуварварскими французскими рыцарями, под предводительством Карла Анжу.
С большими результатами для изобразительного искусства освободилась итальянская мысль в городах центральной и северной Италии и, особенно, во Флоренции, представляющей полный тип муниципальной республики, управляемой народными учреждениями и несколько столетий процветавшей в материальном отношении. Новые идеи, возникнувшие в эпоху возрождения, как результат освобождения мысли, отразившиеся и в пределах религии, привели к созданию новых идеалов, прекрасно представленных фигуративным искусством, которое оживилось, вследствие пробуждения нравственных сил в итальянском народе, по преимуществу, способном к художественной деятельности. Всего живее проявляется это во Флоренции: тут, начиная с Чимабуэ (ХIII-го стол.), византийские типы мало-помалу одушевляются, и внутреннее содержание изображаемых фигур уже несколько разнится от идей, выраженных в произведениях, предшествовавших ему в Италии живописцев.
Это преобразование получает более определенный характер и совершается окончательно в живописи ученика Чимабуэ – Джиотто (1276–1336). Влияние византийских образцов еще заметно в его произведениях; сцены и фигуры, прямо взятые из мозаик, из миниатюр кодексов, из живописи на дереве, восточных христиан, можно указать в работах Джиотто1064. Но, сверх большого художественного достоинства, более правильного рисунка, меньшей резкости колорита и, особенно, большей выразительности, изображаемых Джиотто, фигур, чем в современной ему византийской живописи, в религиозные сюжеты флорентийского мастера входят и жизнь, и натура. Он не только не удаляется от изучения природы, но, напротив, изображает ее с любовью; склонен даже воспроизводить ее веселые мотивы. Фигуры его превосходно передают, оживляющие их, мысли и чувства. Идеи аскетизма, умерщвления плоти сглаживаются в его фресках, и мистицизм, преобладающий в византийском искусстве, уступает у Джиотто место философскому началу и изображению всего радостного, веселого, представляющегося в жизни.
Что особенно привлекает на себя внимание в произведениях этого живописца, составляющего, так сказать, поворот итальянского искусства на новый путь и удаление его от византийской манеры, это – вполне земная обстановка, изображаемых им, священных сцен с теми подробностями, которые он видел кругом себя в обыкновенной жизни: Христос, Богоматерь, апостолы, святые представляются им уже не в удалении, на небе, под видом царских лиц, а на земле, среди других людей. Художество в эту эпоху, в Италии, из религиозного делается светским; вместо монахов, которые до того времени, подобно тому, как мы это видим в Византии, почти исключительно занимались религиозным искусством, появляются живописцы, но принадлежащие духовенству.
Отличительные черты живописи Джиотто, указанные выше, развиваются и пополняются в произведениях итальянских мастеров следующих веков и доходят у них до полного выражения. Сцены, очень напоминающие своим сочинением изображаемые византийскими мастерами, будут еще долго встречаться в живописи эпохи возрождения в Италии; но они преобразовываются под влиянием новых идей, пробудившихся среди итальянцев и изменивших их религиозные понятия. Чтобы определить, в чем именно состоит это преобразование, рассмотрим, каким образом византийские живописцы и мастера эпохи возрождения представляли главные христианские сюжеты: Христа, Богоматерь и т. д. Первые, как мы уже видели, изображали Богородицу Царицей Небесной, постоянно, в богатых облачениях, в дорогих убранствах, удаленной от земли, отделенной от людей, даже и в земных сценах. На западе, с ХIII-го столетия поклонение Богоматери приняло значительное развитие, и изображение Ее заняло очень важное место в священной иконографии итальянцев. Можно предположить, что это почитание, постоянно очень распространенное на востоке, было оживлено среди западных христиан, сношениями их с византийцами во время Крестовых походов и потом развито, и возвышено рыцарской поэзией. До возрождения, Богородицу в Италии представляли таким же точно образом, как и в Византии; но уже первые мастера новой эпохи, для которых изображение Мадонны сделалось одним из любимых сюжетов, удаляются от византийского типа. Вообще, можно сказать, что искусство в Италии воскресает, прежде всего, в изображениях Богоматери.
Самое замечательное из произведений Чимабуэ, которое произвело сильное впечатление, в свое время, на флорентинцев, это образ Богородицы, с Младенцем Христом и ангелами1065. В нем еще много византийского, и он отличается только несколько лучшим исполнением и красивыми головами ангелов от, современных ему, произведений греческих живописцев, находившихся в Италии. Но в многочисленных изображениях Богоматери или сцен, взятых из Ее жизни, написанных Джиотто, идеи нового характера проявляются полнее. Мы видим у него Мадонн, имеющих уже тип итальянских женщин и окруженных меньшим великолепием, чем византийские Богородицы. Это новое направление обозначается еще сильнее у итальянских художников следующих столетий, и они пишут Мадонн-Матерей, обнимающих с любовью своего Младенца.
Тип подобных Богоматерей – это Мадонна Рафаэля, известная под именем «della Seggiola»1066. Она, прижимая к груди, сидящего на Ее коленях Ребенка Спасителя, и слушая на своем сердце биения Его Младенческого сердца, смотрит на зрителя, как бы, говоря: «Не отдам Его вам для искупления ваших грехов». Борьба между материнскими чувствами и жертвой, требуемой предопределением, выражена тут изящнымн формами и, как нельзя, трогательнее. Нежная забота о Младенце прекрасно передана в изображениях Богородиц подобного рода; они относятся к нему, как каждая мать к своему ребенку. Мы видим уже не цариц небесных, а земных женщин, любящих матерей. Они в одежде простой средневековой итальянки и вся обстановка, кругом их, напоминает здешний мир, а не небесный, фон картины занят, иногда, красивым пейзажем, в котором видно движение ежедневной жизни.
Взгляните, например, на Мадонну Рафаэля, принадлежавшую фамилии графов Коннестабиле, и находящуюся теперь в Петербурге, в галерее Эрмитажа. Это прелестное произведение юношеской кисти ученика Перуджино, может быть, не вполне удовлетворительно, что касается рисунка, но невольно привлекает своей наивной грацией, искренностью и теплотой чувств1067. Богоматерь представлена тут красивой итальянкой, в простом платье, с покрывалом на голове; в Ее правой руке – книга пророчеств; Она поддерживает левой ногой Младенца Спасителя, который быстрым движением раскрывает это писание, предсказывающее Его будущую судьбу1068. Богородица, наклоня голову, и с таким спокойным, но несколько грустным выражением лица, взирает на Младенца Спасителя, с детской беспечной резвостью хватающего книгу предсказаний страшной жертвы, которую он должен принести для спасения мира; и этот контраст между младенческой невинной беззаботностью Христа и тем, что готовится для Него впереди, имеет что-то непреодолимо трогательное. Фон картины составляет игривый, весенний пейзаж Умбрии; на горизонте поднимаются снежные горы; между зеленеющими холмами и лугами, течет река; там и здесь видны распускающиеся деревья. Вдали можно различить крестьянский дом; по дороге скачет всадник; по реке плывет лодка, и в ней двое людей.
Иоанн Креститель, изображенный часто ребенком возле Спасителя, является сверстником в Его играх, как в Святом Семействе Рафаэля, известном под именем «La Perla»1069. В этом примере, Спаситель, которого Богоматерь только что подняла из люльки, преисполненный детской живости и игривости, смотря вопросительно на Богоматерь, радостно протягивает руки к плодам, которые подносит ему маленький Иоанн Креститель. Вдали видны деревья и за ними – город, окруженный стенами и построенный на крутых берегах извивающейся реки, через которую брошен мост. Среди зданий, стиля возрождения, поднимаются колоннады, развалины римских храмов и терм. На горизонте – горы, – обыкновенная рамка итальянского пейзажа.
Иногда мастера возрождения изображали Богоматерь молодой красивой девушкой, почти ребенком, с задумчивым, наивным лицом, сияющим чистотой, скромно опускающей глаза, в бедном платье, неся Младенца Спасителя на руках. Многочисленны Богоматери этого рода; между ними, особенно, замечательна Мадонна Рафаэля, называемая «del Granduca»1070. Часто, также, представляли Спасителя, играющим возле Богородицы, или на Ее коленях, – различными предметами, держа в руке цветок или птичку, детски забавляясь, и вызывая своей веселостью, печальную улыбку на устах Мадонны.
Что может быть, например, грациознее и, вместе, заключать в себе более возвышенное религиозное чувство, как вполне земная сцена, написанная альфреско Андреем дель Сарто на стене монастыря SS. Annunziata во Флоренции, известная под именем «Lа Madonna del Sacco». Тут представлен отдых Святого Семейства на пути в Египет; Богоматерь сидит на земле и останавливает невольным движением руки играющего Младенца Спасителя. На Ее прекрасном, юном лице пробегает тень задумчивости, вызванной чтением Иосифа, который, облокотившись на набитый мешок1071, читает книгу пророчеств, предсказывающих будущую судьбу Спасителя.
В других сюжетах, взятых из жизни Богоматери, как, например, в сценах Благовещения, введения во храм, обручения с Иосифом и т. д., уже начиная с Джиотто, как это мы можем видеть во фресках S. Maria dell’Arena в Падуе, и постоянно у всех других живописцев последующих веков в Италии, Богородица представляется обыкновенной женщиной, без богатых облачений и нарядов, без золотого нимба, без царских атрибутов, а среди земной обстановки, в сопровождении лиц, столь же просто одетых, как и Она. Все эти сцены происходят или в прекрасной природе, оживленной присутствием посторонних людей, возле небогатого дома, или в комнате, убранной вещами домашнего обихода и предметами, услаждающими обыкновенное течение тихой жизни, как, например, цветами, красивыми вазами, птицами в клетках и т. д.
Это обыкновенный характер Богоматерей возрождения, и, если мы возьмем все лучшие произведения итальянских мастеров, равно как и картины или фрески самых незначительных, и малоизвестных художников этой эпохи, то увидим, что идеал их Мадонн сохраняет одни и те же отличительные черты.
LVIII
Есть Богородицы возрождения, изображенные на небе с ангелами и святыми в удалении от земли, как, например, Мадонна Сикстинская, Рафаэля1072 и Мадонна да Foligno1073, написанвая тем же живописцем. Но и в этих небесных сюжетах, Богоматерь не теряет своего земного характера; Она изображается не в царском плаще, не в короне, как византийские царицы небесные, а в том простом одеянии, которое на Ней в земных сценах. Это простые женщины, взятые на небо, а не властительницы мира, управляющие им свыше. Тот же анализ человеческой души, те же идеи философского характера, выраженные мастерами возрождения на лицах земных Мадонн, переданы ими в образах Богоматерей небесных. Вторые, точно так же, как и первые, печально улыбаются, смотря на ребяческую беззаботность Младенца Спасителя, и думая об, ожидающей Его, участи; хотя и на небе, они все-таки испуганы Своим избранием и скромно сомневаются в Своих силах, или одушевлены восторгом участвовать в спасении людей Своей жертвою. Борьба материнской любви с покорностью своему предназначению отражается на их лицах.
Посмотрите, например, на Мадонну Сикстинскую; Она идет по облакам, неся нагого Младенца Спасителя на руках; св. Сикст II-й – папа и св. Варвара1074 отдергивают завесу. Она является на рубеже рая, перед миром, отдавая ему для искупления его грехов Спасителя, на младенческом лице Которого отражается ужас, возбуждаемый в Нем тем, что представляется Его глазам, что происходит на земле, среди людей, указываемых Ему св. Сикстом, и для которых Он должен пожертвовать Собою; тогда как на прекрасном, почти детском лице Богоматери, выражены удивление Ее призванию, уничтожающему Ее своей громадностью, невозмутимая чистота и, вместе, умиление перед благом, приносимым людям жертвой Спасителя.
Точно также, и Мадонна да Foligno представлена сидящей на облаках. Грациозно скрывая в складках Своего, падающего с головы, покрывала преисполненного жизни и резвости Младенца Христа, Она задумчиво смотрит вниз, на святых, поклоняющихся Ему. Игривый пейзаж составляет фон картины; тут видны, перерезаные дорогами и орошеные ручьями, зеленые луга, на которых пасется стадо овец, охраняемых пастухом; по дороге едет всадник, а перед ним идет пешеход; двое людей разговаривают между собою. Далее можно различить здания города и за ними – горы.
Это уже не византийские Богоматери, величественно царящие на облаках, или представленные на земле в царской обстановке, в удалении от смертных, одушевленные, иногда, любовью к Спасителю Младенцу, или скорбящие о грехах людей, но не выражающие борьбы материнских чувств с покорностью воле небесной, сомнений, восторга и всех движений души, совершающихся в человеке, призванном к ужасной жертве и к великому, но устрашающему его, назначению.
Точно также, и Спаситель изображался совершенно иначе мастерами эпохи возрождения, чем прежде, византийскими художниками. Последние, как мы уже видели, ищут, преимущественно, сюжеты торжества и славы Христа, тогда как первые предпочитают сцены, в которых Спаситель поучает, совершает чудеса, скорбит, страдает, как человек. Итальянские живописцы часто представляют моление о чаше, поругание, бичевание, венчание терниями и т. д. Вообще, человеческий характер Христа выражен сильнее в произведениях художников возрождения, чем в византийском искусстве. В нем многие столетия изображают Спасителя на кресте не страдающим, с открытыми глазами и выпрямленным корпусом; в спокойном положении, совершающим искупление, не как человек, а как Бог, нисходящий на землю и воплощающийся в теле смертного, не принимая слабостей, свойственных натуре человека. На западе подобные изображения Христа нестрадающим, встречаются только в период преобладания византийского стиля. Уже первые мастера возрождения в Италии представляют Спасителя, умирающим в мучениях, или, из глубины невыразимых страданий, взывающим к Богу. У византийских живописцев Христос появляется среди людей, как монарх, не смешиваясь с ними; Его всегда нетрудно отличить от окружающей толпы. Можно положительно сказать, что в религиозном искусстве византийского стиля, если и встречаются представления Христа, более, в земной, чем в небесной обстановке, то они все-таки далеко не имеют того простого, неторжественного характера, как изображения Спасителя мастерами эпохи возрождения. Так, например, византийские художники в евангельских сценах, именно, при исцелении слепого, встрече с самаритянкой у колодца, прощении блудницы и т. д., представляли Христа, сидящим на сфере, или одетым в царскую мантию; одним словом – при условиях, резко определяющих Его божественность. Самые артистические приемы и техническое исполнение произведений византийского стиля, как, например, золотой грунт и золотые сияния, противятся земному характеру священных фигур, равно как и изображение Спасителя больших размеров, чем представленные возле Него апостолы, святые и т. д.1075
Христос, потому, столько же удаляется у мастеров эпохи возрождения, от византийского идеала, сколько Мадонна итальянских художников от Богоматери восточного стиля. На стенах церквей Италии в эту эпоху пишутся уже не величественные фигуры Спасителя абсид средневековых базилик, стоящие на облаках, принимая поклонение ангелов и святых, и призывающие к суду, входящих в храм; не образы Христа, хотя и являющегося среди людей, но отделенного от них Своим бесстрастным царственным характером; а земные образы Спасителя, ставшего рядом с людьми, доступного их идеям, на лице Которого, подобно тому, как и на лике Мадонны возрождения, выражены тонкие движения души, борьба чувств и все особенности нравственных состояний, проходимых им на земле. Этот характер имеет Христос уже у первых мастеров эпохи возрождения; так, например, у Джиотто, в сцене страшного суда, написанного им в Падуе, в церкви S. Maria dell’Arena (капелла Скровеньи). Задумчивый и прекрасный лик Спасителя тут уже заключает в себе те данные, из которых разовьется, впоследствии, идеал его типа у Леонардо да Винчи, в его фреске Тайной Вечери, и у Тициана, в его картине, вопрошающего с монетой. Но заметнее переход этот от Христа властелина небесного ко Христу земному, проявляется у Масаччио, в его фреске, находящейся в церкви del Carmine (капелла Бранкаччи) во Флоренции. Тут Спаситель представлен среди учеников, совершенно так, как Он будет являться с этого времени в работах мастеров возрождения, многие из которых, и между ними, Леонардо да Винчи и Микельанджело Буонаротти копировали фреску Масаччио.
Даже и вполне мистические сюжеты, например, обручение Спасителя Младенца со св. Екатериной и другие подобные, представляются художниками этой эпохи в земной обстановке. Мы видим также, что ангелы пишутся итальянскими мастерами с цветами в руках или с музыкальными инструментами, на которых они играют; иногда, задумчиво смотрящими на Младенца Спасителя, а не в богатых облачениях, с жезлами, подобно царедворцам, не в бранных доспехах и вооруженные мечами, как у византийских живописцев и мозаикистов. У художников возрождения, при изображении толпы, точно также проявляется изучение различных сторон характера человека; каждое лицо имеет свое отдельное выражение, и масса людей уже не представляется более с одним и тем же лицом, или возвышающимися, одна над другою, головами, как в средневековом искусстве.
Абсиды и, вообще, те пространства, которые в византийских храмах украшались колоссальными изображениями Христа или Богоматери в славе, на небе, разделяются в церквах эпохи возрождения, и в этих рамках изображаются сцены из земной жизни Спасителя и Богородицы, в которых появляются обыкновенные люди, участвующие в действии, наравне со святыми и божественными лицами, чего мы не встречаем в изображениях священных сюжетов у византийских мастеров. Люди эти уже не имеют того подавленного и запуганного вида, как фигуры средневекового искусства, на лицах которых отражаются страх перед божественными силами, внушаемый церковью в эту эпоху, и ужас наказаний, грозящих непокорным ее предписаниям.
Разделение пространств на стенах и в сводах абсид итальянских церквей эпохи возрождения, и изображение, как бы, в рамках, каждого сюжета отдельно, очень напоминает прием, употребляемый живописцами катакомб, расписывавших стены и потолки погребальных комнат. Это может так же опровергнуть то мнение, о котором мы уже говорили выше, что перемена в стиле христианской живописи, после торжества церкви, произошла не вследствие изменений в складе религиозных идей верующих Рима, а потому что большие пространства в церквах и базиликах, построенных на поверхности земли, невозможно было наполнять сюжетами стиля катакомбной живописи, которым нельзя дать большие размеры, и имеющими, вообще, мало монументальный характер, что и повело к изображению колосальных фигур Христа и Богоматери в славе, среди ангелов и святых. Мы видим, однако, что в латинских церквах эпохи возрождения, образы больших размеров оставляются, для изображения евангельских сцен, в земной обстановке, сходных, в некотором отношении, с сюжетами, представленными на стенах катакомб.
Ошибочно было бы думать, что образы Спасителя, Богоматери, так, как их представляли живописцы и скульпторы возрождения, имели светский характер и мало религиозного значения, что они не назначались для церквей и что народ не молился им. Совершенно напротив. Набожные чувства руководили теми, которые заказывали и исполняли художественные произведения священного характера, в эпоху возрождения, и большая часть последних находится до сих пор, или находилась прежде, до образования музеев Европы, в церквах, в монастырях, в соборах, в часовнях и т. д. Народ в Италии и теперь крестится и становится на колени в религиозных зданиях, перед изображениями мастеров возрождения того же характера как и те, которые мы видим во дворцах и в картинных галереях различных городов.
LIX.
Особенно ясно проявляются это удаление от прежних идеалов и философское направление живописи возрождения, в манере передавать некоторые евангельские сюжеты, как, например, Тайную Вечерю. Христианские художники востока и запада представляли ее различно: первые – с преобладающим мистическим характером; вторые – с исторической и философской точки зрения. Посмотрим, прежде всего, как изображалась Тайная Вечеря в византийском искусстве. Мы находим ее, например, на, так называемой, императорской далматике, сохраняющейся в ризнице собора святого Петра в Риме. Это одежда диакона, голубой шелковой материи, на которой шитьем изображены различные священные сюжеты и, между прочим, Тайная Вечеря. Последняя, следующим образом: Христос с крестовидным нимбом кругом головы, в тунике и паллиуме, стоя за престолом, формы, употребляемой до сих пор в восточной церкви, дает пить из чаши св. Петру. Шесть апостолов одеты по-античному в паллиуме, трое, с каждой стороны Спасителя, подходят к Нему, низко нагибаясь, и выражая жестами свое благоговение перед совершающимся таинством и ничтожество перед Христом. Такие позы должны были принимать царедворцы, подходя к византийскому самодержцу. Происхождение этой далматики неизвестно; согласно преданию, ее надевали императоры при короновании и она, при этом случае, была уже на Карле Великом, чего, однако, нельзя утверждать за неимением положительных данных. Форма греческих букв в надписях, вышитых на этой одежде, указывает на XI-е столетие. Стиль фигур ведет к тому же заключению. Как бы то ни было, но влияние византийского искусства, и даже хорошего его времени, тут несомненно.
Изображение такой же точно мистической Тайной Вечери, но получающей церемониальный, торжественный характер таинства причащения, при котором Христос исполняет должность священника, а сопровождающий его ангел – диакона1076, мы находим в Сирийском евангелии; в миниатюрах греческой живописи псалтири IX века собрания г. Хлудова; в мозаике Софийского собора в Киеве, в мозаиках церквей Сицилии; в одном из монастырей Афонской горы; в монастыре на Кавказе и в других, очень отдаленных друг от друга, местах, куда проникали лучи византийского искусства.
Разумеется, есть, также, и другого рода изображения Тайной Вечери в византийском искусстве, в которых историческое начало идет рядом с мистическим. Так, например, мы видим в средневековых мозаиках и в миниатюрах церковных книг, при представлении иного сюжета, Спасителя, сидящим вместе с апостолами, у стола; но эти сцены всегда мало оживлены, золотой грунт удаляет их от жизни, лица лишены выражения и индивидуальности, анализ человеческой души и философские идеи отсутствуют тут, как и постоянно, в представлении религиозных сюжетов византийскими мастерами. Христос иногда изображен больших размеров, чем, сидящие возле Него, ученики, именно, в мозаике собора1077 Монреале, близ Палермо и в миниатюрах1078 греческого евангелия, находящегося в одном из монастырей Афонской горы. В некоторых примерах Христос помещен на возвышении для указания Его величия и превосходства над апостолами; это мы видим в мозаике святого Марка в Венеции ХI-го столетия, и в барельефе из золота1079, довольно грубой немецкой работы Х-го века. Тут нимб дан только одному Спасителю. То же самое мы находим и в мозаике Монреале, где, притом, Иуда стоит на коленях у стола и Христос изображен, как бы, торжествующим над Своим предателем. Также, на коленях, держа перед Спасителем чашу, символ ожидающих Его страданий, представлен Иуда в барельефе начала ХI-го века церкви S. Germain des Pres в Париже. На столе в этих сценах, обыкновенно, не видно яств или появляются только символическая рыба и хлебы, как, например, в миниатюрах рукописи псалтири г-на Хлудова. Все эти изображения Тайной Вечери были созданы или греческими мастерами или под влиянием византийского искусства и восточных идей, в период преобладания их среди западных христиан. Мы видим, что в многочисленных представлениях этой сцены на западе, в странах, отдаленных одна от другой, повторяется неизменно византийский тип. Таков, вообще, характер изображения Тайной Вечери, иногда, более реалистический, чем церемониальный, именно, во франко-германских странах, но постоянно мистический все средние века, до эпохи возрождения в Италии.
Совершенно иначе передавали сцену Тайной Вечери художники эпохи возрождения. Уже в работах первых из них, по времени, мистический элемент удаляется на второй план и начинает развиваться драматическая сторона сюжета. Это мы видим у сиэннского живописца Дуччио-ди-Бонинсенья; он написал на дереве известный образ Богоматери1080, который произвел переворот в живописи Сиэннской школы, а на другой стороне его, представил несколько сцен из жизни Спасителя и между ними – Тайную Вечерь. В последней, хотя и переданной еще довольно неудовлетворительно, видны, однако, в зародыше те философские задатки, которые разовьются впоследствии полнее у живописцев Флорентинской школы. Христос уже произнес известные слова: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня» (Мф. 26:21), и держит в правой руке кусок хлеба, чтобы обмокнуть его, как это делает и предатель. Удивление и печаль довольно живо выражены на лицах учеников, не лишенных индивидуальности; один из них смотрит с негодованием на Иуду. Сцена тут уже взята из жизни и представлена в покое простого средневекового итальянского дома; ее можно упрекнуть в некоторой холодности, даже натянутости, но византийская условность и церемониальность разрушены в ней вторгнувшейся жизнью, и вся картина имеет что-то спокойное, почти величественное.
Точно также, и Джиотто, в Тайной Вечери, написанной им в начале ХIV-го столетия в церкви S. Maria dell’Arena (капелла Скровеньи) в Падуе, удалился от византийской манеры. Он представил эту сцену под красивым навесом и придал ученикам индивидуальное, сильное, но несколько сдержанное выражение. Энергическое лицо Петра одушевлено негодованием, а Иоанн, склоняющий голову на грудь Спасителя, преисполнен тихой грусти. Расположение всей картины просто и натурально. Иуда, разделенный от Христа только одним учеником, вместе со Спасителем опускает руку в блюдо. Ничего условного не проявляется тут; художник, распределяя лица своего сочинения и одушевляя их, следует своему вдохновению и не стеснен традициями.
Такой же характер имеет и другое изображение Тайной Вечери, написанное альфреско в начале ХIV-го столетия, по мнению одних – Джиотто, согласно другим – Таддео Гадди, на стенах трапезной бывшего монастыря S. Croce во Флоренции. Фигуры тут более, чем натуральной величины. Внутреннее устройство дома или какие-либо архитектурные мотивы не изображены здесь, что несколько напоминает византийский манер, сильнее проявляющийся в этой картине Тайной Вечери, чем в других, предыдущих. Спаситель сидит в середине длинного стола и поднимает правую руку, благословляя, а другою поддерживает, склонившегося к Нему, Иоанна. Апостолы сидят прямо, в несколько натянутых позах. Иуда, небольшого роста и с некрасивым лицом, один без нимба, помещен отдельно, напротив Спасителя. Он берет из, стоящего перед ним, блюда ребро ягненка, что, может быть, должно символически выражать предание им на преломление тела божественного агнца, Христа. Взоры учеников не обращены на Иуду, и они почти равнодушно смотрят перед собою. Вообще, сцена эта производит холодное впечатление и в ней больше условного, чем драматического.
Но философские идеи и жизнь, с течением времени, берут верх над мистическим началом в представлении Тайной Вечери живописцами возрождения. Это мы видим, например, во фреске, написанной флорентинским художником, жившим в ХV-м столетии, Андреа дель Кастальо. Последняя трапеза Христа с учениками, исполненная им на стене столовой монастыря S. Apollonia1081 во Флоренции, представлена следующим образом: апостолы сидят за длинным столом; среди них – Христос, в комнате, стены которой украшены квадратными плитами цветного мрамора и различными орнаментами во вкусе возрождения. Сидения оканчиваются фигурами сфинксов; стол покрыт скатертью и довольно скромно убран. Иоанн припал к Спасителю, который, грустно опустив голову, только что произнес слова: «один из вас предаст Меня». Лица апостолов энергичны, преисполнены натуры и выражения. Иуда помещен отдельно, спереди стола; лицо его имеет что-то лукавое и предательское. Нимбы означены светлыми, едва заметными дисками. Исполнение этой живописи, может быть, несколько грубовато, но в ней много рельефа, и вся картина оживлена; нет тут ни одного равнодушного лица; каждое отражает особенное чувство, вызванное словами Христа. По изучению и представлению различных свойств моральной натуры человека, произведение дель Кастаньо, смело задуманное и сильного выражения, но лишенное тонкой выработки, может стать рядом с известной сценой Тайной Вечери, написанной Леонардо да Винчи, к которой оно относится, как трагедия Эсхила, к трагедии Софокла. К несчастью, живопись эта пострадала от времени и ее можно видеть только при очень невыгодных условиях и неудовлетворительном освещении.
Те же самые философские начала преобладают в двух фресках Доменико Гирландайо, написанных также в ХV-м веке, но после Тайной Вечери Андреа дель Кастаньо: одна – на стене трапезной монастыря Ognisanti во Флоренции, другая – в монастыре святого Марка, того же города. В первой из них, принадлежащей к 1480 году, художник изобразил последнюю трапезу Спасителя с Его учениками, в красивой зале со сводами; в глубине, над головами Христа и апостолов, через два больших полукруглых, занимающих всю стену, окна, видно голубое небо, деревья с плодами и летящие птицы. Стол покрыт, вышитой на концах, скатертью; на нем стоят красивые фляжки, стаканы, блюда с яствами и лежат хлебы и плоды. На одном из боковых четырехугольных окон сидит, опустив свой красивый хвост, павлин; на другом, противоположном, окне – голубь. На полу стоят сосуды, а на карнизе, около павлина, ваза с цветами. Христос – лицо Его, к несчастью, несколько стерто – с нимбом кругом головы, разделенным крестовидными лучами, и апостолы с сияющими дисками над головами, сидят за столом; с правой стороны Спасителя – пять учеников, с левой – шесть. Все они обращены лицом к зрителю; только один Иуда, без нимба, сидит отдельно, по эту сторону стола, против Христа, несколько вправо от Него и, не столько некрасивое, сколько грубое и самонадеянное лицо его видно в профиль. Иоанн склонился головою к Христу, Который, благословляя правой рукою, говорит: «один из вас предаст Меня», как это видно по лицам учеников, на которых отражаются разнообразные чувства, возбужденные этими словами. Тайная Вечеря, в византийском искусстве, имея, преимущественно, мистический характер, изображается в минуту произнесения Христом слов: «приимите, ядите, сие есть тело Мое» (Мф. 26:26); напротив, у мастеров возрождения, занятых более драматической стороной этого сюжета, он представляется, обыкновенно, в тот момент, когда Спаситель говорит: «один из вас предаст Меня». В этой фреске Гирландайо, Петр, сидящий возле Учителя и обращаясь к Нему, держит в правой руке нож и поднимает вопросительно левую, как бы, угрожая предателю; лицо ученика, складывающего руки, и написанного возле Иоанна, выражает полное отчаяние. Далее сидящий апостол, грустно склонил голову на руку. Другие ученики, как бы, спрашивают: «не я ли?» и смотрят вопросительно друг на друга, или на Христа. Вообще, все фигуры тут оживлены; лица их выразительны, движения разнообразны, все заняты словами, произнесенными Спасителем.
Несколько позже, Гирландайо написал, в монастыре святого Марка во Флоренции, фреску, изображающую тот же сюжет и мало отличающуюся внешностью от предыдущей. Тут, также, сцена происходит в зале с полукруглыми окнами, а в глубине – голубое небо, деревья с плодами и летящие птицы; не забыты даже хвост павлина, вазы с цветами и голубь. Распределение апостолов за столом, покрытым вышитой скатертью, но убранным, несколько полнее, повторено без изменений; Иуда протягивает руку над столом, что напоминает слова из евангелия Луки: «И вот рука предающего Меня со мною за столом» (Лк. 22:21). Возле Иуды сидит на полу, смотря на зрителей, кошка. В этой фреске, однако, видно меньше оживления, чем в предыдущей. Апостолы принимают мало участия в совершающемся действии, лица их равнодушны; одни спокойно смотрят на Иуду, или на Иоанна, склонившегося на стол перед Спасителем; взоры других обращены на зрителя. Некоторые опускают глаза, только крайний с правой стороны указывает на себя, как бы, спрашивая: «не я ли»?
Также, очень характеристична картина Тайной Вечери, изображенная на стене трапезной бывшего монастыря св. Онуфрия во Флоренции. Сцена тут происходит под портиком, и в промежутках, украшенных во вкусе возрождения, пиластров, поддерживающих своды, виден красивый ландшафт Умбрии. В середине его, вдали, на холме изображена сцена моления о чаше: трое апостолов спят под деревом, Христос молится на коленях, сложив руки, смотря на, слетающого с неба, ангела с чашей в руке. На первом плане, Спаситель и апостолы, со светлыми кругами над головой, вместо нимбов, помещены на очень украшенном, также, в стиле возрождения, сидении с высокой спинкой. В распределении фигур видно повторение фресок Кастаньо и Гирландайо. Христос написан посередине; с правой стороны Его – пять, с левой – шесть учеников. Все они сидят лицом к зрителю, перед столом, покрытым, вышитой золотом, скатертью и уставленном красивыми вазами, тарелками с яствами и т. д. Иуда, без светлого круга, держа в левой руке кошелек и повернув голову к зрителю, сидит один по эту сторону стола, против Иоанна, склонившегося, как обыкновенно, к Спасителю. Христос, положив левую руку на плечо Иоанна и благословляя правой, смотрит печально, с искренним состраданием на Иуду; взоры нескольких учеников обращены, также, на предателя и лица их выражают грусть и сожаление; только один Петр, держащий в правой руке нож, одушевлен гневом. Головы апостолов имеют много индивидуального, хотя и одно общее, сладковатое выражение лица. Нельзя, также, сказать, чтобы в них сильно отражалось совершающееся действие, и во всей картине слышно что-то равнодушное, холодное. Один из учеников спокойно наливает себе вина, другой режет какой-то плод на тарелке; третий продолжает есть. Крайний с левой стороны отворачивает голову и, спокойно сложа руки на столе, смотрит на зрителя, так что и тут, как и в сцене Тайной Вечери Гирландайо, монастыря св. Марка, нет ни единства чувства, ни общего действия, но зато много нежности и тонкой грации1082. Несмотря, однако, на равнодушие, разлитое в изображениях последней трапезы Христа с учениками, монастыря св. Онуфрия и св. Марка, – жизнь, натура и мысль берут в них верх над мистическим элементом.
Философское начало развито с совершенной полнотой в другой замечательной картине Тайной Вечери, написанной в 1497 году флорентинским живописцем Леонардо да Винчи на стене трапезной монастыря S. Maria delle Grazie в Милане. Художник тут занят только драматической стороной сюжета и передает ее со страшной правдой, выражая, как нельзя живее, на лице каждого из учеников различное действие, произведенное на них словами Спасителя. Это вполне земная сцена, изображение которой основано на глубоком изучении различных свойств человеческой души, а не на мистических стремлениях. Последняя трапеза Христа с апостолами происходит тут в комнате обыкновенного дома; три окна в глубине открывают вид на красивый пейзаж, оканчивающийся на горизонте холмами, у подошвы которых видны строения. Стол, находящийся на первом плане, убран просто; на нем изображены блюда с яствами, фляжки с вином, стаканы и тарелки, небольшие круглые хлебы и плоды. Скатерть на концах украшена несколькими полосами неизысканного шитья. Нимбы, или сияния над головами, тут уже совершенно исчезли. Христос сидит посередине стола, против зрителя, имея по шести учеников с каждой стороны; лицо Его выражает спокойную, но, вместе, и неизмеримую грусть, предшественницу той смертельной скорби, которая овладела Спасителем в Гефсимании1083. Склонив несколько налево голову, подняв пальцы правой, лежащей на столе, руки и, обратив вверх ладонь левой, жест, как бы, говорящий: «вот то ужасное, что должно случиться», Он произносит следующую, поражающую, как молния, учеников, речь: «истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня». Услыхав эти страшные слова, крайний, налево от зрителя, ученик привстал в смущении, опираясь на стол; он еще недоумевает. Возле него сидящий апостол, кладет руку на плечо Петра, спрашивая его: «кто изменник?»; третий, пораженный тем, что сказал Спаситель, поднимает руку, смотря на него. Петр, схватив правой рукой нож, гневно обращается к Иоанну, побуждая его спросить у Христа, на кого Он указывает, кто Его предатель. Изобличенный Иуда изумлен и старается принять спокойный вид; движением правой руки, держащей денежный мешок, он опрокидывает на стол солонку – знак худого предзнаменования у итальянцев. На лице Иоанна, сложившего руки и печально склонив голову на сторону, выражена глубокая грусть. Первый из учеников, сидящих налево от Спасителя, разводит в изумлении руками; написанный за ним апостол, подняв палец правой руки и обращаясь к Христу, как бы, обещает отомстить изменнику; третий, привстав, и указывая на себя, спрашивает: «не я ли?», готовясь уверить Спасителя в своей преданности. Четвертый апостол обращается к двум, на краю стола сидящим, ученикам и, указывая руками на Иисуса, печально подтверждает Его слова; пятый угадывает, кто предатель и косится в ту сторону, где он сидит, поднимая руку с намерением указать на него. Крайний, направо от зрителя, апостол еще сомневается и, обращаясь вопросительно к соседним ученикам, спрашивает выражением лица и движением рук: «возможно ли это?». Тут действие не разделено, как в сценах Тайной Вечери монастыря св. Марка и св. Онуфрия, а имеет полное единство. Ни один из учеников не представлен развлеченным каким-либо второстепенным явлением; все, выраженные чувства, возбуждены словами Спасителя. Полнее нельзя было передать эту, потрясающую своим драматизмом, совершенно земную сцену.
Тот же характер имеет другое изображение Тайной Вечери, написанной в первой четверти ХVI-го столетия, Андреа дель Сарто, в трапезной бывшего аббатства S. Salvi около Флоренции. Спаситель и апостолы и в этом примере представлены без нимба: они, разумеется, не имеют того оживления, тех энергических чувств, которыми вдохновлены лица Христа и его учеников в Тайной Вечери Леонардо де Винчи; но фреска дель Сарто привлекает простотой, непринужденностью, спокойствием, можно даже сказать, некоторой грациозностью, как все произведения кисти этого живописца. По всей картине разлито тихое, ровное и, скорее, грустное, чем энергическое настроение. Апостолы поражены словами Христа и ни один из них не представлен равнодушным или развлеченным, но они выражают свои чувства тихо, не выходя из спокойного состояния. Характеры не сильно оттенены, так что даже трудно сказать, какой из учеников – Иуда. Все вместе, однако, имеет что-то задушевное, теплое и искреннее. Апостолы и Спаситель посреди их, помещены у стола, просто убранного; Христос, держа в руке кусок хлеба, обращается с спокойным и задумчивым выражением лица к, сидящему возле него, молодому апостолу, из чего видно, что Он уже сказал слова: «один из вас предаст Меня», и в настоящую минуту говорит: «тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам» (Ин. 13:26). Сцена происходит в зале, наверху видны три окна, и у среднего из них являются два посторонних лица, мужчина и, как кажется, женщина. Первый, облокотившись на балюстраду, смотрит на вторую, которая уходит, неся что-то в руках.
Все замечательные изображения Тайной Вечери, в искусстве эпохи возрождения, исторического характера, принадлежат флорентинской школе и были написаны в лучшее ее время. Мы назвали тут только самые главные из них. Представление этого сюжета дает место выражению различных движений души человека, тонких оттенков его нравственной натуры, вообще, развитию философских идей, которые постоянно проявляются в произведениях флорентинских живописцев, в большей степени, чем в картинах мастеров других итальянских школ. Так, например, сцена Тайной Вечери, которая у флорентинцев изображалась, как мы видели, с большой простотой, и где все усилия живописца были направлены на выражение лиц, на духовную сторону сюжета, у художников венецианской школы, отличавшейся, постоянно, более очаровательным колоритом, чем богатством мысли1084, эта сцена делается предлогом изображения ярких одежд, пышных и картинных предметов, вовсе не нужных и не в характере последней трапезы Христа с учениками, как она рассказана в евангелии. Это мы видим, между прочим, в картине Тинторетто1085. Тут апостолы участвуют, скорее, как посторонние лица, а не как действующие в драматической сцене, и, кроме того, представлено много лишних, хотя красивых предметов.
Даже и в картинах Тайной Вечери венецианской школы, изображенных без живописной и богатой обстановки, проявляются элементы реализма, не требующиеся для представления философской стороны сюжета, а, скорее, мешающие развитию главной идеи. Так, например, последняя трапеза Христа с учениками написана следующим образом Бонифацием Веронезе1086 (1491 – 1553). Она происходит под красивым портиком; в глубине виден итальянский пейзаж, Спаситель, от головы Которого отделяются в трех местах лучи, и апостолы без нимбов, сидят за длинным столом, небогато убранном, на котором стоят блюда с яствами, кубки и фляжки красивой формы. Иуда уже изобличен, и апостолы, лица которых довольно выразительны, обращаются или друг к другу, или ко Христу; Иоанн склонил голову на стол перед Спасителем. На полу, возле Иуды, сидящего по эту сторону стола, стоит корзина с хлебами и к ним ловко подкрадывается кошка. Направо от зрителя изображены две бутыли и красивая маленькая собачка. Спаситель опускает вместе с Иудой руку в блюдо (Мф. 26:23) и ученик, сидящий возле Христа, по типу – Петр, подает Спасителю салфетку, чтобы отереть руку.
В венецианской школе, мы находим не столь часто изображение Тайной Вечери, как брака в Кане Галилейской. Передача первого из этих сюжетов, даже при самом поверхностном созерцании его, требует выражения мысли, выводов ума, тогда как второй не имеет столь глубокого нравственного значения и дает обширное поле представлению пышной внешности, богатых костюмов, красивых ваз, роскошных предметов и великолепной обстановки.
LX
Мы видим по этим примерам, что христианское искусство эпохи возрождения стало изображать идеи совершенно иного характера, чем выраженные в произведениях средневековой живописи и пластики, составившихся или самостоятельно, или под влиянием византийского стиля, но постоянно отражающих в себе склад религиозных идей народов востока семитического. В искусстве возрождения мы видим освобождение итальянцев от этих влияний и возвращение к религиозным понятиям арийского характера, которые выразились уже в катакомбном искусстве до восточного влияния и составляли, как бы, продолжение религиозных идей классических народов.
Нельзя, в самом деле, не заметить известного сходства между священными изображениями первых времен христианства и произведениями мастеров эпохи возрождения в Италии. Богоматерь, у последних, представляется снова так, как мы видели Ее на стенах подземного Рима, и, сблизив образы Богородицы, открытые в катакомбах, с любою из Мадонн возрождения, мы увидим, что в характере их, несомненно, много общего, и что те и другие, равным образом, приближаются к поклоняющимся Ей. Если б изображения Богоматери первых христиан были известны во времена Рафаэля, то, вероятно, предполагали бы, что он подражал им: так много общего между его Мадоннами и Богородицами подземного Рима. Без преувеличения можно сказать, что величайший талант возрождения и неизвестные художники катакомб поняли и изобразили идеал Богоматери одинаковым образом.
Спаситель, точно также, у мастеров возрождения приближается к людям; в Нем воскресают милостивый, трогательный, человеческий характер доброго Пастыря подземных христианских кладбищ и вся Его простота. Снова мы видим Христа в скромной одежде, среди природы, поучающего людей, толпящихся около Него; подобно доброму Пастырю, Он преисполнен попечения об их спасении. Между Спасителем и Его учениками, у итальянских художников выражена та задушевная связь, которой мы не находим в средневековом искусстве и в византийских религиозных изображениях, но замечаем в катакомбных фресках и барельефах. Некоторые сцены, как, например, Благовещение и наши прародители после грехопадения, написанные на стенах христианских усыпальниц, как нельзя более напоминают произведения мастеров эпохи возрождения.
Сравнивая работы неизвестных художников катакомб с созданиями живописцев и скульпторов возрождения в Италии и определяя то сходство, какое они имеют между собою, не надо, однако, упускать из вида, что искусство первых христиан, в его классический период, едва успело проявиться, и скоро, как мы видели, изменилось под влиянием религиозных идей народов востока семитического. Ни такого полного представления идеала веры Спасителя, ни глубоких философских мыслей, выраженных в искусстве возрождения, не следует искать во фресках и пластике первых христиан катакомбного периода. В этих произведениях заметны только намеки на те идеи, едва просвечивают те понятия, которые разовьются в работах итальянских мастеров. Но в немногих религиозных образах, созданных первыми последователями новой веры в Риме, видны в зачатке те идеи, которые определятся с большой полнотой впоследствии, после восточного периода. Мы не находим в искусстве катакомб того разнообразия, как в произведениях художников возрождения. Христос еще не окружен святым семейством, потому что связь между ним, Богоматерью и св. Иосифом не успела сложиться; не представлен в столь разнообразных сценах, так как легенды христианские еще не сформировались и не достигли известного развития. Неоспоримо, однако, что в характере памятников катакомбного искусства и произведений мастеров эпохи возрождения есть общие черты, что они одушевлены чувствами одного склада, и что добрый Пастырь катакомб или Христос-молодой римлянин, совершающий чудеса, окруженный Своими учениками, как мы его видим в барельефах саркофагов, стоят гораздо ближе к Спасителю, фрески Масаччио и других мастеров возрождения, чем ко Христу абсид средневековых мозаик и византийской живописи.
Та же любовь к жизни, к природе, к прекрасным формам, на которую мы уже указали, говоря о стенописи катакомб, проявляется снова у мастеров эпохи возрождения. Мотивы классической орнаментации берутся ими, как добытое добро и входят в их сочинения. Работы христианских художников первых веков были неизвестны мастерам возрождения, но, как люди одного с ними племени, обитатели той же природы, среди них, после пробуждения, обозначились те же художественные инстинкты.
Естественным последствием освобождения мысли итальянцев, в период возрождения, выражающегося, как мы видели, очень живо в их религиозном искусстве, но заметного, также, и в других отраслях их умственной деятельности, было изучение всего того, что оставили по себе греки и римляне, культура которых представляла, по преимуществу, арийский характер и потому, была привлекательна, для пробужденной итальянской мысли. Мы, в самом деле, видим, что при первых лучах возрождения, взоры итальянцев обращаются на прошедшее; их начинает интересовать все то, что уцелело от римлян и греков, но, сперва, только от первых, так как в Италии мало было людей, знавших в ХIII-м столетии греческий язык. Следы этой любви к классической культуре мы находим у писателей того времени, уже у Данте и, потом, у Петрарки. В этом нельзя видеть только одно благоговение итальянцев перед грандиозным прошедшим, которого они считали себя, как бы, наследниками, принимая все римское за национальное, свое.
Характер их начинающейся цивилизации, и взгляд на жизнь, имели уже много точек соприкосновения с понятиями римлян и их культурой. Притом, изучение всего греческого, когда оно сделалось доступно итальянцам, было предпринято с такою же ревностью как и все римское.
Значительное влияние имели, также, памятники классической пластики на работы первых итальянских скульпторов эпохи возрождения; но это влияние сделалось возможным только после пробуждения арийской мысли, после преобразования религиозных идеалов у итальянцев. Те же самые образчики классической пластики, которые поразили Никколо Пизано, возбудили художественные силы этого скульптора и придали его произведениям новый, оригинальный характер, находились раньше него, в продолжении целого ряда столетий, перед глазами многих средневековых художников, но не произвели на последних никакого действия, именно потому, что в них еще не воскресли те мысли, те художественные инстинкты, которые сближали их с мастерами мира классического.
Не столь заметно влияние памятников греко-римского искусства в произведениях первых живописцев эпохи возрождения. Так, например, в работах Джиотто видны новые идеи, новые формы, но не подражание античному. Вообще, это заимствование у классического искусства, проявляющееся и у более поздних мастеров эпохи возрождения, сильнее в пределах скульптуры, чем живописи, так как менее памятников римской стенописи, чем пластики, были тогда известны в Италии. Это, однако, нельзя назвать подражанием, а, скорее, употреблением одних и тех же форм, для выражения сходных идей. При этом, мастера возрождения находились под влиянием образца уже разработанного в классическом мире и невольно подчинялись ему в своих произведениях, выражая новые, пробудившиеся в них, мысли.
В работах итальянских художников этой эпохи встречаются также чисто мифологические сюжеты, и они были иногда столь же хорошо поняты мастерами возрождения, как и классическими; именно потому, что и те и другие были жители той природы, среди которой составились мифы греко-римского поклонения, представляемые фигуративно. Не преувеличивая, можно, например, сказать, что фрески, написанные Рафаэлем в Фарнезине, изображающие торжество Галатеи и басню Амура и Психеи, были бы совершенно на своем месте на стене одного из домов, восставшей из пепла Везувия, Помпеи.
Нельзя, потому, сказать, что подражание античным образцам вызвало возрождение искусств в Италии; но, воскресая среди итальянцев, арийская мысль нашла в, уцелевших от мира классического, памятниках, прекрасные формы, для своего выражения изобразительным искусством.
Столь же значительное влияние имело для культуры возрождения исследование развалин римских построек и произведений искусства, которые начали тогда привлекать на себя внимание всех мыслящих итальянцев, сколько и изучение уцелевших памятников литературы, сперва римской, а потом греческой. Их считали, как бы, источниками всякой науки. Это было чисто обожание латинских поэтов итальянскими. Последние заимствовали с удивлением и благоговением у первых форму, даже и сущность их сочинений. Но только в ХV-м столетии стали серьезно изучать творения классических писателей, начали составлять в Италии библиотеки, образовался класс переписчиков, и появились многочисленные переводы произведений латинской и греческой литературы. Изучение эллинических классиков, было вызвано в Италии греческими учеными, которые переселились туда после завоевания восточной империи турками.
Можно предположить, что возрождение искусства и литературы совершилось бы в Италии и без изучения того, что уцелело от крушения классической культуры. Народ итальянский в эту эпоху обнаружил много интеллектуальных сил и большую энергию; он мог сбросить с себя средневековую ветхость и начать новую жизнь, без помощи сохранившегося от мира греко-римского. Но исследование античных памятников, не лишив оригинальности работы художников возрождения, отняло, однако, самобытный характер у произведений итальянской литературы этой эпохи. Нельзя не согласиться, что изучение творений греко-римских писателей повредило самостоятельному развитию итальянской словесности, начавшейся до знакомства с ними и имевшей, при ее появлении, более оригинальный характер, чем впоследствии. Эта наклонность руководиться в философии и литературе древними образцами, постоянно побуждала итальянцев искать разрешения всех, представляющихся в умственных сферах, вопросов не в самих ceбе, а у римских и греческих писателей. Ученая итальянская литература этой эпохи, лишенная самобытности, превратилась в длинный ряд цитат.
Творения писателей Греции и Рима имели уже, как мы видели, влияние на средневековое общество даже и по ту сторону Альп, именно, при Карле Великом; но это не повело к значительным результатам, потому что почва для принятия этих элементов не была приготовлена, подобно тому, как позже в Италии. Цивилизация, покровительствуемая этим императором, введенная им среди приближенных его двора, была, разумеется, полувозрождением, в сравнении с средневековою тьмой. Но совершенно иначе, чем во франко-германских странах, воскресает античный мир в Италии. При Карле Великом дело шло об ученом, рассчетливом пользовании отдельными началами римской культуры, а среди итальянцев, при первых признаках пробуждения мысли, обозначается, не вследствие инициативы или покровительства какого-либо значительного или высокопоставленного лица, но, как результат сознательного требования образованных слоев общества, – желание исследовать все, сохранившееся от их великих предков, и пробуждается чувство благоговения перед ними, разделяемое и массою народа. В Италии, и всего более, в пределах фигуративного искусства, элементы классической культуры и самобытные начала слились, и составили развитие особенного рода, одаренное жизненными силами. Напротив, по ту сторону Альп, в эпоху Карловингов, данные римской цивилизации не соединились с национальными формами и заглохли, не оставив следов в феодальном варварстве следующих столетий.
Точно так же и подражание образцам классического искусства византийскими мастерами имеет иной характер, чем воскресение типов римского художества в произведениях итальянцев эпохи возрождения. Последние усваивают элементы искусства Греции и Рима, для выражения воскресшей мысли, и эти формы подчиняются содержанию, тогда как у византийских художников они, скорее, употреблены, как мертвый материал.
LXI.
Но удаление, проявившееся в Италии в эпоху возрождения, от средневековых религиозных идеалов, отражающих, Восточные идеи, и создание новых, более удовлетворяющих требованиям освобожденного ума итальянцев, не могло произойти без сопротивлений. Мы видим, в самом деле, что в монастырях Италии, строй которых составился в средние века, где упорно держались старины, где идеи, распространившиеся в свете, не встречали сильного отголоска, идеалы не меняются так скоро, и византийские образы, равно как и религиозные сочинения предшествовавших столетий, продолжаются; хотя форма и преобразовывается, уступая художественным требованиям общества, но сущность остается та же.
Так, например, в живописи доминиканского монаха Беато Анджелико да Фиэзоле (1387–1455) находишь соединение, просветленных влиянием итальянского искусства, византийских форм и вполне мистическое средневековое содержание. Он придерживается сюжетов, всего более любимых византийскими мастерами, и пишет венчание Богоматери Спасителем, среди сонма ангелов; или Богородицу на троне, с божественным Младенцем, на золотом фоне, совершенно так, как в византийском искусстве. Его идеалы – на небе, не среди людей; понимание им натуры условно или вполне наивно. Прекрасны его ангелы, играющие на музыкальных инструментах, его Мадонны – идеальной чистоты, написанные на золотом грунте, в золотых сияниях; но во всех его сочинениях, даже и земного характера, дающих место развитию психологических идей, преобладает мистическое начало. Это мы всего яснее можем видеть в сцене Тайной Вечери, представленной им альфреско в монастыре св. Марка во Флоренции. Тут восемь апостолов, с нимбами кругом головы, изображены, обращенными лицом к зрителю, за столом, на котором не видно ничего, кроме двенадцати небольших чаш. Иисус с крестовидным сиянием, представлен по эту сторону стола; Он несет в левой руке чашу, формы, употребляемой в католической церкви, для причащения, покрытую блюдом, на котором положены остии, и дает одну из них, через стол, пятому ученику, стоящему на коленях; предполагается, что Он уже дал святое причастие четырем предыдущим апостолам, эти уже сели. Трое других стоят, ожидая свою очередь, четыре остальных апостола изображены с краю, направо от зрителя, на коленях, с сложенными руками, готовясь принять святые дары. Их пустые сидения видны у стола. В углу картины, налево от зрителя, представлена Богоматерь, так же на коленях, соединяя руки для молитвы.
Такая же точно Тайная Вечеря мистического склада, но небольших размеров, написана Беато Анджелико на дереве1087. Сцена происходит в зале со сводами, опирающимися на высокие колонны. Шесть апостолов сидят за столом, на котором не видно ничего, кроме солонки и небольших хлебов; шесть других учеников, прежде сидели против последних, как видно по их пустым стульям, но стали на колени, при совершении таинства. Христос с нимбом кругом головы, разделенным красным крестом, изображен по эту сторону стола; Он разносит остии апостолам, которые с благоговением складывают руки. Вся картина преисполнена благочестивой торжественности. Эти мистические Тайные Вечери Беато Анджелико имеют тот же характер, как и изображенные византийскими мастерами на императорской далматике, в мозаике Софийского собора, в Киеве и в других вышеприведенных примерах. Картины этого художника разнятся от византийских, разве только, размещением фигур, но по внутреннему содержанию, по преобладающему в них мистицизму, они имеют с ними, нельзя в этом не согласиться, много общего.
Даже и желая изобразить последнюю трапезу Христа с учениками в историческом направлении, Беато Анджелико не освобождается от мистического начала, как мы это видим, например, в сцене тайной вечери1088, небольших размеров, написанной им на дереве, вместе с другими евангельскими сюжетами. Она представлена в комнате не бедно убранной; в глубине написаны растения. Христос с нимбом, разделенным красным крестом, сидит за столом, кругом Его десять учеников, одиннадцатый стоит, двенадцатый несет что-то в блюде к столу. Их головы окружены золотыми дисками. Иоанн склонился на стол перед Спасителем. Четверо учеников обращены затылками к зрителю. Лица остальных не оживлены; слова Спасителя не отражаются на них, и они имеют одно бесстрастное, холодное выражение.
Беато Анджелико, подобно многим византийским живописцам, был монах, и, как они, приготовлялся постом и молитвою к художественному творчеству, работая не из любви к искусству, а под влиянием набожных стремлений.
Не только в монастырях, но и в свете сохранялись средневековые мистические идеи, несмотря на освобождение итальянской мысли. Так, например, Лука Синьиорелли в 1512 г. изобразил Тайную Вечерю следующим образом1089: стола тут нет; Христос представлен посередине картины, в левой руке Он держит блюдо с остиями, а правой подает одну из них ученику. Другой апостол держит чашу; шесть учеников стоят на коленях. Все сочинение дышит религиозным восторгом. Но, тот же самый художник написал последнюю трапезу Спасителя с учениками, вполне исторического характера, без тени мистицизма. Тут стол расположен покоем; на нем – блюда с яствами, хлебы, фляжки с вином, стаканы, и все, необходимое для трапезы. Христос сидит в середине, с правой стороны Его – шесть, с левой – пять учеников; кругом голов не видно нимбов. Иуда, сидевший один по эту сторону стола, уже встал и, уходя, опрокинул солонку. Иоанн припал к Спасителю, обнимающему его правою рукою. Апостолы обращаются друг к другу с вопросами, лица их энергичны и оживлены. Возле, представлено моление о чаше, далее – бичевание, а на втором плане – задержание Христа и шествие на Голгофу1090.
Точно также, и в мозаиках художники возрождения продолжают передавать религиозные сюжеты с тем мистицизмом, который преобладал в византийском искусстве, Может быть, потому, что произведения средневековой мусивной живописи в Италии были созданы под его влиянием, и что в мозаиках, не столь легко, как другие виды живописи, поддающихся изменениям, сохранились и повторялись по традиции у итальянских мастеров формы, установившиеся в предшествующие века.
LXII
Другой пример сохранения в религиозном искусстве средневековых мистических идей, при усовершенствовании форм и техники, мы находим в живописи Испании. В этой стране мысль не воскресла, как в Италии в эпоху возрождения и не вызвала искусство к новой жизни и деятельности. В испанской школе живописи не проявляется, потому, обновление идей, результат умственного пробуждения народа; ее формы создались при действии, полученном извне, под влиянием итальянского и нидерландского искусства. Испанцы в продолжении многих веков находились в постоянной борьбе с самыми ревностными последователями закона Магомета – арабами, вследствие чего, патриотические стремления и религиозные чувства слились у них в одно целое, и католицизм сделался одной из форм выражения национальности. В войнах с мусульманами, мощи святых и другие святыни священники носили впереди войска, как знамена. В этой, почти восьмивековой борьбе, духовенство являлось самым стойким союзником народа, сражавшегося за свою независимость, и потому, значение его сильно возросло. Ему, тем охотнее повиновались, что оно сделалось центром борьбы с исламизмом. Нетерпимость, развившаяся вследствие этого в духовенстве, разделялась и оправдывалась народом. Жизнь каждого испанца того времени проходила, обыкновенно, в войнах с арабами, пока была сила носить оружие, и кончалась или на поле битвы, или в монастыре. Только звания воина или служителя алтаря уважались тогда в Испании.
Подобные условия, разумеется, были очень невыгодны для умственного развития народа; мысль его была стеснена, его интеллектуальная жизнь пресечена. Всевластное католическое духовенство, враждебное новым идеям, поддерживало в нем, вместе с религиозным фанатизмом, средневековые суеверия и мистические стремления. Потому, в искусстве испанцев мы не находим и следа той нравственной работы, тех усилий, какие замечаемы уже у первых мастеров эпохи возрождения в Италии, – создать новые идеалы, соответствующие иным религиозным требованиям, чем преобладавшие в средние века.
Может показаться странным, что в Испании, при условиях, описанных выше, явились столь замечательные живописцы, как Веласкес и Мурильо; но это была живопись возрождения только по внешности, по технике, а не по идее. Вместе с прекрасными формами, создавшимися под влиянием итальянского и нидерландского искусств1091, испанские живописцы повторяют или мистические сюжеты1092, приближающиеся по своему внутреннему содержанию к произведениям византийских мастеров, или представляют священные сцены с полным реализмом1093. Мадонны Мурильо или возносятся на небо, преисполненные религиозного экстаза, устремляя взоры вверх и складывая руки, как для молитвы, стоя на облаках, окруженные ангелами и попирая полумесяц, эмблему исламизма, или это женщины-матери, с гордостью показывающие своего младенца, иногда, занятые вполне материальными заботами, пеленающие его и т. д. В прекрасных лицах их не видно и тени той тихой задумчивости, вызванной мыслью о будущей участи Спасителя мира, того испуга перед своим призванием, недоверия к своим силам, одним словом, тех идей, которые выражены итальянскими мастерами возрождения на ликах их Мадонн.
Мистическое начало преобладает в живописи испанской школы, и большинство картин ее – такого направления. Сюжеты их, это, например, поклонение святого Антония Падуанского Христу Младенцу или появление Спасителя – ребенка тому же святому; чудесное приготовление пищи ангелами; Богоматерь, кормящая грудью монаха; бегство в Египет в сопровождении ангелов; св. Франциск, обнимающий распятого Христа, его религиозное исступление; ангелы, бичующие святого Иеронима, переводчика библии на латинский язык, за его любовь к классической литературе; ангел, помогающий сострадательному святому нести раненого; чудеса, экстазы святых, видения их и т. д. Мистицизм в испанской живописи иногда граничит с натурализмом; так, например, одна из Мадонн Мурильо1094 представлена, заботливо пеленающей Младенца Спасителя, который сопротивляегся тому телодвижением, как это, обыкновенно, делают дети, тогда как ангелы, являющиеся с неба, играют на музыкальных инструментах. Точно также, при изображении Успения Богоматери, ангелы, представленные в облаках у ног Ее, имеют вполне материальный характер, не встречающийся у итальянских мастеров эпохи возрождения. Сравните, например, ангелов, изображенных в картинах1095 Успения Богородицы, написанных Мурильо, или в сцене Благовещения того же художника1096, имеющих вид здоровых и сытых детей, разбросавшихся в облаках, как в своем элементе, с ангелами, представленными вместе с Мадонной и Христом, итальянскими мастерами возрождения, и, особенно, с херувимами, задумчиво смотрящими на Спасителя, переступающего порог мира, чтобы принести Себя в жертву и спасти его, в картине Сикстинской Мадонны Рафаэля, и вы увидите, какая разница во внутреннем характере ангелов Мурильо и итальянских живописцев; как много материализма у первых, и как много мысли у вторых.
Мистическое начало, страстная сторона католицизма воплотились у некоторых испанских живописцев в прекрасные формы, в увлекательные, теплые, воздушные, прозрачные колориты, в поэтическия создания. У других – напротив, как, например, у Зурбарана, те же самые религиозные стремления передаются аскетическими, мрачными образами монахов, умерщвляющих свою плоть, бичующихся в набожном исступлении, восходящих мысленно к Богу, любящих Его из глубины бесконечных страданий, со смертью в душе, в полном уничижении.
Разумеется, есть и в итальянском искусстве возрождения мистические картины, но они не преобладают в нем, и рядом с ними встречаешь религиозные сюжеты, переданные с земной, философской точки зрения. Некоторые из мистических сцен, встречающихся в живописи испанской школы, как, например, поклонение Иосифа и других святых Младенцу Спасителю, Которого они несут на руках или преклоняются перед Ним, и т. п., вовсе неизвестны итальянским мастерам эпохи возрождения. Напротив, нельзя указать у испанских художников ни одного примера выражения философских идей, при передаче религиозного сюжета. Унижения и страдания Спасителя также не изображались ими, и если есть у них сцены, взятые из земной жизни Христа, Богоматери и святых, то они немногочисленны и, почти исключительно, у одного Мурильо. В Испании, при довольно значительной деятельности в области живописи, скульптура не могла развиться, так как невозможно или, по крайней мере, трудно передать пластическими формами ту утонченную набожность, тот религиозный восторг, которые выражали испанские мастера1097.
Этот особенный характер испанской живописи приближает ее к византийской; мы, в самом деле, видим в первой столь же набожно восхищенные лица, такие же мистические порывы как и во второй, и под другими формами – религиозные идеи одного склада. Изображения Богоматери и распятого Христа у испанцев, преимущественно, сделанные из дерева, покрываются дорогими одеждами, драгоценными украшениями, царскими отличиями, как и византийские образа Богородицы и Спасителя. В Испании, равно как и в Византии, преобладали религиозные идеи восточного склада.
Последняя трапеза Христа с учениками, сюжет, которой дает место развитию мысли и вызывает анализ нравственной натуры человека, представлялась редко испанскими живописцами, и то, с преобладающим мистическим характером, подобно тому, как в византийском искусстве. Так, например, в картине художника Vicente de Juanes, умершего в конце ХVI-го столетия, Тайная Вечеря изображена следующем образом: Христос поднимает остию, как бы, говоря: «Приимите, ядите: сие есть тело Мое» (Мф. 26:26). Левая рука Его положена на грудь, перед Ним стоит кубок, на столе видны яства и хлебы. Петр и Иоанн представлены по обе стороны Спасителя; они смотрят с умилением и набожной ревностью на остию; одни из учеников молятся ей, сложив руки, другие выражают жестами набожный восторг. Имена апостолов написаны в их нимбах; его нет у Иуды, который держит в руке кошелек и с ненавистью обращает свои взоры на остию. Христос является тут, как священник, совершающий литургию перед алтарем. Это не картина Тайной Вечери, а поклонение остии.
Испанская школа живописи, в которой утонченный мистицизм сливается с полным реализмом, не имевшая середины между этими двумя крайностями и мало вращавшаяся в сферах мышления, может дать нам, как нельзя более, ясный пример продолжения мистических средневековых идей, под формами и техникой искусства возрождения.
LXIII.
Освобождение итальянского ума, обозначившееся в эпоху возрождения и выразившееся в искусстве, можно назвать, своего рода, реформацией. Как последняя произвела известные перемены в средневековом католицизме, отвергнув некоторые из его догматов, развив арийские начала, преимущественно, перед семитическими, приспособив римскую веру к требованиям воскресшей мысли германских народов, так то изменение, какое совершилось в христианском идеале, то уменьшение страха, какой внушаем средневековым католицизмом, та склонность к изучению всего, что сохранилось от классической культуры, та любовь к природе, какие обозначились среди итальянцев в эпоху возрождения, – все это было, своего рода, реформацией. Но в Италии освобождение мысли не повело прямо к существенному изменению католицизма, как это произошло в Германии, а, скорее, вызвало философские идеи. В Германии философское движение было последствием реформации, тогда как в Италии оно проявилось, хотя, вначале, и без значительных результатов, при первых лучах возрождения. Не имея столь положительного характера, как церковная реформа по ту сторону Альп, не выразившись резким отделением от прежних верований, эта итальянская реформация, потому, и не так заметна; но нельзя не согласиться, что в понятиях итальянцев в эпоху возрождения совершается перемена, имеющая характер коренного преобразования, оставившего глубокие следы в их культуре.
Среди итальянцев, однако, вместе с пробуждением ума развилось также – как необходимое последствие воскресения их интеллектуальных сил – фигуративное искусство, отразившее в себе, с совершенной полнотой, это нравственное движение. У обитателей прекрасной южной природы – итальянцев – развивающей художественные способности, склонность к фигуративному искусству составляет часть их натуры. Живопись и пластика делаются у них таким же действительным способом передачи мысли, выражения их религиозных чувств, как и самое слово.
Напротив, в германских странах воскресение арийской мысли, т. е. реформация, привела к совершенно иным результатам в области искусства, именно, к отвержению религиозных изображений. Жители природы не столь богато-фигуративной, как прибрежья Средиземного моря, не возбуждающей художественных стремлений, скорее, бедной пластическими формами и колоритом, германцы не в такой степени чувствовали влечение к изобразительному искусству, как возродившиеся итальянцы1098. Реформа в германских странах могла, воскресив закон Моисея, осудить религиозные произведения живописи и пластики, как нечто греховное. Этим она не удалила от себя своих последователей, но заградила себе путь по ту сторону Альп.
В Италии реформа германских стран не могла приняться не только потому, что она отвергала фигуративное искусство, но, также, и от того, что враждебно относилась ко многому, что жизнь представляет веселого и приятного. В строгости и суровости франко-германских реформаторов был, своего рода, аскетизм, разумеется, иного характера, чем аскетизм семитического востока, не убиение мысли, разбора и анализа, но стеснение известных наклонностей человека, доставляющих ему отрадные минуты, не унижая его натуры. Воскресшие к новой жизни итальянцы, не могли не осуждать удаления от фигуративного искусства, равно как и этих аскетических идей. Реформа Савонаролы, которая имела, отчасти, иконокластическое направление и долю аскетизма, потому, и не принялась в Италии1099.
LXIV
Но два столетия после первых проблесков возрождения в Италии мысли и искусства, свободные учреждения муниципальных республик пали; тираническая власть одного заменила почти всюду прежние народные управления, что повлекло за собою разложение общества. В то же время, Италию разорили беспрестанные войны; она жестоко терпела от этого бедствия, и, наконец, многие части ее были порабощены иностранцами; все это унизило, запугало народ итальянский, остановило его развитие и сделало возможным католическую реакцию1100, вызванную духовенством. Последнее, в начале эпохи возрождения, либерально настроенное, уступало требованиям века, но, впоследствии, испуганное значительным развитием протестантизма по ту сторону Альп, стало осуждать те идеи, которые прежде допускало, и одушевилось нетерпимостью. Эта реакция выразилась окончательно в постановлениях Тридентского собора в ХVI-м столетии, и в организации иезуитского ордена.
Но движение, данное итальянской мысли в эпоху возрождения, не приостановилось в ученых сферах нации, шло вне общего течения, развиваясь независимо, не испытывая на себе влияния католической реакции, ни других действий, затмивших ум массы итальянцев, и продолжалось в лице известных философов, как Помпонаций, Бернардино Телезий, Джиордано Бруно, Кампанелла, Вико и т. д., опередивших и, может быть, даже, давших инициативу тому философскому движению, которое началось во франко-германских странах после реформации, и которое идет до наших дней. Наука, точно также, продолжалась в Италии, после эпохи возрождения, с большей независимостью, чем прежде и привела к замечательным открытиям. Но это умственное развитие касалось только высших интеллектуальных слоев общества, можно даже сказать, отдельных развитых личностей.
Приостановка умственной жизни и падение мысли в массе итальянского народа этой эпохи отразились в его религиозных идеях и выразились в церковном искусстве. Мы, в самом деле, видим, что в последнем, уже в конце ХVI-го столетия мистические средневековые начала берут верх над философскими. Итальянские мастера снова чувствуют влечение к мистическим сюжетам, и, если возвращение к формам византийского стиля сделалось невозможно, то пишутся картины, сходные, по своему содержанию, с произведениями византийского искусства. В итальянской живописи встречаются тогда уже совершенно иные сюжеты, чем избираемые прежде, и те же самые сцены, которые изображались мастерами эпохи возрождения, передаются художниками периода католической реакции уже иным образом1101. Идеальное спокойствие прежних алтарных картин заменяется мечтательным экстазом и религиозным исступлением. Сценам земным, религиозно-философским, предпочитаются сюжеты мистических порывов и изображения необыкновенных видений или чудес, совершаемых святыми1102.
Тайная Вечеря, которая, как мы видели, у мастеров эпохи возрождения представлялась с таким драматизмом, с таким полным изучением различных свойств человеческой души, с философским взглядом на этот сюжет, у художников периода католической реакции, получает вновь мистический характер, именно, преобладавший в изображении этой сцены до возрождения. Последняя трапеза Христа с учениками представляется снова в ту минуту, когда Спаситель говорит: «Приимите, ядите» и т. д., а не при произнесении Им слов: «один из вас предаст Меня». Так, например, живописец Джиованни Вальдуччи, приблизительно около 1590-го года, написал на одном из алтарей Флорентинского собора, на золотом грунте, но не сплошном, а с отделяющимися от него архитектурными мотивами, пиластрами и т. д., Тайную Вечерь мистического характера. Над головами апостолов и Христа золотые круги. Налево от зрителя, на втором плане, видны посторонние лица и приготовления к трапезе. Тут мы замечаем соединение, довольно часто встречающееся в испанской школе и, также, в искусстве католической реакции до возрождения, иногда, и у византийцев, реализма с мистическими идеями1103.
Еще резче проявляется соединение этих двух начал в Тайной Вечери Тициана. Наверху, над головою Христа, окруженной лучами, изображено нисхождение Святого Духа, под видом голубя, в облаках и сиянии. На столе – блюда и все необходимое, для трапезы. Некоторые из учеников смотрят на Спасителя, другие, равнодушно, в сторону. Иоанн, сидящий возле Христа, задумчиво склонил голову. Из-под стола вылезает собака, две служанки несут блюда с яствами.
В рисунке, исполненном живописцем Александром Аллори, названным Бронзино (1535–1607), для ковра, где изображена Тайная Вечерь, мы также видим соединение мистицизма с реализмом. Христос, от головы Которого идут лучи, держит в правой руке небольшое блюдо с хлебами, а в левой – чашу с вином. На столе стоят кубки, блюда с яствами и плодами, красивые солонки и разбросаны листья и цветы. Один из апостолов представлен на коленях, сложив руки, другой стоит, равнодушно опершись на палку руками и положив на них подбородок. Остальные ученики смотрят или на Христа, или друг на друга. Лица их не выражают ничего особенного. Иуда кормит хлебом кошку, выходящую из-под стола.
Точно также и Рубенс, живший в период католической реакции, в произведениях которого очень живо отражаются идеи его эпохи, изобразил в церкви св. Ромуальда в городе Мехелье в Бельгии Тайную Вечерь следующим образом: Христос, один с сиянием кругом головы, сидит за круглым столом с апостолами. Взоры Его подняты вверх; в левой руке Он держит хлеб и благословляет правой. Перед Ним стоит чаша с вином, но на столе ничего больше не видно. Сцена происходит в храме, под сводами. Направо изображен престол с раскрытой книгой между двумя зажженными свечами в подсвечниках. Иуда, под стулом которого лежит собака, грызущая кость, сидит, обращенный к зрителю. Благоговение разлито одинаково на лицах других апостолов. Вазы различных форм написаны на первом плане. Сцена эта не представляет земной драмы, а совершение небесного таинства в житейской обстановке.
Вполне мистический характер имеет также картина Тайной Вечери, написанная Франческо Веллани (1688–1768). Тут Христос раздает апостолам св. причастие; один из учеников получает остию на коленях, другие выражают телодвижениями свое благоговение, исключая Иуду, который стоит вдали отдельно; на втором плане виден стол, приготовленный для трапезы.
Все эти картины Тайной Вечери имеют то же внутреннее содержание, как и мистические средневековые изображения этого же сюжета. Несходство тут только в художественном исполнении и в технических приемах. Различные формы выражают одну сущность. Мистицизм, преобладающая черта религиозного чувства народов востока семитического, постоянно проявляется в сочинениях византийского стиля и в произведениях западных художников эпохи, отмеченной католической реакцией.
В католических землях и до наших дней повторяются изображения мистической Тайной Вечери. Одно из них, мы находим, например, в церкви Всех Святых в Мюнхене, написанное Генрихом Гессом. Тут, остия, окруженная сиянием, является на воздухе над чашей; ангелы, закрывающие некоторых из апостолов, изображены на ступеньках алтаря. Точно также, мистически, представили эту сцену современные живописцы Овербек и Корнелиус. Тайная Вечеря последнего – только рисунок, но в нем очень живо выражены идеи, одушевлявшие художника. Он изобразил стол, и на нем только блюдо с частями ягненка, что должно напоминать искупительного агнца. По ту сторону стола стоит Христос в вдохновенной позе, поднимая в правой руке чашу, а в левой – хлеб. Некоторые из учеников бросаются на колени; все они жестами выражают свой восторг, умиление, поднимают к Спасителю руки, молятся ему.
LXV
Вместе с этим изменением религиозных идей итальянцев в конце эпохи возрождения, выразившееся в искусстве, последнее – постоянно отражающее в себе историческую судьбу этого народа, равно как и проходимые им фазы возвышения и падения – заметно клонится к упадку. Распустившись на народной почве, искусство возрождения в Италии процветало, пока жило при этих условиях; первым шагом к падению было превращение его, вследствие потери свободы муниципальных республик, в искусство придворное, т. е. подчинение прихоти одного, а не вкусу массы развитых граждан, имевших до того времени влияние на работы художника. Искусство возродилось в Италии, когда в народе пробудилась нравственная жизнь, и угасло вместе с нею1104.
По памятникам религиозного искусства, в которых, как нельзя живее, выражаются задушевные мысли и стремления людей, мы могли проследить направление, принимаемое христианством у различных народов, и преобразования, совершавшиеся в нем с течением времени. Мы видели, что в живописи и пластике, сохранившихся от первых последователей новой веры в катакомбах, выражены религиозные понятия, близкие к преобладавшим среди классических народов; мы потом заметили, как изображения эти меняются, под влиянием восточных начал, выражавших религиозные идеи известного характера, издревле жившие среди народов семитического востока, которые нашли свое полное выражение в византийском искусстве. Наконец, мы могли убедиться, что в эпоху возрождения в Италии, религиозные изображения снова приближаются по своему внутреннему характеру к памятникам катакомбной живописи и пластики.
Памятники изобразительного искусства доказывают нам, следовательно, что в христианстве выразились религиозные идеи, существовавшие в тех верованиях, которым оно наследовало, разумеется, в известных пределах и не искажая сущности учения Спасителя.
Сила религиозного чувства не уменьшалась от этих оттенков в понимании христианства; оно было столь же живо, столь же искренно в изображениях доброго Пастыря, Орфея, Ионы, Мадонн, молящихся или несущих Младенца, написанных на стенах катакомб, сколько в грандиозных фигурах и аскетических образах византийского стиля или в произведениях мастеров эпохи возрождения, представлявших священные сюжеты с земной, философской точки зрения. Но, как нам ясно доказывают памятники искусства, религиозное чувство это не имело одного и того же характера у всех народов и во все века.
Конец четвертой и последней части.
* * *
G. В. de Rossi, Roma Sotterranea Cristiana V. I; – Bullettino di Archeologia Cristiana; – Garrucci, Storia dell’ arte Cristiana; – F. X. Kraus, Die Kunst bei den alten Christen, Frankfurt a/M. 1868; – Recherches pour servir а 1’Histoire de la Peinture et de la Sculpture cliretiennes en Orient par Ch. Bayet, Paris 1879.
Не только первые христиане, но и некоторые ранние христианские секты не удалялись от живописи и пластики; так, например, нам известно, что у гностиков существовали изображения Христа, Петра и Павла.
В истории Италии более позднего времени, мы встречаем не один пример выражения мысли изобразительным искусством; прием, столь обыкновенный, вообще, среди народов южной Европы, столь согласный с характером их. В средние века во Флоренции и в Риме предводители партий не раз обращались к народу подобным образом, и, желая распространить в нем известные идеи, подготовить его к известным событиям, выставляли на площадях аллегорические или исторические картины. Так, трибун Кола Риензи поучал народ римский, довел его до сознания своей силы и поднял против мелких тиранов, владевших Римом и Кампанией. У древних римлян существовал способ прошения милостыни, представлением живописью своего несчастия, чем и возбуждалось сострадание проходящих. Это до сих пор делается в Италии. В храмах античного мира находились изображения избавления от болезни и несчастий, от грозящей опасности, приписываемого защите богов; т. н., в святилищах богини Изиды, покровительницы мореплавателей, помещались картины спасения во время бури, кораблекрушения и т. д. Подобного рода изображения, можно видеть и теперь во многих церквах Италии.
Мы в самом деле, всего чаще, встречаем фрески и мраморные саркофаги не в галереях, где лежат, обыкновенно, люди бедные, а в катакомбных комнатах, т. е. в семейных усыпальницах.
Между христианами было поверье, о котором говорит Минуций Феликс, что в статуях языческих богов жили демоны.
Некоторые из, дошедших до нас, чаш с золотыми фигурами, как мы это увидим дальше, принадлежат, в самом деле, к III веку.
De Pudicitia.
De Idolatria.
Возле развалин этого города была построена арабами Гранада в Х-м столетии.
В городе Эльвире не только церкви, но даже и кладбища находились на поверхности земли, как видно из другого постановления того же собора: «placuit cereos in coemeterius per diem non accendi» (can.35). – «Постановлено, чтобы свечи на кладбищах днем не зажигались».
Martigny Dictionnaire des ant. chr. 2-е еd. p. 350.
G. B. de Rossi Roma Sotterranea Cristiana T. I, p. 99–101.
Стенная живопись в Помпее и Геркулануме, как это доказало точное исследование ее, написана альфреско; живопись клеевыми красками встречается там, но редко, занимает второстепенное место и употреблена более, как вспомогательный способ во фресках, чем самостоятельно. Вовсе не встречается живопись восковыми красками. См. «Ueber die antiken Wandmalereien in technischer Beziehung von Otto Donner» – эта статья присоединена к книге г. Helbig «Wandgemаllde der vom Vesuv verschutteten Stadte Campaniens».
Wandgеmalde der vom Vesuv verschutteten Stadte Campaniens, Wolfgang Helbig, Leipzig 1868; Untersuchungen uber die Campanische. Wandpuilerei von Wolfgang Helbig, Leipzig 1873.
Этот способ выражения могучести, величия, силы представляемой особы, колоссальностью или изображением ее в большем виде, чем, окружающие ее, люди, встречается, преимущественно, у азиатских народов и в период первоначального развития и упадка искусства греков, когда в нем отразились элементы художества семитического востока. Тот же прием мы находим и в византийском стиле, в состав которого вошли некоторые начала искусства восточных народов.
Фреска эта была открыта в 1606-м году в развалинах дома на Эсквилинском холме; она принадлежала прежде фамилии Альдобрандини и, так как изображает брачную сцену, то известна под именем Альдобрандинской свадьбы. Отделенная от стены, она сохраняется теперь в Ватиканской библиотеке.
Почти то же самое можно сказать и о современной пейзажной жипописи итальянцев.
Не пленяют, вообще, южного человека. Уроженцы северных стран, долго жившие на юге, среди прекрасной натуры, могли на себе проверить, как постепенно развилась в них любовь к приятным и грациозным проявлениям природы и пропадала, в то же время, склонность любоваться всем, что в ней резкого, поражающего, ужасного, дикого, хотя бы, и грандиозного.
G. В. de Rossi Roma Sott. crist. T. I. II. Ш. Bullettino di archeologia crist. 1863–1884; P. R. Garrucci, Storia dell’arte Cristiana; Dr. Carl Schnaase, Geschichte der bildenden Kunste beiden Alten zw. Aufl. Dusseldorf 1866.–Gottfried Kinkel, Geschichte der bildenden Kunste, Bonn 1846.
Мы имеем неоспоримые доказательства, что христианство распространялось не только в низших, но и в высших слоях римского общества, и что люди значительные, члены патрициальных фамилий, следовали учению Спасителя.
По мнению G. В. de Rossi, в центре потолка был представлен Даниил между львами; согласно Р. R. Garrucci, – добрый Пастырь между овцами; надо заметить, что очень редко, всего, кажется, только один раз, в катакомбах изображен в середине потолка Даниил между львами, место, обыкновенно, занимаемое добрым Пастырем, как это мы видим по многочисленным примерам. Животные, представленные по обе стороны фигуры, теперь пропавшей, однако, не имеют вида овец, и не сидят, подобно им. Но с другой стороны, если это львы, то они представлены чрезвычайно уродливо. Справедливо, что на памятниках живописи и скульптуры христиан IV-го столетия, художпики изображали таких львов около Даниила, что их можно принять за пуделей или овец, но нельзя предположить, чтобы римский живописец конца I-го столетия, мог написать львов так плохо. В другой фреске, находящейся в катакомбе Домптиллы, о которой мы будем говорить дальше, написанной, вероятно, также в конце I-го или в начале II-го века, львы, бросающиеся на Даниила, изображены очень живо и натурально. Вопрос, потому, что было представлено в середине потолка крипты Lucina, остается нерешенным. Это для нас не может иметь большой важности, так как фигура стерта и о художественном достоинстве ее мы судить не можем.
G. В. de Rossi Roma Sotterranea crist. T. 1, p. 187; Bulletino di arch. crist. Anno 1865, p. 36.
Bulletino di arch. crist. Serie 3 Anno 6 (1881), p. 57–74.
См. Garrucci Storea dell'Arte cr. т. XX.
Фреска эта сильно испорчена и известна только по рисункам, снятым до ее повреждения.
См. Garrucci Storia dell’arte crist. T. XLVII, 1.
См. Garrucci T. LXXXV, 1, 3, 4; Rossi Roma sott. cr. t. III, T. L.
См. Garrucci T. X, Rossi Roma sott. cr. t. II. T. V, VII.
Garrucci Storia dell’arte cr.; Bellermann, Ueber die altesten christichen Begrabniss-statten uud besonders die Katakomben zu Neapel, Hamburg 1839.
См. Garrucci Т. ХС.
Большое сходство имеет эта живопись с фресками, украшающими языческую гробницу, открытую в 1859 г. в трех милях от Рима, около Via. Latina. [Monumenti inediti pubblicati dall’Instituto di Corrispondenza Archeologica vol. VI, VII, T. XLIII. Anno 1860 p. 451. Sepolcro a Stucchi bianchi di via Latina].
Заимствован у Garrucci T. XCV.
Фреска эта представляет замечательное сходство характеров фигур, распределением сюжетов, мотивами орнаментики – со стенописью, как предполагают, второй половины II-го столетия по Р. X., открытой в языческой гробнице, в трех милях от Рима, около Via Latina [Monumenti inediti pubblicati dall’Instituto di Corrispondenza Archeologica vol. V, VI, VII, T. XLIX. Anno 1861 p. 190. Sepolcro a Stucchi bianchi di via Latina]. Также, многие из декоративных элементов, встречающихся в живописи катакомб, читатель найдет во фресках, украшающих колумбарий, в окрестностях Рима, около гробницы Сципионов, [Atti dell’Accademia Pontificia Anno 1840]. Много общего имеет, также, римская живопись, времен Александра Севера, которую можно видеть в Trastevere, около церкви S. Crisogono, с, современной ей, катакомбной стенописью.
Исключая катакомбы Рима и Неаполя, христианские фрески первых времен распространения новой веры были найдены на западе – об открытых на востоке, мы будем говорить ниже – в Сиракузах; там пока только два расписанных arcosolium; в Милане, возле базилики Назария, но незначительные и грубого исполнения, в городе Реймсе, во Франции, где в 1738-м году нашли склеп около церкви святого Мартина (Le Blant Inscrip. chr. de la Gaule, T. I, p. 448), расписанный, по словам видевших его, совершенно так, как катакомбы в Риме. Тут были представлены павлины, и другие птицы, сидящие на вазах, параличный, несущий свой одр, и жертвоприношение Исаака Авраамом. Богатый мотив орнаментики окружал все эти сцены; но памятник этот, к несчастью, был совершенно разрушен в начале нашего столетия; сохранился только очень неполный рисунок его. В том же городе, под полом церкви Saint Nicaise, в 1817-м г., был открыт и разрушен склеп, также украшенный живописью (см. G. В. de Rossi Roma Sott. cr. T. I, p. 100). Катакомбные комнаты с фресками во внутренности гробниц, но очень посредственного исполнения, нашли в 1855-м г. в Брешии, в 1850-м г. – в Вероне. Вероятно, были и другие расписанные крипты в Галлии, в Италии, в Испании, но они или еще не найдены, или уже уничтожены. Самое обильное количество памятников христианской живописи от первых веков было открыто пока в катакомбах Рима.
Первый пример, сколько до сих пор известно, изображения демона, изрыгающего пламя, и ада, как его представляют теперь, находится в подземной церкви святого Климента в Риме (Revue Archеologique 1873. VI. р. 101–103). Живопись эту относят к Х-му столетию.
Многие из этих чаш грабители катакомб разбивали нарочно, чтобы добыть золотой, заключенный в них, листок.
Один из языческих сосудов был открыт в катакомбе Каллиста; на нем изображены золотые монеты и в середине их – медаль Каракаллы с его головой, что и дает право отнести этот памятник к царствованию означенного императора.
G. В. de Rossi Roma Sott. cr. V. III.
Самое замечательное собрание уцелевших сосудов с золотыми фигурами, находится в Ватиканской библиотеке; не столь значительные – в музеях Кирхеровом и Propaganda Рiа. Небольшие коллекции можно, также, видеть в музеях Лондона, Парижа, Флоренции, Неаполя, равно как и у частных лиц; так, например, в собрании г. Базилевского находятся несколько замечательных экземпляров, подобного рода, украшенных сосудов.
На языческих стеклянных чашах изображены боги мифологии, герои, атлеты, кучера цирка, охоты, разные ремесла и торговли, семейные сцены и т. д., на еврейских – священный семисвечник, кивот завета и другие еврейские символы. Многие из языческих сосудов были открыты в катакомбах, куда они могли быть принесены христианами, и где сохранились лучше, чем на поверхности земли.
Tertullianus De corona.
Osservazioni Sopra alcuni frammenti de vasi antichi, Tav. XXVII.
Bullettino di arch. cr. Anno 1864.
Заимствованный из издания Папской хромолитографии. Черное у нас – в оригинале, золото.
Он был открыт в катакомбах и находится теперь в христианском музее при ватиканской библиотеке.
G. В. de Rossi Bullettino di arch. cr. Anno 1864, p. 89–91.
G. B. de Rossi Bullettino di arch. Anno 1880 № I. II.
До открытия в Кельне упомянутого выше обломка блюда, не могли объяснить назначение этих небольших медальонов с золотыми изображениями, так как они слишком малы, чтобы составлять донышко чаши.
Lubke, Geschichte der Plastik, zweite stark vermehrte und yerbesserte Auflage, Leipzig 1871. – Kinkel, Geschichte der bildenden Kunste bei den christlichen Volkern, Bonn 1845. – Schnaase, Geschichte der bildenden Kunste, zweite verbesserte und vermehrte Auflage, 3-er Band. – Carriere, die Kunst in Zusammenhang der Culturentwickehing und die Ideale der Menschheit, Leipzig 1868, 3-er Band. – J. Burckhard, Die Zeit Constantini des Grossen, Basel 1553. – H. G. Hotho, Geschichte der christlichen Malerei, Stuttgart 1867. – G. B. de Rossi Roma Sotterranea cristiana, Vol. 3 – Martigngy, Dictionnaire des antiquites chretiennes; Explication d’un Sarcophage chr. du Мusее lapidaire de Lyon. – Revue Агсhеоlogique. Decembre 1878; – P. R. Garrucci Storia dell’arte cristiana.
Некоторые незначительные части ее реставрированы.
Bullettino di archeologia Cristiana G. B. de Rossi Anno 1879, №1, p. 34–35.
Bullettino di arch. G. В. de Rossi Anno 1869.
Bayet, Recherches pour servir a l’histoire de la peinture et de la sculpture en Orient. – Revue arch. Novembre 1876.
К тому, что мы сказали в 3-й части этого сочинения о языческом происхождении фигуры доброго Пастыря, надо прибавить еще следующие примеры существования этого типа до христианства. В Берлинском музее сохраняется бронзовая статуэтка, служившая, вероятно, ручкой крышки вазы, вполне архаического стиля VI или VII столетия до Р. X., открытая на острове Крите. Она изображает молодого человека, несущего барана на плечах, и имеющего вполне позу доброго Пастыря. Другая бронзовая статуэтка, также бараноносца, очень древняя, но не столь архаического характера, как выше упомянутая, находится на крышке вазы, содержавшей пепел, найденной около города Капуи; теперь в Берлинском музее [Annali dell’Instituta di corr. archeologica vol. LII, Roma 1860, Bronzi di Creta. A Milchkofer]. Подобную же бронзовую статуэтку, вероятно, также служившую ручкой крышки вазы, я видел в Берлине в собрании г-на Сабурова. Добрый Пастырь напоминает также фигуру Аристея, покровителя охотников и пастухов, изображаемого иногда в классическом искусстве с бараном на плечах.
Bayet, Recherches etc.
В городе Ускук, в Малой Азии, г-н Bore открыл очень попорченную статую, по его мнению, изображающую Богоматерь на троне. Тамошние старожилы уверяли его, что прежде – ребенок был на руках этой женской фигуры, представленной в благородной, торжественной позе и задрапированной по-античному [Correspondence d’un voyage en Orient 1.1, p. 202]. Нельзя, однако, положительно утверждать, что это статуя Богоматери (см. Греческие терракотовые статуэтки Н. Кондакова, Одесса 1879); в классическом искусстве, некоторые мифы греко-римского политеизма переданы фигурой женщины, держащей на руках ребенка (см. ч. 3). На некоторых резных камнях восточного происхождения, имеющих очень древний характер, изображена Богоматерь с Ребенком на руках. Один из них находится в собрании медалей при парижской библиотеке.
В последние годы G. В. de Rossi, основываясь на надписи, сделанной папой Дамазом на гробнице св. Ипполита и на стихотворении поэта IV-го столетия Пруденция, в честь этого мученика, открыл в катакомбе место погребения последнего, недалеко от базилики св. Лаврентия, вне городских стен. После торжества церкви, этот крипт был великолепно украшен и очень посещаем богомольцами, но впоследствии, опустошен готами; причем, была также разбита мраморная плита с надписью, сделанной папой Дамазом; она была, однако, скопирована до ее уничтожения и сохранилась в манускрипте, находящемся теперь в Имп. Публ. Библиотеке в Петербурге. Разрушилась также с течением времени и базилика, построенная над гробницей св. Ипполита, но место в усыпальнице, где лежало его тело, перенесенное потом в одну из церквей Рима, определяется довольно положительно.
Взятый из издания папской хромолитографии.
Большой палец его правой ноги, несколько переступающей пьедестал, почти совершенно стерт поцелуями верующих. В день праздника св. Петра это изображепие его облачают в папские ризы, а на голову надевают папскую тиару.
Известно, что среди римских христиан существовало поверие, будто бы, Аттила был устрашен угрожающим видением апостолов Петра и Павла, защищавших город, в котором находились их мощи и церкви.
Lubke, Geschichte der Plastik; Platner und Urlichs, Beschreibung Roms.
Она, вероятно, потерялась вместе с другими предметами берлинского королевского собрания, которые, будучи увезены французами в 1806-м г., не были возвращены после взятия союзниками Парижа.
Le antiche lucerne sepolcrali, part. 3 tav. 27.
Может быть, мраморная статуя доброго Пастыря, сохраняющаяся в музее св. Ирины в Константинополе, есть копия одного из этих изображений.
Lubke Reallexikon des classischeu Alterthums. Leipzig 1874.
Lubke Geschichte der Plastik.
Оно могло иметь символический смысл, созерцая жизнь, как борьбу, как бег за фортуной. У христиан ристание имело также символическое значение.
Settele, Importanza dei monumenti de cimiterii di Roma, nel T. II. degli atti dell’Accad. rom. d’archeologia. – D’Angincourt, в своем сочинении Histoire de l’art etc., относит несколько саркофагов к III-му столетию.
G. В. de Rossi Inscr. christ. Rom. т. I, p. 19.
Известно, что Психея, после горестного странствования по земле, взятая богами на небо, была в мире языческом символом загробного, более блаженного существования души и перешла с тем же значением в христианский символизм. Мы находим ее также во фресках, в мозаиках, как, например, в мозаике церкви св. Констанции и на чашах с золотыми фигурами.
Символ успешной борьбы верующего с искушениями жизни.
Она представлялась христианскими художниками отдельно от Амура, или, по крайней мере, не обнимаясь с ним.
Вероятно, этот саркофаг, заказанный верующим – так как мы видим тут фигуру доброго Пастыря – языческому скульптору, показался недостаточно христианским, когда был исполнен и, потому, осужден.
Он находится теперь в Ватиканском музее.
Burckard, Der Cicerone.
Этот памятник находится теперь в городе Урбино.
Этого мнения Burckhardt Cicerone.
В продолжении 9 лет 25 работников были постоянно заняты этой работой.
Согласно Р. R. Garrucci, Storia dell’arte. (Teorica), агнец и колосья, т. е. хлеб, символически должны выражать будущее искупление греха прародительского божественным агнцем, тело которого олицетворилось в евхаристическом хлебе.
Подобную же многочисленность сюжетов и развитие известных идей символическими сценами мы находим, иногда, и в языческих саркофагах; так, например, в барельефе подобной гробницы, по всей вероятности, конца II-го или начала III-го столетия, сохраняющейся теперь в Капитолийском музее в Риме [Lubke, Geschichte der Plastik, zw. Auf. erst. Band; см. также перевод этого сочинения г-м Чаевым, Москва, изд. К.Т. Солдатенкова, и Torso, Kunst, Kunstler und Kunstwerke des Griechischen und Romischen Alterthums von Adolf Stahr zw. Aus., Braunschweig 1878, zw. Theil, S. 455–7] изображена судьба души человека следующим образом: четыре стихии переданы аллегорическими фигурами; среди них, обнимаются Амур и Психея; далее – Прометей формирует фигуру человека, которой богиня Афина дает душу, держа над головою ее бабочку – эмблема Психеи, т. е. души. Возле, гений смерти опрокидывает на грудь лежачего человека факел, на вершине которого изображена душа, снова под видом бабочки, тогда как Меркурий, провожатый душ, уводит, под видом фигуры Психеи, в подземное царство душу умершего. Подле, виден Прометей, прикованный к скале и освобожденный Геркулесом, пускающим стрелу в клюющего его ястреба. Ряд этих сюжетов начинается изображением Адама и Евы, стоящих у дерева, в чем проявляется влияние христианства на умирающее язычество и, вместе, синкретизм, т. е. сближение разных сект, преобладавший в эту эпоху в римском обществе. Отражение христианских идей заметно в барельефах языческих саркофагов III-го столетия так же и потому, что в них часто символически передана надежда на будущую жизнь, на загробное существование. Мысли подобного рода гораздо чаще выражаются в барельефах римских гробниц после распространения новой веры, чем до того времени.
Образчики подобных саркофагов читатель может видеть у Р. R. Garrucci «Storia dell’ arte cristiana». По гравюрам этого сочинения, можно проследить постепенный ход упадка христианской скульптуры на западе до III-го столетия.
Appell. Monuments of early christian art, London 1872.
Тот же характер имеет саркофаг более позднего времени, но в котором, вероятно, повторился тип, уже установившийся несколько веков тому назад в Византии. Это, именно, мраморная гробница великого князя Ярослава I-го, находящаяся в Софийском соборе в Киеве. К несчастью, саркофаг этот прислонен двумя сторонами к стене, так что его нельзя обойти кругом, и до половины зарыт в землю. На крышке, имеющей вид покатой, на обе стороны, кровли, – что встречается довольно часто и в равеннских саркофагах, – изображены, подобно тому, как на последних, не образ человека, а символические христианские знаки и фигуры, принадлежащие к ранней символике верующих, как, например, пальмовые ветви, виноградная лоза с плодами, две рыбы по сторонам верхнего бруса равностороннего креста и возле – греческие слова ИС ХС HIКA, т. е. Иисус Христос Победитель; птицы на деревьях и, на одной из боковых сторон саркофага, монограмма следующей очень древней формы – ☧.
Барельефы этого саркофага исполнены не без вкуса, выказывают хорошую технику и вовсе не имеют той аляповатости, какая характеризует произведения скульптуры запада уже в VI-м столетии. В соборе святого Марка, в Венеции, балюстрада внутренней галереи состоит вся из отпиленных лицевых сторон саркофагов, привезенных венецианцами с разных мест востока. В барельефе этих гробниц преобладают те же самые символические фигуры, как в равеннских и византийских саркофагах, т. е. равносторонние кресты, пальмы и т. д. Несколько подобных же гробниц иаходятся в небольшом музее острова Мурано, возле Венеции.
Значительное число этих памятников собрано в музее города Арль: Etude sur les Sarcophages chrеtiens antiques de la ville d’Arles par Edmond Le Blant, Paris 1878 – Millin Voyage dans le Midi de la France 1807–11; Garrucci Storia dell’Arte Cristiana.
Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrenaique etc. 1827 – 1829; см. также P. R. Garrucci Storia dell’ arte cristiana T. 105.
Созданию этой фигуры, заимствованной, как мы видели, у классического искусства, могла способствовать книга Гермы, Пастырь, которая, как известно, была очень распространена на востоке среди христиан.
Об этом говорит Р. R. Garrucci, не описывая, однако, этих памятников в своем сочинении: Storia dell’arte Cristiana.
IV книга Пропилей, отд. I-й.
Мнение, выраженное в письме ко мне.
Mission de Phenicie.
Bayet, Меmoirе sur une Mission au Mont Athos suivi (Vim Memoire sur im ambon conserve a Salonique, Paris 1876.
Poplewell Pullen et Техier, Architecture byzantine p. 184.
Есть и другие примеры употребления подобного рода гробниц у христиан, их находили в Арле, в Риме, в Модене, в Терни и в некоторых местах Азии.
Он находится теперь в городе Канн во Франции у барона Lyklama.
Bullettino di Arch. cr. Anno 1873.
Mission de Рhenicie.
Descriptio S. Sophiae, ed. Воnn. ѵ. 691–f. 12.
Kinkel, Geschichte der bildenden Kunste;–Schnaase, Geschichte der bildenden Kunste, zweite Auf.; – Labarte, Histoire des Arts industriels, Paris 1873; – Barbet de Joug, les Mosaiques chrеtiennes des basiliques et des eglises de Rome, Paris 1857; – Vitet, les Mosaiques chrеtienues des basiliques et des еglises de Rome, Journal des Savants 1862–1863; – La Mosaique par Gerspach, Paris; – G. B. de Rossi, Musaici cristiani delle chiese di Roma, Rome 1872; – Ch. Bayet, Recherches pour servir а 1’histoire de la peinture et de la sculpture chr. eu Orient, Paris 1879.
Pompeji von J. Overbeck, dritte Auflage, Lepizig 1875.
В Помпее есть даже примеры украшения колонн н пиластр мозаикой, что не указывает очень чистого вкуса.
La vera pittura per Teterniti essere il musaico. (Domenico Ghirlandajo).
Garrucci Storia dell'arte Cristiana; – Reyue Arch. Octobre 1875, Juin 1878, Notes sur les Mosaiques chr. de l’Italie par Eug. Muntz; – Studes sur l’Histoire de la Peinture et de l’iconographie chretiennes par E. Muntz, Paris 1882.
В последние годы, открыли тут следы устройства для этого назначения (Garrucci Storia dell‘ arte Cristiana, Teorica).
Garrucci Storia dell'arte Cristiana т. CCVI.
Некоторое сходство с этой мозаикой имеет фреска, написанная в потолке залы теплых ванн – Tepidarium – небольших терм Помпеи. (Overbeck Pompeji, Leipzig 1875 стр. 184).
Евхаристический символ.
Эта мозаика несколько походит на другой памятник мусивной живописи больших размеров, открытый в 1860-м г. г-м Ренан в Финикии в окрестностях Тира в Кабр-Хираме. (Renan, Mission de Рhrnicie р. 607 et suiv, р. ХLIХ). Тут мозаика, замечательного художественного достоинства, несколько больше 20-ти аршин длины, исполненная, вероятно, в первые века торжества церкви, скорее всего, в IV-ом столетии, покрывала пол храма, теперь разрушенного. Она состоит из нескольких частей. При входе видишь большой четырехугольник в рамке, составленной из геометрических фигур; в четырех углах изображены вазы красивой, но несколько вычурной формы; из них выходят ветви виноградной лозы с листьями и плодами. Разветвляясь, это растение составляет круглые медальоны, в которых изображены фигуры, заимствованные из охоты и сельской жизни. Тут представлены овцы, кони, змеи, собаки, львы, птицы; замечательна группа пантеры, раздирающей оленя, очень древнее символическое изображение азиатского происхождения, может быть, олицетворяющее ту же идею, как и заклание быка богом Митра, т. е. победы лучей солнца над влажным началом. Мы видим также, но постоянно в медальонах, пастуха, играющего на флейте; селянина, ведущего за повод осла, нагруженного корзинами с виноградом; охотника, идущего с копьем; мальчика, бегущего с бахусовым тирсом. В середине изображено давление винограда двумя мальчиками. Над тисками поднимаются два бруса, составляющие крест. Представленные в этой мозаике люди, имеют вид детей, – прием классического искусства, как мы это уже заметили по поводу катакомбных фресок. Все вместе, это составляет очень грациозный декоративный мотив. В промежутках медальонов изображены животные. В других отделениях этой мозаики являются, так же в круглых медальонах, образованных сплетающимися полосами, аллегорические фигуры, по грудь, 12 месяцев, времен года, четырех ветров, как указывают греческие надписи, или группы животных. Восемь раз изображена тут рыба – христианский символ. Мозаика эта находится теперь в Луврском музее.
Христианский символ.
Этого рода фигура, в некоторых восточных верованиях, символизировала четыре стихии, иногда, и времена года.
Она называется так потому, что была построена папой Либерием (352– 360).
Над нею была прежде изображена рука, выходящая из облаков – символ Бога Отца – держащая корону, но в этом месте мозаика отвалилась.
В рисунке эта подробность не была передана гравером.
Это дерево, равно как и феникс, были у первых христиан символами победы над смертью – воскресения.
Rahn, «Ravenna». См. также статью В. Виноградского о книге Rahn’a во 2-м томе: Труды Московского Археологического Общества.
Символ победы у христиан.
Известно, что Теодорих и наследники его заботились о сохранении римских памятников, запрещали разрушение последних и определили известные суммы на их поддержание.
Оно заметно всюду в Равенне; даже и между ее епископами, многие в эту эпоху имеют греческие имена.
Об обыкновении украшать одежды изображениями христианских символов и священных сцен, существовавшем, преимущественно, среди верующих востока, мы уже несколько раз говорили; что это волхвы, несущие дары Спасителю Младенцу, в этом нельзя сомневаться; они имеют совершенно тот же тип, как во фресках катакомб и в барельефах саркофагов.
Alt-Christlichen Baudenkmale ѵоn Constantinopel von V bis XII Jahrhundert. Berlin 1854.
Bayet, Меmoire sur une Mission au Mont Athos – Popplewell Pullan et Texier Architecture byzantine.
Путешествие на Синай в 1881 году Н. Кондакова. Одесса 1882.
Мозаики мечети Кахрие-Джамиси, ΜΟΝΗ-ΤΗΣ-XΩΡΑΣ, в Константинополе Н. Кондакова, Одесса 1881.
Очень верную оценку этих мозаик, доказательство их восточного происхождения и влияния византийского искусства на итальянское, в начале эпохи возрождения, читатель найдет в вышеозначенном сочинении г. Кондакова.
«История Византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей» Н. Кондакова, Одесса 1876.
«История Византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей» Н. Кондакова, Одесса 1876.
Известно, что постройка и украшение церкви св. Марка привели столь значительное число византийских художников в Венецию, что они составили в этом городе корпорацию. Частые споры возникали между ними и местными мастерами, образовавшими позже, в 1174 году, отдельную ассоциацию.
Это небольшой остров, недалеко от Венеции.
Род опахала.
Два последних, с правой стороны от зрителя, реставрированы.
Совершенно подобная же мистическая тайная вечеря, в двух сценах вышита на, так называемой, императорской далматике, – о ней будет говорено ниже – сохраняющейся в ризнице собора св. Петра в Риме, и также приписываемой началу ХI-го столетия.
В бордюре, или поясе, разделяющем верхнюю часть мозаики от нижней, изображены свастики и кресты. Оба эти знака, чередующиеся, имеют большие размеры и выведены золотой мозаикой. Как бы, для возвышения их значения, они помещены в рамках, украшенных арабесками и линейными фигурами. В этом декоративном мотиве, свастике дано такое же точно, по важности, место, как и кресту; она представлена наравне с ним и только рамка ее имеет другую форму, чем изображенная кругом креста. Кроме этого примера появления свастики на очень значительном месте, можно прибавить к тем, перечисленным нами, паматникам во 2-й ч. этого сочинения, на которых изображен этот символический знак, представляющий орудие извлечения огня, общий народам арийского племени, еще следующие: свастика очень ясно выведена на бронзовых обломках, открытых в древней гробнице в Фивах в Греции, и составлявших род венца; она помещена среди украшений, вполне архаического характера, состоящих из рыб, птиц, лошадей, различных зверей, фигур человеческих, корабля и т. д., на главном месте, так что приходилась над серединою лба, носившего эту диадему. Обратим внимание на то обстоятельство, что обряд посвящения у буддистов сопровождается начертанием свастики на лбу неофита. Памятник этот, сохраняющийся теперь в музее археологического общества в Афинах, относят приблизительно к VII-му ст. до Р. X. (Bronzi arcaici provenienti dalla Grecia, А. Furtwangler, negli Annali dell’ Instituto di Corr. Archeologica V. 52, Roma 1880). Мы находим свастику на двух архаических вазах, происходящих из Афин, где она изображена отдельно, как символический знак, а не в ряду украшений [Monumenti dell’ Instituto di Corr. Archeologica V. 9, tav. 40]. Свастика начерчена также одна на плите, заделывавшей отверстие горизонтальной гробницы; на черепице того же назначения, на обломке каменной доски, на другой плите с буквами ТОIА. Все эти предметы были найдены в катакомбе Каллиста. Также, на плите, происходящей из катакомбы Generosa Super Philippi [Roma Sotterranea cristiana G. B. de Rossi V. 3, p. 73, 126, 131, 136, 684], мы видим ее и возле надгробия, открытого в катакомбе Агнии (Bulletino di Arch. crist. G. B. de Rossi Anno 1877, № II, p. 57]; на веретенных кольцах [fusaioles] и на других предметах из обожженной глины, найденных в древних гробницах до римского периода в самом городе Падуе и около него (Bullettino dell’ Instituto di Corrispondenza arch. per Panno 1877, № III, 36, 37; 1881. № IV, p. 70. 79); на древней вазе, происходящей из острова Кипр (Revue Archeologique Novembre 1876); на монетах и алтарях Галлии и на груди статуэток Будды (Revue Arch. Mars 1881, Juillet 1880). На обломках глиняных ваз и на предметах из золота, открытых в последние годы г. Шлиманом, в раскопках, произведенных им в том месте, где был город Микены (Schliemann Мiсеnае). На предмете, формы медальона из бронзы, в соединении, как кажется, с цинком, служившем, без сомнения, украшением, величиною несколько больше серебрянного рубля, свастика вырезана посередине, а кругом нее – линейный орнамент. Предмет этот был открыт на юге Швеции и сохраняется теперь в музее города Стокгольм. Этот же знак мы находим на латах, составляющих украшение балюстрады храма богини Афины в Пергаме. Свастика тут изображена при таких условиях, и в таком месте, что ее нельзя принять за мотив орнаментики, и надо предположить, что она имела символическое значение. Фрагменты этой балюстрады можно видеть в Берлинском музее. Свастика появляется, также, на двух железах копий. Один из этих предметов был найден в земле, в окрестностях города Ковеля Волынской губ., а другой – возле города Мюнхеберга, в восточной Пруссии, в земле, вместе с другими предметами, которые, обыкновенно, находят в гробницах скандинавских военачальников. В обоих случаях, свастика изображена возле других знаков символического характера, которые никак нельзя принять за простые украшения, и в сопровождении рунических надписей. Этого рода письмена были, как известно, в употреблении у готто-германских племен, обитавших в северной Европе в начале железного периода. Оба эти предмета очень похожи друг на друга; надписи и знаки, появляющиеся на них, сделаны серебряной инкрустацией (Revue Arch. Mai, Juin, Juillet, Aout 1884). Другие примеры появления свастики, читатель найдет в статье г-на Стасова: «Катакомба с фресками, найденная в 1872-м г. близ Керчи», стр. 261, примечание в Отчете Имп. Археологической Комиссии за 1872 год.
Впоследствии, папа, под именем Виктор III.
Muratori Antiquitates italicae medii aevi t. 11. p. 361.
От этих памятников, к несчастью, ничего не сохранилось.
В другом городе Италии, именно, в Сипонте в Апулии, один из его епископов ѴI-го ст., родственник Византийского императора Зенона, призвал художников из Константинополя. (Etudes sur 1’Histoire de la Peinture et de l’Iсоnographie chretiennes par E. Munzt).
Несведущий реставратор изобразил трех, из последних, дев с венками и с зажженными лампами.
Как, например, в церкви Козмы и Дамиана в Риме или в Софийском соборе в Киеве до постановки иконостаса.
Меmoire sur une Mission au Mont Athos par Μ. M. l’Аbbе Duchesne et Bayet, Paris 1876.
Они известны по копиям г. Papety, сохраняющимся, частью в Парижской библиотеке, частью у г. Sabatier во Флоренции, который охотно их показывает. Копии с нескольких рисунков Р. Papety находятся в христианском музее Академии Художеств в Петербурге.
Hist. nat.
De tranquill. animi c. 9.
Первая из этих рукописей находится в Амвросианской библиотеке в Милане; вторая – в Ватиканской в Риме (Agincourt, Peinture, tav. 20–25).
Vita Соnstant. IV. 36. 37.
Storia dell' Arte Cristiana.
Свод Евсевия параллельных мест 4-х евангелий.
Как это мы видим, например, в мозаике ХI-го столетия Софийского собора в Киеве.
Оно описано во 2-ой части этого сочинения. В последнее время Cavalcaselle (Storia della pittura in Italia dal Secolo 2-do al Secolo XYI t. I, p. 85 Firenze 1875) говорит, что «распятие это, как видно по его характеристике, было написано после ХII-го столетия, и позже возобновлено во многих местах»; но какие именно эти отличительные черты, на основании которых Cavalcaselle делает вышеприведенное заключение, он не объясняет. Можно, напротив, указать на многие подробности этой сцены, дающие нам право предположить, что она была исполнена гораздо раньше ХII-го столетия. Так, например, Христос представлен на кресте в тунике, падающей до ног, с короткими рукавами – Colobium; а нам известно, что в самых древних примерах изображения распятия, на Христе подобного рода одежда. Это мы видим, например, на медальоне, посланном папой Григорием Великим Теодолинде, королеве Ломбардской VI-го столетия (см. часть 2), на кресте сокровищницы города Монцы, того же времени и т. д., одним словом, постоянно до ХI-го столетия, когда длинная одежда заменяется родом передника, от пояса до колен. С тех пор, как этот манускрипт перешел на запад, может быть, даже и раньше, в миниатюрах его были сделаны некоторые незначительные поправки, вероятно, и краски были, местами, подживлены, но общее этой живописи имеет очень древний характер, так, например, апостолы представлены иногда без нимба и сияние Спасителя ни разу не разделено крестом. Можно, потому, предположить, что эти миниатюры одновременны с текстом. Если считать барельефы на дереве, украшающие дверь церкви святой Сабины в Риме, в которых также изображено распятие, Ѵ-го столетия, как предполагают некоторые архелоги (см. Revue Arch. Juin 1877, статью г. Кондакова), то распятие, представленное в миниатюрах Сирийского евангелия, не составляет первый, а второй по времени, дошедший до нас, пример изображения этой сцены.
Может быть, подобного рода жезлы имели значение в церемониале византийского двора и появлялись в руках приближенных императора или царедворцев, посланных им и исполняющих его повеления.
Также знаменитый врач древности, родился в 131-м году по Р. X. в Пергаме, умер около 200-го года, жил, преимущественно, в Риме.
См. Кондакова миниатюры.
Он находится теперь в Ватиканской библиотеке в Риме.
Еще один список этой рукописи Х-го или ХI-го века сохраняется в библиотеке монастыря св. Екатерины на Синайской горе (см. «Путешествие на Синай» Н. Кондакова, Одесса, 1882).
Очень верную художественную оценку миниатюр рукописи Козмы Индоплова, равно как и византийской миниатюрной живописи, вообще, читатель найдет в сочинении профессора Кондакова: «История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей», Одесса 1876.
Немало иллюстрированных манускриптов, также, вероятно, сгорело при пожаре Константинопольской библиотеки (730 г.), в котором, как известно, современники обвиняли императора Льва Исаврянина, истребителя икон.
Schnaase, Geschichte der bild. Kunste, dritter B-d; – Unger, Griechenland im Mittelalter und in der Neuzeit, in Ersch und Gruber allg. Enc. T. 25; – Emeric David, Histoire de la Peinture au moyen age; – Carriere, die Kunst im Zusammenhang der Culturentwickelung und die Ideale der MenBchheit; – Bayet, Recherches pour servir a l’histoire de la Peinture; – Gibbon, History of the decline and fall of the roman Empire; – Schlosser, Geschichte der bildersttirmenden Kaiser, Frankfurt a. M. 1812; – Paparrigopoulo Histoire de la Civilisation Hellenique, Paris 1876.
См. гл. 2-ю этой книги.
Образчик подобной живописи, изображающей в небольших размерах восхитительные декоративные мотивы, исполненные живыми, яркими красками, рельефно положенными на золотом грунте, напоминая эмаль, читатель может видеть в кодексе DXL ХI-го века венецианской библиотеки, заключающем в себе четыре евангелия на греческом языке.
Протестанты северных частей Европы, как, например, Шотландии, Швеции и Финляндии с большей исключительностью относятся к религиозному искусству, чем протестанты южной Германии, Швейцарии, Франции и т. д. В этом не трудно убедиться, посетив протестантские церкви тех и других стран. Протестанты юга допускают большее украшение внутренности своих храмов, чем протестанты севера.
Миниатюры греческой рукописи псалтири IX века из собрания А. И. Хлудова в Москве, Η. П. Кондакова, Москва, 1878.
Церковь Богоматери у Константинопольской пристани.
Тут, как и во многих других примерах употребления аллегорических флгур, греческая надпись указывает их значение, так что сомнение невозможно.
На греческих казах, при изображении пиршеств, над пирующими, иногда, видишь гения с надписью ΠΟΘΟΣ, т. е. желание. Плиний описывает картину греческого живописца, в которой возле Приама и Елены изображено было легкомыслие, а возле Менелая и Денфоба – обман, аллегорическими фигурами. Известно также, что в картинах греческих мастеров появлялись действующими, аллегории правды и обмана, невежества, клеветы, зависти, подозрения, извета, раскаяния и т. д.
Сохранились восемь рукописей Григория Богослова, с миниатюрами замечательно близкими, а часто и тождественными в разных списках. Даже орнаментика с фигурными инициалами или прямо указывает на следование одному оригиналу, или, по крайней мере, ясно представляет нам один общий тип. Некоторые из этих рукописей находятся в библиотеке монастыря св. Екатерины на Синайской горе; одна из них, особенно, замечательна: в ней меньше миниатюр, чем в парижском кодексе, но она превосходит последний богатством, тонкостью и изысканностью декоративных мотивов, увеличивающпхся, смотря по значительности и серьезности религиозного сюжета, который они окружают, составляя ему рамку (см. «Путешествие на Синай» Н. Кондакова. Одесса 1882).
Он напоминает ангелов в воинских доспехах, написанных на стенах монастырей Афонской горы, и известных по копиям г. Papety.
Он находится теперь в библиотеке монастыря святой Екатерины на Синайской горе, см. Кондаков «Путешествие на Синай».
Теперь в Ватиканской библиотеке.
Находящееся в ватиканской библиотеке № 1156.
Другой манускрипт, того же содержания, также украшенный миниатюрами, находится в монастыре святой Екатерины на Синайской горе, месте происхождения самого сочинения (см. Н. Кондакова «Путешествие на Синай»).
Посетитель библиотеки города Парма может получить очень ясное понятие о том, насколько византийская миниатюрная живопись была превосходнее в средние века западной, сравнив раскрашенные рисунки греческого евангелия Х-го столетия № 5, о котором говорено выше, с миниатюрами, возле него лежащей, рукописи, также Х-го века, содержащей в себе жизнь св. Ильдефонса. Тут ясно видно подражание византийскому стилю; грунт так же золотой, но работа вполне варварская. Фигура человека уродлива; поставленная на ноги, она представлена, как бы, на воздухе. Позы натянуты, неестественны; под драпировкой одежд нельзя угадать тело. В выборе красок проявляется вполне грубый вкус; золото бледно и положено без уменья; орнаментика аляповата; одним словом, мы видим тут все отрицательные качества византийского стиля и ни одного из его достоинств.
Аббат Монте-Кассино, Дезидерий, призвав художников из Византии, произвел переворот в искусстве Италии. Это отразилось и в иллюстрации кодексов монастыря, которого он был настоятель; так, например, миниатюры до Дезидериевского времени [см. кодекс № 132 de origine Rerum, Х-го столетия], сохраняющиеся в библиотеке Монте-Кассино, более низкого художественного достоинства, чем раскрашенные рисунки, написанные при аббате Дезидерии, или сейчас же после него. Они носят на себе отпечаток византийского влияния и были, вероятно, писаны византийскими миниатюристами или учениками их.
Довольно значительное собрание их находится в Ватиканском музее.
Lubke, Geschichte der Plastik.
Lubke, Geschichte der Plastik.
Особенно замечательны художественные произведения подобного рода некоторых монастырей Афонской горы; образчики их можно было видеть на парижской выставке 1878 года.
Светские сюжеты встречаются, также, в барельефах крышек византийских консуларных диптихов, но можно заметить, что в художественном отношении, они стоят ниже представляющих религиозные сцены.
Он сохраняется в Париже, в музее Клюни.
Schnаase Geschichte der Kunst.
Garrucci, Storia dell’arte crist. T. 1401–1405.
Они сохраняются теперь в библиотеке этого упраздненного аббатства.
Он находится теперь в собрании христианских древностей при Ватиканской библиотеке в Риме.
Buonarruoti, Osservazioni sopra tre dittici antichi d’avorio. Firenze 1776.
Liber pontificalis ed. Vignoli, t. I, p. 99.
De Vita Constant, t. III, с. 40.
В Париже в Луврском музее.
Labarte, Histoire des arts industriels.
Labarte, Histoire des arts industriels, v. III. p. 377; Recherches sur la peinture en email dans l’antiquite et au moyen age, Paris 1856. – Schnaase, Geschichte d. bild. Kunste, dritter Band erst, Abth.
Labarte, Histoire des arts industriels, v. III. p. 397–419.
Schnaase, Geschichte d. bild. Kunste В. III; – Kinkel, Geschichte d. bild. Kunste.
Г-н Кондаков указывает в монастыре святой Екатерины на Синае (Путешествие на Синай, Одесса 1882) кипарисную дверь, на которой изображения сделаны тем же способом, как и на бронзовых дверях, т. е. резьбою вглубь контуров, причем, все изображение и сама доска сохраняют свою поверхность и ни одна часть не выступает над ней рельефом. Углубленные контуры, как бы, в живописи, наполняются гипсом, расцвеченным красной краской. Тут, точно так же, как и на бронзовых дверях, пластика отрешается от своих существенных черт и переходит в живопись. Синайская дверь, которую автор относит к эпохе, непосредственно, следующей за иконоборческим периодом, т. е. между IХ-м и концом Х-го столетия, покрыта одними фигурами декоративного характера.
Техника подобного соединения металлов существовала раньше у народов востока и, может быть, была перенята византийцами у арабов; но мы находим следы ее и у древних греков.
См. гл. XXXV и XLI этой книги.
Бронзовые двери были вылиты в ХII-м ст. итальянскими мастерами Рожером из Амальфи, Одерисием из Беневента, Барисаном из Трани, в подражание привезенным из Константинополя; они находятся в следующих городах: Тройе, Трани, Равелле, Монреале, Беневенте, Вероне и т. д. Эти мастера не вполне свободны от влияния памятников византийского искусства, но работы их имеют уже совершенно иной характер, и фигуры у них представлены барельефом.
Histoire de l’art par les Monuments depuis le IV jusqu’au XVI siecle. Paris 6 v. in fol. avec 325 pl. 1809–1823. Sculpture. Pl. 13–20.
У Agincourt больших размеров pl. 14, f. 1.
В IХ-м столетии византийцы были известны, как хорошие литейщики и чеканщики; это мы видим, напр., из того, что калиф Абдерахман заказал византийским мастерам фонтаны из золоченой бронзы. Во дворце его, в Кордове, находились железные, обитые бронзой, двери и чаша фонтана, поддерживаемая 12-ю львами; все – греческой работы (Semper, Der Stil, В. II). Может быть, еще существующий во дворце Гранады, известный фонтан с 12 мраморными львами, имеющими условный, геральдический вид, напоминая тех же животных, изображаемых в византийском искусстве, есть подражание фонтану Кордовы.
Известно, что император Константин, после перенесения столицы на берега Босфора, украсил ее многочисленными статуями, взятыми из различных греческих городов Европы и Азии. Преемники его следовали этому примеру, и Константинополь наполнился замечательными произведениями эллинической пластики. Несмотря на то, что Грецию уже ограбили римляне, она была еще довольно богата прекрасными статуями из золота и слоновой кости, из мрамора, из бронзы, чтобы населить Константинополь изображениями богов. Притом, надо заметить, что римские проконсулы, равно как и языческие императоры, редко решались лишать святилища изображений, почитаемых в них богов, тогда как Константин и другие христианские императоры были свободнее в этом отношении, вследствие чего, много статуй жителей Олимпа, работы греческих художников лучшего времени эллинического искусства, переселились в Константинополь. Несмотря на частые пожары, на беспрестанные смуты такого беспокойного города, как столица восточной империи, многие из произведений греческой пластики находились еще в Константинополе, при взятии его крестоносцами в 1204 году, и были тогда разрушены. Известно, напр., что эти западные варвары плавили бронзовые статуи и чеканили из них монету. (Paul Allard, L’art Palen sous les Empereurs chrеtiens, Paris 1879).
В 507 году император Анастасий I-й велел написать священнику секты манихейской иконы, удалявшиеся от православных традиций, и этого было достаточно, чтобы произвести мятеж. До сих пор у тех народов, которые получили из Византии священные изображения вместе с религией, повторяются, без изменения, на образах одни и те же типы, сохраняются при изображении Спасителя, Богоматери, святых, и т. д. одни и те же позы, формы одежды, колорит. В России, напр., народ молится образам, написанным по старому образцу, и не будет креститься перед Мадоннами итальянской школы.
То же явление повторяется в гражданской жизни народов Азии и европейиских арийцев; у первых – мы видим неподвижность в, раз выработанных, социальных формах, у вторых – постоянное движение и разработку новых гражданских начал.
Оно было переведено на французский и немецкий языки.
В монастырях Афонской горы показывают живопись, как, напр., лики Богоматери и фигуры ангелов-воинов, в самом деле, большого художественного достоинства, но трудно доказать, что они были написаны Панселином, жившим, как предполагают, в Х-м столетии.
Можно было бы подумать, что некоторые из этих фигур прямо скопированы с мозаик византийского стиля, как, напр., та, которая написана в глубине деревянного саркофага, приблизительно, II-го столетия по Р. X., находящегося в египетском музее во Флоренции (Sala Alessandrina e Cipriota № 1).
Древние греки равномерно, до развития эллинической культуры, удивлялись технике Египта и азиатских народов. Следы этого мы находим в Илиаде Гомера.
Памятник мусивной живописи, находившийся в этой часовне, равно как и части мозаик святой Констанции не существуют, но известны нам по рисункам.
Потому то первоначальные религии имеют не монотеистический, политеистический, ни пантеистический, а пандемонический характер.
Действие их, однако, всегда сильнее в первый период образования мифов, чем в последующие эпохи.
Последние участвуют также в составлении религиозных идей и могут вести арийцев к раздроблению понятия о боге, т. е. к политеизму, а семитов, напротив, к соединению его, т. е. к монотеизму, но не определяют, однако, характер самого божества. Точно также, при превращении слова в миф, как это указывает нам филология, характер последнего формируется, согласно натуре людей, в которых совершается процесс составления божественного образа из слова.
В Греции и вообще в странах эллинического востока религиозные изображения христиан, вероятно, немногим отличались от написанных в катакомбах Рима, так как условия составления религиозных образов были одни и те же в Греции и в Италии. Говоря о христианских фигурах и сценах, изображаемых верующими на востоке эллиническом, писатели церкви, как, например, Климент Александрийский, Астерий, св. Ефрем, св. Кирилл Александрийский (см. гл. II), представляют нам их совершенно так, как они изображались в Италии, вообще, на западе. Не надо, однако, забывать, что искусство первых христиан могло принять некоторое развитие до торжества церкви, только в тех местах, где грунт земли позволял выкапывать катакомбы. Где это было невозможно, где места погребения христиан находились на поверхности земли, перед глазами язычников, там верующие могли употреблять только несложные символические знаки тайного значения, и деятельности живописцев не было места. Если и существовали до Константина, в некоторых странах, у христиан церкви, построенные на поверхности земли и украшенные живописью, то они не дошли до нас, или известны нам только по развалинам.
Уже Тертуллиан (De cultu feminarum) выражает мнение, что красота имеет греховное начало и подает повод к соблазну. Говоря о ней с презрением, он прибавляет, что верующий должен радоваться только своему изнуренному и истощенному покаянием телу.
Впоследствии, император Феофил поручил математику Льву соорудить царский трон, подобный находившемуся в Багдаде, и очень искусно устроенному у Абассида Моктадера.
Уже прежде, в Риме, люди богатые и изнеженные усваивали азиатскую одежду, соответствовавшую вполне их образу жизни. Точно также, и римские женщины приняли более роскошный костюм от гречанок; последние, еще со времен Александра Македонского, когда произошло тесное сближение мира эллинического с азиатским, переняли одежду восточных женщин. [Внешний быт народов с древнейших до наших времен, Германа Вейса, перевод с немецкого И. Васильева, изд. К. Т. Солдатенкова, Москва 1875].
Двум греческим монахам удалось из Серинда, на верхнем Инде, перенести в Константинополь шелковичного червя, а два года спустя, пересадить туда же и необходимую для содержания его белую шелковицу, вследствие чего, под непосредственным покровительством императора, возникли обширные шелкодельные фабрики, сперва в самой столице, а потом, вскоре, и в Афинах, Фивах, Коринфе и других местах. [Внешний быт народов, Германа Вейса].
См. часть III этой книги.
Копии с них читатель может видеть в христианском музее Академии Художеств в Петербурге.
Эти же идеи выражаются и современными византийскими писателями церкви. Уже Евсевий, в начале своего панегирика Константину, представляет Бога небесным властелином, т. е. увеличенным образом земного самодержца; своды небесные служат Ему троном; земля – Его подножие; небесные войска содержат вокруг Него стражу; стихийные силы – Его телохранители; они признают Его своим властелином, владыкой, царем. Эти сравнения Евсевий продолжает с большим богатством фигур.
История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей, Н. Кондакова, Одесса, 1876.
Bayet, L’art Byzantin;– Schaase, Geschichte d. b. K-te.
Как в романскую архитектуру того времени проникли некоторые классические элементы, так и литература этой эпохи приняла в себя большое количество материала римских писателей, и подражание последним, заметно в стиле ученых Карловингского периода.
Schnaase, Geschichte der bild. K-te. Dritter Band erste Abth.;–Kugler, Handbuch der Kunstgeschichte.
Подобный же самостоятельный стиль проявляется и в ирландской архитектуре этого времени.
Теперь в Луврском музее, в Париже.
Теперь в Луврском музее.
Некоторые произведения скульптуры эпохи готического полувозрождения имеют большее художественное достоинство, чем пластические работы времен возрождения во франко-германских странах. Это происходит оттого, что в означенную эпоху искусство имело вполне самобытный характер, и почерпало свои силы из жизни общества, вдохновлялось его чувствами, выросло на народной почве, тогда как в период возрождения, особенно, в конце его, художники по ту сторону Альп подражали мастерам Италии, и в работах первых слышится влияние вторых. Искусство возрождения в Италии дало тон артистической деятельности многих западных стран, пробудившихся в эту эпоху, так как итальянцы обладают большими художественными способностями, чем другие члены арийского семейства, вызванные тогда к жизни.
Как, напр., рождение Спасителя, Преображение, страшный суд, аллегорические фигуры и т. д. и т. д.
Он находится теперь в церкви S. Maria Novella во Флоренции.
Теперь в галерее Pitti во Флоренции.
Мадонна эта была написана в 1508-м году, следовательно, когда Рафаэлю было 20 лет, для графа Connestabile della Staffa и постоянно находилась в Перуджии, во владении этой фамилии, до 1871-го г., когда была приобретена покойной Императрицей Марией Александровной и помещена в галерее Эрмитажа.
Каждый раз, что в сценах Святого Семейства, или при изображении Мадонны со Христом, является книга в руках Богоматери или Иосифа, следует видеть в ней предсказания пророков, касающиеся Мессии.
Эта картина находится в музее Gрадо (Prado) в Мадриде.
Она находится в галерее Palazzo Pitti во Флоренции.
Sacco, от этого и название фрески.
Теперь в Дрезденской галерее.
Она находится в Ватиканской галерее в Риме.
Эта картина была заказана в 1518 году бенедиктинскими монахами монастыря св. Сикста, находившегося в г. Пиаченце; отсюда и название этой Мадонны. Живописец должен был изобразить Богоматерь вместе со св. Варварой и св. Сикстом, который был папой и претерпел мученическую смерть, застигнутый в здании над катакомбами, во время служения, солдатами императора Валериана (см. часть I).
Изображение Христа в византийском искусстве больших размеров, чем, стоящие возле Него, люди, составляет продолжение приема, употребляемого восточными народами, передававшими силу и моральное значение Бога колоссальностью.
Так указано изображать сцену Тайной Вечери в руководстве живописцев, открытом на Афонской горе, упомянутом выше.
Построенного в ХII-м столетии.
Фотографии с них, снятые г-м Севастьяновым, находятся в христианском музее при Академии Художеств в Петербурге.
Он сохраняется в Ахенском соборе.
Оконченный в 1311 году и торжественно перенесенный гражданами Сиэннской республики из мастерской живописца в их собор, где он до сих пор находится.
Теперь магазин военного интендантства.
Кто написал эту фреску, осталось неизвестно. Она была исполнена в первых годах ХѴI-го столетия, но ее нельзя приписать ни Рафаэлю, ни Перуджину; в ней, однако, можно подметить много особенностей манеры последнего живописца, как, напр., отсутствие энергии и мужской силы в лицах, их, несколько сентиментальное, даже приторное, выражение. Особенно, сцена моления о чаше, с ангелом, слетающим с неба, которая видна вдали, имеет много перуджиновского. Всего вероятее, что эта Тайная Вечеря была написана одним из учеников Перуджина, может быть, при содействии Рафаэля, юношеская кисть которого проявляется тут местами, но не в общем исполнении.
Во фреске лицо Спасителя почти совершенно пропало, но выражение его можно восстановить по картону Леонардо, сохраняющемуся в галерее Брера в Милане. В известной гравюре Моргена только одна голова Христа вышла неудовлетворительно.
В этом отношении, венецианская школа живописи имеет некоторое сходство с нидерландской; как в первой, так и в последней – форма преобладает над идеей; колорит и эффекты света гораздо более поражают зрителя, чем содержание картины. Как в Нидерландах, так и в Венеции явилась школа живописи без скульптуры, что лишает полноты развитие первой из этих отраслей искусства. Как там, так и тут, богатый, расторговавшийся класс общества, дал живописи более чувственное, чем умственное направление.
Она находится в ризнице церкви S. Stefano в Венеции.
Картина эта находится в галерее Uffizi во Флоренции.
Это произведение, кисти доминиканского монаха, находится теперь в картинной галерее академии художеств во Флоренции.
Теперь также в галерее академии художеств во Флоренции.
Она написана на дереве и находится теперь в соборе г. Кортоны, в Италии.
Живопись эта, исполненная на дереве, в небольших размерах, находится теперь в картинной галерее академии художеств во Флоренции.
Известно, что самые талантливые испанские живописцы учились у нидерландских и итальянских художников. Живопись в Италии уже прошла блистательную эпоху, когда в Испании появились художники, давшие значение ее школе.
Отчасти, может быть потому, что лучшее время испанской школы совпадает с иезуитской реакцией.
Вне религиозных сюжетов, у испанцев преобладает изображение прямой натуры, иногда даже довольно грубой, в чем можно видеть действие нидерландской школы живописи.
Она находится в музее города Севилья.
Одна из них находится в музее Прадо в Мадриде, другая в Луврском музее в Париже.
Эта картина находится в галерее Эрмитажа в Петербурге.
Раскрашенные деревянные барельефы и статуи, род пластики, приближающейся к живописи, встречаются в Испании, но очень низкого художественного достоинства.
Чем дальше мы уходим на север, тем меньше встречаем в человеке склонность передавать свои идеи красками и пластическими формами, употреблять изобразительное искусство, как декоративный элемент в своих жилищах. Сравним, напр., манеру украшать потолки у южных и северных обитателей Европы, там, где этот род орнаментации национален, а не перенят. Нельзя, также, не согласиться, что искусство некоторых художественных центров северной Европы имеет характер пересаженного из полуденных стран растения, возобновляющего свои силы соприкосновением с югом. Жители севера могли проверить на себе, как постепенно развивалась в них способность понимания пластических форм и красок во время их пребывания в южных странах. Люди, никогда не оставлявшие севера, почти всегда глухи к языку кисти и резца. Мы видим также, что живопись и пластика, не будучи такой существенной потребностью обитателей северных стран Европы, как жителей прибрежий Средиземного моря, никогда не имели у первых того популярного характера, никогда не интересовали, не увлекали в такой степени массы народа, как у вторых. Можно сказать, что религиозные изображения до реформы, стояли ближе к народу в Германии, чем впоследствии ее произведения искусства светского характера. Но, если бы эти памятники религиозного художества составляли потребность духовной натуры германцев в такой степени, как у итальянцев, то реформа не могла бы отвергнуть их и двинуть народ на истребление икон, как это произошло в некоторых странах Германии. В Нидерландах развилась самостоятельная школа живописи, но, более, салонная, чем народная, направление которой было не столько выражать идеи, сколько представлять необыкновенные эффекты света и теней. В наше время только в Италии можно встретить людей из низшего класса общества, способных понимать художественные произведения, открывать их красоты и наслаждаться ими.
В наше столетие протестантизм начал распространяться успешнее в Италии, потому что сделался одной из форм оппозиции непопулярным правительствам, союзникам католического духовенства. Последнее в Италии, было постоянно враждебно национальным стремлениям, так как видело в них опасный для себя либерализм или помогало иностранцам, поработителям Италии. Но пропаганда протестантская уже идет не с таким успехом в этой стране, после ее освобождения, несмотря на то, что теперь она уже более не подвергается преследованию.
Действие, которое было облегчено тем, что пробуждение умов в Италии в эпоху возрождения, не повело к коренным переменам в существовавшем веровании, как в германских странах.
В это же время родился пышный стиль архитектуры и орнаментации, покровительствуемый иезуитами, цель которых была, поражая воображение масс, привлекать их блестящей и богатой внешностью. Образчики подобных церквей мы находим почти во всех городах Италии. Это, по большей части, обширные храмы, украшенные внутри дорогими мраморами, вообще, с необыкновенной роскошью.
Мы встречаем осуждение религиозного искусства эпохи возрождения у современных писателей Иезуитского ордена. (См. Р. R. Garrucci Storia dell’ Arte Cristiana Teorica, p. 51–65).
То же самое находим мы, отчасти, и в египетском искусстве. Мистицизм, т. е. замена размышления религиозным созерцанием и вдохновением, приближаясь к жизни – и по самой сущности своей, исключая всякое умственное сображение – соприкасается, всего скорее, с ее, вполне реалистическими, а не оживленными идеей сторонами.
Мы сказали тут только несколько слов об искусстве возрождения в Италии, чтобы определить в произведениях итальянских мастеров этой эпохи воскресение тех начал, которые уже обозначились во фресках и барельефах, открытых в подземных кладбищах верующих Рима. Отдельное исследование, которое составит продолжение этого труда, будет посвящено искусству эпохи возрождения в Италии, обстоятельствам, вызвавшим его, его развитию и причинам его падения.
