К истории византийского предгуманизма
Издание второе, исправленное и дополненное
Ко второму изданию
Я почти не менял текста книги, исправив только замеченные неточности и опечатки.
Естественно, нельзя было не учесть многочисленных публикаций, книг и статей, появившихся за годы, истекшие после первого издания. Все сделанные мною дополнения заключены в фигурные скобки и отделены от основного текста. Цитированная в них литература собрана в отдельном списке, помещенном вслед за основной библиографией.
Я очень благодарен бывшей моей коллеге Аргиро Целези (переводчице этой книги на греческий язык), проверившей ссылки на источники и научную литературу и исправившей немало типографских и моих собственных ошибок.
Я. Любарский
Часть I. Личность
Глава 1-я. Загадка личности и проблема мировоззрения.
В этой книге, как видно уже из названия, поставлены две темы: личность Пселла и его творчество. Каждая из них могла бы стать предметом нескольких исследований. Наследие Пселла огромно и мало изучено, а его роль в византийской цивилизации невозможно переоценить.
Широта темы принуждает автора к строгому самоограничению. И потому в первых разделах книги, посвященных личности Пселла, выбирается лишь один из возможных путей постижения личности писателя, а в главах о творчестве Пселла анализу подвергаются только наиболее значительные из его сочинений, ближе всего подходящие к современному понятию художественной литературы.
Перед автором монографии стоит также цель: датировать, жанрово определить и выделить источники сочинений Пселла, как можно точнее представить биографические факты. Без решения таких «вспомогательных» вопросов разговор об этом писателе немыслим.
* * *
Михаила Пселла сравнивают с Шекспиром, Вольтером, Лейбницем, Спинозой, Достоевским. Сами по себе произвольные, такие сопоставления тем не менее подчеркивают значение писателя, чье творчество составило эпоху в истории византийской литературы и общественной мысли. По масштабам византиноведческой науки Пселлу посвящена значительная литература230, однако все книги и статьи о византийском писателе, взятые вместе, вряд ли по своему объему превзойдут печатную продукцию о Шекспире, публикуемую за один год. Тем не менее уже сейчас интересно подвести некоторые итоги и рассмотреть тенденции в изучении личности великого византийца.
Более или менее активно сочинения Пселла стали публиковаться с 20-х годов прошлого столетия. Разбросанные в специальных изданиях, случайно выбранные, они не могли быть основой для сколько-нибудь надежных суждений об их авторе231. Единственным относительно цельным сборником этого времени, не потерявшим поныне своего значения, является издание Ф. Буассонада [22], где помимо демонологического сочинения, давшего название книге, содержатся речи и трактаты писателя. Буассонад и другие издатели опубликовали только малую и не самую интересную часть наследия Пселла. Поэтому большим событием для византиноведения был выход в 1874г. двух (IV и V) томов «Греческой библиотеки Средних веков» К. Сафы, в которую вошло большое количество писем, речей и «Хронография» Пселла. Неудовлетворительное, изобилующее ошибками232, не устраненными и во второй публикации Сафы [12], это издание тем не менее позволило начать серьезное изучение творчества писателя. В 20-х годах нашего века Э. Рено вновь опубликовал текст «Хронографии». Три издания одного и того же текста в течение полустолетия – явление редкое, отразившее интерес ученого мира к этой жемчужине византийской литературы. Однако Рено не удалось устранить ошибки единственной дошедшей до нас рукописи исторического сочинения Пселла. Напротив, немало конъектур сделано издателем неудачно, а во французском переводе встречаются натяжки и неточности233, почти нет комментария.
В те же годы появился сборник частично переизданных, частично опубликованных вновь сочинений Пселла по вопросам алхимии, метеорологии и демонологии [23]. Вторым по значению (после «Греческой библиотеки...» Сафы) изданием было опубликованное в 1936–1941 гг. большое собрание писем и речей Пселла, до того времени большей частью остававшихся в рукописи [16]. Весьма квалифицированное с точки зрения филологической обработки текста, это издание вместе с тем не имеет исторического и реального комментария.
Публикация сочинений Пселла продолжается234. Немало их еще остается в рукописи, немало разбросано по малодоступным изданиям, немало публикаций не удовлетворяет современным эдиционным требованиям. Детальное и всестороннее изучение наследия писателя станет возможным лишь после полного издания его сочинений, однако если византинисты будут ждать удовлетворительных публикаций всех текстов, то к исследованию творчества большинства средневековых греческих авторов приступить они сумеют еще не скоро235. <3а двадцать с лишним лет, истекшие после первого издания этой книги, интерес к фигуре Михаила Пселла возрос еще более и приобрел «устойчивый» характер. Почти в любом выпуске Byzantinische Zeitschrift, выходящем каждые полгода и печатающем аннотации на новую литературу по византиноведению, учитывается, как правило, по нескольку новых работ, в названии которых фигурирует имя Пселла. Пора, видимо, говорить о зарождении специальной отрасли византийских штудий, которую можно было бы назвать «пселловедением» (по аналогии с «шекспироведением», «пушкиноведением:» и т.д.). Не случайно исследователи заговорили о настоятельной необходимости издать полное собрание сочинений Пселла с учетом всех его рукописей, всех публикаций и всех работ, ему посвященных (Р. Moore 1985; ср. BZ,70. 1977. S. 293). Не только на словах, но и на деле эти проекты начали осуществляться быстрее, чем можно было ожидать. За истекшие годы издано много новых произведений, остававшихся до той поры в рукописях, вновь опубликовано по правилам современной эдиционной техники немалое число сочинений, которые прежде были изданы небрежно или без полного учета рукописной традиции и т.д. Особая заслуга в переиздании «малых» и не очень «малых» произведений принадлежит Bibliotheca Teubneriana, в выпусках которой пселловские тексты подбираются по жанровому принципу [см. Я. Любарский, 1997; подавляющее большинство новых изданий перечислено в начале публикуемой здесь дополнительной библиографии]. Немалое число произведений Пселла появилось в последние десятилетия в переводах на европейские языки. Таким образом, творческое наследие необыкновенно плодовитого Пселла стало значительно доступней исследователям и любителям его творчества. О современном состоянии издания сочинений Пселла см.: J. Schamp, 1997.>
Жизнь и карьера Михаила Пселла – приближенного и советчика шести императоров, первого философа и писателя эпохи, давно привлекали внимание ученых. Сохранившийся уникальный материал не только позволяет подробно проследить карьеру писателя, но и дает много деталей для воссоздания картины духовной, нравственной и политической жизни Византии XI в.
До издания в 70-х гг. прошлого века основных произведений Пселла сведения о нем основывались главным образом на трактате ученого XVII в. Льва Алляция [PG 122, col. 477 sq] и имели приблизительный, а подчас и просто фантастический характер. Первая попытка воссоздать жизненный путь и облик Пселла принадлежит Сафе [1 (IV), с. XXX и сл.; 1 (V), с. VII и сл.]. Греческий ученый систематизировал большой материал, постарался представить личность писателя на фоне исторических событий и культурной жизни того времени. Работа Сафы явилась, конечно, первым подходом к проблеме. Ученый допустил фактические ошибки, но главный его просчет – слепое доверие к писателю. Некоторые страницы исследования Сафы являются близким к тексту пересказом Пселла, из-за чего подчас теряется грань между исторической правдой и риторическими хитросплетениями византийца. Оценка личности Пселла имеет фактически морально-нравственный характер. После восторженных гимнов одаренности Пселла Сафа с сожалением замечает, что писатель, живший в один из самых печальных периодов византийской истории, вращавшийся в испорченной атмосфере своей эпохи, не мог остаться безупречным. «Это слиток золота, замаранный всеми нечистотами века», – заключает Сафа словами Вольтера характеристику писателя [1 (IV), с. CVIII].
Появившийся уже через год после выхода V тома «Греческой библиотеки…» очерк А Рембо [275] основывается на материалах, опубликованных Сафой, и почти не вносит ничего нового в оценку личности Пселла. Еще четче, чем Сафа, подчеркивает Рамбо характерность фигуры Пселла: «Это человек, в котором воплотились достоинства и недостатки греческого духа. Он обладал всеми пороками своего времени, но отличался от современников более высокими запросами».
Предисловия Сафы и особенно блестящий очерк Рамбо возбудили в ученом мире интерес к Пселлу. Следующая работа о писателе, принадлежащая перу русского ученого П. Безобразова [65], явилась итогом многолетних серьезных исследований. Безобразов не только исправил допущенные Сафой ошибки, но, что особенно важно, привлек много неопубликованных произведений писателя.*236
Книга Безобразова – суровый приговор Пселлу. «Приступая к изучению Пселла, – пишет он в предисловии, – я считал его высокообразованным, талантливым и полезным деятелем, но чем больше я работал, чем пристальнее всматривался в его мемуары, тем больше убеждался, что это не так». А вот и вывод, выраженный резко и определенно: «Пселл – тип преуспевающего византийца, добившегося высоких чинов лестью, низкопоклонством, потворством животным инстинктам монархов, достигшего благосостояния выпрашиванием и взяточничеством, тип образованного сановника, меняющего убеждения, жертвующего правдой в угоду царю; это человек без принципов, без идеала, способный хвалить и бранить одно и то же, готовый обелять преступления, чернить добродетель, настоящий прелюбодей слова, печальное порождение печального времени» [65, с. 194]237. Исследование Безобразова, и поныне не потерявшее значения, далеко не всегда, к сожалению, используется в западной научной литературе (видимо, из-за языкового барьера).
Политический сервилизм, неразборчивость в средствах – наиболее уязвимые стороны личности Пселла – надолго становятся объектом атак исследователей писателя. «Ни одна эпоха византийской истории, – пишет К. Крумбахер, – не была столь опасной для характера государственного деятеля, как этот период смены слабых и подверженных всем влияниям правителей. Пселл не поднялся на уровень тех требований, которые предъявляло к человеку подобное окружение... низменный сервилизм, неразборчивость в выборе средств, ненасытное честолюбие и безмерное тщеславие являются главными чертами его характера. В этом отношении Пселл – типичный выразитель всего самого отвратительного в византинизме» [227, с. 435]. «Это слиток золота, замаранный всеми нечистотами века», – еще раз относит к Пселлу слова Вольтера К. Мюллер – автор большого исследования об эпистолографии византийского писателя [254, с. 208]. «Легкомыслен, талантлив, но чрезвычайно циничен», – отзывается о Пселле Н. Йорга [215, с. 270].
Вместе с тем могучий талант и незаурядность личности заставили многих исследователей искать оправданий любимцу шести императоров, льстецу и предателю Пселлу. Как политик, признает К. Нейман, он играл весьма неблаговидную роль, однако принадлежал к числу тех «поразительных личностей, которые объединяли в себе черты различных эпох и культур» [257, с. 82]. Занимая высокое положение при дворе, Пселл как гуманист дорожил своей свободой. Пселл, конечно, «продавал свое перо», но для К. Нейманна он – не «прелюбодей слова» (П. Безобразов), а скорее фигура ренессансного типа, не вмещающаяся в рамки общепринятых моральных категорий и вольная использовать свой талант по собственному желанию. Более «личные» оправдания ищут для Пселла Б. Родиус [278, с. 4 и сл.] и Ш. Зервос [319, с. 71]. Автор интересного и оригинального исследования, Б. Родиус упоминает о теневых сторонах политической деятельности и о некоторых изъянах характера Пселла, но тем не менее явно находится под обаянием его личности. Ученый говорит о податливости нрава, общительности и доброжелательности Пселла к людям и не забывает отметить те случаи, когда Пселл находится на высоте положения (посольство к мятежному Исааку Комнину) или раскаивается в своем недостойном поведении (например, история с обвинением Михаила Кирулария – см. ниже). Преподавательская деятельность Пселла, проповедовавшего в условиях господства христианского мировоззрения эллинскую мудрость, вызывает у Родиуса преклонение перед интеллектуальным совершенством и мужественным духом писателя. Лицемерие Пселла – печальная уступка нравам эпохи. Однако всегда и во всем византиец остается «человеком страсти и первого порыва», ему свойственны душевная мягкость, чувство дружбы и т. д. Иначе «оправдывает» Пселла Э. Рено [277, с. 404], книга которого появилась в один год с исследованием Ш. Зервоса. Проникновение в личность Пселла необходимо Рено для решения вопроса об истоках стиля писателя, ибо «стиль – это человек», согласно знаменитому изречению Бюффона. «Душа Пселла чувствительна, как у женщины, и мягка, как воск», – приводит Рено неоднократно повторяющуюся самохарактеристику Пселла. Что касается «моральной низости», «постоянной готовности к измене» и прочих аналогичных качеств, то это обычные свойства художников, воспитанных в уединенных занятиях, людей, которые без подготовки и душевных сил в один прекрасный день очутились в мире, созданном не для них. Чудовищная спесь Пселла – это тот выкуп, который платит артистическая натура за свой талант. Нетрудно заметить, что Рено конструирует образ средневекового писателя по шаблонной схеме «артистической натуры», особенно распространенной в начале нашего столетия.
Совершенно новую концепцию личности Пселла, его мировоззрения и места в истории византийской и мировой литературы предлагает П. Иоанну, опубликовавший ряд работ о писателе. В сравнении со своими предшественниками (Нейманн, Зервос, Рено) он располагает значительно большим материалом: собранием писем и речей, изданных в 1936–1940 гг., и многочисленными неопубликованными сочинениями.
Политическая изворотливость и моральная нечистоплотность, т.е. все то, что ставилось в вину Пселлу большинством биографов, Иоанну решительно называет легендой [211]. Опровержению этой «легенды» служит его статья «Пселл и Нарсийский монастырь» [214].
Непосредственная цель работы: показать, какую роль играл в жизни Пселла Нарсийский монастырь, и определить местоположение обители. Фактически же статья эта – краткая хроника жизненного пути писателя. П. Иоанну подчеркивает в биографии Пселла не те моменты, которые характеризуют его как циничного придворного интригана, а, напротив, те, в коих тот выступает в роли опального и гонимого. Особое одобрение Иоанну вызывает последний этап жизненного пути писателя. Пселл, по словам ученого, вел тогда истинно монашескую и достойную жизнь проповедника и наставника нравов. Но Иоанну не удалось развеять старую «легенду» о Пселле.
Представления о моральной ущербности, политической беспринципности Пселла настолько вошли в «плоть и кровь» многих новейших ученых, что Р. Анастази, например, основывает на них даже... свои датировки [124, ср. ниже, с. 181, прим. 5].
«Негативное» отношение к личности Пселла полностью разделяет и автор недавно изданной книги, посвященной византийскому чиновничеству в изображении Пселла, – Г. Вейс [313].
Краткий обзор оценок личности Пселла логично завершить упоминанием работы греческого ученого Е. Криараса, написанной в качестве статьи для энциклопедии Паули – Виссова, но опубликованной автором и отдельно [R.Е. Suppl. XI, col. 1124–1182; 226]. Являющаяся синтезом современного знания о византийском писателе, статья эта отражает и сильные, и слабые стороны «пселловедения». Привлекая богатый материал из произведений различных жанров и учитывая мнения большинства ученых XIX–XX столетий, Криарас стремится представить фигуру писателя во всех аспектах его частной, общественной, государственной, литературной, философской, религиозной деятельности. Осторожный исследователь, Криарас не принимает ни одной из крайних точек зрения: Пселл, по его мнению, прекрасный семьянин, хороший друг, большой ученый и талантливый писатель, но никуда не годный государственный деятель. Автор сожалеет, что такой человек напрасно растрачивал свои силы и к тому же дурно проявил себя в области, от которой ему следовало бы держаться подальше.238 Сомнительно, конечно, само право современного исследователя «рекомендовать» или «не рекомендовать» средневековому писателю те или иные формы деятельности. Но даже если допустить такую возможность, вряд ли можно представить себе Пселла вне политической деятельности – вероятно, это был бы уже не Пселл.
Личность Пселла, при всей относительной полноте собранных свидетельств и справедливости ряда замечаний, разбивается Криарасом на различные «аспекты», которые он оценивает с позицией вневременной морали.
Как мы видим, фигура Пселла вызвала немало взаимоисключающих оценок: в представлении разных авторов он то развращенный циник без признаков нравственности, то набожный учитель добродетели, то женственная артистическая натура, то сильная личность ренессансного типа. Причину разноголосицы следует искать прежде всего в различии исторических концепций, политических взглядов и нравственных убеждений ученых. Однако сочетание в одном человеке столь несовместимых качеств объясняется, безусловно, и своеобразием его личности.
<Проблеме, весьма волновавшей исследователей прошлых лет и касающейся нравственного лица и гражданского поведения Пселла, в последнее двадцатилетие уделялось внимания значительно меньше. Впрочем, редкий исследователь удерживался от искушения мимоходом упрекнуть Пселла в моральной ущербности или пресмыкательстве перед самодержцами и могущественными современниками (см., например, G. Dennis, 1994). Не избежал этого соблазна и я, стараясь объяснить своеобразие «малокорректного» поведения Пселла той моральной атмосферой, которая почти обязательно возникает в любом обществе авторитарного типа (J. Ljubarskij, 1992). Пожалуй, наиболее непримирим к Пселлу остался польский исследователь О. Юревич, имеющий также, кстати, опыт жизни при тоталитарном режиме. Пселл, по его словам, – доверенное лицо, императоров, наушник (а порою и больше) их супруг, всего достигший своей старательностью и бесстыдством. Ситуация при дворе сформировала в нем такие качества, как сервилизм, льстивость, подхалимство, бессовестность, хитрость и беспринципность. Все это напоминает, если не превосходит, характеристики П.В. Безобразова более чем столетней давности (О. Jurewicz 1984. S. 315, 318). В целом, однако, стремление «понять» явно превалирует у современных ученых над желанием «осудить» Пселла.
Как и прежде, исследователи не перестают выражать изумление, сколь быстро способен был Пселл менять свои убеждения и пристрастия, как скоро льстивые похвалы тем или иным людям могли сменяться в его сочинениях «гневными», а подчас и фантастическим осуждениями. Подыскивая объяснения и оправдания, ученые нередко ссылаются на житейские обстоятельства или прагматические соображения, которые могли заставить выдающегося писателя давать свободу столь «низменным» сторонам своей натуры. Характерный пример в этом отношении – одна из работ Р. Анастази, пытающегося как-то согласовать знаменитую обвинительную речь против Михаила Кирулария, где Пселл выступает в роли эдакого византийского Вышинского, с благостной эпитафией тому же патриарху (R. Anastasi, 1976). Подобные «бытовые» объяснения могут, безусловно, оказаться справедливыми в каких-то отдельных случаях, хотя то свойство Пселла, которое нередко именуется «протеизмом», – явление более общего и принципиального характера, еще ожидающее своего истолкования.>
* * *
Автор многочисленных научных и философских сочинений, «ипат философов» Михаил Пселл привлекал внимание исследователей в первую очередь как мыслитель и ученый. К. Сафа, первый получивший доступ к большому числу сочинений писателя, с восторгом характеризует Пселла как «островок образованности» в море невежества того времени, отмечает чрезвычайную любовь Пселла к наукам, видит его основную заслугу в возрождении в Византии эллинской мудрости и по философским воззрениям считает его платоником [1 (IV), с. XXXVI и сл.]. Выводы Сафы – не результат анализа философии Пселла, а лишь повторение того, что словоохотливый византийский автор нередко писал о себе сам. Однако такая или примерно такая характеристика с тех пор долго сопутствует имени Пселла в большинстве научных и популярных изданий. Особенно настойчиво исследователи подчеркивали пристрастие Пселла к философии неоплатоников и то, что он отдавал предпочтение полузабытому в Византии Платону перед признанным и почти канонизированным Аристотелем.
. Первым монографическим исследованием философии Пселла явилась упомянутая книга Ш. Зервоса «Михаил Пселл – неоплатоник XI в.» [319]. Пселл для французского ученого – отнюдь не «островок образованности в море невежества», а, напротив, сын эпохи культурного и интеллектуального подъема. «Македонский ренессанс» X–XI вв., по словам Зервоса, освободил искусство от сковывавших его догм, развил в человеке культуру чувства, принес с собой более «личную» и свободную интерпретацию античности, где люди стали искать идеал красоты и истины. Этими светскими тенденциями, по мнению Зервоса, оказались затронуты, кроме Пселла, не только насмешливый поэт Христофор Митиленский или историки Атталиат и Скилица, но и такие ярко выраженные христианские писатели, как Симеон Богослов, Никита Стифат и другие. Пселл – не оригинальный философ, он не высказывал новых идей, его заслуга в умении проникнуться духом прошлого. Неоплатоник в полном смысле слова, он стремился, однако, к созданию синтеза всех философских систем и всех культов, не исключая христианства.
Впрочем, христианское учение и теология в системе взглядов философа не занимают доминирующей позиции. Если Отцы церкви брали у неоплатоников лишь то, что согласовывалось с христианской догмой, то Пселл принимал неоплатонические взгляды в целом. Главное, что отличает Пселла от современных ему философов. – новый способ мышления. Предпосылки его философии имеют чисто научный, рационалистический характер; отсюда его преклонение перед разумом и отвращение ко всякой мистике и оккультизму.239 Если же Пселл иногда и обвинял языческую (древнегреческую) философию с ее рационалистическими основами в том, что для познания истины она недостаточно глубока, то делал это, лишь поддавшись обычному человеческому страху перед обвинениями в безбожии. Светское мировоззрение, ненависть ко всему, что сковывает человеческую мысль, «интеллектуальное язычество» приводят Пселла в вопросе оценки Платона и отношения к эллинской философии к конфликту с другими выдающимися умами эпохи.
Вышедшая в 1920г. книга Зервоса оказала большое влияние на последующих исследователей. В оценке творчества Пселла по сути те же мысли, только в еще более энергичных выражениях, развивает Дж. Хассей. Пселл – не оригинальный философ и последователь неоплатоников, но его рационалистические взгляды – полная противоположность клерикальным идеям того времени. Взгляды Симеона Богослова и Никиты Стифата и воззрения Пселла – это два полюса, символизирующие противоположность светского и клерикального мировоззрений [203, с. 72].240
Очевидно, результатом распространения оценок Зервоса на демонологические теории Пселла явилась и книга К. Свободы [296]. Рассматривая представления Пселла о демонах и их взаимоотношения с человеческим родом, чешский ученый ищет истоки этих взглядов у Прокла, Ямвлиха, Олимпиодора и других неоплатоников. Подобно Зервосу, Свобода подчеркивает рационализм мышления Пселла и его скептическое отношение к оккультным наукам и «халдейской премудрости». Свобода даже ставит под сомнение искренность заявления Пселла в «Хронографии», что он отказался от веры в оккультные науки «не с помощью науки, а благодаря вмешательству божественной силы». По мнению ученого, именно научный дух отвращает философа от халдейского оккультизма.
В самое недавнее время тема «Пселл и античность», но уже в ином повороте стала основной темой книги А. Гадолин о «Хронографии» [181]. Шведскую исследовательницу интересуют два аспекта взглядов писателя: его представления об историографии и обществе. Подбирая высказывания Пселла из «Хронографии» и сопоставляя их с мнениями античных авторов (от Гомера до Гермогена без всякой дифференциации!), А. Гадолин приходит к выводу о почти полной зависимости византийца от его античных предшественников. Посвященная историческим концепциям и использующая новейшую терминологию, эта работа сама представляет собой пример антиисторизма: каждый факт внешнего сходства безоговорочно принимается исследовательницей за совпадение позиций Пселла и античных писателей. Книга неудовлетворительна по своей методике и источниковедческой базе (многие источники цитируются из вторых рук) и, по существу, возвращает исследование Пселла на давно пройденные позиции.241
Таким образом, согласно оценкам ряда исследователей, взгляды Пселла были высшим выражением светских тенденций в византийской общественной мысли XI в. Открытие этих тенденций, да еще в таком крайнем воплощении, разбивало издавна установившееся мнение, что византийская философия представляла собой лишь комментированное изложение Священного Писания и сочинений Отцов церкви. Вместе с тем восхищение «проникнутым эллинским духом» Пселлом не давало возможности заметить действительную сложность и противоречивость его взглядов.
В то же время уже П. Безобразов настаивал на иной оценке мировоззрения писателя. Прежде всего он отказывался признать заслугу Пселла в восстановлении в правах философской системы Платона, полагая, что традиция Платона вообще никогда не прерывалась в христианской Византии. Более того, Безобразов не видел никакого своеобразия Пселла (сравнительно с другими средневековыми авторами) и в его отношении к античности: как и прочие византийцы, Пселл разделяет все античное наследие на «приемлемое» и «неприемлемое» для христианского мыслителя [65, с 162 и сл.]. Позиция Безобразова, являясь крайней реакцией на первые восторженные оценки «языческого философа», не нашла поддержки у исследователей. Лишь в последние десятилетия, когда изучение философии Пселла вышло за рамки общих суждений, все большее внимание стало заостряться на противоречивости и непоследовательности его взглядов, и созданный Зервосом и другими учеными образ «абсолютно светского» и даже «языческого» философа начал блекнуть.
Уже Биде нашел множество противоречий в воззрениях Пселла. «Представитель ренессансного духа», рекомендующий наблюдать за природой и порицающий своих оппонентов за малейшее отклонение от истины, вместе с тем резко выступал против тех, «кого заставила отклониться от строгой ортодоксальности их живая любознательность» (23, с. IX и сл.]. «Пройдет еще немало времени, – пишет К. Прехтер,242 – пока удастся постигнуть такую во всех своих проявлениях сложную и отливающую разными цветами натуру, как Пселл» [272, с. 12]. Немецкий ученый отмечает одновременное тяготение Пселла как к мистическому, иррациональному, так и к абсолютному научному решению проблемы иррационального.
По-иному объясняет необычное соседство христианского интуитивизма с явным стремлением к рационализму В. Вальденберг [70].243 Пселл требует строго научного «геометрического» метода в постижении истины, в чем византийский философ сходен со Спинозой. Однако в одной области рационалистическое познание оказывается для Пселла неприменимым. Это – теология («первая философия»), где возможно лишь внутреннее озарение, источником которого является божественная сила, Вальденберг указывает на то, что принцип познания истины (логическое доказательство или озарение свыше) для Пселла является основным критерием в классификации философских систем.
Таким образом, если, согласно Прехтеру, Пселл для объяснения иррационального применяет рационалистическое мышление, то, по мнению Вальденберга, философ строго подразделяет области рационального и иррационального.
Стремлением объяснить противоречия во взглядах Пселла проникнут и очерк, посвященный ему в «Истории византийской философии» Б. Татакиса [302, с. 161–210]. Поклонник античности и неоплатоник, Пселл жил в период подъема «эллинского духа» в Византии. Пселл – «великий и смелый, воплотивший в себе дух Ренессанса, создатель новой эпохи». Однако его величие – это величие эклектика и компилятора, который «отовсюду берет свое добро». Систематический анализ метафизики философа невозможен из-за ее ярко выраженного компилятивного характера. Пселл подвергает экзамену прошлое человечества и везде, даже в оккультных науках, ищет элементы, которые дали бы ему возможность создать синтез всех систем мысли. В этом отношении Пселл – дальний предшественник Лейбница. Высшая цель духовной деятельности человека, согласно Пселлу, – это постижение «первой философии» (теологии и метафизики). При этом всякое знание (в том числе и «эллинские науки») должно занять свое место на пути восхождения человеческой мысли к «первой философии». Вся греческая цивилизация для Пселла – подготовительная ступень к христианству, а кумир философа Платон и неоплатоники – «неосознанные» христиане. Таким образом, главное, что придает единство эклектической системе Пселла, – это стремление примирить эллинскую науку с догмами христианской религии. Однако и это единство весьма относительно: хотя Пселл и считает теологию главной наукой, способ, каким он использует эллинскую философию, показывает, что именно последней он отдает истинное предпочтение.
Главное, что берет Пселл из «эллинской мысли», – это ее рационализм и детерминизм. Как и эллинские мыслители, византийский философ видит в демиурге «внешнюю причину» и в то же время для каждого явления ищет «причину непосредственную». Однако причинность всего сущего вовсе не означает, что любая причина может быть познана. В этом утверждении Татакис видит проявление ограниченности рационализма Пселла.
Мы сочли нужным относительно подробно изложить оценки Татакиса потому, что они, включенные в общий очерк византийской философии, представляют собой синтез результатов, достигнутых в 20–40-е гг. Согласно этой утвердившейся концепции, неоплатоник Пселл, философия которого буквально соткана из противоречий, – ни в коей мере не самостоятельный мыслитель, но он сыграл неоценимую роль в истории византийской общественной мысли, ибо возродил «эллинский дух» и провозгласил светское направление в науке и философии.
Та же мысль в весьма определенной форме была выражена итальянским ученым Анастази в статье «Гуманизм Михаила Пселла» [126], уже название которой говорит само за себя.
Суждения о мыслителях прошлого зависят, разумеется, не только от того, что думали эти философы, но и от того, каких воззрений придерживаются их исследователи. Не случайно поэтому изложенная выше концепция подверглась критике со стороны ученых – византинистов католического направления. Еще в 1936г. в посвященной Пселлу статье в «Словаре католической теологии» М. Жюжи выступал против попыток представлять Пселла безбожником и утверждал, что в отношении к религии философ был типичным средневековым схоластом [216, с. 1149]. Пселл клялся в своей ортодоксальности и не мог быть гуманистом в позднем смысле этого слова, заявлял М. Михель в статье, опубликованной в сборнике, посвященном 900-летию разделения Церквей [250]. Однако свое полное выражение и историко-философское обоснование тенденция представить Пселла ортодоксальным мыслителем получила в работах П. Иоанну. Если в статье о Пселле и Нарсийском монастыре Иоанну оправдывал Пселла-человека, то в книге «Христианская метафизика в Византии» [212] он как бы «реабилитировал» Пселла-философа. «Чем выше культура, – декларирует Иоанну, – тем выше ее метафизическая мысль. Византия как страна самостоятельной культуры не могла не обладать и самостоятельным мировоззрением» [212, с. 4]. Некоторые ученые видят в Пселле прежде всего философа, «проникнутого эллинских духом», возродившего в христианской Византии эллинскую мудрость, Иоанну же ищет в Пселле самостоятельного мыслителя в вопросах метафизики. Он признает великолепное знание Пселлом античного наследия, более того, допускает, что византийский мыслитель пользовался отдельными методами древней философии, но в целом античность чужда византийцу. Такой, казалось бы, незыблемый для всех исследователей тезис, как неоплатонизм Пселла, греческий ученый подверг ревизии. Главное не то, на каких мыслителей древности опирался философ, а то, как он использовал их теории. При всем внешнем сходстве Пселла с древними (особенно неоплатониками), решения, которые он предлагал для основных философских проблем, были не языческими, а христианскими (сравним мнение Прехтера, что Пселл даже к решению проблем иррационального подходил с рационалистических позиций!). Итак, добрый христианин в жизни, Пселл и в философии был вполне ортодоксальным мыслителем, создателем оригинальной метафизической системы.
Стремясь лишить взгляды Пселла античных корней, Иоанну подверг новому рассмотрению (после специальных исследований Свободы и Биде) и демонологические теории философа и не нашел причин возводить их к воззрениям неоплатоников: все необходимые «сведения» о демонах Пселл мог почерпнуть в византийской литературе (главным образом в «Житиях святых») [213].
Новая позиция, которую занял в оценке философского наследия Пселла П. Иоанну, вызвала решительные возражения Иванки [205]. Автор рецензии категорически отрицает самостоятельность философских воззрений Пселла, считая, что все «новаторство» византийской философии вообще сводится лишь к оживлению тех или иных отвергнутых философских понятий древности.
В статьях Л. Бенакиса [141; 142] точка зрения Иоанну на философию Пселла нашла не только одобрение, но и дальнейшую разработку. Исследуя неизданный комментарий Пселла к «Физике» Аристотеля, Бенакис приходит к выводу, что византийский философ глубоко и объективно излагал воззрения древнего мудреца. Последняя из работ Бенакиса касается уже собственных суждений Пселла. Основной вывод ученого: самостоятельность позиции византийского мыслителя в решении основных философских проблем, поставленных в «Физике» Аристотеля. В отличие от античного философа, природа для Пселла не является «самостоятельным принципом», а есть сила, привносимая в предметы извне божественной волей. Специально изучая содержание использованных Пселлом понятий νοῦς, ψυχή, φύσις, Бенакис считает, что Пселл трактует их иначе, нежели Аристотель и неоплатоники. Ученый полностью солидаризируется с П. Иоанну в том, что сходство Пселла с неоплатониками имеет чисто внешний характер.
В несколько ином направлении развивает идеи П. Иоанну греческий исследователь Д. Дакурас [163]. Пселл – «самостоятельный мыслитель», который с большой свободой обращается с теориями и античных философов, и христианских теологов. По своему мировоззрению Пселл – философ и теолог византийского средневековья, полемизирующий с античными представлениями и принимающий их (только частично!) лишь в тех случаях, когда обнаруживает в них зерна истины или намек на христианские идеи.
Как можно было убедиться, Пселл-мыслитель вызвал не менее противоречивые оценки, чем Пселл-человек.244 Он оказывался страстным поклонником античности и заурядным средневековым схоластом, вольнолюбивым светским мыслителем и ортодоксальным христианином, старательным компилятором и создателем оригинальной метафизической системы. Многообразие мнений – далеко не только результат исходных позиций исследователей.
<По-прежнему разнообразны оценки места Пселла в истории византийской общественной мысли. Как всегда, они в значительной мере зависят от собственных взглядов и позиций исследователей. Представление о Пселле – в первую очередь благочестивом христианине, свойственно, как и прежде, главным образом ученым из церковных кругов. Однако фигура выдающегося писателя настолько выходила из рамок строгих православных предписаний, что подобные однозначные определения встречаются редко, хотя никто из исследователей еще не выражал сомнений в глубокой религиозности Пселла (D. Gemitti, 1983; D. Gemitti, 1984; Михаил Пселл, 1998).
Давая двадцать лет назад своей книге подзаголовок «К истории византийского предгуманизма», я испытывал немалые сомнения: ясно, сколь опасно применять такие понятия, как гуманизм или Ренессанс (даже с осторожной приставкой «пред»), к цивилизации, никогда их не пережившей. Однако за прошедшие двадцать лет оба эти понятия в представлении исследователей настолько срослись с фигурой Пселла, что даже авторы общих монографий используют их в применении к писателю уже без всяких оговорок. М. Анголд, например, полагает, что основным объектом интереса Пселла был человек, и именно это оказалось «основой пселловского гуманизма» (М. Angold, 1984).
Схожие оценки можно найти в нашей отечественной «Культуре Византии», где лестные для меня почти текстуальные совпадения с моими характеристиками весьма часты (Культура Византии, 1989, с. 104 сл.). Ныне Пселл уже не только возводится в ранг предшественника Ренессанса (в том числе и западного!) (см. С. Nearchos, 1981, р. 135; С. Nearchos, 1982, р. 226), но без обиняков причисляется к «выдающимся гуманистам и свободомыслящим людям своего времени» (D. Gemetti, 1983; U. Criscuolo, 1981) и даже именуется «одним из наиболее значительных интеллектуальных лидеров средневековья» (М. Kyriakis, 1976–1977, р. 185).
Как и раньше, исследователей весьма занимает проблема «Пселл и античность». И здесь ученые отмечают парадоксальность позиции Пселла, который неоднократно декларировал «утилитарное» отношение к древности (христианин может брать из античности лишь то, что согласуется с православным учением) и в то же время отличался едва ли не ренессансной любовью к наследию древних. Знаменательно в этом отношении появление в журнале Theologia двух статей одного и того же автора: Д. Дакураса, первая из которых носит название «Критика Пселлом древних греков и греческой религии» (D. Dakouras, 1977), вторая – «Реабилитация древнегреческих штудий в XI в. и Михаил Пселл» (D. Dakouras, 1978). Интересные рассуждения по этому поводу принадлежат У. Крискуоло в связи с анализируемой им «Эпитафией Лихуду» (U. Criscuolo, 1982, р. 214 sq.).>
<Уже на стадии корректуры настоящего издания в мое распоряжение попала любезно присланная автором книга А. Калделлиса (A. Kaldellis, 1999), целиком посвященная «Хронографии» Михаила Пселла, воспользоваться которой я уже не успел. Следует отметить, что ряд наблюдений моего американского коллеги удивительным образом совпадают с моими. (Я никак не могу обвинить в плагиате автора: А. Калделлис совершенно не использует научную литературу, если она написана по-русски) Однако в выводах своих исследователь идет намного дальше не только меня, но и любого ученого, когда-либо писавшего о Пселле. А. Калделлис пытается восстановить политическую философию Пселла и уже в предисловии заявляет, что герой его книги отнюдь не полигистор и интеллектуальный дилетант, а серьезный философ, вовсе не неоплатоник, как обычно считается, а последователь Платона, что его политическая и философская мысль была революционной для того времени и совершенно антихристианской. Эти идеи последовательно проводятся через всю книгу, причем фигура Пселла постоянно сопоставляется с Макиавели. А. Калделлис идет настолько далеко, что дальнейший путь в избранном им направлении кажется уже закрытым. Анализ хорошо написанной и интересной книги А. Калделлиса и системы его доказательств требует специального разговора, думается, однако, что ученый противоположного направления, пользуясь похожими приемами был бы в состоянии написать книгу, представляющую Пселла в виде богобоязненного христианина, вынужденного играть роль светского балагура при дворе жизнелюбивых императоров типа Константина Мономаха. Автор совершенно правильно выступает против практики подбора «нужных» цитат, но на самом деле подчиняет всю свою аргументацию наперед заданной схеме, стараясь так или иначе обойти или истолковать в нужном ему смысле неудобные для него пассажи. И в данном случае Пселл оказался много сложней и многообразней своего комментатора! Можно ли вообще описать личность и мировоззрение Михаила Пселла в непротиворечивых терминах?>
* * *
Пселл принадлежал к числу писателей, которые часто и охотно декларировали свои взгляды и суждения, откровенно говорили о своем характере и привычках. Однако обилие материала не облегчает работы исследователя. Ученый, придерживающийся в оценке Пселла любой точки зрения, без труда может увеличить число аргументов в защиту своей позиции. Остановимся, к примеру, на самой спорной и важнейшей для оценки Пселла проблеме: кем был писатель – ортодоксальным мыслителем и скромным христианином, как утверждает П. Иоанну, или вольномыслящим философом и светским человеком, как полагают Зервос и его сторонники.
В свое время Безобразов отмечал, что Пселл старательно разделяет «эллинскую мудрость» на приемлемое и неприемлемое для христианина. Особую похвалу писателя заслуживает Иоанн Ксифилин за то, что он разграничил «не нашу» (т.е. эллинскую) философию на две части и одну из них «выплевывал как яд», а другую «принимал как пищу» [1 (IV), с. 456. 26 и сл.]. Вообще все эллинские учения следует, по Пселлу, перетолковать на христианский лад. «Если вы сделаете это, – обращается он к своим нерадивым ученикам, – то подобно морякам из горького моря добудете питьевую воду... вы вознесете свои души на высоту горьких эллинских учений и издаваемую ими грубую мелодию превратите в приятную и легкую, и из крайней струны польется сладкозвучная песня» [22, с. 152–153]. Напрасно Зервос, защищая идею «светского Пселла», утверждает, что философ нигде не отдает предпочтения теологии перед другими науками. Как и для всего Средневековья, философия для Пселла ancilla theologiae [см. 16 (II), с. 124]: «Мы и философию определяем с позиций богословия». Сам Пселл, по собственным словам, наибольшее внимание уделял изучению Священного Писания [20(1), с. 138]. Философ спешит заверить, что хотя он и изучал все науки, но никогда не пользовался теми из них, которые отвергаются богословами [20 (II), с. 77. 12].
В сочинениях Пселла нетрудно найти высказывания, свидетельствующие об общей теологической концепции мира у философа. «Все в жизни зависит от божественного промысла и решения, и ничего нет неразумного и неопределенного. За всем следит неусыпное око, которое щедро воздает за земные лишения и страдания», – утешает он ослепленного Романа Диогена [1 (V), с. 317. 5 и сл.]. Ср.: «Не по нашей воле происходят события, но есть некая иная высшая власть, которая по своей воле направляет жизнь» [20 (I), с. 152. 2 и сл.].
«Философ-рационалист и сторонник чисто научных методов», по определению большинства исследователей, Пселл заявляет в «Хронографии»: «Я называю философами не тех, кто исследует сущность вещей и ищет основы мира, пренебрегая основами своего спасения, но тех, кто презрел мир и живет со ставшими выше его» [20(1) с. 73. 15 и сл.]. Совершенно недвусмысленно Пселл провозглашает идеалы аскетической жизни вдали от мира. Неоднократно в его письмах высказывается желание вести монашескую жизнь и сожаление о тихом монастырском бытии. С особым благоговением описывает он в энкомии матери аскетическое подвижничество Феодоты, превратившейся к концу жизни почти в бесплотный дух.
Портрет «богобоязненного христианина» дополняют многочисленные пассажи из сочинений, где автор старается представить себя в виде смиренного, сознающего свое ничтожество человека. «Не возноси меня в письмах своих, – обращается он к адресату, – не тщись доказать, что я, лишенный мудрости, ничтожный червь среди людей... выше тебя, истинного мудреца и ученого» [16 (II), с, 25: ср. 22, с. 171 и сл.; 1 (IV), с. 338; I (V), с. 372; 16(11), с. 58].
Приведенные нами примеры можно легко умножить. Следует, однако, остерегаться принимать законченный и искусно нарисованный облик ортодоксального христианина за истинное лицо Пселла. Достаточно беглого чтения нескольких его произведений, чтобы увидеть иного Пселла. Сейчас, после работ Зервоса и его сторонников, излишне приводить многочисленные высказывания писателя о его страсти к науке и образованности, о том глубоком почтении, которое он испытывал перед античной культурой. Кроме того, сами по себе эрудиция в античном наследии и его использование в эпоху после Фотия не были чем-то необычным. Интересней другое: эмоциональное отношение философа к античной древности. Как для эллинофила любой эпохи, географические античные названия звучат для Пселла словно музыка. «Ты любишь не только сами Афины, но и афинские названия, звучание которых подобно музыке», – пишет Пселл человеку, влюбленному в древний город и обратившемуся к философу с вопросами о его географии [22, с. 44]. Подобно западным гуманистам, Пселл нередко сопоставляет окружающую его действительность с античными образцами и в них ищет эталоны для своих оценок. Причем современность кажется философу явной деградацией по сравнению с древностью. «Как и во многом другом, – пишет Пселл протаскириту Епифанию Филарету – не повезло нам с панафинеями и панэллениями, нет у нас ни Перикла, ни Фемистокла; варварский язык, прежде находившийся в загоне, ныне расцвел...» [1 (V), с. 431. 4 и сл.].
Определенное свободомыслие проявляет Пселл и в самом кардинальном для любого христианского философа вопросе о роли божественного промысла в человеческой жизни.
Уже Татакис отмечал, что Пселл отводил демиургу роль лишь «внешней причины» и придавал большое значение «причинам непосредственным». На самом деле Пселл точно разграничивает сферу действия промысла и свободной человеческой воли: «Не все находится в нашей власти, не все делается по нашей воле, мы зависим не только от свободного выбора. Есть иная, высшая сила, влекущая нас... нами движут два начала: Промысел и свободный выбор. Где сопутствуют то и другое, иногда достаточно и одного Промысла.
Я говорю здесь о свободном выборе, который движет нас к благу и осиливает противоположное [благу]» [I (IV), с. 444. 29 и сл.].
Свободный выбор человека играет, следовательно, весьма существенную роль, и действие божественного промысла может полностью осуществиться лишь в тех случаях, когда ему соответствует направленный ко благу свободный выбор. При таком толковании становится ясным и другое высказывание Пселла, касающееся интересующей нас проблемы: «Я склонен приписать божественному Провидению управление значительными событиями, более того, я отношу за его счет и все остальное, если только наша природа не извращена» [20 (I), с. 71. 18 и сл.]. Иначе говоря, ход событий целиком определяется промыслом лишь тогда, когда этому не противодействует извращенная человеческая природа, свободный выбор которой, прибавим мы на основе предыдущих слов писателя, направлен ко злу. В житейской морали и практическом поведении Пселл также склонен преувеличивать роль божественной воли. Он приписывает себе, например, следующие увещевания, обращенные к Константину IX, который целиком полагался на божественную защиту и отказывался принимать какие бы то ни было меры предосторожности: «Никто из них (имеются в виду архитектор, кормчий и военачальник. – Я.Л.) не отказывается от упований на Бога, но один строит согласно правилам, другой направляет корабль кормилом, а люди военные носят щиты и вооружены мечами...» [20(11), с. 34. 27 и сл.].
Допустив несколько тенденциозный подбор высказываний и самооценок, мы привели примеры разительных противоречий во взглядах и характере писателя. Список подобных противоречий, касающихся уже более частных вопросов, можно было бы легко продолжить.
В свое время обилие сочинений на самые неожиданные темы заставляло ученых высказывать догадки, что существовал не один, а несколько писателей, носящих имя Пселл. Чрезвычайная пестрота взглядов, мнений и обликов, в которых Пселл является своему читателю, способна вызвать подозрение, что подобное многообразие не может заключаться в одном человеке. Порой создается впечатление, что Пселл – личность без внутреннего ядра, что в нем заложена возможность почти к бесконечному перевоплощению, что в принципиальном отсутствии твердой позиции и состоит позиция писателя. Такие фигуры, как известно, закономерное явление в условиях деспотии, когда подлаживание под чужие взгляды и вкусы оказывается единственным надежным средством удержаться на поверхности. Склонный подчас к откровенным излияниям (а искренность для писателя – тоже своего рода позиция), Пселл сам не раз говорит о необходимости постоянного приспособления к власть имущим.245
Непрерывное притворство и видоизменение, своеобразный «протеизм» – не только практическая житейская позиция неразборчивого в средствах царедворца, но и своего рода теоретический фундамент многих этических, философских и литературных взглядов Пселла (см. ниже).
Представления о принципиальной изменчивости и непостоянстве человека имеют поддержку и частично происхождение в теории и практике позднеантичной и византийской риторики, восходящей в конечном счете ко второй софистике с ее абсолютным релятивизмом. Принцип относительности, распространенный на моральные и нравственные категории, полностью оправдывал возможность выражения взаимоисключающих суждений.
Ван Дитен, рассуждая в этой связи о Никите Хониате, утверждал, что в применении к ритору вопрос о морали вовсе не может ставиться, поскольку переменчивость предписана ему самой риторикой [167, с. 53].
Сказанное выше способно породить известный скептицизм при оценке возможности из массы противоречивых высказываний вывести какое-то представление о собственном мировоззрении Пселла. Пестрота мнений, однако, лишь затрудняет работу исследователя, заставляет его решительно отказаться от наиболее распространенного и наименее надежного метода – подбора цитат на ту или иную тему.
Видимо, суждения и самооценки византийского ритора сами по себе в данном случае имеют минимальное значение. Они начинают играть роль только в сопоставлении друг с другом и – что еще важнее – с образами и мнениями его современников и предшественников. Иными словами, их значение для исследователя должно быть не абсолютным, а функциональным, «система» в материале, кажущемся бессистемным, может возникнуть лишь при сопоставлении с иными системами. В этой связи априори можно предложить несколько методов изучения личности Пселла, частично уже нашедших отражение в прошлых исследованиях. Целесообразно, например, установить место Пселла в истории философии, соотнеся его взгляды с воззрениями других мыслителей (начало этому положено в трудах Татакиса, Вальденберга, Бенакиса и др.). Весьма продуктивным оказывается сопоставление общественно-политических, религиозных и иных воззрений Пселла с суждениями его современников (весьма интересный в этом плане опыт содержится во вступительной статье Г. Литаврина к изданию «Стратегикона» Кекавмена [33, с. 92 и сл.]). Очень важно гораздо детальнее, чем это было сделано, проследить политическую карьеру и жизненный путь Пселла и т. п. Эти аспекты, безусловно, найдут своих исследователей.
В настоящей работе, однако, предложен иной метод проникновения в личность и мировоззрение писателя: Пселл рассматривается в многообразных отношениях с современниками. Исследование такого рода, довольно обычное для литератур Нового времени, в применении к литературам древним и средневековым почти не проводилось, – видимо, из-за скудости материала. Пселл в этом отношении – счастливое исключение. Эпистолярное наследие, оставленное им, огромно.
Только во взаимоотношении с окружающим миром, и в первую очередь в отношениях с людьми (личных и общественных, первые постоянно переходят во вторые, и наоборот), человек реализует и проявляет вовне свою сущность. Сопоставление Пселла с его современниками, выявление сходств и различий, должно помочь определить функциональное значение качеств Пселла и его взглядов, столь по-разному оцениваемых исследователями писателя. Для достижения поставленной цели личность Пселла придется рассматривать в ее отдельных проявлениях, разбив все исследование на ряд самостоятельных очерков. Автор, однако, надеется, что «рассечение» образа Пселла будет иметь только вспомогательное значение и в конце концов приведет к созданию более или менее цельного представления о выдающемся византийском философе, писателе и государственном деятеле.
Предложенный метод имеет свои трудности. Прежде всего, картина отношений Пселла с современниками базируется в подавляющем большинстве случаев на данных самого Пселла и потому не может не быть односторонней. Во-вторых, с источниковедческой точки зрения письма и вообще произведения Пселла изучены чрезвычайно слабо, и потому каждый очерк приходится предварять определенным разделом, в котором мы пытаемся датировать различные сочинения, главным образом письма, или определить их адресатов.
Прежде чем начать «рассечение» личности Пселла, изложим в самой краткой форме его биографию. Сделать это необходимо потому, что на биографические факты нам придется ссылаться постоянно, а изучены они недостаточно и трактуются подчас по-разному, иногда вовсе фантастично.
Глава 2-я. Биография
Излагая жизненный путь Михаила Пселла, мы ни в коей мере не претендуем на создание образа писателя, наша цель – уточнить отдельные, часто мелкие, факты его биографии, чтобы в дальнейшем датировать и правильнее охарактеризовать произведения Пселла, понять мотивы его действий в разных ситуациях.
Биография Михаила Пселла известна и хорошо, и плохо. В отдельные периоды мы можем проследить жизнь писателя буквально по месяцам. Но, например, смерть Пселла датируется разными исследователями с диапазоном в 20 лет!
Михаил Пселл (светское имя Константин или Констант246) родился в 1018г.247 О месте рождения Пселла и поныне высказываются противоречивые суждения (вопрос этот отнюдь не праздный, как мы увидим далее). Сам Пселл называет своей родиной Константинополь [1 (V), с. 5. 26; с. 339. 2; 16 (II), с. 225. 9]248. Однако отождествление Пселла с ипертимом монахом Михаилом из Никомидии, о смерти которого упоминает Атталиат (см. ниже), побудило ряд исследователей249 считать писателя выходцем из Никомидии. Естественно, однако, что никакие отождествления не могут заставить игнорировать неоднократно повторенное утверждение Пселла о его константинопольском происхождении.
В одном из писем [1 (V), с. 378. 25–27] Пселл точно указывает, что он родился около Нарсийского монастыря. Но П. Иоанну, посвятивший специальную статью роли Нарсийского монастыря [214, с. 289] в жизни писателя, считает почему-то, что Пселл родился непосредственно в этой обители и ассоциирует ее с дважды упомянутым писателем монастырем Красивого источника [см. 16 (II), с. 199.17; с. 272. 7]250. Иоанну, однако, не учитывает данных недавно опубликованного энкомия Николаю [10]. Этот Николай был игуменом монастыря Красивого источника на Вифинском Олимпе; там же, видимо, находился некоторое время и Пселл. Об этой обители скорее всего и идет речь писателя. Она ничего общего, кроме названия, и то частично, не имеет с константинопольским Нарсийским монастырем, возле которого родился Пселл.251
Мать Пселла – Феодота [1 (V), с. 46. 3] происходила, видимо, из семьи не слишком высокого ранга [1 (V), с. 5. 13], ее родители – дед и бабка Пселла, дожив до преклонных лет, умерли примерно в одно и то же время [1 (V), с. 6. 1–2] – не ранее 40-х годов XI в. (дед Пселла упоминается в числе живых в период, когда потерявшая мужа и дочь Феодота предается аскетической жизни [1 (V), с. 44. 2–3]). Что касается отца писателя, то он принадлежал чиновному, но пришедшему в упадок роду, среди его предков упоминаются ипат и патрикии [1 (V), с. 9. 28]. Пселл – третий ребенок в семье. Из двух его старших сестер первая умерла, когда будущему писателю было 16 лет [1 (V), с. 28. 21].252 Отец Пселла умер вскоре после смерти дочери253 мать дожила до 1054г. (см. ниже).
Школьное обучение Пселла разделялось на три этапа. Пяти лет [1 (V), с. 12. 3] он был отдан в школу, где его наставлял учитель грамматики, в задачу которого входило обучение элементарной грамоте. Когда мальчику исполнилось восемь лет, родственники сочли его обучение законченным, но по настоянию матери он продолжил образование, выказав при этом блестящие способности [1 (V), с. 12. 12 и сл.]. О себе, 16-летнем, Пселл говорит: «Я только что прекратил слушать поэмы [Гомера] и с наслаждением погрузился в искусство слова» [1 (V), с. 28]254 Об этом же периоде своей жизни сообщает Пселл и в эпитафии своему соученику, а позднее коллеге по «университету» Никите:255 «Со временем моя страсть к учению все увеличивалась, и я прежде всего заинтересовался риторикой (философия сделалась предметом моих занятий позже). Поэтому я пошел искать того, кто стал бы наставником в моих занятиях. И я нашел, но не кого хотел, а того, кого почитало в то время юношество» [1 (V), с. 88. 25 и сл.].
Из сопоставления этих высказываний ясно, что в возрасте примерно 16 лет Пселл начинает третий и последний этап своего обучения – занятия риторикой. При этом он обращается к новому учителю – ритору. Этим новым (уже третьим!) учителем должен быть известный ученый и педагог того времени Иоанн Мавропод.256
Последняя («риторическая») ступень образования Пселла могла длиться примерно три года [144, с. 11].
Около 1037–1038гг. Пселл. видимо, покидает школу Мавропода. Начинается долгий и полный событиями путь писателя и государственного деятеля. Осенью 1041г. Пселл находился в толпе константинопольцев, встречавших Михаила IV, который возвращался из болгарского похода [20 (I), с. 82]. В короткое царствование Михаила V (1041–1042) Пселл уже императорский секретарь и даже участвует в выходах василевса [20 (I), с. 103].
Что делал Пселл в период между 1037–1038гг. (время окончания школы) и 1041г.? Относящиеся к этой поре свидетельства несколько противоречивы и не поддаются точному распределению во времени. Из слов Пселла можно заключить, что во второй половине царствования Михаила IV будущий писатель был в Константинополе, состоял там на государственной службе и даже занимал определенное положение: он сам принимал участие в событиях царствования Михаила IV [20 (I), с. 75] и уже в то время, когда у него «только начинала расти борода»257, часто видел и слышал всесильного временщика Иоанна Орфанотрофа, был его сотрапезником на пирах [20(1), с. 59. 2 и сл.].
От этого времени сохранилось короткое стихотворное послание Пселла к императору, содержащее просьбу о назначении его на должность нотария [16 (I), с. 49], а также чрезвычайно интересное письмо неизвестному лицу с описанием тяжкой доли асикрита [1 (V), № 13]258
Вместе с тем, по другим свидетельствам, примерно на эти же годы падает пребывание Пселла в провинции. Уже немолодой Пселл в письме к какому-то судье Филадельфии с умилением вспоминает, как он, только «выйдя из юношеского возраста»,259 еще безусый, по пути в Месопотамию проезжал через Филадельфию [1, (V), № 180],260 город, где он позже исполнял судейские функции. Из этих слов можно заключить, что Пселл какое-то время был судьей Фракисийской фемы.261
Должность судьи Фракисия – не единственный пост, который Пселл занимал в провинции. Согласно свидетельству одного письма, в течение разбираемого нами четырехлетнего периода будущий любимец императоров был также судьей и в феме Вукелариев.262 В какой последовательности Пселл исполнял свои судейские обязанности, остается неясным. Ко времени пребывания Пселла в провинции (в Вукелариях или Фраксии, неизвестно) относится его жалобное письмо к бывшему соученику с описанием испорченности местных жителей, чьи споры должен был разрешать молодой судья [16 (II), № 11].
Итак, четыре года, прошедшие между окончанием курса наук и 1041г. (когда, согласно свидетельству, Пселл находился на должности императорского секретаря), были весьма богаты событиями для начинающего свою карьеру ученого.
Следующий этап его жизни, совпадающий с периодом правления Константина Мономаха (1042–1055), хорошо освещен в научной литературе. Остановимся на главных событиях.
Сразу же после воцарения Константина Пселл был по рекомендации друзей (возможно, Константина Лихуда) введен в синклит, удостоен должности протасикрита263, посвящен во все – явные и тайные – государственные дела [20 (I), с. 124]. Восхищенный красноречием молодого философа [20 (II), с. 31], император постоянно советуется с Пселлом, который сопровождает его в военных кампаниях [20 (II), с. 22] и даже оказывается в роли поверенного в интимных делах.
В это же время Пселл достигает ранга первого ученого и ритора в государстве и назначается ипатом философов. Назначение это связано с крупнейшим событием в культурной жизни Византии XI в. – открытием так называемого Константинопольского университета, а по сути дела двух отдельных школ: юридической и философской. Попытки точно определить дату основания университета, к сожалению, пока не приводят к надежным результатам. По традиции повторяемая в трудах общего характера дата 1045г. подвергнута сомнению А. Салачем, с которым солидаризировлась Е.Э. Гранстрем [77 (II), с. 460].
Об открытии университета рассказывается главным образом в двух источниках. В одном из них – энкомии Пселла Иоанну Ксифилину [1, (IV), с. 433] говорится о борьбе, развернувшейся между «юристами» и «философами». Первые ратовали за открытие юридической школы во главе с Иоанном Ксифилином, вторые хотели школу философскую и Пселла – в качестве ее шефа. Император решил удовлетворить обе партии и приказал организовать две разные школы. Хронологических указаний в этом сообщении Пселла нет.
Другое свидетельство принадлежит Мавроподу: это указ, написанный им от лица Константина Мономаха и касающийся учреждения юридической школы и назначения на пост ее главы номофилака Иоанна Ксифилина.264 Более или менее точных хронологических указаний здесь не содержится, если не считать сообщения о том, что Мономах «покончил с внешними войнами и внутренними волнениями» [52, № 6]. Поскольку внешние и внутренние неурядицы в правление Мономаха почти не прекращались, этот исторический намек не может быть хронологически расшифрован. Более твердую почву для датировки дает краткое сообщение Михаила Атталиата, согласно которому Мономах, «завершив это сражение (имеется в виду сражение с русскими летом 1043г. – Я.Л.), пользовался покоем, с радостью принялся за государственные дела и учредил “мусей юриспруденции”» [50, с. 27]. Вслед за этим сообщением Атталиат переходит к рассказу о подавлении восстания Льва Торника осенью 1047г. Таким образом, учреждение университета – и тем самым назначение Пселла ипатом философов – по Атталиату (рассказ этого историка в большинстве случаев выдержан хронологически) следует датировать временем между 1044–1047гг.265
Важным представляется вопрос о титулах, обладателем которых стал Пселл в царствование Константина Мономаха. В ряде источников писатель именуется ипертимом [55, с. 145.15; 59, с. 708]. Тот же титул приписан Пселлу и в леммах некоторых его произведений («Речь к императрице Феодоре» [16, (I), с. 1]; «Против Савваита» [16 (I), с. 220]; «Ямбы на смерть Склирины» [16 (I), с. 190], в последнем случае только по одной Парижской рукописи) и других. Первые два из упомянутых сочинений написаны до 1057г., последнее в 1044г. – год смерти Склирины. Возможность добавления титула позднейшим переписчиком в этом произведении исключена по следующей причине: в лемме Парижской рукописи Пселл назван не своим монашеским именем Михаил, а светским – Константин, которое в то время он носил.266 1044г., таким образом, должен служить terminus ante quem для получения титула Пселлом267. В документе, датируемом летом 1054г., Пселл назван вестархом268, [58, с. 166]. Однако время получения этого титула определить невозможно. До того как стать вестархом Пселл был, видимо, вестом, последний титул зафиксирован в двух письмах писателя [1 (V), с. 332.29, с. 334.9].
Мономах не только возвышает, но и обогащает своего любимца. Уже в начале правления император дарит Пселлу дом [20 II), с. 142]. Специальным хрисовулом отдает ему во владение василикат Мадит в области Авидоса269 [1 (V), № 142, 165; 16 (II), № 1, 64]. Тогда же писатель получает на правах харистикария [см. 16 (II), с. 137] три монастыря на Вифинском Олимпе в феме Опсикия: Келлийский, Кафарский и Мидикийский. Об этих обителях Пселл неоднократно пишет судье фемы, требуя от него не нарушать права монастырей, прося оказывать всевозможные льготы монахам и т. п. [1(V), № 29; 16 (II), № 108, 140, 200].270
В некоторых случаях Пселл проявляет незаурядную практическую сметку, собираясь, например, вложить деньги в небогатую Мидикийскую обитель, освободить ее от долгов, произвести хозяйственные усовершенствования и в результате получить прибыль. Вообще значительная часть всех владений Пселла, была, видимо, расположена в Опсикии. Новому судье этой фемы Пофосу, занимавшему этот пост в начале 70-х годов (см. ниже), Пселл сообщает, что он и еще двое людей собираются платить взнос за некий Трапезийский монастырь [16 (II), № 38]. Какие-то отношения связывают писателя с жителями села Ацикоми той же фемы. Последние производят для него «сельские работы». Пселл же в качестве компенсации заступается за них перед судьей [16 (II), № 99; ср. 16 (II), №39]. Пселл был также харистикарием монастырей, расположенных в феме (области?) Волеро на Балканах [см. 114, с. 119–121] и вблизи Константинополя.271 В целом собранные факты дают внушительный материал и представляют Пселла весьма крупным харистикарием. При этом писатель явно не отличался умеренностью и бескорыстием и, видимо, постоянно добивался передачи себе новых владений. В весьма бесцеремонном, хотя и игривом тоне требует он себе у кизичского митрополита Романа Мунтанийский монастырь.272 Весьма недоволен Пселл и тем, что солунский митрополит не выполнил своих обещаний и не отдал ему во владение бедный монастырь Довросанта [16 (II), № 29, PG, t. 122, col. 1165 sq].273 Процесс обогащения, активно начавшийся при Константине Мономахе, продолжался в течение всей жизни Пселла.
В начале 40-х годов XI в. Пселл уже женат, как он утверждает, на женщине царского рода [1 (V), с. 63. 26–27].274 Родившаяся от этого брака Стилиана умирает не позднее начала 50-х годов в девятилетием возрасте. <М. Кириакис датирует смерть Стилианы 1053/54 годами (М. Kyriakis, 1977, р. 158). Ученый публикует в английском переводе эпитафию Стилиане.> После ее смерти Пселл берет приемную дочь, которую в 1053г. обручает с неким Элпидием.275 В конце 30-х годов умирает отец Пселла,276 а во второй половине 1054г. – мать.
Примерно в конце 40-х годов для Пселла и его друзей складывается неблагоприятная ситуация при дворе. Был отстранен от власти и заменен евнухом Иоанном «первый министр» Константин Лихуд277 [20 (II), с. 66]. Пселл, Ксифилин и Мавропод уже не чувствуют себя в безопасности вблизи переменчивого царя Константина Мономаха. Еще раньше друзья договорились в случае грозящей опасности принять монашество и покинуть столицу. Ксифилин и Мавропод выполняют обещанное и выезжают из Константинополя, и лишь один Пселл задерживается при дворе, при этом он умудряется сохранить за собой определенное влияние на царя. Именно в этот период получает он во владение монастыри и к тому же чувствует в себе достаточно сил, чтобы заступаться за отправившегося в почетное изгнание Мавропода (см. ниже).
В середине июля 1054г. Пселл находится среди послов, передающих императорское послание патриарху Кируларию. Вскоре после этого, несмотря на активное сопротивление Константина Мономаха [20 (II), с. 67 и сл.], писатель становится монахом278, однако остается в Константинополе и покидает его только после кончины императора в январе 1055г. [1 (IV), с. 441]. Пребывание на Вифинском Олимпе, где Пселл монашествовал в монастыре Красивого источника, длилось весьма недолго. В «Хронографии» писатель сообщает, что новая императрица Феодора призвала его к себе «тотчас» после своего утверждения на престоле [20(H), с. 78.13]. Пселл-монах вновь начинает играть заметную роль при дворе, хотя и подвергается из-за этого нападкам окружающих [20 (II), с. 78]. В августе 1056г., перед самой кончиной императрицы, он участвует в процессе против Элпидия Кенхри, обрученного с его приемной дочерью, но не оправдавшего надежд будущего тестя [193 (I), с. 84 и сл.; ср. 239, 238].
В короткое царствование Михаила VI Стратиотика (август 1056 – сентябрь 1057) Пселл – вновь весьма влиятельная персона, именно ему, наряду с Лихудом и Алопом, поручается миссия умиротворения мятежного Исаака Комнина [20 (II), с. 91 и сл.]. Последний, придя к власти, удостоил писателя «высших почестей» и возвел его в сан проэдра [20(II), с. 110. 5; 1 (V), с. 357.30, ср. 1 (V), с. 423.3, с. 352.6].279 В конце царствования Исаака Комнина, в период его смертельной болезни, Пселл играет одну из первых ролей в интриге, благодаря которой власть переходит в руки представителя рода Дук – Константина X [подробно см. 108, с. 89].
О своем положении при дворе Константина, которому Пселл помог утвердиться на троне, писатель говорит взахлеб; император горячо любит Пселла [20 (II), с. 135. 143–144, 155], возвышает его над всеми придворными и более всех ему доверяет [20 (II), с. 139].
Пселл ободряет, утешает императора, разделяет с ним опасности и ставит себе в особую заслугу то, что «привел ему патриарха» – Иоанна Ксифилина [20(II), с. 144; ср. 1 (IV), с. 447. 8 и сл.].280
После смерти Константина Дуки Пселл, как и следовало ожидать, остается советником принявшей бразды правления Евдокии. Именно ему – одному из первых – объявила императрица о своем намерении выйти замуж за Романа Диогена, и именно Пселл был тем человеком, который сообщил об этом решении сыну Евдокии – будущему императору Михаилу VII [20 (II), с. 155 и сл.].
По своему обыкновению писатель безудержно хвастает прекрасным отношением к нему взошедшего на престол Романа Диогена [20 (II), с. 158], хотя ряд фактов позволяет сомневаться в основательности подобных утверждений. Во время второго похода против сельджуков (весна 1069г.) Пселл сопровождает Романа, правда, доходит с войском только до Кесарии.
После поражения и пленения Диогена при Манцикерте (август 1071г.) писатель открыто принимает сторону партии Дук и всячески способствует свержению и, возможно, ослеплению императора. После этого он пишет искалеченному Диогену «утешительное» послание, которое П. Безобразов не без основания назвал «нахальным издевательством над умирающим императором» [65, с. 116]. <Отношения между Пселлом и Романом Диогеном, а также судьба Пселла в период правления этого императора были недавно подвергнуты детальному анализу и в значительной мере пересмотру в статье Евы де Вриес-ван дер Велден (Eva de Vries-van der Velden 1997). Гвоздем этой работы голландской исследовательницы является никем до нее не высказывавшееся предположение, что Пселл сам принимал участие в третьем, трагически закончившемся поражением при Манцикерте, походе Романа Диогена. В основе доказательств лежит предложенная еще в 1929г. Рено поправка к тексту «Хронографии». Последний вставил в пселловскую фразу якобы выпавшее в рукописи отрицание <οὐ>281. По мысли Рено, фразу надо понимать: «То что не избежало моего внимания, укрылось от него (Романа Диогена)». Поскольку речь идет о событиях, непосредственно предшествовавших битве при Манцикерте, надо в этом случае предположить, что Пселл находился в войске императора. Исходя из этой предпосылки, исследовательница толкует и ряд других свидетельств и, в частности, утверждает, что письмо без адресата (Sathas. Bibl. gr., V [1876], № 186) было написано Пселлом из действующей армии во время последней кампании Романа. Как бы не относиться к рассуждениям Евы де Вриес-ван дер Велден, трудно отделаться от впечатления, что пассажи «Хронографии», где говорится о поражении войска Романа Диогена (особенно сообщающие о прибытии вестников катастрофы в Константинополь и о волнениях с этим связанных), написаны отнюдь не с позиций человека, только что пережившего сокрушительное поражение от турок, а, скорее, с точки зрения писателя, находившегося в этот момент в городе.>
Нет сомнения в том, что после возвращения из монастыря Пселл вместе с государственной возобновляет и преподавательскую деятельность. Пселл не только воспитатель будущего императора Михаила VII – сына Константина X, но и по-прежнему ипат философов – «заведующий философской кафедрой» в Константинопольском университете.282
В 1071г. к власти пришел царственный воспитанник Пселла – Михаил VII. Патетически повествует писатель о горячей любви к нему нового императора [20(II), с. 176–177]. Эти утверждения поддерживаются Анной Комниной. По ее словам, Михаил Дука и его братья, хотя и любили Иоанна Итала, тем не менее отдавали предпочтение Пселлу. Ипат философов со своим учеником Италом устраивали ученые диспуты перед просвещенными монархами [30, с.173]. Видимо при дворе Михаила Пселл играл роль ученого, просвещенного секретаря и приближенного философа.283
Наиболее темный период биографии писателя – последние годы его жизни. До недавнего времени в научной литературе была распространена точка зрения, согласно которой деятельность Пселла в Константинополе и при дворе Михаила VII закончилась в 1075г., поскольку именно к этому году относились последние датируемые сочинения писателя – «О чуде во Влахернах» и «Монодия на смерть Иоанна Ксифилина». На самом деле, однако, после 1075г. – и именно в Константинополе! – Пселлом были написаны такие внушительные по объему сочинения, как похвальные речи Константину Лихуду и Иоанну Мавроподу (см. ниже), а монодия эфесскому митрополиту Никифору была даже создана не ранее 1078г.
В то же время можно предполагать, что в последний период царствования Михаила VII Пселл покинул Константинополь. Об этом свидетельствует как сообщение Анны Комниной [см. 30, с. 173 и прим. 572], так и свидетельство письма Пселла к братьям Константину и Никифору Кирулариям (см. ниже).
Дата смерти Михаила Пселла вот уже около ста лет вызывает дискуссии среди исследователей. Рассмотрим вкратце эту проблему. Датируя кончину писателя, большинство ученых исходит из пассажа «Истории» Михаила Атталиата, который мы приведем здесь в нашем переводе.
«Вскоре закончил жизнь ипертим монах Михаил, возглавлявший гражданское управление, который вел свой род из Никомидии, человек неприятный, надменный и не очень-то согласный с благодеяниями царя (убийство секретаря было предисловием к его смерти). Он находился на его службе (кого? – Я.Л.), и потому восторжествовало мнение, что Бог устранил его, как человека, препятствующего царским дарам и милостям» [50, с. 296 и сл.].
Предполагается, что под «ипертимом монахом Михаилом», возглавлявшим гражданское управление при императоре Никифоре Вотаниате, имеется в виду не кто иной, как Михаил Пселл. Поскольку события, о которых идет речь у Атталиата (в том числе и «убийство секретаря»), в данном случае хорошо датируются, время смерти «Пселла» определяется с большой точностью: апрель – май 1078г.284
Вместе с тем уже давно было обращено внимание на определенные следы деятельности писателя в два последующие десятилетия: в 80-е и 90-е годы XI в. Укажем на наиболее важные факты.
1) В ряде рукописей «Диоптры» Филиппа Монотропа, датируемой 1097г., содержится предисловие, в лемме которого указано, что его автором является Михаил Пселл [290]. Все попытки поставить под сомнение авторство Пселла до сих пор предприняты были без достаточной аргументации [11, с. 162].
2) Сочинение Пселла о хронологии [25] не могло быть написано ранее 1091–1092 гг. [см. 276, с. 168 и сл.].
3) В ряде рукописей сочинения Николая Андидского указано имя Пселла в качестве автора стихотворного толкования произведения этого церковного писателя, которое возникло, видимо, в самом конце XI в. Ж. Дарузес ставит авторство Пселла под сомнение, единственным поводом для которого является убеждение, что Пселл не мог жить в столь позднее время... [165].
4) Одна из речей Пселла [1 (V), с. 228] имеет лемму: «Обращение граждан в клитории к царю господину Алексею Комнину». Сафа, полагавший, что после 1081г. (время прихода Алексея I к власти) Пселла не было в живых, считал нужным исправить в лемме «Алексею Комнину» на «Роману Диогену». Исправление это произвольно и плохо согласуется с содержанием речи. Утверждения Пселла, что «царица городов», «склоненная на колени, ныне вопреки ожиданиям вновь распрямилась» и, «состарившаяся, расцвела вновь и вернулась к прежней красоте и величию юности», даже принимая во внимание энкомиастические преувеличения, никак не подходят ко времени Романа Диогена, но вполне понятны в ситуации первых лет царствования Алексея Комнина, отогнавшего сельджуков чуть ли не от самых стен Константинополя. Кроме того, считать лемму этой речи изобретением переписчика или редактора трудно, так как в лемме указана ситуация произнесения речи, извлечь которую из содержания произведения невозможно.285
5) Д. Полемис [271] обратил внимание на то, что в эпитафии Пселла на смерть Андроника Дуки [11], брата императора Михаила VII, говорится: утешением матери героя эпитафии остается один сын. У Андроника Дуки было два брата – Михаил VII и Константин. Последний погиб в битве под Диррахием в октябре 1081г., отрекшийся от престола Михаил VII умер в монастыре в 1090г. Таким образом, монодия могла быть написана между 1081 и 1090 гг. Доводы Д. Полемиса были оспорены П. Готье. Текст монодии в рукописи «разорван и расположен в разных частях (начало: Paris, gr., 1182, fol. 179vsq. Конец: fol. 41r). По мнению Готье, эти фрагменты не принадлежат одному произведению, имеют в виду разных героев, и, таким образом, выводы Полемиса теряют свою силу (они основываются на данных второго фрагмента, «не имеющего отношения» к Андронику).286 Все аргументы П. Готье – ех silentio, за исключением одного наблюдения: «начало» монодии как будто произносилось непосредственно после смерти героя, в то время как ее «конец» вроде бы составлен по прошествии некоторого времени после его кончины. Но и этот довод – не решающий: риторическая экзальтация здесь, как и в других случаях, не дает возможности определить время и условия произнесения речи.
К выдвинутым ранее доводам можно добавить еще один. В эпитафии Константину Лихуду, написанной после 1075г. (см. ниже), Пселл расточает похвалы императору Исааку Комнину. «Исаак происходит из селения Комны подобно тому, как Филипп Македонский из Пеллы», он – «славный», «удивительный», «украсил свою родину» и т. п. [1 (IV), с. 407–409]. На самом деле отношение писателя к Исааку было сложным и противоречивым (сравни характеристику этого императора в «Хронографии»). Показательно сопоставление изображений Исаака в эпитафиях Константину Лихуду и Михаилу Кируларию: оба произведения относятся к одному литературному типу, и образы, следовательно, свободны от отличий, определяемых жанром. В сочинении, посвященном Кируларию, Пселл тоже хвалит Исаака, но делает это с рядом оговорок и отнюдь не в столь торжественных выражениях (1 (IV), с. 367). Подобного рода похвалы естественно было бы ожидать в произведении, написанном после 1081г., т.е. по восшествии на престол Алексея I Комнина – племянника Исаака.287
Приведенные аргументы можно было бы счесть достаточным основанием для «продления» жизни Пселла до периода царствования Алексея I и, может быть, до 1097г., если бы этому не мешало уже цитированное место из «Истории» Михаила Атталиата.
Однако так ли уж непреложна ассоциация Михаила Пселла с ипертимом монахом Михаилом, упомянутым византийским историком?
Даже самых категорических сторонников этой ассоциации смущало то, что ипертим монах Михаил «ведет свой род из Никомидии». Ведь согласно недвусмысленному свидетельству самого писателя, Пселл родился в Константинополе (см. выше). Стараясь обойти это противоречие, исследователи предполагали, что Атталиат имел в виду не место рождения Пселла, а место, откуда происходит его семья. Дело, однако, в том, что этот Михаил упомянут Атталиатом еще и в другом месте его сочинения, в контексте рассказа о событиях царствования Константина X Дуки [50, с. 181.4]. Там он фигурирует как Μιχαὴλ ὁ Νικεμηδέος; (цитируем рукописное чтение – в издании ошибка). В данном случае уже невозможно связывать наименование Михаила Никомидийского с происхождением его семьи из Никомидии. Более того, двукратное упоминание монаха Михаила как Никомидийского предполагает, что таким было устойчивое обозначение этого человека. К Михаилу Пселлу это уже не может иметь какого-либо отношения!288
Приведенные соображения заставляют предполагать, что Пселл еще продолжительное время оставался в числе живых после 1078г. и, возможно, даже дожил до 1097г. В это время ему должно было быть 79 лет.289 Сохранилась книжная миниатюра XII в. с изображением Михаила Пселла.290 Писатель представлен там старцем благородной внешности в монашеских одеяниях. Впрочем, судя по его собственным словам, к старости он располнел [1 (V), с. 455.2]. <Биография человека такого масштаба, как Михаил Пселл, безусловно заслуживает изучения и выяснения во всех своих деталях. Монографического исследования подобного рода еще не появилось. Наиболее подробно на деталях жизни и карьеры Пселла останавливается П. Лемерль [Р. Lemerle, 1977; Р. Lemerle, 1977–2], а в самые последние годы – голландская исследовательница Ева де Вриес-ван дер Велден. Можно предположить, что публикуемые ею ныне материалы – предварительные очерки будущего полного жизнеописания Пселла. Скрупулезность и почти исчерпывающе широкий охват материала сочетаются у автора с непреклонной верой в достигнутые ею результаты, оказывающиеся подчас парадоксальными. Как хорошо известно, события многовековой давности, о которых сохранились отрывочные и противоречивые свидетельства, только в редких случаях поддаются однозначной реконструкции. Как бы то ни было, вне зависимости от убедительности конечных результатов, пересмотр биографических свидетельств и вовлечение в научный оборот новых данных, предпринятые голландской исследовательницей, уже расширили наши знания о биографии Пселла (Eva de Vries-van der Velden, 1996; Eva de Vries-van der Velden, 1996–2; Eva de Vries-van der Velden, 1997).>
Глава 3-я. Михаил Пселл и его современники
Главным источником для восстановления связей Пселла с его современниками является собрание писем писателя.
Корреспонденция Пселла давно и активно используется учеными для восстановления биографии писателя, реконструкции различных деталей общественной, частной, религиозной и государственной жизни византийцев XI в. И вместе с тем эти письма и поныне – нераспечатанное богатство: к ним обращаются за частными сведениями, но никогда еще не рассматривали как единое целое.
К сожалению, нет еще основательного кодикологического исследования собраний писем Пселла. Такое исследование могло бы дать ответ на весьма интересный вопрос о том, каким образом шло формирование и издание эпистолографических коллекций. В качестве предварительного наблюдения можем сообщить, что ни в одной из рукописей письма не расположены в хронологическом порядке (в отличие, например, от рукописей с посланиями Иоанна Мавропода, Михаила Хониата и др.). Многие письма группируются по принципу общности адресата и даже адресатов (т.е. рядом находятся послания близким между собой людям). Письмо племяннику Исаака Комнина (1(V), № 113) следует, например, за посланием жене императора [1(V), № 112], а письма некоторым крупным чиновникам, которые были явно дружны между собой, в разных рукописях обычно соседствуют (см. ниже). Это заставляет предполагать, что собирателями, если не издателями некоторых эпистолярных собраний, были получатели писем. Нам твердо известно, в частности, что письма писателя собирал кесарь Иоанн Дука [22, с. 176; 16(11), № 303]. Эти данные имеют значение для атрибуции и датировки писем.
Между тем внушительное эпистолографическое собрание (более пятисот опубликованных писем)291, дополненное многочисленными речами, – настоящая «Человеческая комедия» Византии XI в. Уже простое перечисление адресатов и героев писем и речей Пселла, сгруппированных по их рангам, должностям, социальному положению интеллектуальному уровню, могло бы показать грандиозность картины, отразившейся в «малых сочинениях» писателя. Из двенадцати царствовавших особ, на время правления которых приходилась сознательная жизнь Пселла, адресатами его писем были восемь. Из пяти константинопольских патриархов трое (Михаил Кируларий, Константин Лихуд, Иоанн Ксифилин) находились в переписке с писателем. Из высших чиновников государственных приказов и императорского двора получателями писем Пселла были: протасикрит, логофет дрома, протонотарий дрома, «министр» юстиции (ὁ ἐπὶ κρίσεων),«министр» по делам прошений (ὁ ἐπὶ τῶν δεήσεων), логофет геникона, протовестиарий, сакеларий, хранитель императорской чернильницы (ὁ ἐπὶ τοῦ κανικλείου), управляющий императорским имуществом (ὁ ἐπὶ τῶν οἰκειακῶν), великий эконом, ливелисий, остиарий, великий друнгарий и др. Среди адресатов Пселла – носители высших титулов византийской табели о рангах: кесарь, куропалат, протопроэдр, проэдр, магистр, вестарх, вест, патрикий.
Немало писем Пселл отправил на периферию империи провинциальным властителям, духовным и светским. Судьям шестнадцати фем и областей адресовал он свои послания. Патриарх Антиохии (скорее всего Эмилиан), митрополиты и епископы Амасии, Кизика, Эфеса, Мелитины, Никомидии, Евхаиты, Парнаса получали письма столичного писателя. Спускаясь вниз по иерархической лестнице, следует упомянуть среди корреспондентов игуменов, архимандритов и т.д. Наконец на самой нижней ступени этой иерархии находятся бесчисленные монахи, нотарии, безымянные родственники и люди разных положений и состояния (среди них даже музыкант), которых Пселл за редким исключением не удостаивает писем, но которые присутствуют в его корреспонденции в качестве объекта ходатайств и просьб.
И только один слой византийского общества представлен относительно бедно в эпистолярном наследии писателя – это воинское сословие.292
Это эпистолографическое богатство нуждается в освоении и классификации. Последняя может быть произведена по разным принципам, из которых следует выбрать наиболее подходящий для целей этого исследования. При всем разнообразии положений и функций адресатов, классифицировать письма по этому принципу нецелесообразно, уже хотя бы потому, что в период переписки, длившейся иногда десятилетия, корреспонденты успевали проделать почти весь cursus honorum, перейти из светского звания в духовное, стать чуть ли не «первыми министрами» и попасть в опалу. Таким образом, письма, направленные одним и тем же лицам, оказались бы в разных рубриках. Такая классификация, весьма полезная, например, в исследовании состава господствующего класса Византии XI в., была бы непригодной в работе, предмет которой – личность автора писем.
Можно было бы предложить и иной – литературно-типологический принцип классификации. К XI в. письмо уже давно превратилось в один из жанров риторической прозы. Реальные чувства и мысли эпистолографа укладывались в определенные, восходящие к античности типы или жанры писем.293 Такая классификация не представляет трудностей, поскольку подавляющее большинство писем Пселла идеально подходит под какой-либо из двадцати одного типа, предусмотренных еще в трактате Περὶ ἑρμηνείας, который приписывают Деметрию Фалерскому, и который дает начало большинству позднейших письмовников. Но и это подразделение – универсальное, всеобъемлющее и потому в принципе пригодное для любой эпистолографической системы – могло бы помочь исследованию эволюции жанра, но никак не раскрытию образа эпистолографа. Между тем, любая классификация, а она всегда по необходимости относительна и одностороння, обязана быть целесообразной, т.е. соответствующей задачам конкретного исследования.
Закономерен вопрос: возможно ли вообще разглядеть авторское «я» византийского писателя за набором риторических клише и выражениями стандартизованных чувств, столь обычных для писем этого периода? Немало исследователей Нового времени вынуждены были давать на этот вопрос категорически отрицательный ответ. «К сожалению, по сохранившимся письменным источникам, – пишет Г. Литаврин, – мы можем судить скорее не об объеме чувств и мыслей, а о степени образованности отдельных представителей византийского, как правило, привилегированного общества» [33, с. 61].294 Между тем уже античная теория эпистолографии не только положительно отвечает на поставленный вопрос, но и настойчиво требует от писателя самовыражения. «Письмо, – пишет автор упомянутого выше трактата, – должно быть самым полным выражением нравственного облика человека, как и диалог. Ведь каждый, кто пишет письмо, дает почти что изображение своей души» [цит. по: 62, с. 7 и сл.1]. Михаил Пселл полностью примыкает к этой традиции. «Как икона в красках представляет одухотворенный образ прототипа, так твое письмо рисует тебя», – хвалит Пселл куратора Кипра [16 (II), с. 185. 12–13]. Не столько важны красоты стиля, сколько «свидетельства характера пишущего», – обращается писатель к патриарху Антиохии, видимо, мало искушенному в искусстве риторической эпистолографии [16 (II), с. 117. 19–22]. Письменная речь, по мнению Пселла, отражает врожденные свойства автора даже лучше, чем речь устная [1 (V), с. 242–243].
Не следует понимать эти откровения буквально. Искушенный во всех риторических тонкостях византийский эпистолограф никогда не позволит себе раскрыться полностью в письме или даже серии писем одному адресату. Следуя универсальному в риторике принципу уместности, он, напротив, приспособит не только слог, но и строй мыслей и чувств к адресату, проявляя тот самый «протеизм», который издавна считался одной из основных добродетелей истинного оратора. По иным письмам можно легче судить о характере их адресата, нежели автора. Тем не менее пределы видоизменения и приспособления византийского эпистолографа не беспредельны. Являясь каждый раз в новом обличье, он не просто меняет маску, но и на деле реализует какую-то частицу своего «я», всякий раз генерализируя и выдавая за облик в целом какую-то из сторон своей личности. Процесс этот, как правило, двусторонний: автор не только «делает себя» под адресата, но и «приспосабливает» к себе его облик.
Адресаты – вернее, их образы в письмах Пселла – в какой-то степени оказываются объективацией отдельных черт его характера. Явление это осознается и самим писателем. Так, в одном письме (1 (V), № 176], обращенном сразу к трем лицам и потому представляющем для эпистолографа понятные трудности, Пселл обеспокоен тем, что ему придется применяться сразу к трем разным характерам. Его задача, впрочем, облегчается тем, что сам он, как ему кажется, объединяет свойства всех трех адресатов [1 (V), с. 453. 3–4]
Вникнуть в образы возможно большего числа корреспондентов писателя, проследить отношения, выяснить, где это можно, причины симпатий и антипатий, значит в определенной мере понять внутренний мир Пселла: скрытый в каждом отдельном послании образ эпистолографа должен предстать из всей переписки в целом.
Из приведенных предпосылок вытекает и предложенный нами принцип классификации писем: они разбиваются по адресатам, а сами адресаты, как правило (есть и неизбежные исключения!), группируются не по официальному положению в обществе, а по своему «интеллектуально-нравственному» типу. Этот принцип уступает другим в формальной четкости, но весьма удобен для целей настоящей работы: в письмах к каждой из групп адресатов, предполагаем мы, раскрывается какая-то частица души самого Пселла.
Михаил Пселл и Иоанн Мавропод
Первые связи Пселла, иногда длившиеся всю жизнь и оказавшие немалое влияние на его судьбу, завязывались в школе Иоанна Мавропода. Об этой школе сохранились кое-какие сведения.
Племянник Мавропода, императорский нотарий Феодор Китонит, в стихах на смерть своего дяди пишет: «О блаженнейший, слава твоя распространилась по всему свету, как во всеобщую школу, сзывала она в твой дом жаждущих познать науки».295 Наиболее интересные данные содержатся у самого Мавропода.296 Школа помещалась в частном доме Иоанна Мавропода, причем сам он исполнял там, видимо, обязанности директора. «Я разрешал споры учеников и учителей и был готов ответить всем» [46, № 47.26–27]. Из этих слов можно также сделать вывод, что обучение велось по традиционной для Византии вопросно-ответной системе. Обучение в школе было бесплатным. Наряду со знаниями ученики получали также нравственное воспитание («Я кое-что сделал и для нрава многих» [46, № 92. 44]), многие из их числа стали высокопоставленными чиновниками и учителями [46, № 92.49–50].
Сам Пселл через несколько десятилетий после окончания школы в связи со смертью своего соученика, уже упомянутого Никиты, вспоминает об этих годах: ученики ходили насупленные и лохматые, озабочены были прежде всего тем, чтобы не быть, а казаться мудрыми, хвастались своими мнимыми успехами в науках и презирали новичков [1 (V), с. 89. 26 и сл.].
В школе Мавропода завязывалась дружба между учениками, а также между учениками и учителями; она не прерывалась долгие годы. «О, благородная троица братьев, прекрасный и сладостный плод моего учения...», – обращается к своим бывшим воспитанникам через десять – пятнадцать лет после закрытия школы Иоанн Мавропод из далекой Евхаиты [46, № 157]. О «круге моих бывших учеников» сообщает неизвестному адресату Иоанн еще в бытность свою при дворе императора Константина Мономаха [46, № 123].
Среди эпистолярного наследия Пселла сохранились письма, обращенные к его соученикам. Какому-то школьному товарищу еще совсем юный Пселл жалуется на тяготы своего положения судьи одной из малоазийских фем. «Передай горячий привет доброму Стилиану, – кончает Пселл послание, – он ведь наш и из нашей прежней компании» [16 (II), № II]. Интересны два письма соученику по имени Роман. В первом Пселл выражает надежду, что его адресат еще не забыл дружбу, которую они во время совместного обучения договорились беречь, и отсылает к Роману двух юношей, с великим усердием изучающих «орфографию» [16 (II), № 16]. Во втором Пселл просит прислать ему сочинения Плутарха, интерес к которому, вполне вероятно, был привит в школе Мавропода (16 (II), № 17]. Письма другому соученику – Георгию, написаны по деловому поводу. Между бывшими однокашниками возникает какое-то недоразумение, но и здесь Пселл выражает свои дружеские чувства и утверждает, что друзья в письмах могут обойтись без риторических прикрас и пользоваться незатейливым стилем, подобающим для искренних отношений [16 (II), № 25, 26]. Тесные отношения связывают Пселла в течение долгих лет и с другим соучеником – Николаем Склиром (см. ниже). О дружбе, связывавшей Пселла и Никиту, уже говорилось.
Однако наибольшую взаимную привязанность испытывали Пселл и его учитель Иоанн Мавропод.297 Отношения этих двух людей заслуживают особого внимания потому, что они продолжались почти на протяжении всей жизни обоих; и прежде всего потому, что это единственный случай, когда сохранились не только письма Пселла Мавроподу, но и Мавропода Пселлу.298
«Как живешь, мой брат и господин? Ты – отец моей учености, возделавший почву моей души и посадивший первые корни наук, или, лучше сказать, прививший мне свои черенки и сообщивший моим природным побегам свои добродетели». В этих словах благодарный ученик Пселл (ему в это время уже за 30, он первый ученый и занимает важные государственные посты) признает большую заслугу Иоанна Мавропода в формировании его личности [16 (II), с. 76].
В другом письме Пселл пишет: «Знай, что ты один – отец моей учености и воспитатель, если есть во мне сколько-нибудь добродетели, и наставник в божественном. Никогда не забуду я этого» [1 (V), с. 466–467]. Та же мысль содержится в энкомии Пселла Мавроподу: «Еще в ранней юности я учился у этого великого мужа и, если можно так выразиться, горел жаждой к учению. Почерпнув, сколько мог, из источника знаний, я получил достаточную подготовку для всех наук» [1 (V), с. 148].
Данных о взаимоотношениях Мавропода и Пселла в годы ученичества последнего почти нет.
Любопытным свидетельством этого периода жизни будущего писателя является письмо Пселла (возможно, самое раннее из всех сохранившихся!), обращенное к своему учителю, скорее всего к Иоанну Мавроподу [16 (II), № 13]. Пселл присутствует на какой-то пышной свадьбе. Однако брачные песни не радуют юношу, и он молит Господа скорее прекратить празднество. Как только свадьба кончается, он спешит к своим обычным занятиям и жаждет насладиться преподаванием учителя – адресата письма. Однако бес, который, как известно, во все эпохи с особым удовольствием искушал школяров, на этот раз попутал Пселла, и он, «отказавшись от наслаждения милой и сладостной риторикой», отправился к храму Святых Отцов, где в то время происходило празднество. Ехать надо было морем, стояла непогода299, и в результате неудачного путешествия Пселл заболел. Считая себя на пороге смерти, он просит учителя прийти навестить его. Тому же адресату (т.е. скорее всего Иоанну Мавроподу) Пселл направляет и два других письма [16 (II), № 14, 15]. В одном из них он упрекает учителя в том, что тот не пришел к нему, в другом (написанном уже после визита) выражает надежду «вновь насладиться речью, льющейся из его медовых уст». Оба послания пестрят заклинаниями в дружбе и упреками в пренебрежении ею. За строками писем (каждое из них, особенно первое, несмотря на риторические излишества, интереснейший человеческий документ) встает образ молодого Пселла, искренне преданного учению, в то же время не чурающегося светских удовольствий, хотя и стесняющегося своих слабостей. Пройдет полтора десятка лет, и Пселл, сам став учителем, будет сурово поучать своих нерадивых учеников.
Между Пселлом и его учителем – у нас нет прямых указаний, и мы не решаемся безоговорочно назвать его Мавроподом – существуют дружеские и, видимо, весьма свободные отношения. Примерно в 1037–1038 гг. Пселл покидает школу Мавропода. Учитель и ученик на некоторое время должны расстаться: Мавропод в конце 30-х годов удаляется в монастырь, Пселл начинает свою служебную карьеру и, видимо, уезжает из Константинополя.
В начале царствования Константина Мономаха Пселл вновь в столице. После 1043г. Мавропод по ходатайству Пселла, несмотря на желание остаться в тени, приближается ко двору [20 (II), с. 66]. Он не занимает никаких официальных должностей, но пользуется значительным влиянием [46, № 118, 119]. Между 1044 и 1047 гг. Мавропод оказывается в роли одного из организаторов так называемого Константинопольского университета. В конце 40-х годов, видимо в связи с начавшимися гонениями на партию придворных интеллектуалов во главе с Лихудом, положение Мавропода при дворе пошатнулось: письма Иоанна этой поры изобилуют жалобами [46, № 142, 147, 149 и др.]. В конце концов Мавропод вынужден принять назначение на митрополичью кафедру в далекую Евхаиту.300 Новый пост страшит «любителя тихой и независимой жизни», вызывает поток риторической ламентации [46, № 147, 148]. И по прибытии в Евхаиту не может Мавропод примириться с новой должностью, жалобы в письмах усиливаются и постепенно доходят до своего эмоционального предела [46, № 153, 155, 160, 163, 166 и др.]. Сколько времени Иоанн оставался на своем посту, определить трудно, хотя в 1075г. (terminus post quem для энкомия Пселла Мавроподу) он еще был евхаитским митрополитом.301
Все эти годы были временем близкого общения, более того, сотрудничества Мавропода и Пселла в науке, литературе, политике. К сожалению, у нас мало данных о взаимоотношениях этих людей в период, когда оба они жили в Константинополе. Единственный сохранившийся документ этого времени – письмо Мавропода [46, № 122], касающееся одного из центральных событий культурной жизни Византии XI в. – открытия Константинопольского университета. Мавропод сообщает о том, что его окружил «святой хор божественной философии», – под этим выражением надо, видимо, понимать студентов вновь открытой в Константинополе философской школы. Иоанн вступил с ними в беседу и остался чрезвычайно доволен их ревностным отношением к наукам и особенно единодушным желанием видеть во главе своей школы Константина (т.е. Пселла). Мавропод обещал студентам поддержку перед самодержцем, а также «в том, что связано с согласием других молодых людей, которые интересуются ныне наукой и знанием». Мавропод желает Пселлу всяческого успеха, а также «отдает себя целиком и полностью» в распоряжение Пселла.
Некоторый комментарий это послание Мавропода получает в энкомии Пселла Иоанну Ксифилину [1 (IV), с. 433], где говорится о борьбе, которая развернулась между будущими студентами – «юристами» и «философами» (см. выше). Возможно, именно эти раздоры имел в виду Мавропод, обещая свою поддержку в том, что «связано с согласием других молодых людей». Император решил удовлетворить тех и других и приказал организовать две разные школы.
У нас нет оснований вслед за большинством исследователей утверждать, что Мавропод вместе с Пселлом преподавал в университете; ясно, однако, что отношения между бывшими учителем и учеником в ту пору были наилучшими.
Этими скудными данными собственно и ограничиваются свидетельства об отношениях Пселла и Мавропода в период их совместного пребывания в столице. Напротив, от того времени, когда между ними пролегли сотни миль труднопреодолимого пути (Мавропод жалуется, что в Евхаите нелегко найти человека, который бы доставил письмо в Константинополь [46, № 163]), мы имеем довольно много свидетельств, рисующих характер отношений учителя со своим бывшим учеником: оказавшись вдали друг от друга, Мавропод и Пселл ведут оживленную переписку. Сохранившиеся от этого периода письма требуют к себе чрезвычайно осторожного отношения. Не все послания Пселла в рукописях имеют имя адресата, большинство отнесено к Мавроподу издателями. Что касается евхаитского митрополита, то все его письма адресуются гипотетично.
Можно с достаточными основаниями предполагать, что уже первое дошедшее до нас письмо Иоанна, отправленное из Евхаиты [46, № 150], обращено к Пселлу. Его адресат (Константин) – ближайший друг отправителя, человек, «достигший вершин мудрости». Мавропод просит его о помощи, а, как будет видно из дальнейшего, именно Пселл принял на себя роль заступника своего учителя перед императором.302 Первая часть послания выдержана в чрезвычайно раздраженных тонах. Мавропод предан, продан, а затем и забыт своим другом. Не заботы о карьере Иоанна, не стремление обеспечить ему благоденствие и славу руководствовали им, а желание избавиться от Мавропода. Сам же Мавропод никогда не допускал никакой несправедливости по отношению к друзьям. Тем не менее, продолжает Мавропод, он и поныне сохраняет верность дружбе и, находясь в изгнании, вызывает в памяти образ друга, надеясь этим письмом растопить лед их нынешних отношений.
Таким образом (если, конечно, адресат этого письма действительно Пселл), ученик Мавропода был как-то причастен к изгнанию своего учителя или, быть может, уговаривал Иоанна принять это назначение. Сравним следующее письмо [46, № 151], в котором Мавропод проклинает тех, кто по невежеству превозносит его в связи с его назначением. «Острова блаженных оказались призрачным счастием...», – сетует митрополит.
Видимо, Пселл действительно благожелательно относится к новому роду деятельности Мавропода. Об этом свидетельствует его письмо, отправленное, как явствует из содержания, вскоре после отбытия Мавропода из столицы [16 (II), № 45]. Это наиболее теплое и искреннее послание из всех тех, что отправил своему «страждущему» учителю преуспевающий ученик. До Пселла, скорее всего, еще не дошли жалобы Мавропода (вспомним: путь до Евхаиты занимал два месяца, найти письмоносца было нелегко). Пселл спрашивает о самочувствии и настроении Иоанна, советует ему не огорчаться, если не все, что он нашел на месте, соответствует его желаниям, обеспокоен, не тяготят ли Мавропода новые обязанности, убеждает учителя в том, что, хотя тот и предпочитает тихую жизнь частного человека, истинное его призвание – «управлять и предводительствовать телами и душами». К началу пребывания Мавропода в Евхаите можно отнести и другое письмо Пселла [16 (II), №34].303 Писатель уже получил полные отчаяния письма митрополита и, отвечая на них, продолжает убеждать своего корреспондента в преимуществах его положения: «Ты обладаешь счастьем, – пишет Пселл, – здесь же нет ничего постоянного, ничего твердого, но все движется и меняется... а если где и вырастет животворное дерево, доступ к нему нам преграждают мечи...» [с. 54].
Константинопольскую придворную жизнь Пселл иронически называет Эдемом и в раздражении восклицает: «Если хочешь, давай поменяемся местами, бери себе дворец, а я возьму Евхаиту. Но что за насмешки? Что это ты заулыбался во весь рот? Оставь себе подир и клобук, я их у тебя не отнимаю, поменяемся только местами, а не священными одеждами» [с. 54. 21 и сл.]. В период написания письма Пселл явно подвергается гонениям со стороны противников, взявших верх при дворе.
Тот же мотив звучит и в другом письме Пселла Мавроподу [1 (V), № 173]. В письмах этой поры, направленных другим лицам, также содержится немало жалоб [см. 16 (II), № 37, 191 – Иоанну Ксифилину; 16 (II), № 198 – неизвестному лицу и др.].
Упреки и раздраженный тон характерны и для многих других писем Пселла к Мавроподу, распределить их во времени, к сожалению, не представляется возможным. Мавропод возложил на Пселла роль ходатая и заступника при императорском дворе304, которую тот старается по мере сил добросовестно выполнять. В ряде писем Пселл живописует Иоанну свои усилия: «Ни в дружеских беседах, ни в разговорах с императором, ни при других обстоятельствах не забываю я твоей дружбы и твоей добродетели, но зайдет ли разговор о науке, дружбе, о прелести речи, утонченности нрава или высоте добродетели, я привожу в пример тебя одного...» [1 (V), с. 465]. «Когда я хочу говорить о тебе с другими, я веду речь свободно... и даже уши императора не избавляю от похвал тебе» (1 (IV), с. 464].
В другом письме Пселл рассказывает, как ему удалось заставить замолчать евхаитцев, явившихся к императору с жалобами на Иоанна. Пселл, по его словам, сумел изменить мнение Мономаха об Иоанне, и тот вместо того, чтобы слушать обвинителей и самому обвинять, принялся превозносить Мавропода. Ипат философов в присутствии императора прочел письмо митрополита, сравнил его с сочинениями древних и признал превосходство слога своего друга [1 (V), № 80].305
Однако ходатайства Пселла не всегда достигали цели. В одном из посланий он сообщает, что, несмотря на свое влияние, ничего не может сделать, ибо «даже острым топором срубишь не всякое дерево». Придет время, обещает придворный философ, и он склонит на свою сторону самодержца, для этого нужно только приступить к делу вовремя, и тогда император может стать мягким и податливым.
Переписка Пселла и Мавропода не только характеризует взаимоотношения этих людей, она в какой-то степени воссоздает духовную атмосферу константинопольского двора и облик двух различных представителей византийской интеллигенции того времени. Наиболее интересным в этом отношении является другое обширное послание Пселла [16 (II), № 229]. Во второй его части говорится о том, что император постоянно восхищается Мавроподом и даже издевается над своими философами и софистами, поскольку те намного уступают опальному митрополиту. Того же, «кто стремится вывести тебя из бурного моря в спокойную гавань и для твоего и своего блага вернуть в город, где он живет сам, часто с любовью и удовольствием призывают во дворец (так Пселл пишет о себе. – Я.Л.), и он надеется встретиться с тобой, еще более великим, чем ты был ранее...»
Однако самое интересное дальше: речь идет о каком-то предполагаемом приезде Мавропода в Константинополь с целью испросить милость у императора. В связи с этим Пселл дает советы своему бывшему учителю. Войдя к императору, Иоанн не должен «хмурить брови» и словом упоминать о наветах, о своих страданиях, о желании бежать из Евхаиты. Мавроподу надо сменить «муз на харит», т.е. проявить приятность нрава. Ловкий царедворец, как режиссер, подготавливает будущую сцену (используем выражение самого Пселла). Он опасается, как бы Мавропод не явился «без маски» и не испортил бы все «лицедейство». Впрочем, и это не страшно: Пселл у самого порога «примет» Иоанна и тут же «приспособит к драме». Изворотливый придворный, проникший во все тайны науки обхождения с жуиром на троне – Мономахом, искренне готов помочь почитаемому им Мавроподу. Не случайно, однако, бывший ученик предлагает ему себя на роль наставника в лицемерии: поклонник уединенных занятий, нечестолюбивый и прямой Мавропод явно неприспособлен для готовящегося лицедейства.
Однако усилия Пселла, как и его сообщения из Константинополя, не удовлетворяют и вызывают раздражение у митрополита поневоле. Свидетельство тому – обширное письмо Мавропода (№ 159), которое с очень большой вероятностью может быть адресовано Михаилу Пселлу.306 «Недосуг мне много разглагольствовать, в том числе и с вами, мудрецы и любители наук, нет у меня времени на длинные речи, другие дела торопят меня... А те беседы, речи и блаженная жизнь, которых мы сегодня лишены, прощайте! Это были, видно, сны и ничто более. Ныне другая жизнь, тяжкая... И что печальнее всего, нет мне проку от друзей в тяжких обстоятельствах и даже от самого дорогого и горячо любимого! Он пребывает в бездействии. Ну и пусть! Он один, как говорится в мудрой трагедии, один в выгоде, но разделить с другим тяготы и протянуть руки помощи страждущему не решается» [46, с. 85. 31 и сл.].
Попреки Мавропода, в свою очередь, раздражают Пселла, обвиняющего своего корреспондента в том, что его нрав изменился от обстоятельств. Ведь он, Пселл, остался прежним, он и раньше притворялся в письмах, побуждая тем самым друзей к еще большему расположению к себе. Мавропод, зная стиль друга, должен был бы правильно понять его послания, ибо ни у одного человека не встречал Пселл нрава столь «серьезного и в то же время сократического», как у своего учителя. Почему же теперь стал так суров и сумрачен тот, кто раньше нередко бывал весел, умел обаятельно вести беседу и применяться к обстоятельствам?307
В настоящее время нет возможности восстановить все перипетии взаимоотношений Пселла и Мавропода. Ссоры в письмах, видимо, чередовались с примирениями, раздраженные отповеди с дружескими посланиями, риторические излияния с чисто деловыми сообщениями. В одном из писем Пселл рекомендует Мавроподу какого-то судью [16 (II), № 54] и в дальнейшем спрашивает о нем своего корреспондента [1 (V), № 80]. Сообщает Пселл также о некоем старике, мечтающем о свидании с Иоанном [1 (V), № 40]. Далеко не все намеки в письмах поддаются расшифровке. Неясно, например, о какой «встрече светил», т.е. свадьбе по византийской риторической символике, идет речь в послании Пселла и в ответе на него Мавропода [1 (V), № 202, 203] и др.
Только одно письмо Пселла резко отличается по своему тону от остальных [16 (II), № 105]. Возможно, оно было направлено уже не митрополиту Евхаитскому (хотя и адресовано в рукописи «митрополиту Евхаиты»), а монаху Иоанну. Основанием для такого предположения является следующее: в этом письме Пселл чрезвычайно настойчиво подчеркивает «неземную или сверхземную природу» своего адресата. «Что же тебе нужно еще на земле, тебе, чья обитель – небо, уже переступившему телесную оболочку. Я поражен, как может тебя заботить горсть пшеницы, и как можешь ты придавать значение пузырьку масла, ты, который уже насыщаешься из высших источников, предан одному Богу и совершенно презрел природу. То, за что я прежде порицал тебя, теперь для меня достаточный повод для энкомия» [с. 135. 12 и сл.]. Последняя фраза приведенной цитаты – скорее всего намек на то, что в свое время Пселл отговаривал Мавропода от ухода в монастырь, ныне же хвалит его за это.308
Михаил Пселл и Иоанн Ксифилин
Отношения Пселла и Мавропода не были замкнутой двусторонней дружеской связью. Уже в разобранных нами свидетельствах неоднократно всплывала фигура другого Иоанна, знаменитого Ксифилина, будущего патриарха, образованнейшего человека своего времени, сыгравшего немалую роль в жизни как Пселла, так и Мавропода.
Данные об отношениях Пселла и его круга с Иоанном Ксифилином содержатся главным образом в следующих источниках:
1. Надгробное слово Ксифилину [1 (IV), с. 421–462]. Произнесено после августа 1075г. (подр. см. ниже).
2. Письма Пселла Ксифилину [16 (II), № 191, 265; 1 (V), № 36; 16 (II), № 37, 44, 273]. Третье из указанных писем в Cad. Laur. отнесено судье Опсикия. Мы, исходя из содержания, вслед за К. Сафой считаем его адресатом Ксифилина, полагая, что лемма «судье Опсикия» – результат ошибки переписчика (в письме упоминается Келлийский монастырь, о котором говорится в ряде других писем к судье Опсикия). Письмо № 265 [16 (II)] (сохранилось без леммы), несомненно, атрибуируется Ксифилину.
Все письма, кроме № 265 [16 (II)], написаны около 1054г.:
Ксифилин находится в монастыре, Пселл все еще пребывает в Константинополе.309
Из двух неопубликованных писем одно [156, с. 52, № 2]310 также приходится на время около 1054г., второе [156, с. 52, № 3]311 должно датироваться 1057–1058 гг. (Изложение содержания этих писем, известных нам по микрофильму Ватиканской рукописи, смотри в статье Г. Вейса [312, с. 31 и сл.].)
Особое место занимает послание Пселла Ксифилину о Платоне [1 (V), № 175. Критическое издание см. 18]. Письмо представляет собой возражение на послание Ксифилина, которое в свою очередь было ответом на другое письмо Пселла, вызвавшее неудовольствие Иоанна.
По традиции письмо относится ко времени патриаршества Ксифилина [см. 146, с. 134]. Между тем П. Безобразов указывал на ошибочность этого тезиса [65, с. 161], правильно отмечая, что письмо могло быть написано только в период, когда Пселл уже принял монашество, а Ксифилии еще не стал патриархом (т.е. между 1055 и 1064г.). Эту мысль (не зная книги П. Безобразова!) в статье, специально посвященной датировке письма, защищает У. Крискуоло [160]. Из послания можно понять, что письмо было написано после возвращения Пселла с Олимпа [см. 1 (V), с. 449. 29 и сл.].
3. Сочинение Пселла «Защита номофилака от Офриды» [1 (V), с. 181–196] см. ниже.
4. Письма Мавропода Иоанну Ксифилину [46, № 127, 128, 130]. Ни одно письмо не имеет точной адресации, их получателем мы считаем Ксифилина предположительно. Основания: в письме № 127, явно написанном близкому другу, Мавропод употребляет латинское слово φαμιλία, «поскольку, – как объясняет автор, – речь обращена к италийцу и почитателю римлян». Эта характеристика сама по себе наводит на мысль о Ксифилине, так как «министр юстиции», знаток и толкователь римского права, естественно, знал латынь, что не так часто встречалось в Византии того времени. Это предположение находит определенное подтверждение в следующем письме (в рукописях Мавропода, как и других византийских авторов, письма одному и тому же адресату нередко помещались рядом), обращенном к человеку по имени Иоанн и содержащем напоминание о «старом обычае при наших ученых беседах». Что касается письма № 130, то, даже делая скидку на риторическую гиперболизацию, можно догадаться, что оно было направлено главе византийской юриспруденции.
Поскольку письма Мавропода в рукописи расположены в хронологическом порядке, можно примерно определить время отправления посланий 1047–1050 гг.
* * *
Знакомство Пселла и Ксифилина произошло, вероятно, в школе Мавропода в начале 30-х годов. Рассказ об их взаимоотношениях этого периода, сохранившийся в эпитафии [1 (IV), с. 427.8], выдержан в идиллических тонах и пересыпан терминами, обычно сопровождающими изображение идеальной дружбы – φιλία. Единственные реальные сведения сводятся к тому, что сам Пселл занимался главным образом риторикой и философией, Ксифилин отдавал предпочтение юриспруденции, и друзья взаимно обучали друг друга. Вскоре после прихода к власти Константина Мономаха Ксифилин по рекомендации Пселла был представлен двору,312 получает высокие должности судьи ипподрома и эксактора, а затем назначен номофилаком, т.е. ректором вновь открытой юридической школы.313 При организации юридической и философской школ не обошлось без трений, хотя разногласия среди учащихся, видимо, и не привели к серьезному конфликту между наставниками.
Нападки на придворных интеллектуалов около 1050г. коснулись Ксифилина в первую очередь. «Удары и копья, – пишет Пселл, – сыпались на него не только сзади, но и спереди, как говорят, прямо в грудь» [1 (IV), с. 436. 21 и сл.]. Одним из «ударов в спину» и был донос, подписанный Офридой, на который Пселл отвечал в публично произнесенной перед учениками речи.
Для характеристики отношения Пселла к Ксифилину это произведение имеет значение непосредственного отклика.314 Если написанная в старости эпитафия изображает события ретроспективно, то «апология» создана молодым Пселлом по горячим следам событий. Пафос произведения – противопоставление двух людей, «обвиняемого» и «обвинителя», Ксифилина и Офриды. «Апология» так и начинается: «От человека дурного и недостойного я защищаю мужа, во всем ему противоположного, украшенного добродетелями и прелестями, которых тот лишен» [1 (V), с. 181.27 и сл.]. Противопоставление проводится главным образом в сфере интеллектуальной. Ксифилин изучил всю грамматику, достиг вершин «искусства поэтического лицедейства», никому не уступает в орфографии, не имеет себе равных в риторике и т. д. Напротив, красноречие Офриды оставляет желать лучшего: когда он говорит, то «разевает свою пасть медленнее морского чудовища... языком двигает как мельничным жерновом» [с. 185. 13 и сл.]. Если Ксифилин в совершенстве знает законы и овладел искусством юриста, то потуги Офриды в этом отношении просто смехотворны.
Молодость, по Пселлу, вопреки мнению Офриды, вовсе не является препятствием к тому, чтобы стать мудрым и красноречивым. Апогея противопоставление Ксифилина и Офриды достигает тогда, когда Пселл, сопоставляя человеческую душу с воском, на котором отпечатываются знания, говорит, что «воск» Ксифилина мягкий и податливый, «воск» Офриды тугой и застывший [1 (V), с. 187.29 и сл.]. «Офрида, – еще более подчеркивает свою мысль Пселл, – сколько ни смотрит на солнце, может с большим трудом увидеть лишь крохотный лучик, а Ксифилин своим могучим взором сразу видит все солнце» (т.е. «свет знания»).
В этом сочинении видно то упоение силой ума и знания, которое, видимо, свойственно было кружку молодых интеллектуалов, группировавшихся при дворе Константина Мономаха. Всякая попытка опорочить членов этого кружка, предпринятая к тому же с обскурантистских позиций, немедленно встречает отповедь. Знаменательно, что обвинитель Ксифилина принадлежит к монашеским кругам, а апология Пселла определенно имеет светский колорит и почти целиком построена на античных примерах и ассоциациях.
Можно думать, что между Пселлом и Ксифилином в этот период существовали те же отношения «ученой дружбы единомышленников», которые связывали с Пселлом и Мавропода. В том же ключе выдержаны и письма Мавропода, которые были, видимо, направлены Ксифилину. Мавропод считает своего адресата ученейшим, справедливейшим человеком, украшенным всеми мыслимыми достоинствами [46, № 128, с. 72.17]. Он лучший из судей, благодаря которому законы воцарились по всей земле [46, № 130, с. 73.21]. Корреспондентов связывает дружба, украшенная всеми возможными «приятностями» [46, № 127, с. 71.33 и сл.]. Как явствует из слов Мавропода, Ксифилин его тоже прославлял в письмах (с. 71.35 и сл.).
Придворная борьба кончилась поражением интеллектуалов. Во исполнение ранее заключенного с Пселлом и Мавроподом соглашения Ксифилин удаляется в монастырь.315 Пселл медлит. Это время интенсивной переписки. Стремясь убедить Пселла исполнить условия их соглашения, Ксифилин требует от него переселения в монастырь и засыпает письмами, содержащими «блестящие посулы, обещания выздоровления, увещевания, плачи, стенания, слова, написанные не чернилами, а слезами, угрозы» [1 (IV), с. 440.27 и сл.], напоминает Пселлу о «дружбе, благодеяниях, преподавании, общении, об ученом сотрудничестве, о самой философии и т.л.» Данные энкомия вместе со свидетельствами ответных писем Пселла на эти несохранившиеся послания Ксифилина позволяют в общих чертах восстановить картину взаимоотношений друзей этого периода.
Опалу и необходимость оставить столицу они воспринимают очень по-разному. Если Пселл (как и Мавропод) чрезвычайно удручен и обескуражен случившимся, то Ксифилин, напротив, относится к событиям без всякого трагизма. «У него, – пишет Пселл, – был такой избыток блага, и жизнь была столь устремленной к Богу, что преображение (т.е. принятие монашества. – Я.Л.) для него прошло безболезненно» [1 (IV), с. 440.9 и сл.]. Вынужденная поначалу аскеза, видимо, не вызвала у Ксифилина никакого внутреннего сопротивления. В двух посланиях Пселла этой поры [1 (V), № 44; 16 (II), № 191] высказывается осторожный упрек Ксифилину за молчание: последний не пишет ему из монастыря. В этих этикетных упреках есть нечто необычное: нежелание Ксифилина писать объясняется не тривиальным «пренебрежением», а требованиями аскетической морали, которым подчиняется корреспондент. «Я хвалю тебя за молчание, ибо знаю, плодом какой добродетели оно является» [1 (V), с. 276.20 и сл.]. Видимо, ограничение или запрещение переписки и устного общения предусматривалось уставом или обычаями монастыря, где находился Ксифилин: «Божественным мужам, окружающим тебя, – пишет Пселл в другом послании, – нравится первый вид философии, и они не разговаривают друг с другом» [16 (II), № 191, с. 215.1 и сл.]. У Пселла этот обычай не вызывает никакого энтузиазма; его оскорбляет, что Ксифилин считает беседу с ним «неуместным занятием», в обоих письмах своих Пселл ссылается на пример Отцов церкви Василия и Григория, святость которых не была препятствием для дружеского общения, в том числе и эпистолярного [1 (V), с. 277.9 и сл.; 16 (II), с. 215.17 и сл.]. Ксифилину, для которого принятие монашества отнюдь не было формальным актом, кажется непонятной задержка Пселла в Константинополе, и последний делится с другом своими душевными сомнениями. Вдруг его стремление в монастырь на самом деле не «божественный порыв», и за действием последует раскаяние [16 (II), с. 218.2 и сл.].316
В конце концов Пселл вынужден был отправиться в монастырь к Ксифилину. Личные встречи, видимо, не ликвидировали, а, наоборот обострили расхождения между бывшими друзьями. Во всяком случае, письма, которыми они обмениваются после скорого возвращения Пселла в Константинополь, преисполнены взаимного раздражения. Как явствует, например, из послания писателя к Ксифилину [156, с. 52, № 3]317, относящегося к концу 1057г., его друг был недоволен тем, что Пселл получил от царя чин проэдра. Будущий патриарх солидаризировался, видимо, с теми, кого раздражала политическая активность писателя-монаха.318 Однако наиболее обнаженно обоюдное недовольство друг другом проявилось в известном послании [1 (V), № 175. Критическое издание с итальянским переводом см. 18].
Письмо это, неоднократно привлекавшее внимание исследователей как историко-философский памятник, для нас – интересный документ отношений Пселла и Ксифилина. То взаимное недовольство, которое, как это видно из предыдущих посланий, накапливалось постепенно, здесь выступает обнаженно. Пселл отвечает на два пункта обвинения, выставленного Ксифилином:
1) излишнее увлечение Платоном, Хрисиппом и рационалистическими методами в философии;
2) увлечение суетой городской жизни, пренебрежение «спасением» в Олимпийской обители.
Пселл действительно признает себя восторженным поклонником эллинских философов (полемическое «Мой Платон!» трижды повторяется в письме). Однако склонность к древней науке, по Пселлу, отнюдь не означает отказа от христианских догм: «Смыв с себя соль, он возлюбил лишь прозрачную воду источника» [1 (V), с. 445.2], т.е., как и полагается ортодоксальному философу, заимствовал из эллинской науки лишь согласующееся с христианскими догмами.
Что касается второго обвинения, то «жизнь на горе» (т.е. на Вифинском Олимпе) сама по себе не залог добродетели. Постижение высшего знания, «озарение» невозможно без предварительного овладения земной наукой, Ксифилин должен сначала погрузиться в изучение книг «наших и не наших» (т.е. христианских и языческих), упражнять свой ум силлогизмами, а уже потом подняться до знания, «недоступного силлогизмам» [1 (V), с. 446–447]. Логическое мышление не противно христианской догме, оно – орудие и средство достижения знания (с. 447).
Это письмо Х.-Г. Бек назвал истинным манифестом христианского гуманизма [138, с. 547]. Можно было бы добавить, что это – воинствующий манифест, проникнутый полемическим пафосом. Нападки Ксифилина философ называет «дерзостью», рождающей у него возмущение и гнев.
Пафос Пселла вызван не одной личной обидой: позиция философа – это позиция защиты науки от невежества, знания от обскурантизма. Ксифилина Пселл показывает не только «ненавистником Платона», но и «ненавистником слова», если не сказать «ненавистником философии» [1 (V), с. 445.16–18]. Он все презирающий (с. 446.5) и т. д. Всякая добродетель, намекает Пселл на позицию Ксифилина, соединенная с чванством и самомнением, оборачивается худшим злом и есть результат невежества (с. 447.1–2). Своего корреспондента он укоряет в незнакомстве с географией, в незнании халдейской премудрости (с. 448) и т.д.
Письмо, утверждает Пселл в заключительных фразах, он написал не из личной ненависти, а с целью защитить Платона и всю светскую науку [1 (V), с. 451].
Десять – пятнадцать лет отделяют это письмо от речи, направленной против Офриды. Мировоззрение, доводы и даже пафос Пселла остались прежними, изменилась лишь позиция Ксифилина. Если раньше Пселл защищал будущего патриарха от Офриды, то теперь он защищает уже самого себя от Ксифилина. В обоих случаях он защищает просвещенность от обскурантистских тенденций.
Когда в 1063г. умер Константин Лихуд, Пселл – во всяком случае, он сам так утверждает – предложил на патриарший престол кандидатуру Ксифилина [1 (IV), с. 447]. Прибывший в столицу новый патриарх отметил Пселла в толпе встречающих придворных, подошел к нему и имел краткую беседу, прерванную самим императором (с. 448.4 и сл.).
Единственный источник для позднего периода (времени патриаршества Ксифилина) – энкомий Пселла. Он резко разделяется на две части (см. ниже), из которых первая – панегирическая речь, скрывающая истинное отношение к герою частоколом стандартных формул. Зато вторая – порицание – дает волю авторским чувствам.
Содержание порицания несколько неожиданно.
Покойному уже патриарху философ предъявляет в основном две претензии, уличая его в занятиях «халдейскими» науками [1 (IV) с. 459–160] и в исповедании физических и онтологических теорий Аристотеля (с. 460–462). Хорошо известно, что то и другое было предметом усиленных занятий самого Пселла. Это обстоятельство, однако, не мешает писателю использовать самые сильные выражения для осуждения своего бывшего друга. Пселл «смеется» над всем, чем гордится патриарх, его наука для него – «театральное действо» (с. 460.2–3).
Еще более неожиданными оказываются в порицании исходные позиции самого Пселла: писатель не может принять исповедуемые Ксифилином теории как «нечестие» и «несоответствующие нашему учению» (с. 460.18 и сл.). Сторонник светской образованности, проповедующий терпимость, Пселл вдруг становится в позу «охранителя устоев». В чем причина столь резкой перемены?
Теоретически это можно себе представить как результат эволюции мировоззрения писателя. Но предположить такую возможность трудно, так как, во-первых, в других произведениях этой поры мы не находим ничего подобного, во-вторых, как уже отмечалось, в энкомии Мавроподу, написанном после 1075г., Пселл высказывает воззрения, прямо противоположные его позиции во второй части эпитафии Ксифилину. Вероятней другое. Пселл остался тем же, однако в специфических условиях Византии (так же как и в случае с Михаилом Кируларием, см. ниже) идейная борьба превращается в уличение противника в отступлении от общеобязательных догм.
Итак, в отношениях между прежними соратниками в последние годы возникает новая (уже третья!) ситуация: бывший защитник Ксифилина, позже вынужденный обороняться от его нападок, на этот раз сам оказывается, правда, уже после смерти патриарха, в роли обвинителя.
Михаил Пселл и Константин Лихуд
Многие события биографии и карьеры Пселла, Мавропода и Ксифилина были так или иначе связаны с деятельностью видного политика, а позже патриарха Константина Лихуда.319
Лихуд родился, видимо, в конце X в.,320 в юные годы он делает придворную карьеру и уже при Михаиле IV (1034–1041) входит в состав синклита [1 (IV), с. 393.18].
Именно на эти годы приходятся ораторские диспуты Лихуда с Ксифилином и Мавроподом, о которых в конце жизни вспоминает присутствовавший на них Пселл [1 (IV), с. 392.28].321 Михаил V (1041–1042) отличает Лихуда, однако «не успевает» вручить ему бразды правления [1 (IV), с. 398.16]. Это делает уже Константин Мономах [1 (IV), с. 399]. Лихуд, обладающий титулами проэдра и протовестиария [см. 55, с. 106; 59, с. 670], становится «первым министром» императорского двора [50, с. 66;. 45, с. 446]. Возвышение Лихуда повлекло за собой приближение ко двору Пселла, Ксифилина и Мавропода, а его отставка около 1050г. привела к отстранению всех троих от активной деятельности. В царствование Феодоры (1055–1056) Лихуд «скромно жил в тихой гавани» [1 (IV), с. 406.9–10]. Оставался в тени он и при Михаиле VI Стратиотике (1056–1057). Летом 1058г. Лихуд вместе с Пселлом принимал участие в посольстве к мятежному Исааку Комнину [1 (IV), с. 407; 20 (II), с. 93; 59, с. 661]. Новый император Исаак, несмотря на сомнения окружающих, вновь поручает ему заботы о государственных делах, а после смерти Кирулария (1058г.) делает его патриархом [1 (IV), с. 409; 55, с. 106].
К периоду патриаршества относится единственное из писем Пселла Лихуду, которое позволяет судить о взаимоотношениях этих людей [16 (II), № 245]. Философ жалуется на охлаждение к нему патриарха, пишет о наветах на него и о некоем «драконе», не подпускающем его к Лихуду. Речь, без сомнения, идет о каких-то расхождениях между друзьями, хотя, может быть (принимая во внимание свойственный византийской эпистолографии гиперболизм), и не столь серьезных.322 Большинство исследователей полагает, что Лихуд был тем человеком («самым дорогим из людей»), по совету которого Пселл приступил к написанию «Хронографии» (см. ниже). На пятом году патриаршества в 1063г. Лихуд умер.
О Лихуде и своем к нему отношении Пселл подробно пишет дважды: в «Хронографии» и «Энкомии». «Ум Лихуда не уступал речи, а речь – уму» [20 (II), с. 93.18]. Благородство и ум политика он сочетал с жизнью священника, делами вершил не как ритор, а как философ, не разглагольствовал, не лицедействовал, но оставался самим собой при том и другом образе жизни и всегда оказывался на высоте положения. При всем этом ему свойственны были доступность, приветливость и качество, очень метко определяемое Пселлом как «улыбчивая серьезность» [20(II), с. 124.19]. Столь идеализированная характеристика в «Хронографии» могла бы быть, конечно, объяснена обыкновенной лестью, поскольку историческое сочинение, во всяком случае частично, пишется в период патриаршества Лихуда.
Вторично к образу Лихуда Пселл обращается не раньше чем через полтора десятилетия в энкомии умершему патриарху. Иное время, иное настроение у Пселла... Из трех друзей молодости двоих (Ксифилина и Лихуда) нет в живых, третий (Мавропод) находится в далекой и нелюбезной ему Евхаите. Для удалившегося от дел и уже очень немолодого Пселла наступил срок подведения итогов и «отдачи долгов» (выражение самого писателя [1 (V), с. 167, 5]). Одним из таких «долгов и являлась речь Лихуду, написанная через много лет после смерти последнего.
Характеристика Лихуда в «Энкомии» не менее идеализирована, чем в «Хронографии». Лихуд – средоточие всех добродетелей [1 (IV), д. 388.4–5], он необыкновенно красноречив, необорим в споре (с. 393), великолепно изучил законы и овладел политическим искусством (с. 394 и сл.); придя к власти, вовсе не изменил своей природе и оказался идеальным правителем государства, сохранив при этом простоту и приятность нрава. Как патриарх Лихуд проявил не меньше достоинств, чем в качестве первого министра (с. 411). Он заботился о бедных (первейшая обязанность священника!) и не забывал (и это специально оговаривается) о своих родственниках и друзьях (с. 412–413).
Главное качество Лихуда – «сострадательность». Здесь Пселл признавал полное превосходство над собой патриарха.
Лихуд, при всей условности образа, определяемой риторическим жанром, – идеальный герой Пселла. Он воплощает те добродетели, объединить которые стремился в себе сам писатель: достоинства государственного деятеля, ученого, философа, благомысленного христианина и сострадательного человека.
* * *
Собранный материал позволяет в той или иной мере проследить взаимоотношения Пселла, Мавропода, Ксифилина и Лихуда на протяжении без малого трех десятилетий. На заре своей карьеры они составляли тесный кружок молодых интеллектуалов, чья деятельность немало способствовала византийскому просвещению XI в. Внутри этого кружка существовала особая интеллектуальная и нравственная атмосфера «ученой дружбы», отгораживавшая и приподнимавшая этих людей над окружающими.
Общие ученые интересы и любовь к «слову» связывали их столь тесно потому, что в середине XI в. люди этого типа еще ощущали себя островками в «море невежества» (используем выражение самого Пселла). «Таков мой истинный философ и учитель, – пишет Пселл в энкомии Мавроподу, – не похожий на многих, занимающихся теперь наукой, и на тех других, которые ее презирают и считают излишней мудростью; усвоив “наше учение” (т.е. христианское. – Я.Л.), они не испытывают нужды ни в каком прочем. Иные же не знают и не изучали даже нашего учения. Слово мое обращено к некоторым из тех, кто так считает» (с. 151, 28 сл.). «Те, кто не изучил египетскую, халдейскую и иудейскую мудрость, – продолжает Пселл, – те, кто не познал эллинские науки и не использовал всего, что есть в них полезного, должны стыдиться своего невежества». Новым укором по адресу тех, кто «презирает образование и делает наше учение предлогом небрежения и легкомыслия», заканчивает Пселл свои рассуждения.
Энкомий, из которого цитированы эти строки, был написан Пселлом уже в конце жизни, но в нем великолепно передано ощущение избранности и интеллектуального превосходства людей, к которым Пселл причислял себя, Мавропода и друзей их юности – Лихуда и Ксифилина.
Весьма интересна также эволюция, которую претерпели отношения этих людей.
Пселл, Мавропод, Лихуд при всей разнице характеров, темпераментов в течение нескольких десятилетий оставались единомышленниками. Напротив, отход Ксифилина от взглядов и представлений юности сделал этих людей к концу жизни почти врагами.
Михаил Пселл и другие «интеллектуалы»
Пселл, Мавропод, Ксифилин, Лихуд были не единственным «островком образованности» среди окружающего их «моря невежества». Объединения, а быть может, кружки интеллектуалов, существовали и помимо них; такое заключение можно вывести, например, из некоторых замечаний Иоанна Мавропода. В письме, возможно, направленном Ксифилину (обращение – Иоанн), Мавропод [46, № 160] выражает дружеские чувства «прекрасной и священной троице, из которых один, я полагаю, еще учитель, а второй и третий – не знаю, как и назвать этих мужей, ибо опасаюсь, что Гераклитова река увлекла их к иному званию и положению» (ср. также письмо Мавропода двум учителям [46, № 161]).
Однако наибольший материал в этом отношении дает опять-таки корреспонденция Михаила Пселла. В одном из уже упомянутых писем [1 (V), № 176]323 Пселл объединяет четырех лиц. Трем из них письмо направлено, четвертый только упоминается. Всех четверых (это протасикрит, ливелисий, «министр» по делам прошений и человек по имени Хиросфакт) объединяют тесные связи. Свидетельство этому – как упомянутое послание, так и тот факт, что в одной из рукописей [Cod. Laurent., 57, 40, fol. 71v–72v] друг за другом следуют четыре письма [16 (II), № 146, 147, 148, 149], трактующие об одном и том же предмете (просьба помочь некоему ὁ Γορδιασοῦ)324 и адресованные (кроме одного) этим, уже знакомым нам лицам. Ливелисия, известного из письма [1 (V), № 176], среди получателей писем нет, зато добавляется некий носитель титула хранителя императорской чернильницы (ὀ ἐπὶ κανικλείου). Протасикрит назван в этом случае именем Аристин. Датировать эти письма трудно. Несомненно только, что их получатели – друзья: послания одним и тем же или связанным друг с другом лицам в рукописи нередко помещаются рядом. Последний аргумент дает основание и для другого заключения. В Парижской рукописи следуют друг за другом два близких по содержанию послания, обращенные одно – вестарху и хранителю императорской чернильницы Василию [1 (V), № 88], другое – «министру» по делам прошений Льву Патрскому [1 (V), № 89]. Вновь носители этих двух титулов оказываются адресатами смежных писем325. В этом случае они уже названы по именам. Речь, вероятно, идет об уже знакомых нам лицах.
Перечислив и выяснив имена членов кружка, можно попытаться ближе охарактеризовать этих людей.
Хиросфакт
Не совсем ясно, о каком Хиросфакте должна идти речь. У Пселла упоминаются еще три человека с этим именем: магистр и протонотарий дрома Евстратий [1 (V), № 124, Cod. Paris., 1277, fol. 270–271=156, с. 60, № 33]326 и Михаил Хиросфакт с сыном [16 (II), № 243]. Не исключено, что имеется в виду и какое-то четвертое лицо.327 Хиросфакт – ритор [1 (V), с. 455.16], видимо, учен (его имя писатель вспоминает, беседуя с мудрыми людьми [16 (II), с. 173.11]), хотя и не считает свой слог достаточно изысканным для эпистолярного общения с Пселлом.
Ливелисий
Об этом персонаже известно очень мало. В «коллективном» письме Пселл считает основным его достоинством «приятность» [1 (V), с. 453.20]. Возможно, он идентичен ливелисию по имени Иоанн, которому Пселл посвятил неопубликованное сочинение о значении 24 букв алфавита.328
Хранитель императорской чернильницы Василий329
Василия связывает с Пселлом «старинная дружба». Одно из писем послано Василию в период, когда тот отправился с какой-то военной экспедицией (Романа Диогена?) [1 (V), № 88], другое письмо написано в связи с принятием монашества или уходом Василия в монастырь [16 (II), № 103]. Наиболее интересное для характеристики этого человека – письмо [16 (II), № 146], в котором говорится, что Василий сладостен своей речью, остер умом, верен в дружбе. Пселл клянется, что не забыл «тех застольных речей и сладостных бесед и игр, которые они вели друг с другом» (с. 172.7–10).
«Министр» по делам прошений Лев Патрский
Из писем № 89 и № 176 [1 (V)] можно понять, что и Лев принадлежал к числу интеллектуалов и, по всей видимости, был учеником Пселла. У нас нет достаточно строгих оснований, однако вполне вероятно, что Льву было направлено и весьма интересное письмо [1 (V), № 12], адресованное «министру» по делам прошений и к тому же ученику Пселла. Пселл ранее, видимо, подшутил над адресатом, намекнув на какие-то изъяны в его внешности, тот, обидевшись, ответил писателю ругательным письмом, порицая характер Пселла. Последний, однако, решил не обострять конфликта и убеждает своего ученика в допустимости безобидных шуток. Любопытно, что в «коллективном письме» прекрасный психолог Пселл считает начальника ведомства прошений человеком замкнутым, и это вполне согласуется с неумением адресата [1 (V), № 12] понимать шутки.
Протасикрит Аристин
Наибольшее число писем сохранилось к Аристину, переписка с которым длилась долгие годы [16 (II), № 67, 94, 111, 148, 224 и неопубликованное письмо из Cod. Paris., 1277, fol. 268–269 [156, с. 60, № 13; 312, с. 31]].330 Аристин – ученик Пселла. У Пселла же впоследствии обучался и его сын [16 (I), № 224]. Аристин носил титул вестарха, был по какой-то причине удален из Константинополя и из изгнания обращался к писателю с просьбами о заступничестве перед императором [16 (II), № 67]. Между Пселлом и Аристином все время поддерживаются отношения изысканной дружбы, друзья оказывают взаимные услуги и обмениваются письмами, исполненными рафинированной учености и красноречия.
Лица, о которых шла речь, очень различны по своему характеру. Их несхожесть отмечает сам Пселл в письме, адресованном трем из пяти членов этого дружественного союза:
«У каждого из вас свой собственный характер, несходный с другими» [1 (V), с. 452.11–12]. Тем не менее, продолжает писатель, эти люди «объединены одним духом» (с. 452.6) и их различие – это различие в тождестве (с. 452.17–18). Но их объединяет одно: «согласие и единодушие во всем прекрасном и рвение ко всяческой мудрости и разуму» (с. 452.18–19). Этот кружок, равно как и его членов, с Пселлом связывает та же «ученая дружба», которая ранее объединяла содружество Пселла, Мавропода, Лихуда и Ксифилина.
Кружок этот, хотя в него входят весьма высокопоставленные чиновники, существовал на несколько более «низком» уровне, нежели первый. Участники его – уже «второе поколение» интеллектуалов. Двое из них – наверняка ученики Пселла. Писатель для них – теперь нечто вроде мэтра, наставляющего и иногда журящего более молодых коллег.
Фрагментарность и нарочитая затемненность содержания сохранившихся писем не позволяет с определенностью говорить о других кружках, но стиль отношений, названных нами «интеллектуальной» или «ученой» дружбой, поддерживается Пселлом с рядом корреспондентов. Среди них (называем лишь некоторых) куропалат Иасит – один из немногих, «уши которых открыты для звука слова» [1 (V), с. 437.10]331, великий эконом, воспитанный в науках [1 (V), с. 266.11], остиарий и протонотарий дрома Иоанн, которого с детских лет связывает с Пселлом «согласие и единодушие» [1 (V), № 125], поэт Малеси, соученик Пселла – Николай Склир, ученик Пофос332 и другие.
Стиль отношений, названный нами «интеллектуальной дружбой», едва ли не чаще всего проявляет себя в корреспонденции Пселла.
Михаил Пселл и племянники Михаила Кирулария
Среди лиц, которых связывает с Пселлом дружба в ее интеллектуальном варианте, немало учеников писателя, составляющих как бы второй пласт его друзей. Особое место среди них занимают Константин и Никифор Кируларии – племянники знаменитого патриарха Михаила. Время рождения братьев – около середины 30-х годов XI в., по словам Пселла, они едва помнили отца (1 (IV), с. 351). Оба брата были отданы патриархом в обучение Пселлу [1 (IV), с. 352], затем занимали ряд высших государственных должностей, в 1058г. подверглись опале вместе с патриархом, а после смерти Кирулария восстановлены Исааком Комниным в прежних должностях. В леммах ряда писем Пселла указаны следующие должности и титулы адресатов.
Великий друнгарий, друнгарий, «министр юстиции», севаст, проэдр, протопроэдр, магистр, сакеларий,333 логофет геникона.334 Все эти титулы и должности, за исключением последней, четко отнесены в леммах писем к Константину. На долю Никифора остается, может быть, только должность логофета геникона. Многообразие должностей и титулов Константина, по всей вероятности, отражает его продвижение по иерархической лестнице.335 Помимо упомянутых, братьям Кирулариям были, вероятно, направлены и другие письма, в леммах которых не сохранилось имени адресата:
I) Письмо № 186 [1 (V)]. В письме Пселл сетует: «Я лишен тебя и брата твоего – прекрасной пары, которых я не променяю ни на какое блаженство» (с. 472. 13–14). Ниже Пселл говорит о том, что в его душе найдется место и для другого «племянника» (с. 472.31) («племянник» – обычное обращение Пселла к Константину Кируларию). Датировать письмо можно только очень условно второй половиной 50-х годов: Пселл упоминает о принятии им монашества (с. 472.21–22).
II) Письмо № 85 [16 (II)], направленное «министру юстиции» (должность эту занимал Константин). Помимо воспоминаний о старинной дружбе, в письме содержатся сетования на то, что Пселл не может заступиться за адресата и вызволить его из ссылки (ситуация напоминает послание [16 (II), № 31]).
В хронологическом отношении письма следует распределить примерно следующим образом: а) № 208 [1 (V)]. Братья являются еще учениками Пселла. Время написания: конец 40-х – начало 50-х годов; б) № 214 [16 (II)]. В письме упоминается «госпожа-императрица» (Феодора). Время написания – 1055–1056 гг.;336 в) письма № 1, 83, 84 [1 (V)]. В них речь идет о свадьбе Константина, посетить которую Пселл не может из-за своего монашеского звания. Terminus post quem для писем – лето 1054 г,337 (время принятия монашества Пселлом); г) письма №85, 86 [1(V)] связаны по содержанию и не могли быть написаны ранее середины – конца 60-х годов: у Константина уже достаточно взрослый сын, для которого Пселл может писать «ученые» письма [1 (V), с. 328–330]; д) письмо № 184 [1 (V)] написано после 1059г., ибо Пселл назван там уже протопроэдром (с. 469.7). При Исааке Комнине Пселл был возведен только в чин проэдра; е) неопубликованное письмо, известное по четырем рукописям [см. 312, с. 30; 166, с. 178 и сл.],338 где Пселл сообщает Константину, что находится на пути в Кесарию, откуда собирается вернуться в столицу. Г. Вейс справедливо датирует послание весной 1069г., когда писатель принимал участие в походе Романа Диогена против сельджуков, но вернулся назад из Кесарии. Видимо, этим же временем следует датировать и письмо № 186 [1 (V)], с большой долей вероятности отнесенное нами к Константину. Писатель сообщает там о всевозможных воинских делах, которыми занят его ум. Своими «успехами» в стратегии во время этого похода Пселл хвастает и в «Хронографии» [20(II), с. 160]; ж) в письме № 31 [16 (II)] упомянуты «император, императрица, кесарь и патриарх», на милость которых может рассчитывать адресат. «Кесарь» у Пселла – обычно Иоанн Дука. Таким образом, письмо могло быть написано при Константине Дуке или в первые годы царствования Михаила Дуки, т.е. в период активной придворной деятельности кесаря Иоанна; з) неопубликованное письмо Cod. Barber. 240, fol. 164 [см. 156, с. 54, № 1; 312, с. 29].339 Константин назван в тексте великим друнгарием. Должность эта введена Михаилом VII между 1072 и 1074гг. Во время написания письма Константин и Никифор живут в Константинополе, а Пселл находится вне столицы. Это единственное свидетельство, подтверждающее слова Анны Комниной о том, что Пселл при Михаиле VII покинул столицу [30, с. 173]. Отъезд Пселла из Константинополя и, следовательно, написание письма можно датировать только последним периодом царствования Михаила. Вейс ошибочно относит послание к ноябрю – декабрю 1059г.
Остальные письма не поддаются даже приблизительной датировке.
Переписка с племянниками Кирулария продолжалась долгое время – не менее двух десятилетий. Первое письмо написано в конце 40-х, последнее – не ранее середины 70-х годов. Связь Пселла с братьями имела ровный характер. Через всю их переписку лейт-мотивом проходит мысль об особой духовной близости корреспондентов. Уже в первом послании, озаглавленном «О дружбе»340, Пселл выражает радость по поводу того, что братья всем другим сочинениям предпочитают его (Пселла) писания, и считает это проявлением родства душ. [1(V), с. 514].
«Если есть род душ... если есть какое-то родство душ и иным из них присущи определенные свойства, – повторяет Пселл уже около 1054г., – то наши души познали друг друга» (V, с. 323). Та же мысль звучит и в одном из последних писем Пселла, датируемых серединой 60-х годов [16 (II), № 31, с. 46–47], и в дружеских излияниях послания № 186 [1 (V)].
Как и во многих других случаях, мотив дружбы и духовного родства оказывается у Пселла тесно связанным с темой учености и науки. Уже в первом своем послании Пселл выражает желание постоянно жить с братьями, преподнося им всевозможные науки.
«Науки, – проповедует писатель, – смывают грязь с душ и делают их природу чистой и воздушной. Если кто начинает одинаково мыслить о вещах значительных, то скоро и в малом уничтожается различие их мнений. Вместе избрав науку, сделайте ее нерушимым залогом единомыслия». Мысль автора выступает здесь обнаженно; согласие людей того типа, к которому причисляет себя и племянников патриарха Пселл, зиждется на «идейных» основах – они единомышленники в своей преданности науке (этим словом мы очень неточно передаем античное и византийское понятие λόγος, под которым следует понимать всю систему культуры и образованности того времени). Мысль эту Пселл высказал в письме к своим ученикам – юношам. Через много лет Пселл направляет им, уже зрелым мужам, послание, в котором увещевает стойко переносить обрушившиеся на них беды, находя утешение в словах и мыслях: «Мужественно переносите несчастья, и пусть ничто не заставит вас забыть надлежащие слова и мысли» (Barber, gr.240, fol. 164v). Бывший учитель напоминает им о своей дружбе и о беседах, как философских, так и веселых, которые они вели в лучшие времена.341 Еще через одно десятилетие отец семейства, высокопоставленный чиновник Константин Кируларий просит своего бывшего учителя направлять ученые по содержанию и прекрасные по форме послания для наставления его подросшего сына [1 (V), с. 329–330].
Как можно судить по содержанию и тону писем, «наука», о которой писал Пселл, отнюдь не ограничивалась комментаторским педантизмом, свойственным византийской учености. В только что упомянутом письме Пселл, неожиданно оборвав изложение ученых сюжетов, заявляет: «Кажется мне, что ты не очень-то увлечен предметами благородными, а, скорее, теми, которым свойственна красота, природная или искусственная. Клянусь твоей святой душой, и я той же чеканки, что и ты. И меня очаровывает внешняя краса и прелесть, заключенная как в травах, так и в словах; и меня не так побеждают пэаниец Демосфен и лаодикиец Аристид нагнетением мыслей и периодов и сменой фигур, как лемносец Филострат – особенно своими описаниями статуй, – который в состоянии смягчить камень, расплавить металл и исторгнуть слезы даже из железных глаз» [1 (V), с. 329.20 и сл.].
Эстетизм (на языке византийских авторов «почитание харит», в отличие от «почитания муз», символизирующих более серьезные предметы) свойствен не только литературным вкусам, но и вообще жизнеотношению Пселла в том виде, в котором оно нашло выражение в письмах к племянникам патриарха. Характерно, что одно из очень немногих описаний природы, встречающихся у Пселла, содержится в его письме именно к Константину [16 (II), с. 256].
Эстетизм и эпикуреизм корреспондентов подчас принимал и более низменные формы. Весьма любопытны в этом отношении два письма Пселла братьям Кирулариям [1 (V), № 184 и Barber, gr., 240, fol. 164]. «Ты воспринял смысл письма не как игру, – удивляется Пселл в начале послания к Константину, – а ведь я разве что только не плясал, когда создавал его, и полагал, что и ты запляшешь вместе со мной и приобщишься к театру» [1 (V), с. 467. 12 и сл.]. Стиль «игры», «театра», подчеркивает писатель, присутствует не только в письмах, но и в личных их отношениях.
«Разве и при встречах не так беседуем мы друг с другом, не так играем в наши юные игры и не настолько не стыдимся наших бесчинств, что выставляем их друг перед другом!» [1 (V), с. 467.26 и сл.]. Оправдывая эту взаимную шутливую игру, Пселл взывает к авторитету Сократа, который без обиняков именовал Теэтета «потешным». И наконец, последний аргумент писателя: «Если бы ты увидел, как кто-нибудь из тех, что в театрах, изображает Перикла или Мильтиада, хлеботорговца Мифайка или кулинара Феориона, разве не посмеялся бы ты над этими героями? Конечно, ты бы восхитился лицедейством и хохотал бы вволю над ними. А вот когда я, философ, ради тебя превратился в лицедея и, позабыв о серьезности, громко смеюсь на орхестре, ты этого права не признаешь» [1 (V), с. 468. 19 и сл.].
Итак, стиль «игры», «театра» – один из стилей переписки и личных отношений друзей. Не случайно театральная образность буквально пестрит в строчках этого послания («игра», «театр», «маска», «лицедей», «лицедейство», «орхестра» и т.д.).
Византия, как известно, была страной без театра, однако театральные реминисценции и театральная образность весьма часты в сочинениях византийских авторов, в том числе и Пселла (не только на страницах цитированного письма). Эти театральные реминисценции поддерживались не одними античными воспоминаниями, а также, видимо, и живой фольклорной традицией.342 В данном случае мы встречаемся со своеобразным «театром на дому», с игровым действом, пронизывающим личные и эпистолярные отношения ученых и интеллектуальных византийцев. Предметом игры и лицедейства становятся не только травестированные античные персонажи (Перикл, Мильтиад) или фарсовые маски (Мифайк, Патайк, Феорион)343, но и сами партнеры по игре и их современники. Иллюстрацией к этому и прекрасным дополнением к разобранному выше письму является послание Пселла к обоим братьям Кирулариям (Barber, gr., 240, fol. 164). Утешая братьев, писатель вспоминает о «веселых забавах», которые они устраивали во время своих застольных встреч. Стараясь развлечь Константина и Никифора, Пселл предлагает изобразить какого-то их согражданина (имя в рукописи непонятно) сидящим на ипподроме или представить некоего Кринита (хорошо известная в Византии фамилия!), склонившего голову и «нарушившего гармонию тела». Не что иное, как театральность, пение и пляски свадебного обряда привлекают Пселла на бракосочетание Константина, посетить которое писателю «и хочется, и не можется». Страсть к комическому лицедейству ученых и интеллектуальных византийцев – своеобразная компенсация безматериальной духовности и аскетизма, следование которым было требованием официальной доктрины.
К этим трем мотивам, характерным для переписки Пселла с Константином и Никифором (культ дружбы, уважение образованности, эстетизм), логично добавляется и непременный интимный тон посланий. В трех письмах философа к Константину речь идет о бракосочетании последнего (1 (V), № 1, 83, 84]. Недавно принявший монашество, Пселл очень хочет посетить свадьбу, однако монашеское обличие не позволяет ему сделать этого. Всяческими способами пытается Пселл найти удобную лазейку, чтобы успокоить возможное недовольство окружающих и собственное чувство долга – впрочем, не очень сильное. В конце концов философ даже предлагает Константину «насильно» задержать его, когда он «ненадолго» заглянет на торжество [1 (V), с. 321]. Последнее письмо из этого цикла заканчивается весьма знаменательным признанием: «Душа у меня веселая и падкая до удовольствий. Если я встречаюсь с харитами, то бываю тотчас покорен ими, моя мысль расслабляется и я как бы подставляю лицо веянию зефира...» (1 (V), с. 324.2 и сл.].
Образ писателя, раскрывающийся в этих посланиях, весьма далек от догматического ригоризма. Как Пселл, так и Константин – люди, ценящие жизненные радости не меньше ученых занятий. Связь между ними – отношения ученых-единомышленников, не лишенных, однако, черт дружбы эпикурейско-горацианского типа.
«Разве ты не понял шуточный смысл письма, – увещевает писатель Константина в другом послании, – разве ты не знаешь, я же пишу к любящему – что размолвка возбуждает влюбленных больше, чем поцелуй, потому-то природа и создала розу с шипами, чтобы люди одновременно вдыхали аромат и приходили в волнение...» [1 (V), с. 467]. Диапазон чувств, выраженных в письмах Пселла племянникам Кирулария, достаточно обширен и явно выходит за рамки обычного эпистолярного этикета. Можно указать, например, на элегическое послание [16 (II), № 214], традиционная риторика которого не может скрыть искренности чувства, или на поздравительное послание в связи с рождением сына, полное умиления перед ребенком [1 (V), № 157].
Интимный тон и эпикурейские мотивы в какой-то степени присутствовали и в отношениях Пселла с другими «интеллектуалами».344 В переписке с братьями Кирулариями они ощущаются наиболее отчетливо и ясно.
Михаил Пселл и кесарь Иоанн Дука
В том, что элемент эпикуреизма в отношениях братьев Кирулариев и Пселла – не игра, или, вернее, не только игра (поскольку элемент игры присутствует в любых эпистолярных связях той эпохи), убеждает нас история взаимоотношений Пселла с известным вельможей, братом императора Константина X Дуки, кесарем Иоанном Дукой.
На протяжении двух десятилетий (от начала царствования Константина до воцарения Алексея Комнина) Иоанн играет самую активную роль в политических событиях и дворцовых интригах, его имя постоянно мелькает в источниках по истории того времени.
Внимание, которое уделяли этому деятелю новые исследователи [221; 235; 270], избавляет нас от необходимости восстанавливать весь жизненный путь Иоанна. Напомним только основные его этапы.
Иоанн получил достоинство кесаря после воцарения брата. О его деятельности при Константине почти ничего не известно. Роман Диоген отнесся к Иоанну с подозрением и выслал его из Константинополя. Вызванный в столицу после поражения 1071г. при Манцикерте кесарь Иоанн развивает бурную политическую деятельность, стремясь возвести на престол племянника Михаила.
После воцарения Михаила Иоанн, однако, был вытеснен новым фаворитом – Никифорицей и потому вновь оставил Константинополь. В 1073г. он вместе с сыном Андроником участвует в походе против Руселя, попадает в плен, и Русель провозглашает его императором. Выкупленный из плена Михаилом, Иоанн принимает постриг. В 1081г. кесарь Иоанн примыкает к восстанию Алексея Комнина. После этого времени его имя исчезает со страниц исторических источников. По своим политическим симпатиям кесарь был близок к Пселлу и неоднократно оказывался с ним в одном лагере (они оба стремились возвести на престол Михаила VII, оба находились в оппозиции к Роману Диогену и т. д.).
Фигура кесаря Иоанна Дуки неоднократно появляется на страницах «Хронографии», а в конце этого сочинения содержится его развернутая характеристика [20 (II), с. 180–182]. Как и всегда, имея дело с византийскими панегириками, следует обратить внимание на акценты и осторожно отделить энкомиастическое клише от деталей, отражающих действительные черты описываемого лица или индивидуальное отношение к нему автора. В полном соответствии с риторическим стандартом Пселл изображает кесаря украшенным разумом и величием духа, искусным в делах, обладающим прекрасным нравом и всеми возможными добродетелями; острый ум сочетается в нем с кротостью и незлобивостью; в военном искусстве он превзошел прославленных древних кесарей, серьезные занятия сочетал с развлечениями и во всем умел соблюдать меру. Последнее, впрочем, не относится к охоте, которой Иоанн увлекался без удержу. На досуге помимо охоты кесарь занимался чтением книг. «Во всем он превосходил всех», – заканчивает свою характеристику Пселл.
Интересно, что Пселл ни словом не упоминает о благочестии Иоанна, – обычно непременном свойстве хвалимых лиц. Argumentum ex silentio имеет значение для писателя, пользующегося энкомиастическим клише и, как «из наборной кассы», примеривающего к своему герою стандартные свойства. Вместо этого подчеркивается другое и не совсем обычное: соединение серьезных занятий с развлечениями и любовью к чтению.
В целом Пселл рисует образ энергичного, умного политика и военного, человека образованного и, несомненно, светского по образу жизни и мысли. Таким, видимо, и был кесарь Иоанн Дука, судя по характеристикам других источников.
Самое число (более 30) сохранившихся писем Пселла к Иоанну – свидетельство интенсивности отношений этих людей.345 Датировке послания Пселла почти не поддаются, однако в ряде писем упоминается царственный брат кесаря (Константин) [1 (V), № 151, 152; 22, с. 170 и сл., с. 184 и сл.], что позволяет отнести их к периоду между 1059 и 1067 гг. Одно письмо скорее всего написано в правление Романа Диогена (1 (V), № 156].346 Михаила VII – племянника Иоанна Пселл не упоминает вовсе, и можно предположить, что в период правления Михаила эпистолярной связи между писателем и вельможей не было. Это вполне понятно, поскольку кесарь в это время находился под подозрением и даже оказался одно время в роли узурпатора. В письмах к Иоанну Дуке не только не содержится хронологических указаний, но и нет почти никаких фактических сведений. Тем не менее они – интереснейшая часть эпистолографического наследия писателя.
За редким исключением, письма к Иоанну писались без определенного повода и несли минимальную информационную нагрузку. Дука, согласно Пселлу, ненасытно жаждет все новых и новых посланий от писателя, который не без кокетства «изнемогает» от просьб корреспондента, но тем не менее готов до бесконечности услаждать его слух [22, с. 180–181]. В свою очередь похвалы кесаря вдохновляют и приводят в восторг тщеславного ритора [22, с. 175 и сл.]. Во всем этом немало от эпистолярного этикета, однако даже этикетные формулы небезразличны к содержанию и могут применяться только в соответствующих случаях.
Кесарь не просто испытывает самолюбивую гордость, будучи партнером в эпистолярно-риторической игре со знаменитым писателем, но и осознает литературную ценность посланий прославленного корреспондента. Во всяком случае – весьма значительный факт – он коллекционирует и составляет книги из писем Пселла [22, с. 176; 16 (II), с. 303].
Каждый из корреспондентов придерживается весьма высокого мнения об учености своего партнера, хотя в этом отношении их положение неравноправно, поскольку Пселл играет роль мэтра, не устающего побуждать к научным занятиям Иоанна, который в увлечении охотой иногда забывает о книгах [1 (V), № 71, 156; 16 (II), № 186].
Письма Пселла к кесарю значительно отличаются от посланий к другим ученым друзьям (Мавроподу, Ксифилину и др.). Прежде всего корреспондентов в данном случае интересует не столько сама ученость, эллинская или христианская, сколько ее эстетическая сторона и риторическое оформление. Твоя страсть к слову, пишет Пселл Иоанну, признак благородной души. «Достойна одобрения всякая душа, любящая прекрасное, я имею в виду возлюбившую не только духовную красоту, но и яркие краски, совершенное искусство, жемчуга, сапфиры и гиацинты» [16 (II), с. 276.22 и сл.]. «Природа твоей души исполнена ума и харит», – вторит писатель в другом случае [16 (II), с. 282].347 Иоанна интересует в посланиях писателя прежде всего их красота и стилистические достоинства (см., например, [22, с. 176–177]), письма во многих случаях превращаются в эстетическую самоцель и уже почти полностью теряют всякие информационные функции.
Бездушные риторические безделушки, однако, парадоксальным образом соседствуют с посланиями совершенно иного, необычного для византийской эпистолографии типа. В письмах к Дуке, как и в посланиях к братьям Кирулариям, неоднократно появляется интимная интонация. В одном случае Пселл описывает тяжелые роды своей дочери: как он, любящий отец, ходил вокруг комнаты, где лежала роженица, прислушиваясь к ее крикам. Лишь появление ребенка принесло ему облегчение [1 (V), с. 307–308]. Рассказано все это тоже по интимному поводу: Пселлу сообщили, что Дука рыдал во время родов его невестки. Иногда такие интонации прорываются и во вполне традиционных письмах. В благодарственном послании в связи с присылкой кесарем трюфелей Пселл замечает: «Дочь моя лежит при смерти, лишь сейчас после твоих даров она воспряла к жизни» [16 (II), с. 282]. Или в другом случае Пселл, теперь уже сам посылая Дуке плоды, пишет: «Если не хочешь есть, отдай их двум младенцам (внукам кесаря), – они будут играть яблоками и грушами, а ты смотреть на них и смеяться» [16 (II), с. 306–307]. Иоанн представляется здесь своему корреспонденту не храбрым военачальником, не мудрым книгочеем и даже не страстным охотником, а умиленным дедом.
Этот доверительно-дружеский тон в ряде случаев оказывается в состоянии растопить риторический лед византийской эпистолографии. Стиль отношений между корреспондентами еще с большими основаниями, чем в случае с племянниками Кирулария, можно было бы назвать дружбой эпикурейско-горацианского типа. И тот и другой уже не молоды и умудрены жизнью, писатель рекомендует вельможе не принимать близко к сердцу жизненные треволнения. «Если ветер тревожит твою душу, не удивляйся. Жизнь наша состоит из взлетов и падений», – утешает писатель [22, с. 173]. Впрочем, писатель понимает, что Иоанну невозможно отказаться от своего любимого удовольствия. Да и сам он, преданный книгам философ, если бы кто-нибудь оторвал его от «любезной ему академии», с удовольствием присоединился бы к кесарю. «Ты ведешь ныне милый тебе образ жизни, который издавна привлекал тебя. Помнится, ты клятвенно заверял, что с радостью променял бы всю власть и высокое положение на жизнь без печали и забот. И вот у тебя есть то, к чему ты стремился. Живи же так до конца! Сколько нам еще осталось прожить? Мы с тобой сверстники, и у тебя и у меня проглядывает седина, хотя и не совсем еще белая. Не пощадит нас коса смерти, а раз завтра предстоит умереть, мирно насладимся нынешним днем» [1 (V), с. 409.1 и сл.].
В полном согласии с эпикурейской этикой пишет Пселл и о губительности больших жизненных удач, которые топят тех, кто их имеет [16 (II), с. 187–188]. Этот «эпикурейско-горацианский» тон подчас далеко уводит Пселла как от эпистолографического стандарта, так и от этических и эстетических норм византийской жизни. «Теперь же давай и пошутим, – заканчивает Пселл одно из писем, – забудем о приличии и монашеской жизни. И я нечто подобное испытал в молодости, и меня пленяли косые глазки и отнюдь не белоснежная кожа. Их обладательницу я полюбил больше, чем иных прекрасноликих и розовоперстых. Узнаешь страсть? Видишь свой лик в моем зеркале? Ведь ты, как и я, сотворен из праха» [22. с. 175.7 и сл.]. В этом последнем полушутливом, полулирическом отступлении (возможно, Пселл вспоминает какое-то увлечение молодости) проглядывает то мироощущение, которое много позже будет свойственно поэтам европейского Ренессанса. Разрушаются представления о красоте как соответствии определенным канонам, и на первый план выдвигается индивидуальное чувство и индивидуальное представление о прекрасном.348 Характерно, что этот пассаж содержится в письме к Дуке.
Вообще человеческая слабость в представлении Пселла, автора посланий к Дуке, как правило, не подлежащее непременному осуждению отступление от торжествующей нормы, а скорее милый недостаток, вызывающий снисходительную улыбку. Отсюда в этих письмах легкая ирония и самоирония, вообще свойственная тому стилю отношений, который мы условно назвали «эпикурейско-горацианской» дружбой.
В только что цитированном послании, сообщая, что и он некогда пленялся «косыми глазками», Пселл пишет, что стал теперь важным, хмурит брови и раздулся от спеси. Если же его кто-нибудь спросит, отчего он так ведет себя, то он ответит, что его похвалил сам кесарь [22, с. 173]. В другом случае Пселл благодарит Иоанна за подаренного коня. Конь этот лучше Пегаса и Буцефала, но беда в том, что Пселл боится коней больше львов и слонов. Тем не менее именно этого коня он храбро оседлает [16 (II), c. 281]. Получив как-то от кесаря и его супруги сыр и отправив им за это благодарственное письмо, Пселл шутит: «Я имею сыр, а вы пустые слова» [22, с. 180].
Заканчивая обычное в византийской практике рекомендательное письмо, философ пишет: «Выполнив мою просьбу, ты сделаешь сразу два добрых дела, избавишь этого человека от несчастий, а меня освободишь от него. Он явился ко мне незваным, и я не знаю, как от него отвязаться» [1 (V), с. 400.19]. Примеры эти можно продолжить.
Для духовной атмосферы отношений между Пселлом и Дукой чрезвычайно характерна образность писем философа. Образная система для средневекового писателя, как правило, – не только средство художественной выразительности и эмоционального воздействия. Византийский художник постоянно соотносит временное с вечным, настоящее с прошлым. Его образы и служат теми эталонами, с которыми соразмеряется изображение (потому они и заимствуются чаще всего из Библии). В письмах к Дуке абсолютное большинство образов имеет античное происхождение. Саму свою связь с Дукой Пселл сопоставляет с отношениями Аристотеля – Александра Македонского, Платона – Дионисия [16 (II), с. 277]. Вспомним в этом контексте, что образец для своих взаимоотношений с монахом и будущим патриархом Иоанном Ксифилином Пселл видит в братской дружбе Василия Великого и Григория Богослова [1 (V), с. 277].
Примечательно, что античные ассоциации в большинстве своем возникают у Пселла не для апелляции к источнику мудрости и не для подтверждения каких-то незыблемых нравственных правил; они появляются в контексте иронической риторики и дружеских излияний. «Мне некуда деваться от твоих даров, – пишет Пселл, – афиняне спаслись от Дария в море, а куда бежать мне?»349 [22, с. 180.24 и сл.]. Некоторые письма Пселла вообще с начала до конца построены на античных образах [22, с. 176 и сл.]. В посланиях Дуке неоднократно цитируются Гомер, Эзоп, Еврипид, упоминаются Дедал, Протей, Нарцисс, Гера, Иксион, называются Дарий, Фемистокл, Перикл, Аристотель, Платон. Мир античных ассоциаций и образов, одинаково близкий Пселл и Дуке, был условным языком их переписки.
В письмах к кесарю меньше стандарта и во всяком случае обширней гамма чувств, чем в большинстве прочих посланий. В них – особый духовный и эмоциональный настрой. Эстетизм, умение ценить жизненные блага, ирония и самоирония – такие же неотъемлемые свойства «отливающей разными красками» натуры Пселла (К. Прехтер), как и его сервилизм или искренняя преданность наукам, проявившаяся в письмах к другим адресатам.
Михаил Пселл и монах Илья
Следующий персонаж пселловской «человеческой комедии», о котором пойдет речь, – не корреспондент, а герой нескольких писем писателя. Бедный незаметный монах Илья (так звали этого человека), конечно, сам не мог рассчитывать получить послание от высокопоставленного вельможи. Однако образ монаха, каким он рисуется в письмах, отношение к нему Пселла добавляют весьма интересные штрихи для характеристики облика писателя.
Имя Ильи встречается в девяти письмах [1 (V), № 153, 154; 16 (II), №8, 93, 97, 98, 212,350 270; 28, с. 51–52]. Илью, по-видимому, имеет в виду Пселл и тогда, когда рассказывает о «славном своей добродетелью монахе», который, пожелав обойти всю ойкумену, заимел намерение посетить и фему Фракисий [16 (11), № 270]. Описание монаха совпадает здесь с изображением Ильи в других письмах: отмечается его красноречие, приятность нрава, а также (постоянно подчеркиваемое) умение рассмешить и доставить удовольствие собеседнику.
Об Илье говорится и в одном из неопубликованных писем Пселла.351 Адресатами этих писем являются: 1) судья Опсикия [16 (II), № 97, 98]; 2) племянник Михаила Кирулария [16 (II) № 212]; 3) севастофор Никифор [16 (II), №8]; 4) судья Фракисия Сергий352 [16 (II), № 270; 28, с, 51–52] 5) судья Катотиков, т.е. Эллады и Пелопоннеса353 [16 (II), № 93]; 6) неизвестное лицо [1 (V),№ 153, 154].
Можно предположить, что севастофор Никифор – не кто иной, как временщик Михаила VII, лучше известный в истории под именем Никифорицы. В годы царствования Романа Диогена (1068–1071) Никифорица исполнял функции судьи Эллады и Пелопоннеса (ср. (193 (I), с. 204]), и Пселл состоял с ним в этот период в переписке (письмо № 103 [1 (V)]). Как явствует из письма, севастофор Никифор находится в Элладе.
«Неизвестное лицо», которому было направлено послание № 154 [1 (V)] и предшествующее ему – № 153 [1 (V)], может быть, стратиг или патриарх Антиохии: Илья является к нему с целью «посмотреть» Келесирию [1 (V), с. 403.21].
Из всех упомянутых писем приблизительной датировке поддается только № 8 [16 (II)], которое относится к царствованию Романа Диогена (времени пребывания Никифорицы на посту судьи Эллады и Пелопоннеса).354
Кто же такой монах Илья, которому Пселл уделяет столь не по рангу большое внимание? Некогда Илья был женат («Он знал, что такое ходить в упряжке» [16 (II), с. 121]). В период знакомства с Пселлом на плечах Ильи мать и родня («Он живет не только для себя... но и для матери, которая возлагает на него надежды, и для родни» [1 (V), с. 402.22 и сл.]). Последнее обстоятельство вынуждает Илью пускаться в длительные путешествия в разные концы света и с помощью Пселла искать покровительства то у судей Опсикия, Эллады и Пелопоннеса, Фракисия, то у племянника Кирулария, то у какого-то влиятельного лица в Антиохии...
Своего протеже Пселл рекомендует со знанием дела; сам он определенно пользовался его услугами: «И я не раз восхищался этим мужем, клянусь твоей святой душой, и – что тут скажешь – очень его полюбил, потому что он оказывал мне необходимые услуги и своей рукой писал для меня быстро и красиво, то, перестроившись, обращался к мелодическому пению, а затем (как тут не перехвалить его!) сбрасывал плащ и хитон и начинал изображать всевозможные сценки». Своему корреспонденту Пселл сообщает, что монах для него «не только с готовностью напишет что надо, но и помоет, постелит постель, приладит седло и сделает все, что будет угодно господину» [1 (V), с. 251. 1 и сл.]. Видимо, в доме Пселла Илья выполняет роль полушута, полуслуги, человека, используемого для всевозможных мелких поручений и услуг.
Основное свойство Ильи – его приземленность: «Есть у меня некий Илья – человек, всему возвышенному противоположный, воспарить над землей не способный... Ему недосуг закрывать и открывать небесный свод, зато он исследует земные глубины» [16 (II), с. 121].
Тот же мотив назойливо повторяется и в другом письме [28, с. 51]: Илья «не вздымает к небу и не рискует сесть на огненную колесницу», но обходит вселенную в надежде найти отдохновение для души. Илья – волокита [16 (II), с. 121.13 и сл.] и обжора («Кормится он не хлебной лепешкой, испеченной из горсти муки, а обильной пищей... масло льет не из бутылки, а щедро, прямо из бочки» [16 (II), с. 121.16–19]).
Илья весьма корыстолюбив. Во Фракисий он прибыл не только затем, чтобы насладиться общением с судьей фемы, но и для дел более практического свойства, – ведь он, как пишет Пселл, любитель не харит, а золота [28, с. 51.25]. Низменность нрава Ильи оттеняется его монашеским обличием: «Одно для Бога, другое для мамоны, для Бога – чистая душа, для мамоны – природа, обремененная страстями. Третьего до сих пор дано не было. Но этот монах Илья и тут ввел новшество, он не предан ни Богу, ни мамоне, но обоим им воздает свое: Богу – монашеское обличие, нашу святую пристань, а мамоне – свойства души и члены тела. Поэтому, вознося славу Богу, он блудодействует умом; бесчинствуя целыми днями, к делу приступает с осмотрительностью. На его глазах быстро появляются слезы, а раскаяние следует сразу за страстями. Он быстро изменяется и знает для себя только два прибежища: публичный дом и монастырь» [16 (II), с. 126.18 и сл.].
Та же мысль весьма образно выражена в письме к фракисийскому судье [28, с. 51.37 и сл.]: «Он готов на любое дело – хорошее и плохое. Он – не весь белый и не весь черный, а как бы и тот и другой с двумя обликами...».
В неустойчивом равновесии души и тела последнее у Ильи постоянно берет верх, и все попытки монаха отрешиться от своей земной природы кончаются неудачей. «Желал этот монах отказаться от всех земных благ», «воспарить к Богу и причалить к заповедной гавани», но его удерживали «телесная оболочка и большой вес, бренное тело и тяжкий груз» [1 (V). № 153].
Характеристика Ильи великолепно дополняется письмом – описанием морского путешествия, которое Пселл совершал вместе со своим протеже [16 (II), №97, с. 125]: «Выйдя из Триглеи, мы плыли вдоль гористого берега, с нами на борту находился великий аскет Илья. Поэтому море спокойно несло корабль, и кругом царила тишина. Водяные валы ради него улеглись, но сам он носился по волнам, сердце его билось учащенно и волновало душу страстями. Вспоминал он не гору Кармел или какое-нибудь другое уединение, а публичные дома и лавки в городе, а также то, какие из публичных женщин хорошо владеют своим ремеслом, а какие для дела не годятся. Он знал, не распутничает ли какая-нибудь торговка, не сводничает ли девка и не творит ли блуд сводник. Он перечислял, кто сражается в открытую, а кто прячется в засаде и таится...». Далее повествуется о том огромном впечатлении, какое рассказ монаха произвел на команду и пассажиров судна. Сам Пселл поражается, как такого богохульника не пожрало морское чудовище; впрочем, Илья заверил его, что распутничает он только на словах...
Любовью к грубым удовольствиям отнюдь не исчерпывается натура Ильи. Можно даже думать (монах блудодействует только на словах!), что Илья лишь сознательно играет роль полушута и балагура, роль, в условия которой низменность пристрастий входит как обязательный компонент. На самом деле монах чувствует себя в доме ученого и утонченного Пселла не менее свободно, чем в веселых заведениях Константинополя. Для его характеристики философ находит слова, которые менее всего подходят для низкопробного балагура. «Одни люди, – рассуждает Пселл в начале письма племяннику патриарха, – уподобляются музам (олицетворяющим в глазах византийца серьезные ученые и философские занятия. – Я.Л.), другие – харитам (представляющим изящные искусства. – Я.Л.), тот же, кто сочетает в себе свойства тех и других, – человек совершенный и высший по добродетели. Таков у нас и этот удивительный монах» [16 (II), № 212]. В приведенных словах содержится очень высокая в устах Пселла похвала: умение сочетать муз с харитами (т.е. ученость с изяществом) философ обычно считает одним из главных достоинств образованного человека.
«Идущее от муз» в Илье интересует Пселла значительно менее, чем «идущее от харит»: «Если ты почитаешь харит, любишь шутить, весело смеяться и забавляться, – продолжает Пселл, – то тебе очень понравится этот человек, который изображает театральные сцены и, подобно временам года, меняет свой вид, представляя то Аякса Теламонида, то Мифайка, то Патайка, то торговца Сарава» (ср. выше, с. 271).
Судье Фракисия Сергию Пселл рекомендует пользоваться услугами этого «многоликого» Ильи вместо того, чтобы идти к флейтистам и кифаристам, поскольку «веселые забавы» необходимы для человека [28, с. 52.10–11].
Илья представляет немалый интерес для Пселла, увлекает и развлекает его благодаря своей одаренности, житейской опытности, живому нраву, склонности к лицедейству и т.п. Несомненно, Илья – незаурядная личность. Ко всем перечисленным его природным качествам, видимо, следует добавить и такое знаменательное свойство, как любознательность: можно думать, что свои многочисленные путешествия Илья предпринимает не только из материальной необходимости, но и из желания повидать новые земли. Так, в письме к властителю Антиохии (?) говорится: «Он пришел, чтобы посмотреть Келесирию... Знаешь, что сделай? Пока подержи его у себя, а потом отправь в Ливию и Азию» [1 (V), с 403.21 и сл.]. В письме (16 (II), № 270) сообщается, что монах пожелал обойти весь мир. Любопытно, что, говоря о странствованиях Ильи, Пселл называет жизнь монаха философской [1 (V), с. 403.4], а самого Илью сопоставляет с Платоном, предпринимавшим поездки в Сицилию! Сравнение с Платоном – высшая похвала, которой можно было удостоиться от Пселла.
В фигуре Ильи находит выражение то взаимопроникновение возвышенного и низменного, «верха» и «низа», которое было столь характерно для средневековой, и в частности византийской, культуры [см. 64, с. 157 и сл.; 78, с. 162 и сл.].355
Было бы неосторожным принимать Илью, каким он представляется в переписке Пселла, за реального византийского монаха. На самом деле он в значительной степени персонаж, построенный по законам художественного отражения. Во всех восьми письмах, посвященных Илье, рисуется единый образ. Три письма представляют собой типичную экфразу, сам жанр которой предполагает «олитературивание» героя [16 (II), № 93, 97, 98]. Но не только в них, а во всех посланиях об Илье Пселл пользуется своими излюбленными средствами для построения образа. Прежде всего, как мы имели возможность убедиться, образ Ильи обладает ведущей чертой – нарочитой приземленностью. Во-вторых, образ Ильи строится на сочетании несочетаемого или, говоря словами самого Пселла, «соседстве противоположностей». В-третьих, для обрисовки Ильи Пселл пользуется и другим своим излюбленным стереотипом: подчеркиванием изменчивости, «протеизма» героя (см. ниже).356
Невозможно отделить Илью – героя писем Пселла, от его реального прототипа. Но и без такого отделения ясно, что как прообраз, так и его литературное отражение – весьма интересные детали для восстановления картины духовной жизни Византии XI в. Сам Илья – монах раблезианского типа, встреча с которым на территории Восточноримской империи в столь раннее время, как XI в., кажется несколько неожиданной и не соответствующей обычным представлениям о византийцах того времени. Не менее неожиданным на первый взгляд может показаться и то, что человек типа Ильи оказывается в сфере притяжения утонченного интеллектуала и первого философа империи. Натура Пселла оказывается шире и многообразней, чем это можно заключить даже из его собственных деклараций. Почти болезненное увлечение лицедейством, интерес к изнанке человеческой природы и всему низменному оказываются такими же чертами Пселла, как его интеллектуализм или эпикурейские наклонности.
Михаил Пселл и Михаил Кируларий
Постоянная апелляция Пселла к «дружбе» в его письмах к самым разным людям может создать впечатление идиллических отношений писателя с окружающими. На самом деле это не так. Как явствует из ряда свидетельств, у многих своих современников Пселл вызывал скорее ненависть, чем любовь. Связи Пселла с окружающими – не только притяжение, но и отталкивание. История взаимоотношений писателя с людьми ему враждебными, не менее, чем с друзьями, может дать богатый материал для характеристики его личности. ,
Наиболее интересны в этом плане взаимоотношения Пселла и Михаила Кирулария.357
История связей этих людей давно волновала воображение историков. Виной тому главным образом два обстоятельства: во-первых, оба византийца – крупные исторические и культурные деятели, во-вторых, отношения их характеризовались кипением политических страстей, внутренним накалом и драматизмом. Нас в данном случае интересует не столько внешняя канва, сколько мотивировка событий и действий, основной механизм драмы, разыгравшейся в середине XI в.
Отношения Пселла и Кирулария можно восстановить главным образом по следующим источникам:
1) речь против Кирулария, см. ниже;
2) энкомий Пселла Михаилу Кируларию, см. ниже;
3) письмо Пселла Кируларию [1 (V), № 159]. В нем упоминаются «солнце» и «луна», т.е. император и императрица, под которыми могут иметься в виду Константин IX Мономах и Зоя или Исаак Комнин и Екатерина. Первое более вероятно, поскольку в письме содержатся жалобы на неблагоприятные перемены в судьбе автора – видимо, намек на преследования партии Лихуда – Пселла в конце 40-х годов со стороны логофета Иоанна. Возможно, его и имеет ввиду Пселл, когда пишет о «преследующем.., который уже наступает мне на пятки» (с. 412.22). Следовательно, наиболее вероятное время составления письма – до 1050г. (год смерти императрицы Зои);
4) три письма Пселла Кируларию [1 (V), № 56, 57, 58].358 В них содержатся намеки на монашество отправителя. Это дает основание датировать их 1055–1058гг. – временем между принятием Пселлом монашества и опалой патриарха;
5) письмо Пселла Кируларию [1 (V), № 160], в котором выражается благодарность и осторожный упрек, почему патриарх прислал рыбу не сам, а через своего племянника. Письмо можно сопоставить с посланием Пселла к племяннику патриарха (16(II), № 214), где писатель благодарит адресата за присылку рыбы от дяди-патриарха. Поскольку письмо к племяннику датируется временем Феодоры, к тому же периоду следует, возможно, отнести и это послание патриарху;359
6) письмо Пселла Кируларию, опубликованное в 1972г. Г. Вейсом [312, с. 46–49]. Поскольку в письме говорится о царствовании императрицы (Феодоры) и об отсутствии Пселла в столице, можно предполагать, что оно написано сразу после пребывания писателя на Вифинском Олимпе в 1055 – начале 1056г. Письмо содержит ретроспективный экскурс об отношениях Пселла и Кирулария и поэтому представляет первостепенный интерес для наших целей;
7) письмо патриарху господину Михаилу Кируларию [1 (V), № 207, 19], см. ниже.
Два письма Пселла Кируларию [1 (V), № 59, 164] не могут быть датированы. Два других письма адресованы патриарху без указания имени. Первое из них [1 (V), № 162] написано от имени учителя школы Диаконисы, и авторство Пселла вообще сомнительно [см. 107, с. 730 и сл.].
В качестве адресата второго [1 (V), № 139] Кируларий может быть назван лишь предположительно;
8) сочинение, озаглавленное «Как делать золото», обращенное к патриарху Михаилу (Vatic, gr., 672, fol. 73) и представляющее собой, по всей видимости, трактат по алхимии.360
Как видно, в хронологическом отношении источники об отношениях Пселла и Кирулария распределяются весьма неравномерно. Только два письма относятся ко времени Константина Мономаха, остальные датируются более поздним временем.
Когда Пселл впервые познакомился с Кируларием, неизвестно. Можно предполагать, что это произошло еще в юношеские годы писателя. Пселл вспоминает о своей привязанности к будущему патриарху [312, с. 46.15 и сл.], рассказывает о знакомстве со старшим братом Кирулария [1 (V), с. 522], умершим до 1041г. [1 (IV), с. 320.]. В те времена совсем еще молодой Пселл занимал мелкие государственные должности, а приближающийся к сорокалетнему рубежу Кируларий успел попасть в опалу за участие в заговоре против императора Михаила IV [1 (IV), с. 313]. Когда в 1043г. Кируларий взошел на патриарший престол, а Пселл вскоре после этого стал ипатом философов, императорским фаворитом и воспитателем племянников патриарха, контакты между ними стали уже неизбежны. В энкомии Пселл, естественно, склонен идеализировать свои отношения с Кируларием (автор был «ближайшим человеком» к патриарху [1 (IV), с. 332], имел возможность непосредственно наблюдать за жизнью Кирулария (с. 339, 368). Кируларий восхищался красноречием писателя (с. 355) и т. д.). Исходя из априорных соображений, можно думать, что отношения этих людей не могли быть безмятежными: пытаясь сохранить расположение Кирулария, фаворит Константина Мономаха попадал в нелегкое положение – отношения между патриархом и императором ухудшались стремительно,361 лавировать между светским и духовным владыками Пселлу, конечно, было непросто.
Свидетельствующий об этом пассаж энкомия нуждается в комментарии не только из-за обычной для византийского писателя нарочитой неопределенности выражений, но и потому, что в данном случае истина специально затемняется Пселлом («Пусть мой рассказ пренебрежет туманной истиной, даже если и мелькнет незаметно ее след...», – замечает автор [1 (IV), с. 356.14–15]). Пселл пишет: «Он (Кируларий. – Я.Л.) ревновал мою природу из-за того, что я погряз в вещах недостойных и бывал во дворце. Я же со своей стороны пожелал действовать в противовес ему (а этого не следовало делать) и склонился в другую сторону. Если позже мы оба и проявили душевную низость, то он нашел в ней для себя предлог, в отношении которого я оправдаюсь позже и в другом сочинении, ведь сейчас я пишу не исследование, а энкомий. Единственное, о чем я скажу здесь, это то, что он ко мне, если можно так выразиться, отнесся не столь философски, как я к нему... Если он черпал из моих источников (имеется в виду красноречие. – Я.Л.), то я не припадал к потокам его достоинств, не отведал и не воспользовался ничем полезным.
Но его беспредельно доброе отношение ко мне и моя необычайная любовь к нему пришли к концу, и завистливый язык еще больше усилил наше расхождение... Волна смыла тогда многих и меня чуть не потопила...» [1 (IV), с. 355.26 и сл.].
Пассаж этот находился в контексте рассказа о времени Константина Мономаха, но представляет собой род отступления – «забегания вперед» (в конце Пселл пишет: «Но пусть моя речь вернется назад, ибо она слишком зашла вперед» – с. 356. 22 и сл.). Трудно сказать, что конкретно имеет в виду Пселл под изменением в их отношениях с Кируларием и волной, чуть не потопившей его самого. Интересно, однако, что причину охлаждения Пселл считает давней и видит ее в «ревности» Кирулария: патриарх недоволен тесными отношениями Пселла с императорским двором.
О том, что расхождения между духовным владыкой и философом начались при Мономахе, свидетельствует также самое раннее из опубликованных писем Пселла Кируларию [1 (V), № 159]. Послание принадлежит к числу традиционных в византийской эпистолографии – это жалоба на пренебрежение. Тем не менее сквозь эпистолографический этикет проглядывает реальное содержание. Кто-то преследует автора («преследующий меня... уже наступает мне на пятки»), счастье изменило ему («судьба переменилась ко мне, и то, что я сколачивал понемногу, рухнуло сразу и вопреки всем ожиданиям» [с. 412.24 и сл.]), патриарх от него отвернулся, а поступки его истолковываются превратно: «Если я вижу больше других, меня считают не в меру усердным, человек простодушный, я приобрел славу ловкача, красноречие мое кажется злокозненным, философские писания вызывают подозрение, то, что я люблю беседовать с тобой, представляется суетностью, если я достойно переношу несчастия, значит я самоуверен, а если малодушно сетую, то – дерзок» и т.д. [с. 413].362 Можно, однако, думать, что Пселл не был только «несправедливо обиженным». Его собственное отношение к патриарху уже в то время далеко от идиллического восхищения. Это ясно из письма, направленного Пселлом своим ученикам – племянникам патриарха [1 (V), № 208]. «Пусть образцом для вашего родственного содружества будет божественный союз, я имею в виду вашего отца и дядю», – поучает братьев писатель. Коротко характеризуя членов этого «божественного союза», Пселл отдает явное преимущество умершему отцу перед здравствующим и занимающим патриарший престол дядей и к тому же кокетливо просит братьев не «предавать» его патриарху (с. 522). Письмо заканчивается призывом следовать отцовским добродетелям. Надо хорошо представлять себе эзопов язык византийской риторической прозы, чтобы оценить значение высказываний подобного рода.
Итак, намеки энкомия получают подтверждение в данных двух писем, более или менее определенно датируемых временем Константина Мономаха: расхождения и взаимное недовольство философа и патриарха имеют место уже в 40-х – начале 50-х годов.
Было бы весьма интересно узнать о позиции Пселла в событиях схизмы 1054г. К сожалению, никаких определенных сведений об этом не сохранилось,363 помимо одного упоминания имени писателя, содержащегося в постановлении Константинопольского синода от 20 июля 1054г.
Это было жаркое время в Константинополе. Патриарх неистовствовал против легатов римского папы, предавших его анафеме как еретика. Император лавировал, пытаясь умилостивить западных послов, и в то же время окончательно не поссориться с Кируларием. Около 20 июля он отправил патриарху письмо с сообщением, что им (императором) наказаны некоторые (отнюдь не главные) его (патриарха) «обидчики». Послание Мономаха передавал «ипат философов и вестарх Константин» (без сомнения, Пселл) [58, с. 166; 169, № 916]. Возможно, это случайность: на месте Пселла мог быть любой иной чиновник. Вероятней, однако, другое: согласившийся на компромисс император отправляет в числе передающих примирительное послание человека, который может рассчитывать на милостивый прием сурового Кирулария. Как известно, основной смысл сообщения у византийцев часто содержался не в письме, а устно передавался через письмоносца; таким образом, личность последнего приобрела большое значение! Не играл ли Пселл роль буфера в отношениях светского и духовного владык? Предположение это тем правдоподобней, что в дальнейшем и новому императору – Михаилу Стратиотику Пселл советует примириться с патриархом [16 (II) с. 88]. Уже испытывающий неприязнь к личности Кирулария, Пселл тем не менее не хочет разрыва с патриархом.
Напротив, в конце царствования Мономаха в отношениях между ними наступает период «краткого потепления», который, однако, быстро кончился с восшествием на престол Феодоры. Вновь жалуется философ на некоего «сикофанта», оболгавшего его перед патриархом, в то время как сам Пселл находился вдали от столицы.
Возможно, это новое охлаждение нашло отражение и в письме, датируемом временем Феодоры [1 (V), № 160]. Пселл жалуется на пренебрежение со стороны Кирулария, мечтает увидеть его, соглашается на роль пса, которому, мол, перепадают куски с патриаршего стола (с. 415). Остальные письма этого периода [1 (V), № 56–58] представляют собой изысканно-риторические благодарности за присланную патриархом рыбу надежды на благосклонность адресата. Пытаться извлечь из этих этикетных посланий реальное содержание – занятие почти безнадежное.
Только одно произведение Пселла этого периода, обращенное к Кируларию, явно и открыто противоречит этикету и потому заслуживает особого внимания [1 (V), № 207].364 Отсутствие оснований для точной датировки и незнание реальных обстоятельств, вызвавших появление сего послания, не позволяет расшифровать многие содержащиеся в нем намеки, тем не менее, смысл его ясен: Пселл высказывает свое истинное отношение к патриарху, – неприязнь, раньше выражавшаяся лишь в туманных намеках, неожиданно выходит наружу. По форме речь является ироническим «синкрисисом», объектами которого становятся сам Пселл и Кируларий. Внешне автор преисполнен почтения к патриарху и презрения к самому себе, на деле же он всячески унижает Кирулария и превозносит собственную персону. Ироническая оболочка нередко вообще прорывается и уступает место прямому обличению. Противопоставление предваряется общей презумпцией. «Ты – небесный ангел... я же таков, как есть, разумная природа, соединенная с телом... я признаю, что я человек, существо изменчивое и непостоянное... ты же один из всех, неколебимый и неизменный» [1 (V), с. 506]. Между этими людьми «горы, моря и материки». Все противоположно в них (с. 507.16). Род Кирулария славен, Пселла – безвестен. Знания и мудрость Кирулария приобретены без всяких усилий с его стороны. Пселл, напротив, «много времени провел над книгами, познал философию и риторику» (с. 507). Кируларий считает науки «пустой болтовней», Пселл их превозносит. Кируларий внушает людям ужас, ненавидит их, несет не мир, но меч; Пселл сострадает ближним и не может даже видеть чужих страданий (с. 510). Кируларий, «демократический муж», ненавидит монархию, в то время как Пселл – принципиальный сторонник единовластия (с. 512).
В приведенном противопоставлении создается четкий нравственный и интеллектуальный образ константинопольского патриарха – человека невежественного, злого, нетерпимого и властного.365
Эти черты образа Кирулария в той или иной степени появляются и в ряде других сочинений Пселла, и даже в его похвальном слове патриарху. Как и положено в сочинениях этого жанра, писатель превозносит Кирулария, тем не менее на «втором плане» этой речи возникает и иной, уже знакомый нам образ «мрачного и сурового» патриарха. Особенно отчетливо эти свойства проявляются сравнениях-синкрисисах Михаила со второстепенными персонажами сочинения.366 Конфронтация героев во всех случаях проводится по одному четкому принципу: противопоставляется «духовный» и «светский» тип человека. Принцип этот проводится Пселлом назойливо и постоянно. Не выходя за пределы круга отношений с; семьей Кирулария, можно сослаться на уже упомянутое сравнение Кирулария с его старшим братом в письме к племянникам патриарха [1 (V), № 208], а также на сопоставление самих племянников, содержащееся в энкомии.
Старший из племянников – божественный муж, который не допускает к устам своим худую речь, не открывает уши свои для мерзких речей, всегда одинаков, не меняется в зависимости от обстоятельств, человек, ценящий прямоту и не знакомый с ложью, не вызывающий подозрений ни в ком другом и не подозревающий других, прост душой, не заботится о внешнем и ненавидит суету. Младший, напротив, «приятного нрава и обаятелен в беседе, обладает умением проникать в души и по внешним признакам заключать о внутреннем содержании. Это человек доступный не для всех, а только для тех, кого выбрал сам, заключающий дружбу не сразу и не со всяким, но лишь с теми, кого хорошо знает и испытал... Он умен, как никто другой...» [1 (IV), с. 352.16 и сл.].
Во всех этих «синкрисисах» при всей индивидуальности их героев происходит сравнение не отдельных разрозненных свойств, а двух типов людей, каждый из которых – сочетание определенных взаимосвязанных и взаимообусловленных свойств личности.
Для духовного типа характерны: неизменность, суровость, непреклонность, пренебрежение внешним и земным, устремленность к высшему, самоуглубленность, отсутствие интереса к людям и дружбе. Для «светского» типа характерны: изменчивость, умение приспосабливаться к обстоятельствам, занятия земными делами, приветливость и ласковое отношение к людям, любовь к прекрасному, увлечение науками и риторикой. Такой принцип разделения людей для Пселла – своеобразный стереотип в оценке современников. Своего сочувствия к «светскому» типу Пселл почти никогда не скрывает, хотя резкость противопоставления в каждом случае различна. В речи, с которой мы начали свои рассуждения, противоречия между Кируларием и Пселлом превращаются в непреодолимую пропасть.
Заключительный этап отношений Пселла и Кирулария приходится на 1058г. и носит драматический характер. Трагизм событий, связанных с изгнанием и смертью патриарха, постоянно привлекают к ним внимание историков, и потому эпизод этот непременно освещается даже в общих работах по византийской истории. Уже это делает излишним подробное его изложение. К концу 1057г. отношения между Исааком Комниным и Кируларием стали напряженными до предела. Исаак действует решительно. Воспользовавшись удобным случаем, он велит схватить патриарха и отправить его на остров Приконис. Поскольку непримиримый Кируларий отказывается добровольно оставить престол, император назначает суд, который должен собраться в небольшом местечке фракийского Херсонеса. Однако до суда дело не дошло, поскольку патриарх скоропостижно скончался. Роль Пселла в этих событиях была первостепенной. Об этом прежде всего свидетельствует тот факт, что составить обвинительное заключение против патриарха было поручено именно ему.
Советами философа император Исаак явно пользовался и раньше. Намек на это содержится у Атталиата. По сообщению этого историка, Исаак отправил к заточенному на острове Кируларию «наиболее ученых митрополитов» с заданием убедить узника добровольно отказаться от престола, причем такой совет подали императору некие «высокопоставленные лица, которым хорошо были известны доблести патриарха, но которые применялись (забавы льстецов!) к обстоятельствам» [50, с. 64–65]. Зная нелюбовь Атталиата к Пселлу, можно предположить, что под «высокопоставленными лицами» имелся в виду и первый философ империи.
Эпизод с обвинением Кирулария в бесчестии и других тяжких грехах – обычно самый сильный аргумент тех биографов Пселла, которые акцентируют внимание на «моральной» неполноценности великого средневекового писателя. Действительно, роль прокурора на процессе, исход которого предрешен заранее, еще никогда не делал чести ни одному историческому деятелю. Первым разоблачителем Пселла оказался... сам Пселл. В энкомии он пишет: «Император созвал всех мудрых и всех самых ученых людей и воспользовался их помощью для борьбы с патриархом. Ни один здравомыслящий человек не бросит им упрека, во-первых, потому, что любой поступок может быть истолкован двояко, как хороший и как дурной... во-вторых, потому, что хотя большинство из соучастников и были самого лучшего мнения о предприятиях патриарха перед лицом суровых испытаний, тем не менее воля императора, чтобы они судили так, а не иначе, заставила их согласиться с его мнением» [1 (IV), с. 370.3 и сл.]. Эти самооправдания скорее напоминают саморазоблачения. Любопытно сравнить слова Пселла с только что цитированным высказыванием Атталиата [50, с. 6465]. Две совершенно различных оценки «классического» византийского сервилизма! Содержание обвинительного заключения подтверждает самые нелестные отзывы о Пселле современных исследователей. Этот обширный документ, несмотря на все риторические издержки, составлен со строгостью юридического акта. Уже в преамбуле против Кирулария выдвигается пять основных пунктов обвинения, разворачивающихся затем в обширное произведение, занимающее около ста страниц нового издания. Каждый, во всяком случае, из первых четырех пунктов, достаточен для того, чтобы лишить патриарха не только престола, но и жизни. В вину патриарху ставится: 1) покровительство двум хиосским монахам, а вместе с ними и женщине по имени Досифея, устраивавшим запретные оргии и прорицавшим будущее. Статья обвинения: нечестие (ἀσέβεια); 2) злоумышление сразу против двух императоров – Михаила Стратиотика и Исаака Комнина с целью захвата царской власти. Статья обвинения: узурпация (τυραννίς); 3) подстрекательство к убийствам, имевшим место в дни перехода власти от Михаила Стратиотика к Исааку Комнину. Подстрекательство приравнивается к убийству; 4) разрушение храма. Статья обвинения: святотатство (ἱεροσυλία); 5) издевательство над Священным Писанием, недостойное поведение в церкви, злопамятство, мстительность, недоброжелательство к людям, занятия алхимией. Эти разнородные обвинения объединяются под статьей ἀδιαφορία.367
Уже первые ученые, исследовавшие текст обвинительного заключения, обнаружили белые нитки, которыми сшит этот документ, почти целиком состоящий из натяжек или прямой лжи. Кируларий, например, не противодействовал захвату власти Исааком, а, напротив, споспешествовал ему – об этом говорят все историки, в том числе и сам Пселл. Разрушение церкви (речь идет о церкви Св. Андрея в Константинополе) на самом деле было ее перестройкой. В вину патриарху Пселл вменяет те «грехи», в которых был в первую очередь повинен сам: занятия алхимией, неоплатонической философией и т. д.
Нет нужды еще раз произносить филиппики против Пселла или, наоборот, подыскивать ему оправдания. Гораздо интереснее постараться понять атмосферу, в которой должно было происходить судилище, и в связи с этим проникнуть в логику и метод обвинений, выставленных философом, взявшим на себя роль прокурора. И для того и для другого речь дает достаточно материала.
Прежде всего не надо думать, что предполагавшийся суд был бы простой расправой над уже поверженным противником. Не случайно император при аресте патриарха боится возмущения горожан, не случайно он старается не довести дело до суда, а когда это не удается, назначает заседание синода вне Константинополя, не случайно, наконец, обвинение поручается самому ученому философу и самому искусному оратору – Михаилу Пселлу. Твердая позиция Кирулария после ареста была не только плодом упрямства или фанатической убежденности; она основывалась, видимо, на трезвом расчете: патриарх собирался на заседании синода дать императору бой, исход которого еще не был окончательно предрешен. Кируларий мог, видимо, рассчитывать на демарши своих сторонников во время суда; во всяком случае, Пселл, готовя проект речи, учитывал возможность их появления. В тексте «Обвинения» содержится несколько обращений к возможным защитникам патриарха (с. 265, 275, 299, 307, 309). Слова Пселла можно было бы принять за простой риторический прием, но в одном месте предполагаемый прокурор прямо говорит о разногласиях в синоде:
«К тому же, среди части нас существуют противоречия – некоторые с нами, некоторые с противной стороной. Одни из осторожности не голосуют беспристрастно, другие дерзко и неразумно возражают, при этом не выдвигают доводов (а что могли бы они сказать!), а только понапрасну шумят и будоражат собрание. Эти немыслимые глупости они выражают в речах сбивчивых и бесформенных, и нечестивцам при этом кажется, будто они поступают благочестиво, бесчеловечным – будто действуют человеколюбиво, а совершающим величайшее бесстыдство – будто соблюдают благоразумие» (с. 311).
Чтобы парализовать возможных защитников Кирулария, Пселл пишет: «Присутствуют здесь и такие, кто собирается встать на его (патриарха. – Я.Л.) защиту. Мне стыдно за них. Более того, я боюсь, как бы, рассчитывая безболезненно извлечь копье из чужого тела, они еще больше не разбередили бы зазубринами его раны и, неумело вытаскивая копье, не вонзили бы его в самих себя – в этом случае они сами уже не будут иметь защитников: их пример всех облагоразумит. Не воображайте, будто вы жалеете патриарха, а мы дерзкие и наглые. Мы не менее вас любим этого мужа, а более всех – император...» (с. 265.19–28).
В приведенном отрывке интересна не столько прямая угроза по адресу противников (у них-то самих уже не найдется защитников, расправа над ними, по мнению автора, дело решенное!), сколько его заключительные фразы: оказывается, по-настоящему любит патриарха не тот, кто его обороняет, а тот... кто на него нападает.
Мысль эта находит дальнейшее развитие: пусть лучше духовный владыка на земле потеряет престол, чем лишится вечного блаженства на небе (с. 327). Кирулария разоблачают и преследуют как бы ради его собственной пользы. Так возникает своеобразная «логика наизнанку», подмена понятий, характерная для всего обвинения. Апогея этот «метод» достигает в конце – в заключительном аккорде речи, цель которого – устрашение инакомыслящих. «Если вы выберете первое (оправдание патриарха. – Я.Л.), то выражайте свою волю письменно, чтобы император имел оправдание, когда будет он судим и строго допрошен перед лицом Господа. Пусть тогда Церковь снова распахнет двери для языческих сборищ, прорицаний, треножников, дабы восторжествовал дух, противный божественному. Но если вы не сделаете этого, то смело, каждый в отдельности и все сообща, голосуйте за низложение патриарха» (с. 326–327).
Не говорим о том, что несогласным предлагается дать письменное свидетельство своего несогласия; в тех условиях – это безусловно опасная акция. Гораздо интересней то, как Пселл пытается облегчить внутреннюю борьбу тем, кто еще колеблется и боится. Философ внушает таким членам синода две мысли. Первое: голосуя против Кирулария, они подают свой голос не столько против конкретного патриарха, сколько против утверждения в святых церквах языческих оргий и таким образом против «бесчестия» вообще, Благодаря лукавой логике малодушие превращается в «борьбу за идею». Второе: сторонники патриарха, голосующие против, проявляют не трусость, а мужество, В речи так и сказано: «дерзайте голосовать». Оба эти утверждения должны были успокоительно действовать на совесть и даже приподнимать в собственных глазах тех, кто в душе уже решился на предательство,
Нами уже отмечалось, что это так и не произнесенное «Обвинение» очень подорвало репутацию Пселла среди новых исследователей его творчества. Не имея намерения подыскивать моральные оправдания Пселлу, укажем лишь на необходимость рассматривать «Обвинительную речь» в контексте всей истории отношений обвинителя и обвиняемого, Пселл – отнюдь не простое орудие в руках мстительного императора. Расхождения между философом и патриархом имели глубокие корни, и в этом смысле «Речь» была лишь последним, заключительным этапом давней вражды. Если же характер выдвинутых обвинений не вяжется с образом самого обвинителя, то причина этого не в особом «коварстве» Пселла и тем более не в резкой перемене его мировоззрения, а в специфической идейной атмосфере Византии, где в условиях безраздельного господства официальной доктрины идейная борьба почти неминуемо для обеих сторон превращалась в уличение противника в «отступлении» от общеобязательных догм. Впрочем, своих прежних претензий к Кируларию Пселл не забыл, а как бы, отстраняя на второй план, концентрирует их в последнем, пятом параграфе речи, Кируларий, утверждает философ, недоброжелателен к людям, злобен, злопамятен, подозрителен, груб, он не любит красноречия и презирает философию, душа его недоступна прекрасному. Перед нами вновь (в том же наборе качеств) возникает фигура того Кирулария, которому Пселл противопоставлял себя в первой своей речи, заготовленной для произнесения против патриарха.
Однако в «Обвинении» все акценты смещены. Первая речь (независимо от повода, по которому она появилась) была идейной борьбой, вторая – доносом, где здравый смысл заменен «логикой наизнанку», а юридическая четкость – ее внешней имитацией. Вполне возможно, что Пселл стремился повергнуть не только строптивого врага императора, но и религиозного фанатика, стоявшего на пути светской византийской культуры, однако средства, которые он собирался при этом применить, явно компрометировали цель.
Через несколько лет после смерти патриарха, уже при императоре Константине X Дуке, женатом на племяннице Кирулария, Пселл произносит большой торжественный панегирик в честь своего бывшего противника. Как и следовало ожидать, патриарх в нем оказывается и самым красивым, и самым ученым, и даже самым милостивым. Таковы были не только законы жанра, но и требования ситуации! Мертвых врагов часто бывает выгодней считать друзьями!
Михаил Пселл и Лев Параспондил
Итак, ссора Пселла и Кирулария – не только эффектная историческая драма и игра страстей, но и проявление глубинного конфликта двух противоположных типов мироощущений. Другая конфликтная ситуация, хотя и несравненно меньшего накала, возникла у Пселла и в его отношениях с Львом Параспондилом.
О могущественном временщике императрицы Феодоры Льве Параспондиле (Стравоспондиле)368 сообщают почти все основные источники по истории Византии середины XI в. [20 (II), с. 74 и сл.; 79, 102; 52, с. 50 и сл.; 45, с. 486]369. «Подыскивая подходящего человека, – пишет Пселл, – Феодора ошиблась в выборе и поставила управлять государственными делами не того, кого в течение долгого времени отличали ученость и красноречие (не намекает ли Пселл на самого себя? – Я.Л.), а человека, умеющего лишь молчать и потуплять взор, не способного ни к дипломатическим переговорам и ни к чему другому, что характеризует политического мужа» [20 (II), с. 74].370
Атталиат расходится в оценках с Пселлом и говорит, что Лев принадлежал к числу людей «избранных», был духовного звания и человеком разумным и опытным, который ввел в государственные дела законность и строгий порядок [50, с. 52 и сл.].
По сообщению Скилицы, синкел (далее он назван протосинкелом) Лев прежде служил императору Михаилу IV371 и был возвышен Феодорой благодаря своей «многоопытности» [45, с. 479]. Уже после смерти императрицы недовольные воеводы во главе с Исааком Комниным обращаются к Льву с просьбой быть их ходатаем перед новым императором Михаилом Стратиотиком. Однако всесильный временщик, «человек мрачный и неприступный, не только отказался благожелательно рассмотреть их просьбу, но и выгнал их с оскорблениями» [45, с. 486]. Этот эпизод, послуживший непосредственным поводом к восстанию, объясняет ту ненависть, которую питает к временщику мятежный Исаак Комнин. В качестве основного условия договора с императором Михаилом, согласно Пселлу, Исаак Комнин выставляет требование устранить Параспондила (последнего Исаак презрительно именует «низкорослым»).
Жизненный путь первого министра двора, естественно, не мог не пересечься с карьерой первого философа Византии и важного чиновника Михаила Пселла. Свидетельство этому помимо «Хронографии» – некоторые «малые» сочинения писателя.
Четыре письма Пселла непосредственно адресованы Параспондилу [1 (V), № 118; 16 (II), № 72, 87, 185].372 Три письма, а также два небольших произведения других жанров направлены человеку, носящему титул протосинкела [1 (V), № 7, 8, 9].373 Указание в лемме «протосинкелу» само по себе, конечно, не означает, что произведения были обращены к Параспондилу.374 Тем не менее такая адресация представляется нам весьма вероятной по ряду внутренних признаков.375
Кроме того, вполне вероятно, что именно Льва имеет в виду Пселл в небольшом энкомии Феодоре [16 (I), с. 5.13 и сл.], где он хвалит некоего блюстителя законов, возвышенного императрицей.376
Каким же образом складывались отношения между философом и министром константинопольского двора? Вскоре после смерти Константина Мономаха (январь 1055г.), т.е. именно тогда, когда Параспондил был неожиданно возвышен Феодорой, принявший монашество Михаил Пселл удалился в монастырь на горе Олимп в Малой Азии. После смерти Феодоры (август 1056г.) в короткое царствование Михаила Стратиотика Пселл возвращается в столицу и вновь выполняет важные государственные обязанности. Параспондил, помогавший Михаилу прийти к власти, в это время остается первым министром двора. Однако с воцарением Исаака Комнина их роли переменились: Пселл сразу начинает пользоваться доверием нового императора, Параспондил, видимо, попадает в опалу.
Обрисованная ситуация помогает приблизительно распределить во времени некоторые из «малых» сочинений Пселла. Одно из писем [1 (V), № 118] – крик отчаяния гибнущего человека. «Смерч бедствий», «фракийская зима несчастий», «губительный град» совершенно измучили и лишили души Пселла, превратили его в камень (с. 365). Знакомый с византийской риторикой читатель, конечно, не даст себя обмануть красивыми гиперболами. Экзальтированные дружеские излияния и выспренние жалобы, без сомнения, имеют практическую цель: Пселл ищет заступничества Параспондила.
К этому, или приблизительно к этому, периоду следует отнести и «Слово, рассказывающее...». Как явствует из его содержания, Параспондил во время написания сочинения находился на вершине власти.
В этом сочинении, правда, содержится намек на какие-то реальные обстоятельства, расшифровать которые до конца нам не представляется возможным. Пселл пишет о Льве: «Жизнь его блаженна, живет он в соответствии со своим характером, но иногда и вопреки ему. Обособляя себя от государственных дел, он был захвачен сменой властителей» (ἀφαρπάζων γὰρ ἑαυτὸν τοῦ κοινοῦ περιάρπακτος ταῖς διαδοχαῖς τῶν ἡγεμόνων καθέστηκε [16 (I), c. 58]). Не подразумевается ли здесь отставка Параспондила? Возможно, что именно это свое сочинение имеет в виду Пселл в одном из писем к протосинкелу [1 (V), № 7], где говорится: «Когда ты растолковываешь и объясняешь свою природу, то мы, рисуя тебя другими красками, кажемся болтунами» (с. 232). Из дальнейшего становится ясным, что Параспондил выразил недовольство тем, как его изобразил Пселл.
Два письма к Параспондилу можно с уверенностью отнести ко времени, когда Пселл вернул себе былое могущество, а в опале, напротив, находится протосинкел: «Письмо, которое ты послал святейшему патриарху, – пишет Пселл, – и которое ты попросил собственноручно передать ему, вручено, принято и уже ответ для тебя получен. До зачтения я держал долгую речь о твоей святости, и патриарх выслушал и обдумал мое свидетельство. Если его мнение зависит от меня, все у тебя будет хорошо и по душе» [16 (II), №72, с. 105.2 и сл.].
Ситуация, на этот раз четко выступающая из приведенного послания, получает интересный комментарий в другом письме, помещенным в рукописи перед уже приведенным. То, что письма в рукописи находятся рядом (Cod. Laurent., fol. 37v–38r), – дополнительное и немаловажное свидетельство их взаимосвязи.
Пселл пишет, обращаясь к патриарху: «Ныне узнал я моего дражайшего господина, великого архиерея и слугу божьего. Теперь узнал я характер твоей истинно божественной души. От строгой справедливости ты поднялся к вершинам человеколюбия. Пришел ко мне бывший властитель (ὁ ποτὲ ἡγνούμενος), вечный раб твоей милости, пришел, проливая слезы радости, пришел со словами благодарности, восхваляя и прославляя твою добродетель. Он жестоко порицал себя, а тебя превозносил и представлял совершенно безвинным... Благодарю тебя и я за то, что ты не оставил без последствий моей просьбы...» [16 (II), № 71, с. 104]. Скорее всего, «бывший властитель» – Лев Параспондил, по просьбе которого Пселл с успехом выполняет миссию посредничества между ним и патриархом.
Пикантность этой ситуации придает то обстоятельство, что Пселл ходатайствует за Льва перед Михаилом Кируларием – бывшим главным врагом временщика Феодоры.377
Из другого послания [1 (V), № 8] можно понять, что его адресат ушел в монастырь («изобилие денег и богатств ты сменил на философию, пристрастие к низшему – на любовь к Богу, многочисленную стражу – на жизнь среди ангелов, привязанность и дружбу земного императора – на близость к Богу», с. 237). Перемену в своей судьбе Параспондил, видимо, воспринимает трагически. Во всяком случае Пселл считает нужным утешить его: обычного человека огорчают перемены судьбы и лишение благ, но «философский муж», каким является адресат, должен переносить их спокойно (с. 234). Увещевания заканчиваются вполне практическим обещанием: «Ныне я утешаю тебя на словах, но я найду удобное время для того, чтобы как можно более искусно рассказать о тебе могущественному нашему императору, дабы ты получил соответствующую похвалу, а он доставил тебе столько радости, сколько я – похвалы» (с. 238).
Пселл заступается за Параспондила не только перед патриархом, но и перед императором (Исааком Комниным?).
Итак, судя по письмам, в отношениях Пселла и Параспондила можно четко выделить два этапа – до и после воцарения Исаака Комнина. На первом – Параспондил оказывает покровительство Пселлу, на втором – их роли меняются, и уже Пселл протежирует Параспондилу.378
Интерес представляют не столько фактические детали, сколько нравственная сторона взаимоотношений Михаила Пселла и Льва Параспондила. О том, как относился министр к писателю, можно только догадываться по намекам самого Пселла. «Были некогда и милетцы храбрецами, когда ты внимал моим словам как божественным прорицаниям и восхищался моей речью как простой, так и возвышенной», – замечает писатель [1 (V), с. 240]. Напротив, свидетельств об отношении Пселла к Параспондилу более чем достаточно. Частично приводилась оценка Льва из «Хронографии». Продолжая ее, Пселл сообщает, что искусством красноречия тот владел только в самой малой степени, что мысли свои выражал больше жестом, чем словом, что речь его была грубой и неотчетливой, что окружающим он казался человеком суровым и жестким, и никто без крайней необходимости не обращался к нему [20 (II), с. 74–75]. Пселл недвусмысленно выражает свое отрицательное отношение к характерам такого типа. «Если человек в состоянии сбросить с себя телесную оболочку и дойти до вершин жизни духовной, то что общего может быть у него с делами?.. Пусть он поднимется лучше на высокую гору, отвернется от людей и пребудет там с ангелами, чтобы озарил его высший свет» [20 (II), с. 75].
Несомненно, в первую очередь Параспондила имеет в виду Пселл, когда с раздражением пишет в «Энкомии Кируларию» о людях, «всего домогающихся и хвастающих, что они правильнее самих канонов» [1 (IV), с. 358, 2 и сл.]; эти люди сумели привлечь к себе Феодору.
Развернутая характеристика Льва содержится и в «Слове, рассказывающем...». Параспондил представляется там Пселлу человеком «необщительным». Он – из числа «твердых душой» политических деятелей. Делами он управляет хорошо, но к изменчивым обстоятельствам не приспосабливается. Отметим особо интересную деталь: Лев «не забавляется мерзкими мифами» (видимо, речь идет о древней поэзии) и не терпит славословий в свой адрес. Напротив, Лев богат внутренним разумом, хотя и не скоро обнаруживает его перед окружающими. Под «внутренним разумом» надо понимать мудрость, приобретенную не в результате чтения и занятий, а озарения свыше.379
Отношения Льва с Богом имеют мистический характер. Он общается с Всевышним, не исполняя священные гимны, а возносясь к Богу душой. В душе ощущает Параспондил божественную волю [16 (I), с. 57].
Такая же характеристика, с вариациями в деталях, содержится и в иных сочинениях Пселла, которые мы с большой степенью вероятности адресовали Параспондилу. Так, в послании, озаглавленном «Протосинкелу, попросившему рассказать о чудесах чудотворца Григория», Пселл обращается ко Льву: «Ты, постигший божественную мудрость, презираешь земную мудрость как низшую и недостойную и считаешь мои похвалы грубыми, поскольку можешь наслаждаться высшим славословием» [16 (I), с. 143.10 и сл.].
Здесь, как и почти во всех письмах, Пселл нарочито занимает позу человека земного и низменного, который обращается к существу высшему и божественному. «Я человек настолько земной и плотский, – подчеркивает Пселл в одном из посланий, – что моя болезнь кажется мне болезнью, удар – ударом, рана – раной и все остальное – тем, что оно есть по своему названию и свойствам, поскольку я отверг знаменитое выражение Пиррона, что человек – мера всех вещей» [1 (V), с. 232.25 и сл.]. Напротив, Параспондил для Пселла – образец того уже почти исчезнувшего типа людей, которые преодолели телесную оболочку и живут в мире чистой духовности: «Знай же, дорогой брат, что уже давно иссяк этот род философии и я ни разу не встречал среди своих современников человека, который бы жил по природе ума, не подверженной ничему земному, так, что кажется, будто у него нет тела, ныне же, впервые встретив тебя, я восхищаюсь твоей природой...» [1 (V), с. 233.22 и сл.].
Было бы, однако, излишней поспешностью всерьез принимать все эти возвышенные похвалы. Нередко за ними скрывается плохо замаскированное раздражение и неприятие. Это особенно отчетливо видно из другого письма Пселла [1 (V), № 9]. Внешне оно имеет вполне традиционный характер – это обычное послание с упреками в пренебрежении, жалобами на отсутствие писем и т.д. Но за этой эпистолярной этикетностью – сдержанное раздражение. Видимо, Лев считает, пишет Пселл, что он находится рядом с Богом, и в то время как большинство людей занято делами, он «воспарил ввысь и общается с родом высших». Поэтому, продолжает писатель, Лев и отказывается от общения с ним.
«Слова мои не проникают в твою душу, – заканчивает Пселл письмо, – не стану стучаться в ее двери, обратись к Богу и беседуй с ним...» [1 (V), № 240.19 и сл.].
Образ Льва Параспондила воспроизведен Пселлом в сочинениях трех различных жанров. Как можно было убедиться, он везде обладает примерно одними и теми же чертами. Различие проступает в акцентах и оценках: внешне восторженных в «Слове, рассказывающем...», двойственных в письмах и откровенно отрицательных в «Хронографии». Отношения с Параспондилом – эпизод в жизни Пселла, но и в нем проявились особенности мироощущения византийского писателя. Восхищение Пселла «святостью» Льва – скорее всего дань общеобязательным идеалам, нежели искреннее чувство. На самом деле временщик Феодоры не вызывает симпатий Пселла. Стремление к преодолению всего телесного и земного, несовместимое с государственной деятельностью, заставляет Параспондила пренебрегать светской образованностью и древней литературой, оставаться человеком необщительным и суровым с окружающими. В этом отношении Параспондил в обрисовке Пселла чрезвычайно напоминает Михаила Кирулария, о котором шла речь выше. Люди такого типа вызывают постоянное и непременное осуждение Пселла. Михаил Пселл, – с одной стороны, Лев Параспондил и Михаил Кируларий – с другой, – люди, находившиеся на разных полюсах интеллектуально-нравственной жизни Византии середины XI в.380
Нельзя обойти молчанием и другое наблюдение, касающееся уже чисто человеческих свойств Пселла. «Истинный византиец», «придворный интриган», Пселл в истории с Параспондилом явно не оправдывает всех тех презрительных эпитетов, которыми его щедро и не всегда незаслуженно награждали ученые XIX–XX вв. Пселл заступается за Параспондила перед враждебными к нему императором и патриархом даже тогда, когда Лев перестал пользоваться всяким влиянием и попал в опалу.
Михаил Пселл и монашество
В отношении к Параспондилу явно нашла выражение нелюбовь писателя к типу людей, наиболее полно представлявших аскетическую тенденцию византийской культуры. В связи с этим заключением интересно рассмотреть отношение Пселла к тому сословию византийского общества, которое по своему положению должно было являться воплощением этих тенденций: монашеству.
Монашеская стихия со всех сторон окружала каждого византийца. Пселл не был в этом отношении исключением. Его отец и мать кончают свои дни в монастыре, друзья юности еще в молодые годы принимают монашество, двое из них становятся константинопольскими патриархами, третий – митрополитом. Наконец, уже в возрасте 37 лет сам Пселл становится монахом. На протяжении всей жизни Пселл находится в переписке с высшими духовными сановниками империи. Наибольшее число писем Пселла обращено антиохийскому патриарху [16 (II), № 88, 134, 135, 138, 139; 1 (V), № 42, 61, 181; а также три неопубликованных письма: 156, с. 53, № 7, 8; с. 60, № 17; 312, с. 33].381 Имя патриарха (Эмилиан, занимал престол в 70-е годы) указано только в леммах писем, сохранившихся в Эскуриальской рукописи. Все ли письма адресованы этому патриарху, не ясно. Противопоказания такой атрибуции содержатся только в письме № 42 [1 (V)], относящемся скорее всего ко времени Константина Мономаха [ср. 312, с. 33. прим. 90]. Эмилиана, по нашим предположениям, имеет в виду Пселл и в письме к Пофосу [1 (V), с. 498.7; см. ниже].
Как явствует из письма № 88 [16 (II)], послание составлялось писателем уже в немолодом возрасте. Пселла связывали с патриархом дружеские взаимоотношения, он ходатайствует за своих подопечных и, в свою очередь, предупреждает его о грозящей беде. Имеется в виду, видимо, решение Михаила VII доставить мятежного патриарха Эмилиана в Константинополь. С этим заданием был послан в Антиохию в 1074г. Исаак Комнин.
В письмах Пселла все время мелькают имена простых монахов, которым писатель просит своих влиятельных корреспондентов оказать покровительство [1 (V), № 31, 140, 158; 16 (II), № 95, 166, 204, 205 и др.]. Целые монастыри (большей частью принадлежащие ему на правах харистикия) пользуются покровительством Пселла.
В принципе писатель согласен признать превосходство аскетического образа жизни и монашеской простоты над изысканной интеллектуальной атмосферой, которой он старался окружить себя. «Я не так люблю искусных и мудрых мужей, как бесхитростных стариков вроде тебя: язык у них всегда в согласии с сердцем, речь сдобрена солью, а стиль письма простой, но одухотворенный», – отвечает Пселл некоему олимпийскому монаху. «Нелицемерный монашеский нрав» радует писателя, и он надеется успеть пожить среди удалившихся от суеты людей [1 (V), с. 262.13 и сл.]. «Молись за меня, чтобы я отрешился от мирской суеты и стал бы жить с вами», – пишет он некоему Пендактену, незадолго до этого принявшему монашество [16 (II), с. 142.8 и сл.]. Тот же мотив встречается в письме к архимандриту Олимпа [16 (II), № 112]. (Все эти письма, скорее всего, были написаны около 1054г., в период, когда Пселл принял монашество и готовился к переселению в монастырь.)
Декларации подобного рода – общее место византийской литературы. Как и всегда в этих случаях, внимание следует обращать не столько на прямой смысл трафаретных высказываний, сколько на тон, которым они делаются. Одно из подобного рода писем направлено двум хиосским монахам Никите и Иоанну [16 (II), № 36]. Оба персонажа хорошо известны: это те самые монахи, устраивавшие совместно с некоей Досифеей запретные оргии и прорицавшие будущее, за покровительство которым Пселл сурово порицал патриарха Михаила Кирулария (см. выше). Обвинительная речь против Кирулария, где повествуется об этом эпизоде, была написана в 1058г., в письме Пселл еще относится к Никите и Иоанну со всем почтением, следовательно, оно должно было быть написано до этого времени. В послании писатель представляет себя в виде кающегося грешника: он преисполнен гордыни своим знанием (с. 58. 20), до глубины души сожалеет о собственной испорченности и вполне признает, что земное знание, которым он так гордится, не может помочь постижению божественного. Раскаяние это, однако, скорее идет от ума и абстрактного сознания долга, нежели от сердца, во всяком случае сам писатель признает, что он не страдает от своих «пороков» и не радуется «добродетелям». «Нередко, наедине с собой, – пишет он, – мысленно кладу я на чаши весов свое достояние. На одну – прегрешения против Бога, на другую – то, что приобрел из книг своим рвением. Сравнив то и другое, я понимаю, что худого у меня больше, нежели хорошего, но этим малым я горжусь сильнее, чем огорчаюсь многим» (с. 60.2–9 и сл.). Таким образом, «книжное», земное знание, в преданности которому он как будто раскаялся, искупает для него даже прегрешения против Господа. Такое «раскаяние» похуже любого упорства в «грехе»!
Естественно, что, когда писатель сам столкнулся с необходимостью отречения от мира и ухода в монастырь, это решение превращается для него в большую нравственную проблему. Его колебания находят выражение не только в переписке с Ксифилином, где сомнения писателя ярко проступают на фоне твердости будущего патриарха. В письме, адресованном какому-то монаху [16 (II), № 170], выражая, как и положено, желание уйти от мира, Пселл тут же признает, что его отвлекают «светские» мысли (с. 194.7 исл.), и он находит утешение в эпистолярном общении с адресатом. Неприятие аскетических идеалов Пселл вовсе не считает нужным скрывать и во второй части похвального слова матери, созданном около 1054г. Восхвалив вначале, как и должно, подвижничество матери, Пселл в конце недвусмысленно заявляет о своей неспособности следовать ее примеру: «Я могу восхищаться и испытывать восторг перед тобой, – обращается он к матери, – но подражать не в состоянии...» [1(V), с. 52.15 и сл.]. Заявление это Пселл делает как раз в тот момент, когда сам он должен был вступить на путь спасения души... Против чрезмерного усердия в исполнении монашеских обетов Пселл считает долгом предупредить и других. Когда некий Симеон Кенхри – в прошлом человек в высшей степени мирской [1 (V), с. 286.30], стал монахом, Пселл, выражая восторги по поводу этого события, тем не менее предупреждает его от излишнего усердия (с. 286.18): «Не избирай безраздельного пути добродетели, а то оступишься». Писатель предлагает Симеону «средний, поистине царский путь», на который он вступил сам (с. 286, 26 и сл.), и который несет с собой многие прелести.382
Понятно, что близкие контакты писателя с монахами на Вифинском Олимпе, где он монашествовал в 1056г., не приносят ничего, кроме взаимного разочарования и недовольства. Любопытное свидетельство тому – обмен ругательными посланиями между Пселлом (видимо, сразу после его возвращения в Константинополь) и монахом монастыря Синкела Иаковом. Играя на названии горы, где находился монастырь, – Олимп, и, по естественной ассоциации олицетворяя Пселла с Зевсом, автор эпиграммы Иаков утверждает, что Пселл – Зевс покинул Олимп, поскольку там не было его богинь (1 (V), с. 177). Намек на женолюбие Пселла, засвидетельствованное в других случаях им самим, достаточно прозрачен.383 В ответ Пселл разражается длиннейшим посланием [1 (V) с. 177 и сл.], пародирующим церковный канон и в разных видах бесконечно варьирующим тему пьянства Иакова. Обвинение монахов в грехе пьянства обычно для Средневековья. Знаменательна форма инвективы – пародия на канон. Монотонность и бесконечное повторение, которое в состоянии выдержать только византийское ухо, сочетается в этом «каноне» с гиперболами и образами раблезианского типа.
Сочинение в стихах аналогичного рода, исполненное отборных ругательств, направил Пселл и некоему монаху Савваиту [16 (I), с. 220 и сл.; об этом же Савваите см. 1 (V), № 35]. Временные рамки для стихов против Савваита можно установить только очень приблизительно. В период написания сочинения правил император (мужского пола), который «отдал ключи от неба познавшему Христа». Из метафоры ясно, что в царствование этого императора был рукоположен патриарх. Таким образом, стихи могли быть написаны в периоды правления: 1) Константина IX Мономаха (рукоположен Михаил Кируларий), 2) Исаака I Комнина (рукоположен Константин Лихуд), 3) Константина X Дуки (рукоположен Иоанн Ксифилин). Первая возможность представляется нам маловероятной, хотя именно на ней настаивает Л. Штернбах [293]. По мнению ученого, разделившего точку зрения Б. Родиуса, письмо [1 (V), № 35], в котором также упоминается распря с Савваитом, относится к 1053–1054 гг., так как там речь якобы идет об Элпидии, неудавшемся зяте Пселла, которого тот называет сыном и которого он аттестует адресату в качестве судьи Армениака. Однако υἱός (сын) никак нельзя безоговорочно отнести к Элпидию, во-первых, потому что слово это не обязательно должно в эпистолографии обозначать родство или свойство, во-вторых (если уже стать на точку зрения Родиуса – Штернбаха), таким образом мог быть назван и новый зять Пселла. Характерно, что наиболее резкие сатирические произведения адресуются Пселлом представителям монашеского сословия!384
Иаков и Савваит – не единственные представители монашеского сословия, которые вступили в конфликт с Пселлом в связи со светскими пристрастиями последнего. Длинное ответное послание направил Пселл некоему монаху по имени Феревий [1 (V), № 167], недовольному тем, что писатель проводит время во дворце и общается с царями [1 (V), с. 427.10 и сл.]; на Феревия обрушивается поток обвинений в пристрастии к играм, флейтисткам, обжорству и пр.
Отношение Пселла к монахам и монашеству достаточно однозначно. Пселл не испытывает никакой принципиальной неприязни к монахам как к сословию (ее, во всяком случае в четко выраженной форме, трудно представить себе в монашеской Византии XI в.), но совершенно очевидно отстраняется от всякого утрирования аскетических тенденций. В этом смысле линия его поведения оказывается удивительно последовательной на протяжении всей жизни. Вспомним, что Пселл, уже старик, горячо отговаривал друга своей юности Мавропода от ухода в монастырь.385
Михаил Пселл и фемные судьи
Рассматривая отношения Пселла с современниками, мы до сих пор выделяли только связи, длившиеся долгие годы и зафиксированные в сравнительно большом количестве документов. Вне поля зрения остались не объединенные в большие циклы деловые, полуделовые или вовсе этикетные письма, которые чуть ли не ежедневно византийский вельможа и государственный муж рассылал во все концы империи. Они направлены большей частью лицам, стоящим на высоких ступенях иерархической лестницы, и хотя их адресаты во многих случаях неизвестны даже по именам, а содержание относительно бедно, письма эти достойны внимания благодаря своей массовости и обыденности.
Среди адресатов этой части корреспонденции – ряд высших столичных чиновников и судьи шестнадцать византийских фем.386 Надо иметь в виду, что во многих случаях Пселл состоял в переписке не с одним, а с несколькими правителями, сменившими друг друга в феме. Таким образом, круг знакомств философа среди провинциальных судей весьма обширен.
Письма к провинциальным правителям в большинстве случаев не систематизированы, не датированы, а нередко и не атрибутированы. Без этой предварительной работы их использование весьма затруднено. Попробуем распределить эти послания по адресатам.
Письма судьям Опсикия
Эти письма имеют следующие леммы:
1) судье Опсикия, Зоме [1 (V), № 29, 190];
2) судье Опсикия, сыну друнгария [16 (II), № 35);
3) судье Опсикия [16 (II), № 1, 97–100, 107–108, 116–129, 140, 142–144, 187, 200, 273, 293].
Как явствует из леммы, один из судей Опсикия носил имя Зома, другой был сыном друнгария. Оба послания Зоме четко датируются второй половиной 1054г.: автор живет еще в Константинополе, но уже принял монашество и намерен отправиться в монастырь на Вифинском Олимпе [1 (V), № 29, 190]. В первом послании Пселл представляется адресату в качестве нового властителя Мидикийского монастыря. Второе письмо – ответ на просьбу Зомы ходатайствовать перед императором о его отставке. Многие детали второго послания хорошо понятны в свете той жизненной ситуации, в которой находился в ту пору сам Пселл. Писатель советует Зоме не переставая обращаться к императору с просьбами об отставке и рекомендует в качестве аргументов ссылаться на телесные немощи, стремление к Богу и суровый приговор врачей [1 (V), с. 484.21 и сл.]. Именно эти доводы выдвигал в этот период Пселл перед Константином Мономахом, обосновывая необходимость своего ухода в монастырь [20(II), с. 67.17].
Глубоко личной является также подоплека тех предостережений, которые делает только что принявший монашество Пселл собирающемуся в монахи Зоме: «Не воображай, будто мы сразу становимся монахами и наша природа меняется... – пишет Пселл, – может быть, это и удается кому-нибудь, но я таких людей не знаю. Что же касается меня, то хотя я вел и веду монашескую жизнь, однако природа моя бунтует, природа моя восходит к божественному лишь постепенно. Не сразу удается нам разорвать родственные и дружеские связи и постичь великую добродетель, ведь родственные чувства и узы дружбы связывают и опутывают нас» [1(V), с. 484.27–485.6].
Кроме упомянутых, именно Зоме должны были быть направлены два других письма [1 (V), № 77; 16 (II), № 200]. В первом из них, сохранившемся без леммы, сообщается, что помимо монастырей Кафарского и Мидикийского Пселл приобрел также Келлийскую обитель, на благосклонность адресата к которой он рассчитывает.
Во втором (лемма: «Судье Опсикия») Пселл жалуется на болезни (этот мотив характерен для середины 50-х годов) и, как в других письмах к Зоме, утешает его, желающего добиться от императора разрешения вернуться в столицу, а также ходатайствует за монастыри.
Другой судья Опсикия назван сыном друнгария [16 (II), № 35]. Это обозначение вводит по принципу «цепочки» в круг интересующих нас посланий группу писем той же рукописи (Cod. Laurent., 57, 40) с адресацией «сыну друнгария» [16 (II), № 38, 39, 41, 42], а также [16 (II), № 220] – лемма «Магистру Пофосу, судье Македонии, сыну друнгария» и [16 (II), № 250, 251] – лемма «Магистру и судье Фракии и Македонии Пофосу, сыну друнгария»387.
В пользу идентичности адресатов всей этой группы говорят следующие соображения:
1) В письме [16 (II), № 39] содержится просьба рассмотреть спор двух селений Ацикоми и Фирид, входящих в епархию адресата (с. 63). Как явствует из другого письма Пселла [16 (II), № 99, с. 127.18], деревня Ацикоми входила в состав фемы Опсикий и была объектом покровительства писателя. Таким образом, «сын друнгария» – адресат письма – наверняка был судьей Опсикия.
2) Все письма, адресованные сыну друнгария, за исключением послания № 35 [16 (II)], содержат обращение ἀνεψιέ [16 (II), с. 62.24; с. 63.27; с. 69.5; с. 261.10; с. 299.3]. Не свидетельствуя о каких бы то ни было родственных связях между отправителем и получателем, постоянное обращение ἀνεψιέ – определенный аргумент в пользу идентичности адресатов.388
3) По крайней мере в двух письмах из числа упомянутых содержится указание, что их адресат – бывший ученик Пселла [16 (II), № 42, с. 69.23–25; № 250, с. 299.14]. Вероятно, к этому числу надо прибавить и [16 (II), № 38]. «Вы звали меня тучегонителем...», – обращается Пселл к сыну друнгария. Скорее всего, имеются в виду университетские ученики Пселла.
Итак, мы получаем имя второго судьи Опсикия, с которым состоял в переписке Пселл, – Пофос. Последний помимо выполнения функций судьи Опсикия в какое-то время был судьей Фракии и Македонии; подобные перемещения были обычным явлением в византийской практике.
Два послания Пселла адресованы вестарху Пофосу [1 (V), № 204; 15, 242]. Идентичен ли последний одноименному судье и магистру, определить невозможно.389 Приблизительной датировке поддаются только письма № 204 [1 (V)], № 41 [16 (II)]. В первом из них Пселл сообщает Пофосу о дурном поведении некоего митрополита Тарса, который с момента возведения в сан «принялся бесчинствовать и ополчился на мужа, рукоположившего его, того, кого столица вознесла как светило, а Антиохия лишила лучей» [1 (V), с. 498.11 и сл.]. Речь идет, видимо, об антиохийском патриархе Эмилиане, высланном из Антиохии в Константинополь в конце царствования Михаила VII Парапинака [51, с. 96.8 и сл.]. Этим временем скорее всего и датируется послание.390
Адресат второго письма [16 (II), № 41] просил Пселла заступиться за него перед императором. Писатель сообщает, что в выполнении просьбы ему содействовал «достойный восхищения дядя». На роль этого «достойного восхищения дяди» скорее всего может претендовать кесарь Иоанн Дука – дядя Михаила VII. Таким образом, послание, видимо, следует датировать началом царствования Парапинака (временем, когда кесарь Иоанн не успел еще попасть в опалу).
Большая группа писем направлена, согласно лемме, «судье Опсикия» без указания имени судьи.391 По логике вещей они могли адресоваться или Зоме, или Пофосу, или, наконец, третьему, четвертому и т. д., нам неизвестному судье, управлявшему фемой при жизни писателя. Пытаясь атрибуировать послания, будем действовать методом исключения, объясняя каждый раз, по какой причине определенное письмо не могло быть адресовано Зоме, Пофосу или тому и другому.392
1. Группа писем № 97–100 [16 (II)] не может относиться к Зоме, поскольку адресат – ученик Пселла (№ 100, с. 129.1–2), и не может, по всей видимости, быть атрибуирована Пофосу, поскольку в трех письмах нет вовсе обращения, а в одном (№ 99, с. 127.18) – обращение ἀδελφέ (в четырех из пяти случаев, когда Пселл обращается к Пофосу, он называет его ἀνεψιέ).
2. Группа писем [16 (II), № 116–120] не атрибуируется ни Зоме, ни Пофосу по тем же причинам: адресат – ученик Пселла [16 (II), № 116, с. 143.22–24], Пселл обращается к нему «ученейший судья» (с. 143.11), «дражайший брат и ученейший» (с. 144.4), «милейшая душа» (с. 144.24), но ни разу «племянник».
Можно высказать предположение об идентичности адресатов обеих групп: и тот и другой – ученики Пселла, в обоих случаях встречается обращение «ученейший брат».
3. Письма № 140, 187 (16 (II)). В Cod. Laur. 57.40 послания следуют одно за другим (fol.68r–60r). Адресат молод (с. 167.11) и, следовательно, не может быть ассоциирован с Зомой.
4. Письма № 200, 243 [16 (II)].
Послания вряд ли относятся к Пофосу, поскольку содержат обращения «брат» и «господин». Письмо № 200 не относится к Зоме, так как речь там идет о прежних судьях Опсикия, не покушавшихся на монастыри, находившиеся во владении Пселла (с. 229.89). Пселл же получил монастыри в этой феме при Зоме.
5. Для объединенной общим сюжетом группы писем [16 (II), № 142, 143, 144] и для писем № 81, 107, 108 [16 (II)] не удалось обнаружить никаких внутренних признаков, позволяющих идентификацию адресатов.
Письма судьям Фракисия
Два письма направлены судье Фракисия Ксиру [1 (V), № 47, 51], одно [28, с. 51 и сл.]393 – Сергию, остальные – судье Фракисия без указания имени [16 (II), № 61, 66, 130, 131, 150–153, 254, 270]. Адресату письма № 254 [16 (II)] Пселл ставит в пример его старшего брата – последний, по просьбе философа, принял к себе некоего нотария, которого приглашал с собой и тогда, когда переселился в новую фему (с. 302.7); нотарий, однако, оказался «патриотом» и пожелал остаться на старом месте. Нотарий этот носил имя Фракисий (он одноименен феме адресата: «он получил имя своей епархии», с. 302.3).
В связь с этим письмом можно поставить два других послания Пселла. В письме № 248 [16 (II)] рекомендуется «бедный Фракисий». Последний, уже попав в фему, во главе которой стоит адресат письма, пожелал и на будущее остаться под его покровительством. Послание это, весьма вероятно, и есть та «просьба» за Фракисия, которую удовлетворил старший брат адресата письма № 254 [16 (II)].
Из содержания другого письма – № 47 [1 (V), лемма – «Судье Фракисия Ксиру»] явствует, что Ксир переманил к себе в фему из города некоего нотария. Уход нотария вызвал стенания его домашних, и Пселл просит возвратить нотария назад. Возможно, что этот нотарий и есть тот самый Фракисий, который не захотел переселиться с судьей в новую фему.
Если наши рассуждения верны, то из двух братьев, судей Фракисия, старшим был Ксир, и именно ему следует атрибуировать помимо писем, содержащих в лемме его имя, послание № 248 [16 (II)].
Письмо Сергию [28, с. 51 и сл.] и связанное с ним по содержанию письмо № 270 [16 (II)] (видимо, тоже Сергию) – ходатайства за монаха Илью (см. выше). Письма скорее всего датируются шестидесятыми годами, когда имя монаха появляется в переписке писателя.
Три письма, следующие в рукописи одно за другим [16 (II), № 150, 151, 152], являются ходатайствами за какого-то обиженного родственника Пселла, за которого вступился сам император [16 (II), № 152]. Последнее обстоятельство позволяет прибавить к этому циклу [16 (II), № 66], где речь идет о некоем протеже Пселла, дело которого разрешил самодержец.394
Письма эгейскому судье
Указания на эгейского судью содержатся в леммах следующих писем: № 60, 123, 128 [16 (II)], № 65 [1 (V)]. Тому же судье издатели бесспорно атрибуируют и письмо № 137 [16 (II)] (лемма «Митрополиту Амасии»), а также № 95 [1 (V)] (без указания адресата). Эгейскому судье должно было относиться и письмо № 135 [1 (V)], где упоминается Нарсийский монастырь, о котором постоянно идет речь в письмах к этому судье.395
Четыре письма философа были направлены человеку по имени Николай Склир [16 (II), № 37, 44, 56, 63], который, согласно тому же Пселлу, был судьей Эгея [16 (II), № 63, с. 396; № 56, с. 98]. Все четыре письма связаны общностью ситуации. В письмах № 37, 44 [16 (II)] речь идет о неудачных попытках Пселла ходатайствовать за Склира перед императором. Из писем № 56 и 63 [16 (II)] становится очевидным, что самодержец в конце концов пошел навстречу настояниям Пселла, освободил Склира от должности эгейского судьи, хотя и не возвратил ему какого-то поместья.
Являются ли анонимный эгейский судья и Николай Склир одним и тем же лицом? В пользу этого предположения свидетельствуют следующие доводы: а) в письме № 123 [16 (II)] говорится о намерениях Пселла осаждать «императорскую крепость», взять которую прямым приступом не удалось. Метафора означает неудачные попытки Пселла ходатайствовать перед императором за адресата. Это напоминает ситуацию двух только что упомянутых посланий Пселла Склиру [16 (II), № 37,44]. Весьма знаменательно использование в обоих случаях одной и той же образности: император – крепость, которую предстоит взять [16 (II) № 44, с. 74–75]; б) тон письма анонимному эгейскому судье и Склиру аналогичен: адресатов связывает особая дружба, далеко выходящая за рамки этикетной эпистолярной φιλία (см., например, [16 (II), № 63, с. 96); ср. [16 (II), № 124, с. 148]).
Можно пытаться гипотетично датировать следующие письма:
1. 16 (II), № 37. В нем упоминается кесарь, который назван там «удивительным мужем». Речь идет о кесаре Иоанне Дуке, в пору активной деятельности которого (60-е годы), видимо, и было составлено послание. В письме содержатся детали, дающие некоторые основания для более точной датировки. Неблагоприятные обстоятельства («варвары, подготовка к войне, заботы о войске, необходимость выступить в дальние земли» – с. 61.7 и сл.) не дают Пселлу возможности ходатайствовать за адресата перед императором. Описание ситуации более всего напоминает положение, сложившееся в Византийской империи в 1064г., когда переход кочевников через Дунай весьма озаботил императора [50, с. 83]. Если это так, то к данному периоду следует отнести всю группу писем, где идет речь о ходатайствах за эгейского судью перед императором [16 (II), № 123, 37, 44], а остальные письма соответственно датировать более ранним временем.
2. Письмо № 125 [16 (II)] содержит изысканную экфразу Мидикийского монастыря. Описание, скорее всего, могло быть сделано в 1056г., когда Пселл посетил гору Олимп, вблизи которой был расположен монастырь.
3. В письме № 127 [16 (II)] упоминается о смерти Лизика – племянника судьи. Видимо, о том же Лизике речь идет и в послании № 10 [1 (V)], датируемом 1056г. Таким образом, 1056г. – terminus post quem для письма.
Письма судьям Эллады и Пелопоннеса
Письма, адресованные в леммах судьям Эллады и Пелопоннеса [1 (V), № 32, 103] и судье Катотиков [16 (II), № 55, 69, 70, 74, 76, 86, 154], были, без сомнения, направлены лицам, занимавшим один и тот же пост.396 Этот же судья по внутренним признакам считается издателями адресатом и ряда других писем. Такое отнесение бесспорно для посланий № 33, 34, 134, 141 [1 (V)].
Что касается письма № 146 [16 (II)], то его адресация судье Эллады и Пелопоннеса Дрекслем подкрепляется нашим наблюдением, согласно которому следующее за ним в рукописи послание № 147 [16 II)] тоже было направлено этому судье (см. ниже). Одно из писем [1 (V), № 103] адресовано Никифорице, исполнявшему должность судьи в царствование Романа Диогена (1068–1071) [193, с. 186]. Ему же, без сомнения, было послано и другое письмо, сохранившееся в рукописи с леммой «Севастофору Никифору» [16 (II), № 8].397 Из письма очевидно, что адресат находится в Элладе; севастофор – титул Никифорицы. Нам непонятны причины, по которым издатели безапелляционно отнесли письмо [16 (II), № 93] судье Катотиков. Если это, однако, так, то адресатом письма, видимо, был Никифорица; речь в нем идет о монахе Илье, которого Пселл уже однажды рекомендовал Никифорице [16 (II), № 8].
В тексте одного из посланий судье Эллады и Пелопоннеса [16 (II), № 76] указано имя другого судьи, занимавшего этот пост, – Малеси. Человеку, носящему это имя, направлено и письмо № 132 [16 (II)]. Тождество адресатов не вызывает сомнений, поскольку Малеси, упомянутый в этом письме, – судья. Можно сделать и другое уточнение. Как явствует из послания № 132, Малеси – лирический поэт (с. 154.25 и сл.). Лирический поэт также и судья Катотиков – адресат письма № 86 [16 (II), с. 115.7 и сл.]. Без сомнения, речь идет о том же Малеси.398
К кругу интересующих нас в данном случае посланий следует, видимо, отнести и письмо № 146 [1 (V)]. Его адресат – судья и к тому же магистр, а один из судей Эллады и Пелопоннеса носил именно этот титул [16 (II), № 70, с. 103.23]. (Судьи в середине XI в., видимо, нередко носили титул магистра; магистром, например, был Пофос.) Такой аргумент не был бы достаточно доказательным, если бы в обоих письмах не упоминалась супруга судьи – магистриса [16 (II), с. 103.121; 1 (V), с. 395.3]. Следующее в рукописи письмо (1 (V), № 147), судя по содержанию, также было направлено тому же судье. (В письме содержится ходатайство за жителя фемы Катотиков. Как известно, письма одному и тому же лицу в рукописях нередко следуют одно за другим.) Судье Эллады и Пелопоннеса, скорее всего, было направлено также письмо № 26 [1 (V)], по содержанию оно очень напоминает послание № 33 [1 (V)].
Итак, Пселл состоял в переписке по крайней мере с двумя известными нам по имени судьями Эллады и Пелопоннеса (Никифорицей и Малеси). Остальные письма с леммами без указания личных имен, возможно, должны быть распределены между этими двумя, но скорее всего хотя бы частично были направлены какому-то третьему (а может быть, четвертому, пятому и т. д.) судье.
Гипотетической датировке помимо писем Никифорице, написанных при Романе IV Диогене, поддается только послание № 134 [1 (V)]. Упомянутый там иперсеваст, логофет, вероятно, известный евнух Иоанн – временщик императора Константина Мономаха начала 50-х годов. К этому периоду и должно относиться послание.
Судье Эллады и Пелопоннеса по имени Анастасий посвящена эпитафия Пселла [313, с. 277 и сл.]. Утверждение Вейса, что этому Анастасию были направлены все письма, адресованные судье фемы Катотиков [312, с. 22], ни на чем не основаны.
Письма судье Вукелариев
Как уже отмечалось, Пселл сам исполнял функции судьи Вукелариев. На этом посту его сменил Морохарзан [16 (II), с. 99.7 и сл.]. Сохранившиеся письма № 65, 83, 84, 92 [16 (II)] были направлены третьему неизвестному нам по имени судье. Можно предполагать, что послание № 65 было написано не позже начала 50-х годов: о событиях времени судейства Пселла в феме рассказывается как о сравнительно недавних.
Письма Пселла судьям дают основание для суждений о личности и положении этих чиновников в Византии XI в.
Прежде всего это люди весьма различного возраста; сам Пселл был назначен в фему, когда ему не исполнилось и двадцати, правитель Опсикия Зома, – видимо, человек пожилой [1 (V), с. 483.16–17]. Большинство судей имеют хорошее образование. К судье Анатолика, например, Пселл считает возможным обращаться «как философ к философу» [1 (V), с. 274.27] и называет его «умнейшим из людей» (с. 273.24 и сл.). Точно такого же обращения удостаивается и судья Другувита. Эгейский судья Николай Склир – соученик Пселла («Я получил одно с тобой образование» [16 (II), № 63, с. 96.9]), и по крайней мере четверо – его ученики (судья Опсикия – Пофос [16 (II), № 120], судья Македонии – Хасан [1 (V), с. 439.25], судья Армениака [1 (V), с. 269.17 и сл.], Фракисия – Сергий [28, с. 51]). К этому можно добавить, что судья Македонии, по Пселлу, – человек с душой, от природы склонной к прекрасному [1 (V), с. 281.12 – 13], а уже знакомый нам Малеси – лирический поэт.
Как можно судить по ряду писем, назначение в фему часто считалось обременительным и даже воспринималось как несчастье. Обращаясь к философу, судьи нередко жалуются на свое тяжелое положение [1 (V), № 110; 16 (II), № 96, 109] и, как правило, просят его только об одном: ходатайствовать перед императором о смещении их с занимаемого поста.
Долго и упорно по всем правилам придворной стратегии хлопочет Пселл за Зому (1 (V), № 190] и Николая Склира [16 (II), № 73); тактике обращения с императором обучает он судью Опсикия, тяготящегося своей должностью [16 (II), № 200], и т. д. Любопытная деталь: уже добившийся отставки судья Македонии не может снять с себя обязанностей, поскольку его преемник медлит и колеблется занять новый пост [1 (V), № 129].
Подыскать достойного кандидата на должность фемного судьи, наверное, было не очень просто; не случайно императоры так упорно сопротивляются ходатайствам судей об отставке. Впрочем, многое зависело от «качества» (т.е., главным образом, доходности) той или иной фемы. В одном случае Пселл спрашивает у своего адресата, хочет ли тот вернуться в столицу или желает перебраться в лучшую фему. Правда, поясняет философ, все хорошие фемы уже имеют судей [16 (II), № 255]. Подавляющее большинство писем к судьям представляет собой просьбы, ходатайства или рекомендации, которые высокопоставленный столичный чиновник и влиятельный при дворе человек направляет провинциальным правителям. Наиболее частый объект просьб и рекомендаций – протонотарий или нотарий из штата судьи [1 (V), № 34, 39, 127, 136, 142; 16 (II), № 86, 109, 110, 118, 128, 142, 144, 155, 173, 174], реже – сборщик налогов, отправляющийся в фему, подведомственную адресату [1 (V), № 32, 33; 16 (II), № 252]. Пселл вмешивается в отношения светских властей с духовными, ходатайствует за епископов [1 (V), 103, 50; 16 (II), № 82 и др.] и очень часто просит предоставить льготы монастырям, владения которых расположены на территориях, подведомственных судьям. В одном случае Пселл выступает в качестве заступника целого селения и просит судью решить спор села Ацикоми с соседним селением Фириды [16 (II), № 39].
В одном из писем судье Фракисия Пселл не без юмора замечает: «Меня, как тебе известно, очень многие люди одолевают просьбами, не знаю уж, потому ли, что я люблю многих, или потому, что меня любят многие» [16 (II), № 130, с. 153.8 и сл.]. В другом случае он просит адресата не удивляться многочисленным просьбам, которыми он докучает ему, ведь самого Пселла донимают со всех сторон непрерывно [1 (V), № 133, с. 377. 17–18. Ср. 16 (II), с. 202.16 и сл.].
Любопытны мотивы, которые выдвигает Пселл, когда он ходатайствует за того или иного человека. В письмах философа крайне редко можно обнаружить указания на какие-либо достоинства, моральные или духовные, рекомендуемого лица. Автор писем взывает прежде всего не к разуму, а к чувствам адресата, стараясь возбудить в нем жалость к своему протеже. Предмет заступничества Пселла, как правило, «нищ» или, во всяком случае, «беден» ([см. 1 (V), письма № 99, 119, 130, 138, 195, 201; 16(II), № 100, 107, 137, 162, 257]).
Не станем обсуждать вопроса о том, что скрывается под понятием «бедность»; вполне вероятно, что бедняки, о которых идет речь в письмах, – состоятельные люди; существенно, однако, что именно бедность постоянно выдвигается Пселлом в качестве основания для просьб за своих подопечных. Только один раз Пселл просит за богатого человека, видимо ростовщика, Никаевса [1 (V), № 102; 16 (II), № 120].
Среди протеже Пселла – сирота [16 (II), № 182], вдова его друга [16 (II), № 172], просто человек, испытавший в жизни много несчастий [1 (V), с. 287.8 и сл.] и т.д. Помощи, утверждает философ, особенно заслуживает тот, кто некогда благоденствовал, а затем впал в нищету и ничтожество [1 (V), № 99]. Можно думать, что стремление оказать помощь человеку носит у Пселла не показной и не декларативный характер. Так, ходатайствуя о каком-то своем родственнике, Пселл просит корреспондента оказать тому «честь» и «обогатить»; однако главное – второе, добавляет Пселл, поскольку его протеже содержит жену и детей [1 (V), № 193]. В другом случае в письме к македонскому судье Хасану Пселл просит за некоего нотария, у которого заболела жена. Пусть Хасан, пишет Пселл, отмерит дни на дорогу, даст три – четыре дня на пребывание дома и отпустит нотария к жене; если жена умерла, нотарий ее оплачет, если жива – обрадует [1 (V), № 39].
Основная христианская добродетель, милосердие и сострадание к ближнему, которую Пселл неоднократно декларировал, переводится здесь в практический план, становясь мотивом конкретных поступков и действий [1 (V), № 39].
Михаил Пселл и императоры дома Дук
Анализируя отношения Пселла с современниками, мы обошли молчанием одну категорию лиц, с которыми писателя на всем протяжении жизни связывали самые тесные узы, – византийских самодержцев. Сами по себе отношения Пселла с императорами – интереснейшая страница византийской истории. Пселл в функции любимца и доверенного человека жуира на троне – Константина Мономаха; сомнительная, – если не трагическая, роль Пселла в свержении и ослеплении Романа Диогена; интриги придворного ритора у постели умирающего Исаака Комнина и т.д. – все это, без сомнения, достойно специального внимания. Однако в данном случае эти отношения не рассматриваются, потому что, во-первых, характер изображения Пселлом императоров в «Хронографии» подробно анализируется во второй части книги, во-вторых, рассмотрение линии Пселл – императоры неминуемо привело бы нас к другой специальной проблеме: государственной и политической деятельности Пселла, а этот вопрос остается за пределами настоящего исследования. И только для двух императоров следует сделать исключение – Константина X Дуки и его сына Михаила VII, поскольку в отношениях с ними наиболее ярко проявляются свойства натуры Пселла, его социальные идеалы.
С домом Дук Пселла объединяли давние связи. Еще при Константине IX Мономахе Пселл находился в дружбе с будущим императором Константином X, восхищавшимся красноречием писателя. Ипат философов расхваливал Константина Дуку перед императором Константином IX и выпрашивал для него милости [20 (II), с. 141 и сл.].399
Пселл способствует приходу к власти Константина Дуки400 и, естественно, пользуется при нем, равно как и при его сыне Михаиле, несмотря на временные периоды охлаждения, непременными милостями. Наиболее подробно об этом Пселл рассказывает на страницах «Хронографии». К сожалению, доверие к объективности изображения в данном случае невелико, поскольку Пселл, описывая современного ему императора и его отца, по сути дела пишет энкомий, а не историю.401 Тем не менее характер обрисовки этих образов представляет несомненный интерес.
Образы Константина и Михаила в «Хронографии» представляют собой разновидности одного типа. Прежде всего, и тот и другой преданы наукам. Константин, будучи не слишком большим знатоком философии и риторики, был страстным любителем наук и мало чем отличался от философов и риторов [20 (II), с. 139]. Михаил же не только читал книги по всем наукам и познакомился со всеми видами «мудрости», но и пробовал свои силы в литературном творчестве [20 (II), с. 174–175]. Оба императора благочестивы и скромны. Благочестием Константин превосходил всех прочих императоров [20 (II), с. 140], еще до восшествия на престол он предпочитал замкнутую жизнь и презрительно относился к блестящим должностям [20 (II), с. 135], стремился к божественному знанию [20 (II), с. 150]. Михаил краснел от всякого нескромного слова [20 (II), с. 174] и даже внешне был похож на пожилого наставника или педагога [20 (II), с. 175]. И отец, и сын в избытке обладали традиционной царской φιλανθρωπία, они были чрезвычайно милостивы и благорасположены к подданным [20 (II), с. 140, 175], беспредельно любили своих родственников и близких [16 (II), с. 147–148, 177]. Их правление – образец умеренности и справедливости.
Этот портрет Константина и Михаила нельзя рассматривать только как проявление рядового византийского сервилизма. В характеристиках императоров обнаруживается тот идеал василевса, который вынашивал Пселл и, видимо, какая-то часть константинопольской интеллигенции того времени. Император излишне активный (особенно в области внешней политики) вызывает осторожное недоверие, а то и прямую враждебность писателя. Исаак Комнин – отношение Пселла к нему очень почтительное, хотя и с долей иронии – испортил все свои благие начинания чрезмерной поспешностью и нетерпением. Роман Диоген совершил свои походы на турок в результате «спеси», и его наглость с каждым разом увеличивалась все более (см. ниже). Напротив, император – покровитель наук, знающий чувство меры, скромный, добрый и милостивый к подданным, – мы отвлекаемся от вопроса, насколько соответствовали эти характеристики реальным качествам прототипов, – восхищает Пселла.
Можно утверждать и большее: Пселл не только восторгался этими – реальными или мнимыми – свойствами Константина и Михаила, но и старался активно участвовать в их формировании.
Некоторые сочинения Пселла обращены к императорам Дукам или написаны от их имени. Бедные фактическими деталями, они представляют минимальную ценность в качестве исторического источника, но тон и общая направленность части из них характерны для идейной позиции автора. Особенно относится это к сочинениям, обращенным к Михаилу. Наставник молодого Дуки Пселл лепит его образ в соответствии со своими представлениями об идеальном императоре.
Сочинения Пселла адресованы в рукописях «императору Дуке». Встает вопрос, какому из двух Дук – Константину или Михаилу – были они направлены. Из числа этих спорных произведений Константину, по нашему мнению, следует отнести:
а) письмо № 29 [16 (II)]. Основанием служат слова Пселла, обращенные к адресату: «Ты противостоишь арабам, воюешь с персидским воинством, обуздываешь дерзость варваров, затем обращаешься на Запад, или, скорее, в одно и то же время переплываешь Евфрат и непоколебимо плывешь по Истру» (с. 42).
Если отвлечься от риторических гипербол, речь идет, видимо, о ситуации 1064–1065 гг., когда империя подверглась почти одновременному натиску сельджуков и перешедших Дунай узов. Наступление последних было остановлено неожиданно разразившейся эпидемией [50, с. 83; 55, с. 114];
б) речь [16 (I), с. 38–41], см. ниже.
Михаилу, видимо, следует отнести:
а) письмо № 104 [1 (V)]. Посылая в дар императору рыб, Пселл пишет: «Пусть ест их лев, вместе с ним львенок и к тому же львица». Обращаясь к многодетному Константину, Михаил Пселл должен был бы писать о «львятах». П. Иоанну без объяснений атрибуирует это письмо Константину [214, с. 288, прим. 3];
б) одну из речей, не имеющую в рукописи никакого заглавия [16 (I), с. 33 и сл.].
Ряд произведений интуитивно относится издателями и исследователями то Константину, то Михаилу. Мы не считаем возможным опираться на них.
Несколько крупных ученых сочинений, адресованных Михаилу, представляют собой настоящие «императорские университеты» – это свод знаний, необходимых правителю в области теологии, натурфилософии, истории, географии, духовного и светского законодательства и т.д. Обращает на себя внимание прежде всего объем и энциклопедичность сведений, которые обрушивает философ на голову молодого императора.402 Пселл преподносит Михаилу тот синтез христианской и античной образованности, к которому сам стремился всю жизнь. Нельзя, однако, не видеть, что Пселл формирует из Михаила государя по преимуществу христианского. Страстный защитник и толкователь Платона, Аристотеля и других древних мыслителей, он составляет для ученика толкования на псалмы [16 (I), с. 372 и сл., 411 и сл.]. Знаменательно при этом, что философ, оставаясь верным себе, указывает своему царственному ученику не только на духовные, но и на эстетические ценности псалмов, как бы уравнивая в этом отношении христианскую и античную литературу. В том же толковании на псалмы Пселл делает любопытный выпад против тех, кто «превозносит эллинскую мудрость» и пренебрегает христианской [16 (I), с. 373]. Пафос прежнего, молодого Пселла был направлен в противоположную сторону – он защищал светскую (в его представлении – античную) образованность от христианского обскурантизма. Причину такой «перемены фронта», вероятно, нужно видеть в «воспитательных» соображениях философа. Возможно также, этот выпад имеет и вполне конкретного адресата. На эти годы приходится уже расцвет деятельности Итала, позже осужденного за следование «эллинским учениям». По сообщению Анны Комниной, Пселл выступал с ним в диспутах перед императорскими особами. Появление радикального оппонента, как это обычно бывает, должно было по «принципу отталкивания» привести Пселла на более консервативные позиции.
Характерны и те этические принципы, в которых Пселл старается утвердить Михаила. В речах, обращенных к молодому императору, как, впрочем, и в «Хронографии», Пселл подчеркивает, об этом уже шла речь выше, христианские добродетели своего воспитанника: человеколюбие, кротость, скромность, справедливость и т.п. (особенно характерна в этом отношении речь Пселла [16 (I), с. 42 и сл.]403). Все эти свойства, без сомнения, входят в традиционный набор «императорских добродетелей», однако в других случаях у Пселла они – равноправные детали в мозаике из добродетелей, составляющих облик превозносимого василевса (ср., например, изображение Константина Мономаха в посвященных ему энкомиях [1 (V), С. 106, 117 и сл.; 16(I), с. 6 и сл., 12 и сл.]). В изображении Михаила они – главные и доминирующие качества. В речи, составленной от имени молодого Дуки на начало Поста и явно отражающей представления самого Пселла о принципах идеального правления, говорится об «отеческом благоволении» Михаила к подданным. Другие императоры, чтобы сохранить свое достоинство, обращаются к подданным «свысока», а юный Михаил, напротив, готов считать своих старших по возрасту слушателей отцами. Он не собирается управлять единодержавно и рассчитывает на помощь и совет своих приближенных, обещает им безграничные милости и т.д. [16 (I), с. 351–355].
Наиболее концентрированным выражением взглядов Пселла на принципы царствования Михаила является та сохранившаяся без заглавия речь, которую мы (с весьма большой долей вероятности) отнесли к молодому Дуке.
В заслугу императору прежде всего ставится его отношение к наукам и ученым. Раньше они находились в пренебрежении, и ворота дворца были широко открыты лишь для податей, ныне же сама мудрость, воплотившаяся в императоре, призывает к себе своих питомцев, и отовсюду стекаются хороводы мудрецов. Далее Пселл восхваляет Дуку за «ангельскую» жизнь, остроту ума, милостивое отношение к подданным и – главное – за «кротость». С особым сочувствием он подчеркивает отвращение императора к войне: «Я уже не говорю о том безумии, которое называют “делами Арея”, ибо ты не скор на убийство и не находишь удовольствия в потоках крови…»
Знаменательно другое письмо – № 188 [16 (II)], которое также можно отнести как Константину, так и Михаилу Дуке. Император просил философа растолковать ему смысл изображения и надписи на «камне». Пселл объясняет изображение как сцену Одиссея у Кирки, расшифровывает надпись и со свойственной византийцам склонностью к аллегориям выводит из них неожиданную мораль: «Ты же будь более склонным к миру, чем к войне» [16 (II), с. 209]. В последнем случае – прямое побуждение, «подталкивание» императора к мирной политике.
В отношениях Пселла с отцом и сыном Дуками как будто встречается та редкая в истории ситуация, когда извечная проблема «поэта и царя» находит положительное решение: писатель не только принят и признан при дворе, но его идеальные представления, по-видимому, получают воплощение в политике и самом внутреннем облике «ученых» и «милостивых» императоров.404
Однако на деле альянс «писатель – василевсы» был далек от той идиллии, которая царствует в сочинениях Пселла. Атмосфера 60-х и особенно 70-х годов – атмосфера кануна краха империи. Варварское кольцо все туже стягивается вокруг Византии, уже не способной оказать сопротивление.
В этой ситуации пселловский идеал монарха имел мало шансов стать популярным. Скорее, наоборот. Источники по истории того времени недоброжелательны к методам управления Константина и решительно осуждают Михаила. Суть обвинений сводится к слабости, бездеятельности императоров, пристрастию их к судебным разбирательствам и софистическим упражнениям, скупости и пренебрежению военным делом.405 Атталиат, как и последующие историки XII в., прямо противореча Пселлу, противопоставляет Константину и Михаилу «сильных» василевсов – Исаака Комнина, Романа Диогена, позже – Вотаниата, способных вывести из тупика государство.406 Говоря о Константине, Атталиат нападает не столько на самого царя, сколько на его дурных советников. Можно даже предположить, что в одном случае речь прямо идет о Пселле или близких к нему людях. Константина, пишет историк, хвалили за благочестие, благотворительность, незлобивость и т.п., но порицали за то, что он оказывал благодеяния «тому, кто и так имел их, и тем немногим, кто льнул к нему или находился у него в милости». И немного далее: «В дурных делах винили не природу императора, а испорченность некоторых людей и суетливые увещевания» [50, с. 76 и сл.].
Если Атталиат не называет Пселла по имени, то другой историк того времени, Продолжатель Скилицы, делает это не задумываясь. «Михаил, – пишет анонимный автор, – занимался игрушками и детскими забавами, поскольку ипат философов Константин Пселл сделал его негодным и неспособным ни к какому делу» [55, с. 156.6 и сл.]. В другом случае тот же автор пишет: в то время как на императорском троне нужен был человек распорядительный и мужественный, Михаил предавался «пустым и бесполезным литературным забавам, непрерывно сочинял ямбы и анапесты, хотя ни капли не владел искусством, и, обманутый и завлеченный ипатом философов, погубил порядок» [55, с. 171.6 и сл.].
В обоих отрывках речь идет об одном и том же – об ученых занятиях Пселла со своим воспитанником. То, что составляло предмет наибольшей гордости писателя, резко осуждается его современником. Обе цитаты находятся в тех частях сочинения Продолжателя Скилицы, которые представляют собой близкий к тексту пересказ Атталиата и буквально «втиснуты» между фразами последнего. Они явно принадлежат самому анонимному историку, который и в других местах снабжает заимствованные сообщения собственным комментарием [55, с. 84 и сл.]. Видимо, неизвестный нам историк (если это только не сам Скилица) принадлежал к числу ярых врагов Пселла.
Эта антипселловская линия продолжается и в историографии XII в. Умный и трезвый Зонара, безжалостно сокращая в своем повествовании Продолжателя Скилицы, тем не менее считает нужным оставить оба выпада против Пселла [59, с. 708, 714]. Более того, первая инвектива значительно расширяется им. Много подробней Продолжателя Скилицы повествует Зонара о предметах занятий Пселла со своим учеником, упоминая литературу, риторику, грамматику, философию, историю (практически он перечисляет почти весь круг интересов императорского наставника), и прибавляет, что Михаил ко всему этому способностей не имел, а на остальное и вовсе не обращал внимания.
В глазах по крайней мере двух писателей той эпохи отношения Пселла с царственными Дуками, и главным образом с Михаилом, приобретали трагически-фарсовый оттенок. В какой-то степени они и были такими: ученый «пир» Пселла с императорами явно приходился на время «чумы».
Вместо заключения. Византийская «дружба» и личность писателя
Мы проследили отношения Пселла с разными его современниками, как бы «раздробив» образ писателя в надежде на новый синтез. Настало время подвести итоги.
Нетрудно заметить, что переписка Пселла пронизана духом и терминологией φιλία, понятия, которое только с большой натяжкой можно передать на русский язык словом «дружба».407 Слово и понятие φιλία, равно как и синонимическое ἀγάπη, настолько примелькались в посланиях византийцев разных эпох, что обычно даже не фиксируются в сознании читателей. В современных письмах это про исходит, например, с обращениями «дорогой», «уважаемый» и т. д.
Между тем «дружба» – отнюдь не простая принадлежность средневекового эпистолярного этикета, а, напротив, имеет определенные функции и существует на разных уровнях и в ряде градаций. Ее высший уровень – утонченная интеллектуальная дружба, связывающая Пселла с Иоанном Мавроподом, молодым Иоанном Ксифилином, Константином Лихудом и некоторыми другими современниками. Мотив дружбы, неоднократно всплывающий в переписке писателя с этой категорией корреспондентов, постоянно переплетается с другой темой – страсти к науке и литературе. Именно общность литературных и научных интересов связывала, например, столь непохожих людей, как независимого и гордого «кабинетного» ученого Мавропода и лукавого царедворца – «протея» Пселла. Об этом недвусмысленно говорит сам Пселл в «Хронографии»: «Смыслом нашего союза стал смысл наших занятий» [20 (II), с. 65].
Атмосферу этой ученой «дружбы» передает пролог Иоанна Евхаитского к сборнику его стихотворений: «Выбрав эти мои сочинения из многих других, стихотворных и не стихотворных, я только их преподношу любителям слова. Получив эти краткие строки, друзья, вы сами предпочтете, чтобы ваш друг угодил вам своими делами, а не длинными речами» [46, № 1]. Мавропод адресует свой сборник друзьям, а его друзья и являются одновременно «друзьями слова». Тесно взаимосвязанными понятия «дружбы» и «слова» оказываются и в письме Пселла Иоанну Мавроподу. Упрекнув друга за нерегулярность его посланий, писатель продолжает: «Мы не изменяемся в зависимости от перемен судьбы и обстоятельств и, в отличие от большинства, не выбираем слова в соответствии с ними и не соразмеряем по ним дружеские чувства. Пусть же они (“перемены судьбы» и “обстоятельства”. – Я.Л) извне теснят нас, а слово утвердится, как мы и условились друг с другом. Несчастья же следует переносить».
Понятия «слова» и «дружба» употребляются здесь как бы на одном уровне. И то и другое одинаково не зависит от внешних обстоятельств, и то и другое составляет внутреннюю духовную связь друзей, беречь которую они договорились.
В некоторых случаях этот тип «дружбы» приобретает у Пселла свойства эпикурейско-горацианской дружбы, когда помимо ученых занятий партнеров связывает общность жизнеотношения, которое с известной натяжкой можно назвать гедонистическим. Иногда (в отношениях с Иоанном Дукой, например) эпикуреизм даже оттесняет на второй план интеллектуальные связи.
Другой уровень φιλία – это широко трактуемые личностные связи людей, принадлежащих к господствующему классу. В этом случае φιλία – скорее «дружелюбие», нежели «дружба». Ее ни в коем случае нельзя ассоциировать с обезличенной христианской любовью к ближним.
В отличие от последней, φιλία имеет ярко выраженный личностный характер, она тем крепче, чем теснее связи между людьми. Сам факт близости (безразлично, родственной, дружеской, даже соседской) накладывает на партнеров определенные обязательства. В многочисленных рекомендательных письмах почти нет ссылок на какие-либо особые достоинства протеже, зато множество упоминаний того, что они – родственники [16 (II), № 175], а то и просто земляки его друга [16 (II), № 52]. 194], друзья [l (V), № 147; 16 (II), № 51, 154, 2471, отцовские друзья (πατρῷος) (1 (V), № 19), «мои» (ἐμός) «подручники» (ὑποχείριος) (1(V), № 34, 102; 16 (II), №83, 119), соседи [16 (II), № 175], а то и просто земляки его друга [16 (II), № 52]. Близость к автору, иногда весьма относительная, как правило, приводится в качестве достаточного и не требующего никаких дальнейших комментариев основания для ходатайств.
Возможен и другой вариант: Пселл вовсе не знает того, за кого просит, но человека этого рекомендовал его «друг». Любопытно в этом смысле письмо, адресованное великому эконому [16 (II), № 122]. Писатель ходатайствует за некоего Меландра. Что он за человек, Пселл не имеет понятия, но за него просил некто φίλτατος. Вопрос о достоинствах протеже автор предпочитает обойти с помощью шутки: если Меландр оправдает доверие – хорошо, если нет, то от общения с адресатом он наверняка станет Левкандром (непереводимая игра слов: Левкандр в переводе на русский – «белый муж», Меландр – «черный муж»).
И наконец, последняя градация «дружбы» – просто доброжелательное отношение к людям, даже едва знакомым. «Что ты удивляешься, – обращается Пселл к одному из судей, – что я почитаю тебя и сохраняю к тебе подобающее расположение?.. Ведь я сохраняю искреннюю дружбу даже к случайно встреченным людям, с которыми беседовал лишь раз». Насколько тонкой и малозначительной бывает связь при такого рода «дружбе», показывает письмо Пселла [16 (II), № 216]. «Не допусти, чтобы задержка с присылкой «арабской трости» (мы не уверены в правильном понимании этого слова. – Я.Л.) испортила нашу дружбу», – пишет Пселл корреспонденту. Это уже самый низкий уровень «дружбы», за которым следует только равнодушие и открытая неприязнь к людям.
Для своего бесперебойного функционирования «дружба» нуждается в постоянном поддержании и обновлении, и лучшим средством для этого является обмен письмами, часто сопровождаемыми подарками. Нарушение нормального функционирования этой системы вызывает раздражение и разочарование корреспондентов. Отсюда – обычные в византийской эпистолографии горькие упреки в молчании.
Византийцы великолепно умели пользоваться системой «дружбы» для достижения своих целей и прекрасно знали, по какому адресу им следует каждый раз обращаться. Пселл служит передаточной инстанцией для просьб и часто делает это явно не бескорыстно, ожидая, видимо, подобных услуг и для самого себя. В одном случае он для подкрепления своего ходатайства указывает, что его протеже – человек, близкий к императору [1 (V), № 133]. В письме к патриарху Антиохии [1 (V), № 61] (лемма не бесспорна) Пселл отмечает, что монах, за которого он просит, обратился именно к нему, поскольку только его ходатайство может иметь успех у адресата.
«Дружба» обладает определенным кодексом, к требованиям которого постоянно апеллирует Пселл. Основные его положения сводятся к следующему: «дружба» – всемогуща, особенно, если она связывает людей разумных и деятельных [1 (V), № 75, с. 309. 24–25]; у друзей все общее [16 (II), № 184, с. 203.8]; истинный друг немедля исполняет просьбы [1 (V), № 21, с. 258.18–20; 16 (II), № 181]. Ходатайства за друга, а также исполнение его просьб – удовольствие, удовлетворение ходатайств – лучшая форма проявления дружеских чувств как к протеже, так и к самому ходатаю [1 (V), № 94, 116; 16 (II), № 179]; друг любит друзей своего друга [16 (II), № 165, 169]; другу достаточно сказать о третьем лице «это мой друг», чтобы тот сделал для него все возможное [1 (V), № 147, 158] и т.д.
Знание этого кодекса «другом» предполагается как нечто само собой разумеющееся, и потому нет никакой необходимости напоминать ему о его долге, и он сам сделает все, что нужно сделать для друга, обратившегося с просьбой [16 (II), № 133].
«Дружба» поднимается Пселлом на уровень универсальной добродетели, в ряде случаев способной заменить многие другие.
Строгое выполнение требований кодекса «дружбы» тем не менее не может не привести к определенному конфликту с обязанностями, накладываемыми на человека иными моральными и государственными установлениями. В частности, φιλία как расположению, персонально направленному, явно противостоит δικαιοσύνη – справедливость, теоретически в равной степени распространяющаяся на всех полноправных граждан и предполагающая беспреимущественное равенство перед законом. Не случайно поэтому в корреспонденции Пселла содержатся попытки примирить разноречивые требования этих добродетелей.
Писатель рассматривает дружеское расположение и справедливость как равноценные мотивы, которыми должен руководствоваться чиновник в своих действиях. Рекомендуя какого-то судью, Пселл отмечает в первую очередь, что тот умеет «почитать добродетель и ценить дружбу» [16 (II), с. 90.15–16]. Писатель характеризует своего протеже как человека твердого ума, мягкосердечного, знающего законы, хотя и ставящего человеколюбие выше права, почитающего друзей и т. д. [16 (II), с. 90.10–15]. Уважение дружбы ставится здесь на один уровень со знанием юриспруденции, выше которого оказывается человеколюбие.
Вступаясь за какого-то обиженного своими соседями человека и прося восстановить справедливость, Пселл пишет неизвестному судье: «К этому делу (т.е. правому суду – Я.Л.] тебя должны подвигнуть две вещи: стремление к справедливости и расположение ко мне» [16 (II), №171, с. 195.10 и сл.] Более того, писатель теоретически сознает примат долга для судьи. Личным чувствам он, на первый взгляд, отводит роль лишь дополнительного мотива, способствующего осуществлению правосудия. Я пишу тебе не для того, чтобы ты поступил как праведный судья, это ты сделаешь и сам, пишет Пселл неизвестному лицу, но для того, мол, чтобы напомнить тебе о дружеских чувствах. «Велика и могущественна сила дружбы, она придает больший вес чаше правосудия. Сама по себе она не может склонить весы в свою сторону, но в соединении со справедливостью сразу же перетянет и во сто крат больший вес» [16 (II), № 166, с. 192.7 и сл.]. Письмо заканчивается призывом сделать для его протеже все, чему только не препятствует закон. Это в теории. На практике же антиномию «закон – дружба» Пселл склонен решать в пользу личных чувств, дружбы. Эта позиция приводит Пселла к весьма свободным воззрениям на долг и ответственность византийского чиновника. Вступаясь за некоего неудачливого сборщика налогов, к злоупотреблениям которого сурово отнесся судья, Пселл с достаточной степенью цинизма советует последнему: «Ты не допускай злоупотреблений, глядя на них, а просто не замечай их, ты должен смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать...» [16 (II), № 252, с. 301.1 и сл.].
Итак, личные связи и обусловленные ими услуги для Пселла значат больше, нежели строгое исполнение служебного долга.
Как нетрудно убедиться из писем Пселла к судьям, «дружба» для философа – не просто набор удобных формул для использования в письмах «дружественного» типа, это также и определенная, существующая на разных уровнях система личностных связей, предполагающая не только выражение взаимных дружелюбных чувств, но и активные действия в пользу «друга». Можно предполагать и большее: как универсальная личностная связь «дружба» служит своеобразным субститутом официальных связей и играет немалую роль в общественной жизни и функционировании государственной машины Византии XI в.
Можно утверждать и другое. Понятие «дружба» в XI в. имеет и некоторую социальную окраску. Культ «дружбы» разделяется отнюдь не всеми прослойками правящего класса. Монашеско-аскетические круги, выразителем идеологии которых был Симеон Новый Богослов, презирали «дружбу», полагая, что она наряду с ученостью отвлекает человека от аскезы.408 Это явление наблюдалось и при жизни Пселла. Пренебрегал «дружбой» и нравственный, интеллектуальный антипод писателя – Михаил Кируларий, а также и принявший монашество Ксифилин. Интересно, что Михаила Кирулария связывала с Симеоном не только идейная преемственность: сподвижник Кирулария Никита Стифат был ближним учеником Симеона. Против пренебрежения «дружбой» Кируларием и Ксифилином Пселл выступал резко и неоднократно. Таким образом, культ «дружбы» характерен прежде всего для интеллектуальной элиты византийского общества с определенными светскими тенденциями.
Каким же является Пселл в своих многочисленных и многообразных связях с современниками? Сам писатель неоднократно пространно рассуждал о сложности и противоречивости человеческой природы. Вряд ли следует пытаться подвести под однозначные определения и его самого. Речь может идти только об основных ведущих тенденциях личности, существование которых также им охотно допускалось.
Прежде всего Пселл обладал интеллектом особого склада. Дело, конечно, не в феноменальной образованности писателя (эрудицией в Византии и в прошлые века удивлять было некого), а в отношении писателя к знанию и интеллекту – тому и другому Пселл придавал значение едва ли не большее, чем христианской вере. Ощущение Пселлом своего интеллектуального «избранничества» явно противостоит традиционной приниженности и христианскому смирению его предшественников. При всей упоенности собственным интеллектом Пселл был необыкновенно терпим и не по-средневековому «всеяден» по отношению к другим взглядам и другим позициям, делая исключение лишь для тех, кто был враждебен самому человеческому интеллекту. Эта «упоенность» нередко выливалась в тщеславие и неприкрытое хвастовство, вызывавшее сильное раздражение у исследователей Нового времени.
Помимо традиционного для образованного византийца уважения к знанию мироощущение Пселла, равно как и некоторых его корреспондентов, включает в себя определенный эстетизм и то отношение к жизни, которое мы условно охарактеризовали как эпикурейско-горацианское. Нет нужды объяснять, что и то и другое резко противоречит монашеско-аскетической идеологии. Этот приобретенный еще в юности «идейный субстрат» оказался в натуре Пселла весьма устойчивым. К воздействию монашеской идеологии писатель оказался несравненно более стойким, чем, например, друг его юности Иоанн Ксифилин. Противоречие между этой стороной натуры писателя и «официальной» нравственной доктриной, которую он обязан был использовать, привело к метаниям и непоследовательности поступков Пселла, равно как и к противоречиям в отношениях с людьми.
С «эпикурейством», возможно, связана и другая черта личности Пселла, которую, казалось бы, трудно совместить с представлениями об утонченном философе и человеке элиты – его влечение к той стороне жизни, которую с риторических позиций строгой Византии нельзя было не оценить как «низменную». Юноша Пселл, не в силах пропустить празднество, не является на занятия к учителю; уже принявший монашество, в возрасте за сорок, он ищет возможностей посетить веселую свадьбу своего ученика, и, наконец, уже очень немолодой писатель отличает шута и балагура Илью, находя особое удовольствие в его фиглярстве и непристойных рассказах. Стихия «низа», как это случалось в Средневековье, как бы компенсирует метафизическую абстрактность занятий и вольный или невольный аскетизм жизни писателя.
Пселл и его ближайшее окружение жили в определенном нравственном климате со своими этическими нормами и категориями. Сострадание, душевная мягкость, прощение человеческих слабостей, нравственная гибкость – таков ряд этических категорий, исповедуемых писателем. Антиаскетичность и «свобода» морали, исповедуемой писателем, противостоят нравственному ригоризму монашеских кругов. Пселл оказывается необыкновенно терпим в сфере не только интеллектуальной, но и этической.
Безусловно, грани между «нравственной гибкостью» и моральной беспринципностью, а то и прямым предательством, часто бывают едва различимы, и Пселл, как никто другой, умел их переступать. Достаточно вспомнить поведение Пселла в истории с низложением и ослеплением Романа Диогена и в определенной мере с Михаилом Кируларием, чтобы проиллюстрировать это утверждение, хотя мотивы его действий, особенно в последнем случае, много сложней, чем думают некоторые исследователи. Но даже отвлекаясь от этих исторических трагедий, активным действующим лицом которых не случайно оказался писатель, в своем рядовом, ежедневном поведении, в «бытовой» морали Пселл проявляет себя человеком, постоянно готовым к компромиссам и маневрированию, проявлениям сервилизма. Эти его свойства – обратная сторона «нравственной гибкости» – особенно бросаются в глаза при сравнении его с прямым и твердым в своих принципах Мавроподом.
Сделав попытку рассмотреть личность Пселла, мы не обнаружили в ней почти ни одной черты, поддающейся однозначному определению или оценке. Грани его образа нечетки и размыты, одни свойства переходят в другие, и почти ни одно из них нельзя занести только в нравственный «актив» или «пассив» писателя. В этом отношений Пселл мог бы занять первое место в галерее лучших образов, созданных им в «Хронографии».
Эта усложненность и антиномичность внутреннего мира Пселла – само по себе явление знаменательное. Нельзя, конечно, доверчиво воспринимать всех византийцев до Пселла в той прямолинейной и упрощенной схеме, по которой они подчас изображались в литературных памятниках и документах своего времени. Тем не менее жизнь средневековых людей, их отношения к Богу, императору и их наместникам, взаимоотношения между собой были настолько проникнуты церемониалом и этикетом (в широком смысле слова), что их мироощущение и поведение гораздо в большей степени, чем в Новое время, подчинялось строгим стереотипам. Что же касается Пселла, то его мироощущение, чувства и действия, как бы они ни были «клишированы» в отдельных своих проявлениях, в целом противостоят любому стереотипу. Эта принципиальная свобода от стереотипа была осознана и самим писателем. Пселл не только настаивает на необходимости без предвзятости и «по собственной мере» судить о людях вообще (см. ниже), но и категорически требует признания своей особой самобытности. «Мне не нужно, чтобы меня мерили чужие руки, я сам для себя и мерило, и норма», – пишет он Константину Кируларию [1 (V), с. 220.1 и сл.]. Признание весьма необычное и примечательное для средневекового писателя!
Если бы Михаил Пселл вообще ничего не написал, сама его личность представляла бы собой огромный историко-культурный интерес как свидетельство глубоких и важных процессов в развитии византийской идеологии. Однако Пселл, ничего не написавший, был бы уже не Пселлом. Анализу творчества писателя мы посвящаем следующие разделы работы.
Часть II. Творчество
«Византийскую литературу в течение ряда научных эпох изучали скорее как совокупность ‘‘исторических свидетельств”, свидетельствующих обо всем на свете, кроме самих себя, нежели как литературу в собственном смысле этого слова» [71, с. 22]. Приведенные слова полностью приложимы и к творчеству Пселла, чей литературный талант сравнивали с дарованиями Шекспира и Достоевского. Только специфика языка и в меньшей мере стиля писателя стала предметом больших и специальных исследований [277, 144]. Некоторым оправданием такому положению может, конечно, служить низкий уровень изданий и текстологического изучения наследия Пселла. Со времени первой публикации «Хронографии» прошло лишь немногим более 120 лет (этот внушительный срок не идет ни в какое сравнение с многовековой традицией изучения античных авторов), большинство писем и речей, впервые изданных по одной рукописи Сафой в 70-х годах прошлого столетия, больше не публиковались, многие эпистолографические и риторические памятники были изданы около сорока лет назад, а о Пселле-агиографе ученый мир узнал только недавно после публикации П. Иоанну «Жития Авксентия». Немало произведений вообще пока остаются в рукописях.409
И тем не менее есть и иная причина столь слабой изученности литературного наследия Пселла. Лишь совсем недавно за византийской литературой стали признавать самостоятельную художественную ценность, а рассматривать творчество среднегреческих авторов как единое художественное целое, по сути дела, и не начинали.410
В традициях основоположника византийского литературоведения К. Крумбахера было и остается изучение отдельных произведений в качестве образца определенного жанра, а не исследование творческого наследия писателей или целой литературной эпохи в своей совокупности.411 Вот почему можно вспомнить несколько работ, посвященных тому или иному сочинению или жанру в творчестве Пселла, но нет еще ни одного исследования о Пселле-писателе.412
Рассматривая «вертикальную» историю жанров, ученые, естественно, обращали внимание на неизменные родовые признаки и, не сопрягая их с особенностями остального творчества писателей, как правило, приходили к неутешительным выводам о многовековой стабильности литературных канонов, обрекавшей на творческое бесплодие византийских литераторов. Так случилось с эпистолографией Пселла, которого еще И. Сикутрис назвал «самым великим эпистолографом, которого только произвел греческий народ» [300, с. 35]. Письма Пселла в литературном отношении не оценены вовсе и в общих руководствах приводятся главным образом в качестве иллюстрации неизменности жанровых законов эпистолографии.
Так случилось и с риторическими произведениями писателя. Пселловской риторике посвящен лишь один раздел большой статьи итальянского ученого Л. Превиале «Теория и практика византийского панегирика», который ограничивается перечислением и краткой характеристикой наиболее значительных панегирических речей писателя. Энкомии Пселла ученый без обиняков называет «посредственными, пустыми, лживыми и явно недостойными пера автора “Хронографии”» [274, с. 97]. Через 20 лет два панегирика Пселла привлекли внимание соотечественника Превиале Р. Анастази. Его статья об эпитафии Ксифилину касается главным образом рукописной традиции [125]. Во введении к итальянскому переводу энкомия Мавроподу разбираются проблемы датировки и зависимость Пселла от «образцов [17]. Что касается общей оценки речей, то Анастази полностью солидаризируется с уже цитированными словами Превиале.413
Больше «повезло» пселловской «Хронографии». Интерес к ней как к историческому источнику закономерно вызвал попытки решить ряд «загадок», которые задает исследователю форма этого произведения.
В рецензии на издание «Хронографии» Сикутрис в начале 20-х годов сформулировал несколько, по его мнению, подлежащих обсуждению проблем: «Более точное определение времени издания всего сочинения и его частей, литературный жанр, в котором это произведение мыслится автором... техника литературного портрета... причина отсутствия вступления, форма последней части труда... последующее воздействие “Хронографии”, политическая позиция автора» [299, с. 99 и сл.].414 Прошло более 60 лет, а ответы на поставленные вопросы за это время не только не были однозначно сформулированы, но, по существу, почти вовсе не предлагались; молодой немецкий ученый Г. Вейс в рецензии на книгу о «Хронографии» А. Гадолин, изданную в 1970г., пишет о нерешенных проблемах, оставленных без внимания шведской исследовательницей. Вопросы, в пренебрежении к которым Вейс справедливо упрекает автора книги, в большинстве своем совпадают с проблемами, выделенными Сикутрисом [311].
Но не только важность исторического источника была стимулом для изучения «Хронографии». Выдающиеся художественные достоинства произведения, великолепное умение автора рисовать образы были достаточно рано замечены и оценены исследователями.
Впервые специальный раздел системе образов Пселла посвятил Э. Рено в уже упомянутом труде о языке и стиле византийского писателя [277, с. 505 и сл.]. Строгая систематизация, отличающая книгу в целом, однако, сменяется эмоционально-импрессионистическим изложением, когда Э. Рено говорит о «творческой силе» писателя, о его даре «оживлять предметы и лица», о «зоркости взгляда» и «уверенной руке» в изображении персонажей. Рено приводит много цитат, надежно подкрепляющих его оценки, но никак не раскрывающих сущности пселловского искусства. Единственное наблюдение, приводимое в этой связи, – обыкновение Пселла сначала давать своему герою характеристику «в общих чертах», а затем расширять и дополнять ее рядом деталей.
Появившаяся спустя 20 лет статья К. Свободы касается больше собственных взглядов Пселла на человеческую личность, чем его литературного мастерства. Свобода отмечает, что, согласно воззрениям автора «Хронографии», человек – существо сложное и изменчивое, в котором сосуществуют дурные и добрые качества [297].415
В то время как специалисты-византинисты только ищут подходы к анализу психологического и художественного мастерства,416 Пселл – художник и психолог, стал предметом особого внимания авторов двух обобщающих трудов, посвященных грандиозной проблеме изображения человека в литературе [220, 252]. В книгах П. Кирна и Г. Миша нет скрупулезности специального исследования, зато сохранена перспектива, возможная только при широком привлечении материала. По сути дела, П. Кирн, неоднократно упоминающий Пселла и посвятивший ему специальный очерк в конце книги, почти не делает новых наблюдений. Однако художественные принципы византийского автора прямо или косвенно сопоставляются с позицией античных и средневековых писателей, и его творчество как бы включается в круг европейской литературы.
Г. Миш (его фундаментальное исследование специально посвящено истории автобиографии, тем не менее ученого интересуют и общие принципы раскрытия характера) источники представлений Пселла об изменчивости человеческой природы ищет у Плутарха и Полибия и даже в диалектике Гераклита, а их появление объясняет «бесхарактерностью», «непостоянством» и иными моральными дефектами самого писателя. К оценке психологического и художественного искусства Пселла Миш подходит с точки зрения современного исследователя, не только знакомого с новейшими теориями, но читавшего Л. Толстого, Ф. Достоевского, Ф. Кафку и т. д. «Пселл, – пишет ученый, – видит связь внешне противоречивых черт героя, но далек от того, чтобы за этой внешней связью увидеть “единую силу, заложенную в персонаже”» [252, с. 804 и сл.]. Дальше Миш более определенно называет эту силу «духовно-нравственным ядром личности» (с. 819). Как ни талантлив Пселл, он, по Мишу, разделяет ограниченность других средневековых писателей; феноменальная индивидуализация образов сочетается у него со схематическим изображением их сущности.
Среди наблюдений и замечаний Миша немало верного и интересного, вряд ли, однако, методологически правильно оценивать средневекового писателя с точки зрения того, в чем он «дотянул», а в чем «не дотянул» до современного уровня.
В более поздние годы литература о «Хронографии» обогатилась сразу двумя специальными исследованиями. Первое из них, книга Анастази, – по сути дела, подготовительная работа (автор сообщает в аннотации, что готовит большое издание, посвященное Пселлу) [124].417 Последняя (третья) ее глава имеет дело с историческими концепциями Пселла – «Хронография» в данном случае поставляет лишь необходимый исследователю материал. Вторая глава («Михаил VII») большей частью касается установления биографических фактов, и только в первой («Константин IX Мономах») непосредственно исследуется сама «Хронография». Выполняя фактически первый из «заветов» Сикутриса, Анастази стремится уточнить время написания отдельных частей произведения. Ученый выступает здесь в роли последовательного аналитика. Пселл, по его мнению, не историк, а мемуарист, к тому же самый пристрастный, его интересуют не факты, а собственная личность, и освещение им событий прошлого полностью зависит от позиции в настоящем. Из этой презумпции следует вполне конкретный методологический вывод, который в упрощенном виде можно сформулировать так: произведения Пселла или их части можно датировать с максимальной точностью, выяснив, когда писателю было «выгодно» их написать. Если же в том или ином сочинении содержатся противоречия, то они – или результат порчи рукописной традиции, случайного соединения разных произведений, или следствие авторской контаминации разновременно написанных частей. Этот метод аналитика Анастази применяет к «Хронографии», в частности к биографии Константина Мономаха.
Уже упомянутая книга А. Гадолин [181] еще более, чем труд Анастази, использует «Хронографию» скорее как материал, нежели объект исследования. Цель автора: вычленить из «Хронографии» воззрения писателя на те или иные факты и явления истории общественной и политической жизни и сопоставить их с античными воззрениями. Полностью изолируя «Хронографию» от остального творчества, сравнивая между собой по чисто внешним признакам взгляды Пселла и древних писателей , шведская исследовательница заключает о полной зависимости византийского литератора от своих «образцов». Книга эта в некоторых своих разделах, может быть, и способна служить сводкой данных «Хронографии» о различных областях общественной жизни, но вряд ли что-либо прибавляет к нашим представлениям о самой «Хронографии».418
Как видно из этого краткого обзора, и поныне не существует специального комплексного исследования всего творчества Пселла. Не может полностью выполнить эту роль и предлагаемая работа. Во-первых, из огромного литературного наследия писателя выбираются лишь наиболее художественно значительные произведения: «Хронография» и эпидейктические речи. За пределами исследования практически остаются стихотворные произведения, житие Авксентия и эпистолография писателя (последняя служила нам основным материалом в первой части книги). Во-вторых, среди круга многочисленных проблем творчества Пселла главное и почти исключительное внимание обращается на анализ композиции и искусство построения образов произведений.
Исследователь не может приступить к рассмотрению художественной специфики сочинений Пселла, не высказав своего взгляда на решение ряда специальных вопросов (датировки, жанровой принадлежности сочинений и т. д.). Делается это и в настоящей работе. Попытавшись при этом условии охватить все творчество писателя, мы превзошли бы разумные размеры исследования, отказавшись от постановки «специальных» проблем, не сумели бы аргументировать выводов.
Глава 4-я. Эстетические взгляды и литературная позиция
Рассмотрение творчества Пселла мы начинаем с анализа его литературно-эстетических взглядов. Такое начало имеет дополнительное оправдание в рационализме византийского писателя, его повышенном внимании к проблемам искусства – ремесла, τέχνη.419
Как известно, в Византии в ходу было очень много риторик, и фактически не было ни одной поэтики. Однако поэтики «в чистом виде» не существовало уже и в поздней античности, что не мешает исследованию наряду с риторикой теоретико-литературных концепций Древнего мира. Тем более это должно относиться к Византии, где пределы риторики стали еще шире и где риторика, потеснив другие жанры, восприняла и вобрала в себя их наследство. Именно поэтому мы не станем проводить резкой грани между риторикой и поэтикой, памятуя, что этой грани не существовало и в сознании образованного византийца.420
Михаил Пселл знаменует собой второй после Фотия421 этап развития византийской литературно-эстетической мысли. Несколько его сочинений специально посвящены риторическим и литературным проблемам. Характеристика этих произведений дается нами в приложении (см. с. 514 и сл.).
При всем своем жанровом разнообразии большинство из них имеет общее происхождение в системе риторического обучения византийской школы. Это или трактаты, сокращающие сочинения столпов античной риторики Дионисия Галикарнасского и Гермогена, или литературные «синкрисисы» – традиционные упражнения будущих риторов, или «монографические исследования» творчества писателя в стиле Дионисия. Почти все они написаны в виде подлинного или фиктивного послания – в излюбленной форме для выражения литературных взглядов античных писателей.
Не менее традиционен также круг основных идей и критериев, с которыми Пселл подходит к анализу литературных произведений. В этом легко убедиться, составив небольшой реестр основных элементов литературного произведения, наличие которых отмечает и качество которых оценивает Пселл. Приведенные ниже примеры – лишь малая доля встречающихся у писателя.
Мысль, смысл (νοῦς, ἔννοια, διάνοια). «Идеальный» христианский ритор Григорий Назианзин стоит выше всех по уму и красоте, «управляет риторической речью вожжами разума, поражает читателя неожиданными мыслями» [15, с. 57.346]. Смысл значит для Пселла много больше, чем звук [1 (V), с. 150.1 и сл.]. Недостатком Ахилла Татия является как раз то, что он «язык предпочитает смыслу» [13, с. CXIII.13].
Слово (λόγος, ὄνομα, λέξις, ὀνομασία). О «сладостных словах» заботился Иоанн Мавропод, речь которого цвела розами и зимой [1 (V), с. 149.21]. Гелиодор украшал свою речь «красивыми и изящными словами», Григорий Назианзин поражал слушателя «цветом слов» [15, с. 57.347]. Умение «выбрать слова» – ценное качество Лихуда [1 (IV), с. 394.16].
Сочетание слов (συνθήκη τῶν λόγων) играет, по Пселлу, едва ли не большую роль, нежели выбор необходимых слов. Этой проблеме, как уже отмечалось, был посвящен специальный трактат писателя. Мавропод заботится не только о «сладостных словах», но и об их правильном сочетании (1 (V), с. 149.20), Лихуд умеет не только выбрать слова, но и «искусно приладить их друг к другу» [1 (IV), с. 394.16]. В сочетании слов никто не был в состоянии превзойти Симеона Метафраста [16 (I), с. 104.19], даже суровый Михаил Кируларий восхищался сочетанием слов и заключенной в них прелестью, как «чистейшим видом идеальной красоты» [1 (IV), с. 354–355].
Фигуры (σχήματα). Пселл ценит, например, разнообразие фигур в речи Лихуда [1 (IV), с. 394.14]. Наличием «эффектных фигур» у христианских писателей интересуется неизвестный корреспондент писателя [22, с. 124] и т.д.
Ритм (ῥυθμός). Присутствие и качество ритмической организации фразы неоднократно отмечается Пселлом в отношении стиля Константина Лихуда (1 (IV), с. 394.16), Симеона Метафраста [16 (I), с. 103.3], Григория Назианзина [15, с. 56.315 и сл.] и др.
Роли каждого из перечисленных здесь элементов в античной риторической критике можно было бы посвятить специальный очерк. В этом, однако, нет нужды, поскольку все они вместе «одним списком» встречаются уже в предисловии к известному сочинению Гермогена из Тарса «Об идеях», сочинении, дважды пересказанном Пселлом. В речах всех видов, по Гермогену, следует различать следующие элементы: ἔννοια, μέθοδος, λέξις, σχήμα, κῶλον, συνθήκη, ἀνάπαυσις, ῥυθμός [43, с. 220.6 и сл.]. В дальнейшем, последовательно рассматривая «идеи» (иначе свойства речи), Гермоген методично перечисляет, какими должны в каждом случае быть ее элементы. Перелагая Гермогена, Пселл в сочинении «О риторике» полностью сохраняет его структуру изложения, причем элементы идеи носят у него название «частей» (μέρη τῆς ἰδέας) [см. 57 (III), с. 698.4 и сл.]. Список, составленный нами (без оглядки на Гермогена или на его переложение Пселлом), почти полностью повторяет реестр классика древней риторики.422 Причина такого совпадения, нам представляется, очевидна: профессор риторики при оценке литературных произведений находится во власти школьного шаблона, основу которого и составляла гермогеновская система.423 Вряд ли, однако, современный исследователь вправе ограничиться очередной констатацией неоригинальности византийского писателя.
Пользуясь современной терминологией, можно сказать, что Пселл в определенной степени был историком, теоретиком и критиком литературы. Эти три аспекта и послужат предметом анализа.
История литературы (в антикварно-филологическом смысле слова), расцвет которой приходится на эпоху деятельности александрийских грамматиков, имела продолжение в Византии. Фотий, как правило, интересуется авторами прочитанных им книг, указывает время их жизни, перечисляет биографические факты. Эту традицию на рубеже X–XI вв. продолжает автор словаря «Суды». Пселлу интерес подобного рода свойствен значительно меньше. Авторы разбираемых произведений его почти не интересуют,424 сами же произведения – прежде всего объект подражания или отталкивания, эстетического наслаждения или аллегорического толкования. Место их определяется не реальной позицией в истории, а значением в настоящем. В этом смысле история литературы для Пселла, как и любого человека Средневековья, почти вовсе лишена развития и существует как бы в двухмерном пространстве.425 Можно говорить об утилитарно-риторическом подходе Пселла к литературе. И тем не менее некоторые историко-литературные замечания Пселла представляют безусловный интерес. Пселл говорит о принципах обработки старых житий Симеона Метафраста: последний бережно, как к первоисточнику, относился к древнейшим сюжетам и не отходил от них, чтобы не создалось впечатления, будто он что-то делает вопреки образцу; он преобразовывал форму произведения, оставляя нетронутым его содержание, исправлял огрехи стиля, не изменяя мысли [см. 16 (I), с. 103.29–104.5].
Сопоставляя творчество Еврипида и Георгия Писиды (само по себе такое сопоставление – великолепный пример «антиисторизма»), Пселл считает нужным отметить то, какое изменение претерпел за протекшие столетия античный стих, в частности ямб [4, с. 18.14]. Сравнивая романы Гелиодора и Ахилла Татия, Пселл ставит вопрос о генетической связи между произведениями, утверждая («Я полагаю», – οἶμαι, – пишет он, подчеркивая субъективность своего мнения [13, с. CXI.29]), что Татий писал в подражание Гелиодору.426 Любопытно, что эта точка зрения до недавних папирусных находок была доминирующей среди новых исследователей [281, с. 501, 514].
Приведенными примерами почти исчерпываются случаи «историко-литературного» подхода Пселла к произведениям. <К приведенным примерам можно добавить еще один: согласно А. Дейку, замечания Пселла о Прометее Прикованном (в трактате о Еврипиде и Писиде. – Я.Л.) предвосхищают некоторые из наблюдений над этой трагедией, сделанные современным исследователем Марком Гриффитом (A. Dyck, 1983, р. 18–19). Несомненно, подобная «модернизация» Пселла таит в себе немалые опасности и, строго говоря, не вполне научна, но византийский писатель постоянно «провоцирует» на подобные замечания.> Они остаются исключениями, подтверждающими правило. Пселл – прежде всего ритор с типичным «утилитарным» отношением к литературе прошлого.
Много сложнее проблема теории литературы и литературной критики. Как теоретик риторики, видели мы, Пселл тривиален, степень его самостоятельности ограничивается введением христианских авторов вместо античных в качестве иллюстраций к положениям, целиком заимствованным у древних риторов.
Примечательно, однако, что сам Пселл вовсе не считает себя эпигоном. Напротив, он даже гордится своей «оригинальностью» в теории риторики: «Мне приходилось читать многих серьезных древних риторов, но не в пример иным я не позволил им водить себя за нос, а прибавил нечто свое к некоторым положениям Лонгина, во многом исправил науку (τέχνη) Адриана, а у Сопатра осудил почти все. Что же касается Гермогена, то – вы и сами знаете – я прекращаю обвинение за отсутствием улик, хотя все, о чем он говорил, заимствовано у древних риторов, а то, что он добавил от себя, – это не существо дела, это нечто второстепенное» [16 (I), с. 370.5]. Кроме выбора авторов – впрочем, весьма случайного, – на которых ссылается Пселл, любопытна здесь также оценка Гермогена: Пселл прекрасно осознает компилятивный характер его сочинений, тем не менее не находит для него слов осуждения. Знаменательно, что вопрос об оригинальности вообще возникает у средневекового теоретика!
Специальных трактатов по поэтике Пселл не оставил. Взгляды его приходится экстрагировать из конкретных оценок творчества тех или иных писателей (чаще их стиля). Подразделить поэтому у Пселла теорию и литературную критику практически невозможно.
В литературных суждениях Пселла нетрудно выделить несколько положений, на которых особенно настаивает автор и которые, по его мнению, служат признаком «идеального стиля». Первое из них по важности – мысль о «слиянии», «сочетании» в стиле писателя различных свойств, достоинств, «идей» стиля предшественников. Именно таким образом, как уже отмечалось, оценивает Пселл стиль Григория Богослова [15, с. 48.18]. Стиль Иоанна Мавропода являет собой «смесь, составленную из лучшего подражания лучшим образцам» [1 (V), с. 150.26 и сл.]. Лихуд отличается умением «смешивать идеи» [1 (IV), с. 394.13 и сл.]. Наконец, сам Пселл ставит в заслугу себе в первую очередь сочетание стилей предшествующих писателей [22, с. 52.4 и сл.].
Выраженные в такой форме, суждения эти также вполне тривиальны: мысль о том, что «сочетание» или «слияние» лучших свойств стиля предшественников – главный признак идеального оратора (а таковой для поздней античности – Демосфен), предельно четко выражена и Дионисием Галикарнасским и Гермогеном [41, с. 143.11; 43, с. 215.8], которые и в данном случае служат источником Пселла. На деле, однако, представления Пселла не столь просты и прямолинейны, как это кажется с первого взгляда. Под аккумуляцией отдельных свойств, «идей» стиля Пселл понимает не механическое их соединение, а некий сплав, обладающий новым качеством. Почти каждое рассуждение о механическом по видимости «смешении идей» завершается диалектическим по сути своей выводом о рождении нового качества. «Он (Григорий Назианзин. – Я.Л.) не состоит как бы из многих риторов и не отдает дань каждому из них в разных частях своих речей, но подобно тому, как смешение красок дает новый цвет, на них не похожий, и бывает, что новый цвет оказывается краше тех, из которых он произошел, так и цвет речи Григория блещет тысячью цветов. Но по сравнению с ними там есть нечто другое, и он намного их лучше; я не считаю его речь собранием чего-то разнородного и чуждого одно другому, однако полагаю, что по своей природе она единообразна» [22, с. 127.20 и сл.]. Тот же Григорий, пишет Пселл в другом случае, хотя и сочетает в себе лучшие достоинства стиля предшествующих ораторов, пишет «не соревнуя с древними», писатель дважды настаивает на этой мысли: «речи его изливаются из собственного источника» [15, с. 49.40].
То же самое утверждается и в отношении собственного творчества. Перечислив писателей, у которых Пселл заимствует те или иные особенности стиля, он пишет: «Если же говорить обо мне, то нет у меня достоинств и силы этих писателей, однако речь моя всегда многообразна. Свойства каждого (из упомянутых писателей. – Я.Л.) смешиваются у меня в единое целое. И вот, состоя из многих, я – един» [«О стиле некоторых сочинений», 22, с. 52.4]. Таким образом, писатели, подражая предшественникам, становятся творцами нового стиля. Это диалектическое заключение не только логически следует из приведенных выше рассуждений писателя, но и непосредственно выражается самим Пселлом.
О Григории Назианзине (суждения об этом «идеальном» писателе наиболее показательны для его теоретико-литературных взглядов) Пселл пишет: «Испив до конца поток искусства и оросив его влагой свою мысль, он (Григорий. – Я.Л.) и сам из души своей испускал живительный и прозрачный источник. Он создавал речи, не оглядываясь на примеры, но сам был для себя первообразцом» [15, с. 54.228 и сл.]. В другом месте того же сочинения Григорий объявляется создателем самого трудного вида красноречия – панегирического [с. 57.342].427 Еще дальше, по словам Пселла, продвинулся в этом отношении Василий Великий, который «как бы сам хотел быть искусством слова» [22, с. 129.1 и сл.].
У Пселла не только Отцы церкви (это было бы еще понятно) претендуют на роль «основоположников». Современник и друг Пселла Константин Лихуд, чье красноречие сопоставляется с искусством Перикла, превосходил последнего тем, что, усвоив искусство красноречия, в большинстве случаев не подчинялся канонам, а «вводил каноны, лучшие, чем оно» (искусство красноречия) 1 (IV), с. 393.3 и сл..
Вообще правила, каноны красноречия отнюдь не играют для Пселла такой большой роли, как это можно было бы предположить, исходя как из общих представлений, так и из ряда собственных высказываний писателя. При чрезмерном использовании «искусства» – «технэ» произведение лишается искренности, что вовсе противопоказано дружеским посланиям; речь, исполненная пафоса, по необходимости отказывается от «правила» и т.д. [16 (I), с. 146, с. 172.25]. При том, что позднеантичная риторика, канонам которой следуют византийцы, почти полностью изгнала все, не поддающееся строгой систематизации и регулированию, в обиходе Пселла время от времени появляется понятие вдохновения, под воздействием которого творит оратор или писатель. Если, выступая в многолюдном собрании, Пселл заботился о красоте слов и об их удачном сочетании, фигурах и других обязательных для каждого ритора вещах, то, имея перед собой единственным слушателем своего ученика и друга Константина Кирулария, он «становится вдохновенным», «взлетает окрыленной душой» и т.д. [1 (V), с. 325.8 и сл.]. Такого же типа рассуждения содержатся и в послании, направленном Пселлом, видимо, Льву Параспондилу [16 (I), с. 142], который заставляет писателя исполниться вдохновения [16 (I), с. 142.16 и сл.]. О своем письме он говорит даже как о «пророчестве».
В этих рассуждениях, несомненно, наличествует большая доля этикетности: адресат письма или речи своими выдающимися достоинствами заставляет автора даже забыть обязательные правила искусства. Тем не менее само упоминание (и нередкое) вдохновения как источника творчества знаменательно. Пселл прекрасно осознает, что отнюдь не все высоты в литературном творчестве достижимы с помощью искусства – ремесла. «Платон божествен, – пишет Пселл, – но ему подражать невозможно. Кажется, что к его ясности легко приблизиться, на самом же деле это крутая вершина, на которую трудно взойти» [22, с. 51.18 и сл.] (перевод Т. А. Миллер). В принципе это утверждение ограничивает всемогущество риторической «технэ» и предполагает существование неподвластных ей областей, того, что, видимо, следует назвать «чудом искусства».428
Итак, рассмотрение первого из теоретико-литературных положений Пселла приводит нас к выводам, противоречащим предпосылкам. Пселл вслед за позднеантичной риторикой считает главным достоинством стиля смешение «идей», но, думает он, это смешение влечет за собой возникновение нового качества. Пселл признает необходимым строгое следование предписаниям искусства красноречия, однако, по его представлению, ритор вправе сам устанавливать каноны для себя и своих последователей. <Со свойственными ему диалектизмом и тонкостью он утверждает, что преступая каноны искусства =(τοὺς τέχνη κανόνας), он оказывается более искусным (τεχνικώτερος). На это весьма знаменательное замечание Пселла ссылается Ч. Чемберлен, проанализировавший четыре энкомия Пселла Константину Мономаху и сопоставлявший литературную технику Пселла с собственными теоретическими высказываниями писателя. По наблюдению Ч. Чемберлена, Пселл весьма свободен в использовании предписаний риторической теории. См. Ch. Chamberlain, 1986.> Владение техникой для Пселла – основное качество писателя и оратора, но «техника» может в иных случаях, по мнению писателя, уступать место свободному вдохновению.
Во всех трех случаях налицо противоречие традиционности, подчинения общему, нормативному, и идеи индивидуальности, самостоятельности художника. С одной стороны, Пселл еще усугубляет нормативность позднеантичной риторической теории, с другой – высказывается за свободу индивидуального проявления творческой личности. Причина первого явления понятна без дополнительных объяснений, истоки второго гораздо более сложны. Интересно в этой связи вспомнить, что аналогичная тенденция была свойственна и предшественнику Пселла, первому «теоретику» в византийской литературе – Фотию.429 Возможно, что интерес к индивидуальному в творчестве (естественно, на фоне общего догматизма мышления) принесла с собой именно византийская эпоха.430 В воззрениях Пселла на литературу он проявился особенно ярко.
Двойственность теоретической позиции Пселла, должно быть, сказалась и на разнохарактерности конкретных критических оценок. Наряду с многочисленными стандартизированными разборами по «элементам» и «идеям», поисками «нормы», вобравшей в себя все достоинства стилей предыдущих ораторов, у Пселла встречаются весьма тонкие суждения, поражающие именно отсутствием догматической скованности. Лучший тому пример – замечания Пселла по стилю его ученика Иоанна Итала. «Пусть простится Италу, если он прекрасен не во всем: он мастер своего дела, но красота не дается ему. Он небрежет о слушателе, его откровенная речь неприятна, ведь она приготовлена и составлена из предисловий, тогда как речь, тщательно отточенная, не бывает нестройной и сбивчивой. И речь его не льет усладу в душу, но заставляет размышлять и держать в уме сказанное, она убеждает не болтовней, не наслаждением (не уловляет она харитами), не пленяет красотой, но как бы насильно покоряет рассуждениями» [16 (I), с. 53.3 и сл.] (перевод Т. Миллер). У Итала, следовательно, нет того, что является обязательным для стиля прославленных ораторов. Это обстоятельство нарочито и, может быть, полемично подчеркивается Пселлом. Отсутствие этих достоинств, однако, с лихвой восполняется одним качеством – непобедимой логикой. Нестандартность мысли Пселла сказывается в данном случае в нестандартном метафорическом способе ее выражения: Итал «насильно покоряет рассуждениями». Интересно, что рассуждения об Итале заканчиваются защитой права оратора – и Итала в том числе – на особую индивидуальную характеристику его стиля.
Второй тезис, из которого почти непременно исходит Пселл при характеристике стиля восхваляемых им писателей и риторов, – «изменчивость» и «пестрота» слога, его способность приспособляться к лицам, обстоятельствам и условиям исполнения произведения. Источник этого положения Пселла не может вызывать сомнений: это известное требование античной риторической теории «уместности» стиля (τὸ πρέπον), которое нашло свое наиболее яркое отражение в сочинениях того же Дионисия Галикарнасского; мысли последнего, как мы видели, неоднократно заимствует византийский писатель. По словам Дионисия, идеальный ритор напоминает собой Протея, меняющего в зависимости от необходимости свой облик?431
У Пселла требование «уместности» приобретает поистине универсальный характер. Лучшие ораторы древности (Лисий, Демосфен, Лонгин, Приск, Никагор), по его словам, умели не только сочетать слова, но и изменять речь в соответствии с обстоятельствами и лицами [16 (II), с. 36].432 Такого же рода похвалы расточает Пселл и своим современникам: слог Иоанна Мавропода то искусный, то простой, иногда бушует, как ливень, иногда накрапывает, как дождик. Писатель пользуется тем и другим в зависимости от обстоятельств (κατὰ καιρόν [1 (V), с. 150.4 и сл.]). Иоанн Ксифилин в одних случаях пользовался высоким стилем, в других – разговорным языком, и во всех отношениях приспосабливал форму речи к содержанию и обстоятельствам [1 (IV), с. 456.18 и сл.]. Известный риторический принцип распространяется Пселлом не только на произведения ораторского искусства. «В зависимости от разных обстоятельств и разных героев поэты (имеются в виду древние трагики. – Я.Л.) употребляют разные слова, размеры и ритмы», – утверждает Пселл в сочинении о Еврипиде и Писиде. Этот писательский «протеизм» становится ведущим критерием оценки в одном из наиболее интересных историко-литературных произведений Пселла – «Энкомии Симеону Метафрасту». «У Симеона, – утверждает Пселл, – нет достоинств многих других писателей, но никто не умел придать своим произведениям наиболее подходящую форму». В данном случае, однако, Пселл не ограничивается констатацией «изменчивости» стиля. Оказывается, что «изменчивость» стиля Метафраста может сочетаться с определенным его единством: «Цвет его речи и качество слога повсюду одни и те же, а изменения стиля разнообразны и, можно сказать, искусны... Симеон, – продолжает Пселл, – не предметы меняет ради искусства слова, но использует соответствующий стиль в зависимости от предметов и лиц, о которых ведет речь» [16 (I), с. 103.24].
Та же диалектическая двойственность (многообразие и единство) встречается и в оценке стиля Григория Назианзина, который, будучи в своих сочинениях «многообразен», «похож на самого себя на протяжении речи и вновь непохож» (15, с. 60.442].433
Оба названных теоретических постулата Пселла в первую очередь относятся к области стиля. В то же время эти два требования (наименее нормативные и догматические по существу) явно переходят границы формальных стилистических предписаний и (во всяком случае по новым представлениям) вторгаются в круг понятий, скорее относящихся к сфере поэтики, нежели риторики.
Помимо стилистических критериев, о которых главным образом шла речь до сих пор, позднеантичная риторическая теория, как известно, знала так называемые материальные критерии, т.е. имеющие отношение к отбору и расположению самого материала произведения. Наиболее четкое противопоставление двух принципов оценки (πραγματικὸς τόπος, λεκτικὸς τόπος) встречается у Дионисия Галикарнасского [41, с. 240.20 и сл.; 225, с. 2 и сл.]. Теория «отбора» (по античной терминологии «нахождения» – inventio – εὕρεσις) компилятивно во всех подробностях излагается Гермогеном в книге Περὶ εὑρέσεως [43, с. 93 и сл.].
Этому разделу риторической «технэ» Пселл не посвящает специального трактата, но самой проблемы, интересующей его прежде всего в прикладном своем ракурсе, касается часто, больше же всего в «Хронографии». В первую очередь писателя заботят жанровые различия между историей и энкомием, принципы отбора и организации материала в произведениях этих видов: именно жанровыми различиями пытается он объяснить совершенно несхожие изображения одних и тех же предметов в «Хронографии» и речах.
Пселл неоднократно настаивает на строгом различии жанров истории и энкомия. «В мои намерения входит сейчас не писать энкомий, а создавать истинную историю»; «Поскольку я пишу не энкомий, а истинную историю...»; «Если бы я решил создавать энкомий, а не истинную историю...» [20 (I), с. 119; 20 (II), с. 146, 149] – подобными замечаниями пестрит текст «Хронографии».
Однако наиболее подробное противопоставление обоих жанров содержится в биографии Константина Мономаха. «Как же я преступлю законы истории и буду следовать законам энкомия, – пишет Пселл, – и, как бы забывая о собственном замысле или пренебрегая искусством, не буду проводить грани между сюжетами и стану сводить к единой цели то, чье назначение различно» [20 (I), с. 129.17 и сл.]. Объясняя далее, почему он писал раньше энкомии в честь Константина, и оправдывая льстивость своих прежних панегириков, Пселл раскрывает специфические особенности метода энкомиаста. Константину свойственны как хорошие, так и дурные качества. Однако, создавая энкомии, Пселл «отбрасывает дурное, выбирает только хорошие свойства, соединяет их в своем порядке (κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν), склеивает их и ткет славословия из одних добродетелей». И дальше: «Пишущий похвалу обычно опускает все дурное в своем герое и плетет похвалу только из его достоинств, а если плохое преобладает, то оратору довольно и одного случая, когда этот человек вел себя похвально. Порой же он пишет с таким софистическим искусством, что и дурное превращает в источник славословий. Напротив, пишущий историю – судья нелицеприятный и беспристрастный, он не склоняется ни в ту, ни в другую сторону и все меряет равной мерой, не изощряется в описаниях дурного или хорошего, но повествует о событиях просто и без затей» [20 (II), с. 50.19 и сл.].
Приведенные рассуждения имеют определенный интерес для характеристики представлений о литературных жанрах и нуждаются в комментарии.
Главное различие между обоими жанрами Пселл видит в различии «целей» истории и энкомия. Как известно, значительная часть литературных произведений в Византии имела прикладное значение, и естественно поэтому, что разграничение жанров определялось внелитературными критериями. Главными оказывались не художественные признаки, а назначение сочинения: восхваление – для энкомия, объективное изложение событий – для истории.434 Однако различием целей определяется и различие применяемых литературных средств. Смешение жанров, по Пселлу, означает не только отход от собственных замыслов, но и пренебрежение искусством. В отличие от историка, энкомиаст пишет «софистически», он выбирает лишь добродетели, которые соединяет «в своем порядке». Последнее замечание особенно интересно. Переводчики «Хронографии» понимали выражение κατὰ τὴν οἰκείαν τάξιν в значении «в надлежащем порядке» (Dans l’ordre convenable – Рено; putting it in proper order – Сьютер).435 Наш перевод «свой», «собственный» (т.е. привнесенный автором) передает основное значение прилагательного οἰκεῖος и выражает смысл высказывания писателя. Иными словами, «панегирист из положительных качеств своего героя создает некий «каталог добродетелей», изложенных в порядке, определяемом не свойствами образа, а авторской волей.
На основании приведенных рассуждений можно было бы предположить, что Пселл категорически отрицает всякое взаимопроникновение жанров. Но на деле происходит обратное. «Я поставил себе цель характеризовать этого мужа, а не прославлять его, – пишет Пселл в одном из сочинений, – но не следует удивляться, если в этой характеристике будут и приметы похвалы, ведь эти сочинения близки друг другу и часто переплетаются между собой» [16 (I), с. 55.3 и сл.]. В «Похвальном слове Константину Мономаху» Пселл просит императора простить его, если в сочинении не окажется ничего возвышенного: «Принявшись за историю, я придам ей соответствующий характер, но в конце для похвалы прибавлю и нечто прекрасное и привлекательное по виду». Таким образом, Пселл прямо говорит о возможности соединения признаков разных жанров в пределах одного произведения. Эта возможность, допущение которой на первый взгляд противоречит воззрениям писателя,436 на самом деле вполне соответствует его общим теоретико-литературным представлениям, в особенности касающимся проблем стиля. Как можно было убедиться, только смешение различных «идей» создает, по Пселлу, «идеальный стиль» ритора.
Другой раздел τόπος πραγματικός – теория расположения материала в ораторской речи, ставшая в свое время предметом холодного систематизаторства риторов Менандра (III в.) и Афтония (IV–V вв.).437
Античность, как и Средние века, строго говоря, не знала современного термина «композиция». Употреблявшиеся обычно τάξις и οἰκονομία означают простое чередование частей, а не тот сложный и большой комплекс понятий, который связывается ныне с этим словом. Современные исследователи не раз высказывали удивление по поводу отсутствия у греков уже послеклассической поры ощущения пропорции, соразмерности и цельности в построении произведения [283, с. 1 и сл.]. Тем не менее знаменитое требование Аристотеля о соблюдении обозримого объема и соответствии частей произведения целому (ἓν καὶ ὅλον) не было окончательно забыто византийцами. Уже Григорий Назианзин, которому Пселл во многих отношениях следовал, заботится о соблюдении «соразмерности слова» (PG. t. 35, col. 812.15). За полтора столетия до Пселла Арефа порицает речь одного из своих современников за отсутствие в ней τάξις и μέτρον, уподобляя речь груде драгоценных камней, собранных без всякого порядка [37 (I), с. 268.25]. За соблюдение «меры» высказывается и современник Пселла Иоанн Мавропод. В стихотворении, обращенном к неудачливым стихотворцам [46, № 34, с. 19], он порицает их не только за несоблюдение стихотворного ритма, но и за пренебрежение «мерой» в более общем значении. «Мера» для него – πᾶν τὸ συμμέτρως ἔχον. В другом случае [46, с. 114.11 и сл.] Мавропод выражает опасение, как бы он, затягивая речь, не нарушил (точнее, «не осквернил») ее «меру».
Пселлу, напротив, представления подобного рода кажутся чужды вовсе. Оценивая построение речей «образцового» христианского оратора Григория Назианзина, Пселл пишет: «Иногда, если есть необходимость чем-то предварить речь, он вставляет в нее несколько предисловий, иногда удовлетворяется одним, иногда сразу начинает с главных выводов, но затем останавливается и возвращается к началу. Связав все темы в один узел, он обрабатывает их по своему желанию, формируя наподобие податливого воска, которому можно пальцами придать любую форму. Изобретенным им самим искусством он расчленяет речь, составляет и распускает ее...» [15, с. 57.352 и сл.]. В данном случае энтузиазм писателя вызывает софистическое умение «перекручивать» речь, придавать ей по желанию любой вид и форму. Та же мысль, уже в приложении к самому себе, высказана в одном из неопубликованных произведений, где Пселл защищает право философа увеличивать или сокращать свое сочинение, не сообразуясь ни с какими внешними ограничениями [312, с. 15].
Любопытно, что в других отношениях Пселл (во всяком случае на словах) разделяет античный идеал прекрасного как гармонии, соразмерности и пропорциональности частей. На этих принципах строится у Пселла «идеальный» внешний портрет героя (см. ниже). Те же идеалы выражает Пселл при оценке архитектурных сооружений.438 Однако в сфере литературы идеалы писателя приближаются к средневековым эстетическим нормам с их тяготением к диспропорциональному и неуравновешенному. Именно это, возможно, и привело на практике к появлению у Пселла речей-гигантов, речей, в которых одни части непропорционально растянуты, а другие до предела сокращены или вовсе опущены, речей, в которых объединяются совершенно несовместимые по стилю и содержанию разделы (см. ниже).
Сказанное, однако, не означает, что Пселлу вовсе чужда эстетика композиции. В одном случае писатель с большим и не традиционным мастерством и пониманием оценивает композицию романа Гелиодора. «Произведение это, – пишет Пселл, – построено по законам искусства Исократа и Демосфена. Его цель, возвышаясь, видна издали, и все, ей противоречащее, обращается к ней. Тому, кто впервые приступил к чтению, многое кажется лишним, но, читая дальше, он начинает восхищаться строем этого произведения. Само начало произведения напоминает свернувшихся змей, которые спрятали в кольце голову и вытянули остальное тело. И в этой книге вступление к рассказу находится внутри, а середина становится как бы началом» [13, с. СХ.1 и сл.]. Внешняя беспорядочность композиции противопоставляется здесь ее внутренней целесообразности, а необычность построения романа передается сравнением со змеей.439 Разговор об οἰκονομία Пселл продолжает и в разделе об Ахилле Татии, отмечая, что его роман не имеет отступлений и действие произведения развивается в хронологической последовательности (с. CXIII.12).
Приведенное суждение – редкое и тем более ценное исключение в системе византийских литературно-эстетических оценок: достоинства композиции определяются не внешними признаками, а по внутренней целесообразности.
Последняя из крупных проблем, поставить которую можно на материале литературно-теоретических сочинений Пселла, проблема воздействия литературных (риторических) сочинений на слушателя или читателя.
Как и следовало бы ожидать, классическое требование античной риторической теории – «убедительность» речи – присутствует и у Пселла. Неизвестный корреспондент, просивший писателя оценить ораторское искусство Отцов церкви, упоминает в числе критериев и «убедительность» [22, с. 124.20]. Тот же термин встречается и в энкомии Симеону Метафрасту, который, оказывается, объединив в себе философа и ритора, философствовал «с убедительностью» [16 (I), с. 96.17]440. Хотя эти примеры весьма многочисленны, тем не менее нельзя не заметить, что «убедительность» уступает у Пселла место эстетическому воздействию на читателя. Уже в самом начале речи о Григории Назианзине Пселл пишет: «Я часто беру в руки и читаю его (т.е. сочинения Григория. – Я.Л.), во-первых, ради философии, во-вторых, ради духовного наставления, и тогда несказанная красота и прелесть переполняют меня. И я нередко оставляю то, о чем заботился, и, отказавшись от смысла богословия, вкушаю наслаждение от цветника слов и отдаюсь ощущениям» [15, с. 49.46 и сл.]. В том же сочинении «невыразимые красоты и прелести» перечисляются среди достоинств Григория на втором месте после его «удивительных мыслей» (с. 57.346). Понятие χάρις (прелесть) и производные от него почти непременно встречаются для характеристики стиля авторов, удостаиваемых похвалы писателя. Искусство Константина Мономаха приятно, красноречиво и изящно украшено, слова его речей радостные и приятные [1 (V), с. 107.3 и сл.]. Никто не может превзойти в «прелести» стиль Симеона Метафраста [16 (I), с. 104.18]. Красота слога Гелиодора соединяется с прелестью, а прекрасное со «сладостностью» [13, с. CXI.26 и сл.] и т.д. Иногда вместо χάρις появляются аналогичные эпитеты, γλυκύς и производные от него.
Эстетическое воздействие на слушателя, приятность и «сладостность» стиля – одно из основных требований античной риторики, перешедшее к ее византийской наследнице, как об этом свидетельствует хотя бы «Библиотека Фотия»441. У Дионисия Галикарнасского, первоисточника многих воззрений Пселла, имеется любопытный пассаж (почти без изменений заимствованный Пселлом) [Дионисий – 41 (II), с. 36.10–37.17; Пселл – 57 (V), с. 599 и сл.], где античный ритор пытается классифицировать эстетические свойства стиля. Оратор и поэт (обращаем внимание на это сочетание; речь идет об эстетическом воздействии на слушателя или читателя!) должны добиться двух целей: сладостности (ἡδονή) и прекрасного (καλόν). Оба понятия отнюдь не тождественны. Произведение, его стиль или элементы стиля могут быть ἡδύς, но не καλός, и наоборот. При этом под ἡδονή Дионисий и Пселл предлагают ὥρα, χάρις, εὐστομία, γλυκύτης, πίθανον, под καλόν: μεγαλοπρέπεια, βάρος, ὄγκος, σεμνολογία, μέγεθος, ἁξίωμα. Хотя в реальном словоупотреблении Пселл, как, впрочем, и Дионисий, нередко путает оба понятия, различие между тем и другим проступает достаточно отчетливо: ἡδονή – «красота», «сладостность», дарующая непосредственное наслаждение; καλόν включающее в себя такие категории, как «величие», «торжественность», «достоинство», – прекрасное в более возвышенном смысле слова. Противопоставление двух видов красоты встречается у Пселла в ряде других случаев и наиболее явно – в трактате «О стиле некоторых сочинений», где наставник юношества поучает своих учеников. Тех, кто читает античные романы, «исполненные сладости и харит», равно как и сочинения Филострата и Лукиана, Пселл сравнивает с людьми, начинающими украшать здание прежде, чем его построить. «Видимыми прелестями» и прекрасным цветником слов можно удовлетворить слушателя «попроще». Сочинения более «солидных» авторов, к числу которых относятся, например, Демосфен, Исократ, Аристид, Фукидид, должны обладать многими свойствами, а отнюдь не только внешней прелестью. Сам Пселл, дабы слог его усвоил «прелесть», обратился к произведениям, «исполненным харит», только после того, как прочел более серьезные сочинения [22, с. 48 и сл.]. Так рассуждает Пселл – ипат философов, наставляющий молодежь. Тот же Пселл, отправляющий письмо своему бывшему ученику и многолетнему другу, Константину Кируларию, думает иначе. Не «суровые» Демосфен и Аристид, а «сладостный» Филострат пленяет его слух [1 (V), с. 329.20 и сл.] (см. выше). Противоречие, столь обычное для взглядов Пселла, объясняется в данном случае разными позициями высказывающего суждения автора: предпочитать внешние прелести может позволить себе частный корреспондент, но не ипат философов.
Как бы то ни было, Пселл не только признает эстетическое воздействие, но в определенном контексте склонен даже считать его главным свойством литературного произведения.
Эстетическое наслаждение, о котором говорит Пселл, понимается им вполне в русле позднеантичной эстетической теории: это наслаждение не от произведения в целом, а от отдельных его элементов, от словесного оформления, выбора, сочетания и употребления слов, равно как фигур, ритма и периодов речи:442 τρυφᾶν ἐν λόγοις («наслаждение словами») – выражение самого Пселла [16 (II), с. 212.24] – было эстетическим девизом кружка константинопольских интеллектуалов, группировавшихся вокруг Пселла. «Слово», расцениваемое как нечто самостоятельное, самоценное, получает почти символическое значение в переписке этих людей, каждый из которых умоляет своих корреспондентов посылать ему все новые и новые «слова» для «услаждения слуха». Иными словами, дробность эстетического восприятия, характерная уже для поздней античности, достигает у Пселла своего апогея.
Почти каждый тезис, устанавливаемый в отношении мировоззрения столь противоречивой натуры, как Пселл, тут же нуждается в ограничении и корректировке. Так происходит и в данном случае. Литературная эстетика Пселла – не только «эстетика звука и ритма». В литературно-критических сочинениях византийского писателя можно найти оценки, относящиеся не к словесным элементам, а к самому содержанию и образности произведений. В энкомии Симеону Метафрасту Пселл пишет: «Метафраст радует слух, когда его повествование поднимается в горы, спускается в пещеры, усаживает подвижника под сосной или под каким иным деревом, дает ему пищу от растений и воду из источников. Метафраст украшает рассказы словами, цветущими красотой, расцвечивает их фигурами, и читатель как бы глазами видит все, что происходит» [16 (I), с. 105.1 и сл.]. Эта способность заставлять читателя или слушателя наглядно представлять себе события, о которой говорил еще Аристотель в «Риторике», приписывается Пселлом (явно не без оснований) помимо Метафраста также и Еврипиду: последний нередко вызывал слезы у зрителей, которым казалось, что то, о чем говорится в трагедии, как бы происходит на самом деле [4, с. 19.37 и сл.]. В некоторых случаях Пселл обращается к содержанию анализируемых произведений.443 Тем не менее все они остаются исключениями, словно подтверждающими правило. Однако и исключения весьма знаменательны, они свидетельствуют о неутерянной способности Пселла к живому, «не формальному» восприятию литературы.
* * *
Каждая мировоззренческая система, как известно, может быть рассмотрена в двух аспектах: с точки зрения чистой истории идей и с точки зрения ее функционального значения в определенную эпоху. Этот последний аспект пока почти не затрагивался нами. Как соотносились литературно-эстетические взгляды Пселла с воззрениями других ученых людей его времени? Одно из писем писателя содержит сообщение о реальном конфликте, который произошел между ним и каким-то (неизвестным нам) учителем риторики. Пселл сообщает Аристину [16 (II), № 224]444 о его сыне, что тот «подвергался некоей новой напасти. Ведь большое число учеников, считая, что не могут постичь мою науку, ушли к кормящим молоком (γαλακτοτροφοῦντες). У них они пребывают постоянно и занимаются детскими забавами. С ними по каким-то причинам оказался и он (сын Аристина. – Я.Л.), Я преподаю старую риторику, которую, как мне известно, не отвергал и Платон, политическую и благородную, менее заботящуюся о внешней красоте. Они же возлюбили новую, а меня, который ее не признает, поносят, и не хотят слушать, если я что-нибудь говорю вопреки науке Гермогена. Ведь они хотят оттащить меня за нос от того, что тот создал, и заставить следовать за ними.445 Но я не отступлюсь от своего дела и не стану соперничать с Платоном и Аристотелем, с этими двумя источниками, но с радостью выпью то, что от них перетекло к нам...» [16 (II), с. 267.9 и сл.]. Может быть, в настоящем письме речь идет о рядовом соперничестве риторических школ, сопровождавшемся переманиванием учеников, широко известном из истории византийского школьного дела [149, письма № 30, 36, 47, 51, 55, 59]. Вероятней, однако, что дело касается проблем более серьезных. К сожалению, письмо рождает больше вопросов, чем существует ответов, которые на них можно было бы дать. Порвавшие с Пселлом ученики уходят к неким «кормящим молоком», сторонникам «новой риторики». Исходя из этимологии γαλακτοτροφοῦντες (кормящие молоком446, т.е. детской пищей) и следующего затем замечания о том, что ученики у новых учителей занимаются «детскими забавами», можно предположить: эти новые наставники не признают серьезных занятий риторическим искусством, отказываются изучать гермогеновскую «технэ». Эту часть письма Пселла можно сопоставить с его речью, обращенной к нерадивым ученикам, осмеливающимся порицать учителя. На многих примерах и сравнениях писатель обосновывает там необходимость постигать основы искусства (Vatic, gr., 672, fol. 182v–183447). Трудно сказать, что имеет в виду Пселл под «новой риторикой», сторонниками которой оказываются его неверные ученики. Ясно только, что эта «новая риторика» противополагается античной, причем под последней помимо правил Гермогена понимаются принципы Платона, Аристотеля и, прибавим от себя, Демосфена. Это риторика, противоположная «политическому» и «благородному», «чуждающемуся внешней красоты» классическому красноречию, сторонником которого объявляет себя писатель.448 Выраженная здесь точка зрения также находит аналогии в других сочинениях Пселла, который неоднократно и с полемическим задором проповедует триединый, воплощенный в одном лице, идеал ритора, философа и государственного деятеля.449
Итак, в цитированном письме Пселл представляет себя в виде поборника классических принципов античной риторики, защищающего их от нападок.
Трудно представить себе что-либо более несовместимое между собой, нежели фигура византийского придворного витии и философа и образ оратора, гражданина демократического полиса.
Претензии Пселла, который, естественно, сам представляется себе в виде такого идеального ритора, в данном случае не более как маскарад в античных костюмах, хотя «выбор костюма» имеет немалое значение. Уже с первых веков существования христианской Византии античность играла огромную роль в ее культуре, однако почти каждой новой эпохе приходилось вновь и вновь оправдывать и защищать свое право обращения к языческой древности. Отцы церкви, идеальные, с точки зрения Пселла, христианские писатели, сами выученики языческих риторических школ, составляя речи, отвечающие строжайшим правилам классической риторики, в теории весьма двойственно и непоследовательно относились к возможности античных заимствований для христианского писателя [см. 249, с. 242 и сл.; 268]. Пселл в этом отношении идет много дальше своих учителей. Он не только практически пользуется правилами языческой риторики, но и сам рядится в тогу античного философа-ритора. Более того, Пселл, как уже отмечалось, использует самих Отцов церкви в качестве иллюстрации к правилам Гермогена, включая их, явно «помимо их воли», в систему античной риторики.
Дело, однако, не только в «античном костюме» Пселла, писатель и на практике в какой-то мере возрождает античный сенсуализм, расценивая литературное, как и вообще всякое словесное произведение в первую очередь в качестве объекта эстетического наслаждения. При этом Пселл распространяет эстетические оценки и на памятники христианской литературы. Так, писатель обращает внимание своего ученика Михаила Дуки на «гармонию и прелесть» псалмов [16 (I), с. 372.8 и сл.]. Такая «эстетизация» литературы, в том числе и христианской, должна была привести писателя к конфликту с господствующей в Византии христианской эстетической системой, проповедующей искусство, устремленное к высшей идее, в конечном счете, к Богу, воспринимающей все внешнее как отблеск этой идеи. Эта спиритуалистическая система не только хорошо известна Пселлу, писатель (и в этом уже ставший обычным парадокс) и сам, в принципе, как добрый христианин, ее исповедует. Учителя Никиту Пселл хвалит, например, за то, что тот в отличие от многих «не ублажал свой слух размером (гомеровских поэм. – Я.Л.) и не отдавал предпочтение внешнему, но искал внутреннюю красоту, разумом и мысленным взором проникал за внешнюю оболочку и доходил до самого сокровенного» [1 (V), с.92.21 и сл.]. Более того, Пселл в лучших средневековых традициях занимается аллегорическим истолкованием гомеровских поэм и мифологии, причем каждый античный образ становится у него символом какой-либо идеи, чаще всего – нравственного порядка [22, с. 52 и сл., 5, с. 424 и сл.].
И тем не менее, признавая – во всяком случае на словах – доминирующую эстетическую систему, Пселл остается в осторожной оппозиции к ней. Иллюстрацией этого тезиса могло бы послужить сопоставление воззрений Пселла и Иоанна Мавропода. Друзья и единомышленники в главном, они, особенно в последний период их отношений, во многом расходятся. Так же, как и Пселл, Мавропод приветствует, более того, теоретически и богословски обосновывает введение античного красноречия в систему христианских ценностей. Когда для людей, пишет евхаитский митрополит в речи о трех иерархах, стало мало евангельской простоты и они забыли Бога, Господь послал им трех иерархов (Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Хрисостома), которые спасли людей, одних – красотой своего учения, других – блеском своих речей. Однако в той же речи Мавропод пишет, обращаясь к своему оппоненту: «...О мудрец во плоти, кичащийся словесным искусством и науками с их надмением и высокомерием, хвастающий поэтической велеречивостью с ее мерзкими богами и рассказами, недостойными целомудренных ушей, разве что только не распростершийся ниц перед силой красноречия, преклоняющийся перед его чрезмерной изощренностью и ложью, цель которых обман, очаровывающий слух... видишь моих философов и риторов, а если хочешь, то и поэтов, но без лжи и выдумок...».
Далее Мавропод увещевает также тех, «кто восхищается мифами» [46, с. 116.6 и сл.]. Мы не знаем времени произнесения речи, и у нас нет оснований для какой бы то ни было идентификации оппонента Мавропода (возможно, обращение к нему вообще риторический прием), тем не менее нельзя отделаться от ощущения, что на место этого неназванного оппонента легко можно было бы подставить имя Пселла. Именно такой должна была представляться Мавроподу позиция писателя. Отметим, что и выпад против «восхищающихся мифами» вполне можно отнести к Пселлу, поскольку именно он настоятельно рекомендовал ученикам использовать в речах мифологические примеры (Vatic, gr., 672, fol. 183).450
Конечно, подстановка имени Пселла в данном случае произвольна; она была бы и вовсе не допустима, если бы до наших дней не дошло письмо Пселла к Мавроподу с изложением позиции писателя:451 «Ты один, – пишет Пселл, – из всех или в числе немногих презрел природу. Однако ты запятнан лишь в той степени, в какой восхищаешься гармонией слов и их удачным сочетанием. Ты делаешь это, чтобы перейти к отвлеченной идее и мыслимой гармонии. Материальная красота только имитирует истину, на самом же деле она является не тем, за что ее принимает тот, кто на нее смотрит, а чем-то противоположным. Глаз, способный воспринимать только видимость, нечувствителен к внутреннему уродству. Для ума же нет ничего потаенного. Поэтому только умственный человек возлюбил бестелесную красоту и повис на ее золотой цепи. Поскольку для тебя важна сущность, мне было бы странно, если бы ты пленился моими речами, в которых мало красоты (имеется в виду “внутренняя красота”. – Я.Л.). Но так как твой ум страдает из-за вмешательства тела, оставь ее (“внутреннюю красоту”. – Я.Л.) и как бы вкуси отдохновения на лугу моих писем, потому что, как ты говоришь, мой соловей лепечет песню452 и оглашает рощу, песня же дойдет до тебя в той мере, в какой ты откроешь ей свои уши». В этом письме – квинтэссенция как всегда двойственных и неоднозначных взглядов Пселла. Полное признание спиритуалистической средневековой христианской эстетики и в то же время внутреннее отстранение от нее. Во всем послании легкий иронический подтекст, писатель предоставляет Мавроподу возможность стремиться к высшей «сокровенной» красоте, в то время как его задача – «услаждение слуха».
Нельзя не провести параллели между такой позицией Пселла и его этическими взглядами. Пселл, говорили мы, нередко выражает свое восхищение аскетическими идеалами, но в то же время для себя резервирует область вполне земной жизни.
Справедливости ради надо также отметить, что среди современников Пселла были, видимо, интеллектуалы, занимавшие еще более радикальную позицию, чем наш философ. С ними Пселл полемизирует в энкомии Симеону Метафрасту. Они – «прибегающие в речи к софистическим ухищрениям», «ревнители наук» – не одобряют сочинения Метафраста за недостаток в них стилистических достоинств и философских мыслей. Эти сверхмудрецы желают, чтобы все писалось напоказ, а не для пользы и исправления нравов [16 (I), с. 102.1 и сл.]. Пселл, таким образом, оказывается посредине между гонителями светской литературы и «сверхмудрецами», для которых Метафраст оказался чрезмерно нравоучительным. Любопытно, однако, что Пселл не подвергает сомнению правомерность самих претензий хулителей автора житий, а, напротив, утверждает, что писатель удовлетворяет этим претензиям, хотя стилистические красоты у него встречаются не постоянно, а лишь в той мере, в какой это соответствует характеру его произведений.
Как бы ни были эклектичны и противоречивы литературно-теоретические и эстетические взгляды Пселла, в них можно обнаружить определенную, хотя и явно «неуравновешенную» систему. В целом это христианизированная позднеантичная эстетика с определенными чертами, специфичными для средневекового сознания. Эту систему никоим образом нельзя считать доминирующей для византийского художественного мышления. В определенном смысле это – боковая ветвь византийской эстетики.
Одна тенденция в литературно-эстетических воззрениях Пселла представляется нам неординарной и заслуживает особого внимания, хотя и существует больше в декларациях, нежели в практическом воплощении: видеть в стиле оцениваемого произведения и в нем самом явление самобытное, оценивать то и другое не только по традиционным критериям, но и «по собственной их мере».
Как эта тенденция соотносится с литературным творчеством самого Пселла, должны показать последующие главы книги.453
Глава 5-я. «томительная» риторика
Анализ литературного наследия Михаила Пселла мы начинаем с его риторических сочинений, ведь именно риторика была основной областью профессиональных занятий писателя. Если лучшее свое сочинение, «Хронографию», Пселл создал «случайно», по совету, то риторические произведения составлялись им по собственному побуждению на протяжении всей жизни. Тем не менее речи Пселла и поныне не систематизированы, как правило, не датированы, а некоторые даже не изданы.454 По-настоящему серьезное изучение пселловской риторики возможно, конечно, только после издания всего дошедшего до нас материала, его текстологического, филологического и исторического обследования. Мы, однако, решаемся подвергнуть речи писателя литературоведческому анализу, учитывая специфику риторического жанра – жанра массовой продукции и «больших тиражей», в котором однородные произведений появлялись десятками, и каждое из них было репрезентативно для целой группы однотипных сочинений.455
Вряд ли какой-нибудь другой жанр в истории литературы вызывал столько сарказма и иронии по своему адресу, сколько византийское красноречие. Самое слово «риторика» давно и, по-видимому, надолго приобрело второе «техническое» и уже зафиксированное словарями значение бессодержательной, пустой болтовни. Система эстетических ценностей современной литературы прямо противоположна категориям византийской риторики, и ныне очень трудно представить себе человека, испытывающего положительные эмоции от чтения памятников среднегреческой ораторской прозы.
Вместе с тем в последнее десятилетие, возможно, как реакция на долгое «неприятие», наметился и иной подход в оценке византийского красноречия. «Как могло случиться, – задается вопросом Хунгер, – что такой интеллектуальный народ, как средневековые греки, обладавшие ярко выраженными эстетическими критериями, в течение целого тысячелетия давали себя водить за нос мастерам пустозвонства и профессиональным риторам?» [198, с. 7]. Х.-Г. Бек, «отводя вину» от византийцев, справедливо отмечает, что все основные свойства риторики, столь раздражающие современного читателя, не были изобретением средневековых греков, а заимствовались ими у деятелей второй софистики. Объясняя и оправдывая более чем тысячелетнее развитие торжественного красноречия в Византии, немецкий ученый указывает на синтетический характер этого жанра, вобравшего в себя основные качества других, исчезнувших к тому времени родов литературы. Риторика, по Беку, как бы восполняла отсутствие иных жанров, давала византийцу ощутить недостающие эстетические эмоции [135, с. 97 и сл., 139, с. 18 и сл.]. Еще более глубокое объяснение жизненности средневековой риторики пытается предложить Г. Кустас [231, с. 132–169], видящий в риторике средство удовлетворения потребностей византийской цивилизации и ассоциирующий ее даже со стилем жизни (way of life) образованных византийцев. В том же русле развивается и мысль Хунгера, который насчитывает пять аспектов (литературно-эстетический, исторический, этический, политический, социологический), обеспечивающих столь долгую жизнь этому жанру. Свою статью австрийский ученый заканчивает вопросом, однозначный ответ на который вряд ли в состоянии дать современная византинистика: не являлась ли риторическая стилизация отражением социальной структуры общества? [198, с. 26].456
Как бы ни были приведенные здесь суждения далеки от аргументированной определенности, дальнейшее изучение византийской риторики должно, видимо, развиваться по намеченному ими направлению. Невозможно представить себе широчайшее распространение и многовековую историю этого жанра в виде праздных упражнений «мастеров пустозвонства», никак не обусловленных потребностями общественного и литературного развития. Одним из первых заслуживает такого подхода творчество Михаила Пселла.
Когда в XI в. Пселл обратился к эпидейктическому красноречию, история этого жанра насчитывала полторы тысячи лет. Успело пройти семь веков с тех пор, как воспринятая у язычества риторика получила права гражданства в христианской культуре. Христианские риторы IV в. не только заимствовали у своих античных учителей формальные правила построения речей, но и сохранили в какой-то мере их светское содержание и привнесли в риторику свойственные раннехристианской литературе теплоту чувств и искренность тона. Начавшийся в VII в. упадок византийской культуры457 вместе с отступлением других светских или близких к ним жанров привел к почти полному исчезновению нецерковной риторики. Красноречие в те годы низведено было на роль «второй служанки» богословия, в то время как эпидейктические речи (энкомии, эпитафии и прочие сочинения «по случаю») хотя и произносились, но не издавались и, таким образом, не становились явлениями литературного ряда. Обычный предмет чтения византийцев той эпохи – не опирающиеся на античную традицию и изощренные эпидейктические речи, а благочестивые агиографические сочинения.
«Фотиевский ренессанс» немедленно оживляет светское красноречие. Уже кесарийский архиепископ Арефа, одно время официальный оратор императорского двора, произносит и издает несколько целиком построенных на античных реминисценциях речей, стиль которых отличается типично византийской цветистостью, а форма выдержана в лучших школьных традициях [см., например, 37 (II), № 61, 62; 210, с. 12 и сл.]. Примерно в те же годы появляется большой и тоже изощренный по форме панегирик – эпитафия Василию I, написанная его сыном Львом VI [56], несколько позже – монодия малолетней Берте, сочиненная неизвестным ритором от имени ее супруга Романа [47], и анонимная речь по поводу мира с болгарами [34]. Засохшее было древо красноречия не только само начинает давать новые побеги; со свойственной ей агрессивностью риторика вновь проникает в издавна смежные с ней жанры эпистолографии и историографии и «разъедает» их изнутри,458 она оказывает большое влияние даже на прежде далекую от нее агиографию [см. 102, с. 265 и сл.]. Начавшиеся подъем и секуляризация византийской литературы X в. находят свое выражение прежде всего в возрождении и широкой экспансии эпидейктического красноречия. На гребне этой волны и появляются уже в середине XI в. многочисленные ораторские сочинения Михаила Пселла. Пселл не стоял у истоков этого литературного подъема, но его риторическое наследие, по количеству произведений и страниц намного превышающее все созданное до него в Х–первой половине XI в., – само по себе эпоха в истории византийского красноречия.
* * *
Все 79 учтенных нами риторических сочинений Пселла относятся к хорошо известным и издавна культивировавшимся жанрам античной и византийской ораторской прозы. В этом смысле Пселл ничем не выделяется из длинного ряда своих предшественников и последователей, с унылым педантизмом еще и еще раз разрабатывающих устоявшиеся в литературной практике и зафиксированные в школьном usus’e формы. В то же время жанровый «ассортимент» Пселла-ритора великолепно отражает все аспекты его многообразной деятельности.
Результатом учительской карьеры писателя явились экфразы № 78, 79 (мы указываем номера по списку риторических сочинений Пселла, данному в приложении), энкомии заведомо ничтожным предметам (№ 68–71)459 и несколько речей, обращенных к ученикам. В целом сочинения, вышедшие из круга школьного преподавания, составляют 17% всех риторических произведений.
Деятельный и беспокойный Пселл постоянно оказывался в центре пересечения интересов различных общественных группировок, защищал себя и друзей от нападок, обвинял сам. Свидетельство деятельности такого рода – десять сохранившихся до наших дней апологий, защитительных и обвинительных речей (№ 2, 3, 6, 8–10, 21–23, 67) – 13% всей его риторической продукции.
Приближенный философ и доверенный секретарь императоров, Пселл составил от их имени четыре известных нам селентия (№ 16, 24, 38, 39). Можно предположить, что на самом деле их было много больше.
Остальные речи в подавляющем большинстве относятся к эпидейктическому красноречию, единственному из трех видов древней риторики, которому была уготована большая судьба в византийской словесности [см. 155, с. 192 и сл.) и который ближе других подходит к современному понятию художественной литературы. Среди относящихся к эпидейктическому жанру речей Пселла девять эпитафий, девять монодий, двадцать энкомиев и προσφωνηματικοί λόγοι, две так называемые прощальные речи (συντακτήριοι λόγοι).460 Всего к эпидейктическому жанру (вместе с экфразами и «учебными» энкомиями) относится 65% речей писателя.
На этом фоне число образцов духовного красноречия, гомилий, кажется совсем ничтожно: их всего четыре (№ 74–77), чуть более 5%. Любопытно сравнить: к области церковной риторики у современника Пселла Мавропода относится 75%, у относительно недалекого предшественника – Арефы – 65% риторических произведений. Светский характер красноречия Пселла получает, так сказать, «цифровое выражение».461
Почти все рассуждения о произведениях средневековых ораторов обычно начинаются с анализа их композиции. Ученые сопоставляют последовательность частей в речи того или иного писателя с хорошо зафиксированной еще в античности схемой и с удовлетворением констатируют их совпадение (значит, автор хорошо образован и строго следует традиции) или с сожалением отмечают отклонения. Такой метод прост, нагляден, дает конкретные результаты и, вместе с тем, вряд ли отличается от стиля мышления средневековых учителей риторики, старательно подгонявших словесные упражнения своих учеников под стародавние каноны и схемы.
Сам учитель риторики, Пселл отлично владеет всеми схемами, и в его небольших торжественных речах они ощущаются уже при простом чтении. Соблюдаются они и в главных, больших сочинениях писателя, хотя структура их иногда бывает затемнена громоздкими отступлениями и экскурсами. Для того чтобы традиционность композиции основных речей Пселла не вызывала сомнений, представим ее в виде таблицы. В крайней левой колонке дается последовательность частей ораторской речи по Афтонию – наиболее скрупулезному из позднеантичных систематизаторов.462
| Схема Афтония | Энкомий Лихуду | Эпитафия Ксифилину | Энкомий Кируларию | Энкомий Мавроподу | Энкомий матери |
| I προοίμιον | I c. 380–390.12 | I c. 421–426.6 | I c. 303–305.5 | I c. 142–143.1 | I c. 3–5.8 |
| II, 2 γένος πατρίς | II, 2 c. 390.13–15 | II, 2 c. 424.7–425.12 | II, 2 c. 305.12–18 | II, 2 c. 143.21 | |
| II, 3 γένος πρόγονος | II, 3 c. 390.16–19 | II, 3 c. 305.18–22 | |||
| II, 4 γένος πατέρες | II,4 c. 390.20–23 | II, 4 c. 425.13–426.5 | II, 4 c. 305.30–307.28 | II, 4 c. 143.22–144.7 | II. 4 c. 5.9–6.4 |
| III, 1 ἀνατροφή ἐπιτηδεύματα | III, 1 c. 390.24–391.11 | III, 1 c.308.11–310.2 | III c. 143.8–153.12 | III c. 6.5–8 | |
| III, 2 ἀνατροφή τέχνη | III, 2 c. 391.12–394.18 | III, 2 с. 340.3–312.27 | |||
| III, 3 ἀνατροφή νόμος | III, 3 c. 394.19–398.6 | III, 3 c. 427.26–429.22 | |||
| IV πράξεις | IV c. 398.7–419.4 | IV c. 429.23–459.17 | IV c. 312.28–377.13 | IV c. 153.13–164.9 | IV c. 9–52.15 |
| V ἐπίλογος | V c. 419.6–421.12 | V | V c. 387.13–24 | V c. 167.3–20 | V c. 61.6–25 |
По традиционной схеме строятся и монодии Пселла, которые помимо общих с энкомиями и эпитафиями частей обладают также «плачем» (θρῆνος) или «утешительным словом» (παραμυθητικὸς λόγος), иногда тем и другим. Вряд ли следует более подробно доказывать соблюдение Пселлом обычной структуры. Сам писатель неоднократно признает необходимость следования схеме, хотя однажды (весьма любопытный факт!) и объясняет ее уступкой вкусам публики [16 (I), с. 14.2 и сл.].
Иногда структурные элементы в речах переставляются или опускаются вовсе (это видно и из приведенной таблицы). Впрочем, данное обстоятельство не должно давать пищи для каких-либо обобщений: почти любая система для своего упрочения охотно допускает небольшие отступления от собственных канонов, и уже теоретики античной риторики не только мирились с отступлениями от правил, но и заранее их предполагали [155, с. 121 и сл.]. Наличие более или менее жесткой композиционной (и не только композиционной) схемы следует воспринимать как некую данность, хотя и не нейтральную, однако и не определяющую целиком художественной структуры эпидейктических речей.
Речи Пселла по объему различны. Самая маленькая, например, не занимает и двух страниц, а самая большая располагается на 83 страницах современного издания. Подобные речи-гиганты ни при устном произнесении, ни при чтении не могли восприниматься как единое художественное целое. На такое восприятие они, собственно, не были рассчитаны. Как уже говорилось, Пселл, который основное достоинство архитектурного ансамбля или человеческого тела видит в гармонии и соразмерности частей, решительно отказывается применять эти же критерии к литературному произведению. Еще более усугубляя позицию позднеантичных писателей и риторов, Пселл, кажется, делает все, чтобы нарушить аристотелевские «единство и цельность» своих произведений. Прежде всего в речах Пселла, в полном согласии с требованием риторической «пестроты» (ποικιλία), царит стилистический разнобой: спокойные историко-повествовательные рассказы сменяются экспрессивно-напряженными прославлениями или плачем.463
В величине отдельных частей нет и подобия изометрии. Отдельные структурные элементы занимают от одной строчки до десятков страниц, ткань произведения разрывают огромные отступления и экскурсы. Если применить предложенное Платоном сравнение литературного произведения с человеческим телом, то некоторые речи Пселла можно было бы уподобить уродцам с огромными головами на тоненьких шейках и длинными телами на коротеньких ножках.
Однако наиболее разительным примером «несообразности» пселловских речей являются их жанрово-смысловые противоречия: два весьма выспренних энкомия (№1 и 34) писатель считает возможным завершить просьбами о подачках, обращенными к императорам.464 Похвальное слово Мавроподу Пселл заканчивает длинным увещеванием (παραίνεσις, так оно и именуется в тексте) не покидать митрополичьей кафедры и не уходить в монастырь [1 (V), с. 164.11 и сл.], увещеванием, не имеющим, конечно, никакого отношения ни к содержанию, ни к жанру произведения. К «Похвальному слову матери» буквально приставлена речь, смыслом которой является неприятие писателем аскетических идеалов – идеалов, только что прославленных им в основной части произведения [1 (IV), с. 52.15 и сл.]. И наконец, за восторженной эпитафией Иоанну Ксифилину следует страстное обличение его философии [l (IV), с. 459.18 и сл.],
Итак, речи Пселла, даже при соблюдении необходимого формального τάξις не могут быть названы внутренне организованными и композиционно цельными произведениями.
Присмотримся пристальней к некоторым из наиболее известных, больших и значительных ораторских сочинений Пселла. Начнем с энкомия Лихуду. Как видно из таблицы, эта речь – самый «стандартный» из всех панегириков, структура которого почти идеально соответствует схеме Афтония. После «введения» (I), рода (II) и «воспитания» (III) Пселл, как и положено, переходит к изложению центрального раздела – «деяний» (IV). Повествуя о деяниях героя, писатель фактически пользуется простейшим методом историко-биографического описания, перебиваемого прямыми характеристиками. Последние регулярно появляются, как только герой достигает некоей стабильной жизненной ситуации (в данном случае становится временщиком Мономаха, а затем патриархом). Чтобы подтвердить этот тезис, приведем краткую схему центральной части энкомия.
I. Воцарение Михаила V, царствование Константина IX Мономаха, возведение Лихуда в сан «первого министра» (с. 398.8399.30).
II. Характеристика Лихуда – «первого министра» (с. 399. 31–404.17).
III. Отставка Лихуда, смерть Константина Мономаха, царствование Михаила VI Стратиотика, царствование Исаака Комнина, избрание Лихуда патриархом (с. 404.18–411.5).
IV. Характеристика Лихуда-патриарха (с. 411.6–414.8).
V. Болезнь, строительство монастыря, смерть, похороны (с. 414.9–419.5).
VI. Заключительная характеристика Лихуда (с. 419.6–419.28). Пользуясь традиционным разделением энкомия на «хронологическую» и «эйдологическую» части, можно сосчитать, что первая занимает примерно 35%, последняя 65% текста.465
В этот расчет, однако, не входит еще один элемент энкомия, придающий произведению особый колорит, – автобиографические и мемуарного характера вставки. Вообще, авторская личность ощутимо присутствует в этом сочинении, то скрываясь за частоколом стандартных пышных восхвалений, то выступая в качестве наблюдателя, участника или комментатора событий. Уже на первых страницах энкомия, на месте, зарезервированном для описания красноречия героя, Пселл повествует о победоносных словесных схватках Лихуда с «двумя Иоаннами» (Ксифилином и Мавроподом), которые он, тогда еще очень молодой человек, сам наблюдал (с. 393.11 и сл.). С появлением образа автора немедленно начинают звучать и лирические нотки: оба Иоанна были друзьями писателя, и он . с грустью вспоминает, что еще не выполнил свой долг по отношению к одному из них (Мавроподу) и не почтил его похвальным словом (с. 394.1 и сл.). В середине энкомия Пселл считает нужным извиниться за частое обращение к собственной персоне (с. 406.36 и сл.). Такие извинения, в массе встречающиеся как в речах, так и в «Хронографии», для Пселла своего рода литературный прием: писатель ощущает некоторое неудобство, тем не менее не видит ни нужды, ни возможности устранять из повествования собственную личность. Роль, отведенная Пселлом в энкомии самому себе, явно непропорционально велика, и если в некоторых случаях писатель действительно не может умолчать о своем участии в событиях, то в большинстве эпизодов его присутствие в повествовании отнюдь не обязательно (с. 414.23 и сл., 416.14 и сл., 418.2 и сл.). Не объективная необходимость, а утрированное авторское самосознание заставляет Пселла постоянно перебивать повествование исторического типа мемуарными вкраплениями.466
Итак, три стихии: историко-биографическое повествование, эйдологическая характеристика и мемуарные элементы, постоянно соревнуясь между собой и никак не отменяя традиционной схемы, составляют художественную ткань этого произведения.
Энкомий Лихуду – наиболее «уравновешенный» и внутренне . организованный из больших риторических сочинений Пселла, в нем не только соблюдены элементы традиционной риторической схемы, но и находятся в определенном равновесии историческая биография, эйдология и личный момент. Однако в ряде случаев такое равновесие нарушается, и речи в зависимости от преобладания того или иного типа повествования приобретают ярко индивидуальный облик.
Основную часть «деяний» эпитафии Иоанну Ксифилину можно схематически представить в следующем виде:
I. воцарение Мономаха, назначение Ксифилина судьей [1 (IV), с. 429.23–431.21];
II. характеристика Ксифилина-судьи (с. 431.22–432.28);
III. открытие «университета», опала Ксифилина и Пселла, постриг и переселение Ксифилина на Олимп (с. 433.3–439.1);
IV. характеристика Ксифилина-монаха (с. 439.2–440.8);
V. приезд Пселла к Ксифилину, смерть Мономаха, смерть Лихуда, избрание Ксифилина патриархом (с. 440.9–449.2);
VI. характеристика Ксифилина-патриарха (с. 449.3–453.10);
VII. светская и христианская образованность Ксифилина (с. 453.11–459.17);
VIII. «обвинение» Ксифилина (с. 459.18–462.6).
До седьмого раздела композиционная схема ничем не отличается от структуры похвалы Лихуду: историко-биографическое повествование закономерно прерывается эйдологической характеристикой, как только герой достигает стабильной жизненной ситуации (судьи, монаха, патриарха).467
Однако произведение в честь Ксифилина отличается от уже разобранного энкомия Лихуду одной особенностью: характером введения «личного элемента». Если во втором случае только присутствовали более или менее значительные и не всегда оправданные вкрапления мемуарного типа, то в похвальном слове Ксифилину субъективная стихия буквально затопляет все произведение. В сущности, в этом энкомии два почти равноправных героя: Ксифилин и сам Пселл. Первый из них ведущий, второй – постоянно ему сопутствующий. Даже если территориально они не находятся рядом, любая акция Ксифилина подается в оценке и восприятии (естественно, стилизованном) «тогдашнего» Пселла.
Субъективная стихия настолько доминирует в речи, что автор не считает нужным считаться даже с элементарной логической связью. «Оценив, Ксифилина-патриарха, Пселл, свободно следуя движению своей мысли, неожиданно переходит к новой характеристике героя, на этот раз уже не связывая ее с каким-либо положением в жизни персонажа (пункт VII приведенной схемы). Сочленение этой части с остальным энкомием весьма свободно и необязательно: видя, как эпитафия выливается в большое сочинение, писатель «спохватывается», что «не успел» воздать герою хвалы за его «внешнюю» (т.е. светскую, античную) и «нашу» (т.е. христианскую) мудрость и хочет, «как бы положив новое начало», наверстать упущенное [1 (V), с. 453.10 и сл.]. Последний раздел непосредственно переходит в вызвавшее столько недоумения «обвинение» (пункт VIII). Вряд ли следует искать вслед за Р. Анастази объяснение этому разделу в простой контаминации текстов (см. ниже). Пселл допускает «вольность» и считает ее для себя вполне позволенной; (подобные «броски» возможны в «Хронографии», но там Пселл не связан жесткими схемами!).
Не менее знаменателен в этом отношении и энкомий Иоанну Евхаитскому. Мавропод – самый интимный друг Пселла, и естественно, что в обращенном к нему похвальном слове также доминирует субъективное начало. Вольные ассоциативные переходы, многочисленные отступления иногда даже затемняют здесь традиционную схему. Так, например, раздел «Воспитание», где говорится об образовании героя, Пселл заканчивает предложением рассказать и о других (помимо учености) добродетелях героя [1 (V), с.153.15–16].
Рассказ же об этих «других» добродетелях как бы «тянет» за собой повествование о новых доблестях, а их изложение позволяет в свою очередь автору вновь попасть в хронологическую канву: заметив достоинства Иоанна, Мономах назначает его на Евхаитскую кафедру (с. 154.29). Эйдологически изложенные добродетели данном случае как бы заменяют временное развитие действия (прием, знакомый Плутарху и постоянно эксплуатируемый самим Пселлом в «Хронографии»). Назначение же на пост митрополита позволяет писателю опять обратиться к перечислению «добродетелей» своего учителя уже в функции духовного пастыря. Ассоциативность и «смазанность» переходов от одной структурной части к другой создает в некоторых частях речи определенную непринужденность повествования.
Как и эпитафия Ксифилину, энкомий заканчивается жанрово чуждым ему разделом – «увещеванием». Сам писатель хорошо ощущает разнородность этих двух частей произведения:
«Вот, любимейший из людей, ты и получил от меня и слово, и увещевание» (καὶ τὸν λόγον καὶ τήν παραίνεσιν) (1 (V), с. 167. 2–3].
Субъективный характер всего сочинения и здесь позволяет Пселлу допустить композиционную «вольность».
Еще более «произвольным» (опять-таки при соблюдении обязательной схемы) оказывается построение энкомия матери. Как и в других упомянутых нами сочинениях, историко-биографические разделы закономерно завершаются здесь эйдологическими характеристиками. Однако судьба Феодоты настолько тесно связывается с жизнью всей семьи и самого Пселла, что писатель «не удерживается» и в любую (как «историческую», так и «эйдологическую») часть по ассоциативной связи вставляет экскурсы, по размеру иногда превосходящие те структурные элементы, к которым они прилеплены.
Попробуем изобразить основную часть (πράξεις) энкомия в виде схемы:
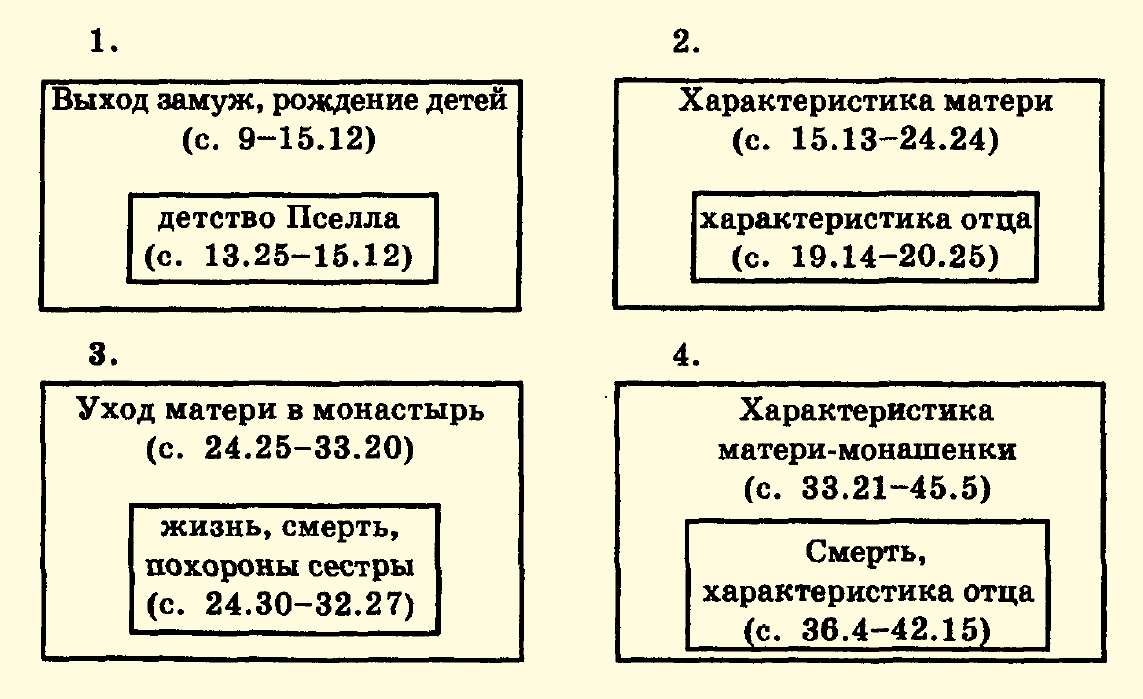
Первый и третий разделы – биографические, второй и четвертый – «эйдологические». Внутри каждого из разделов – экскурсы, занимающие от 15 до 80% текста. Наша схема весьма упрощена. На самом деле многие части энкомия построены по принципу «матрешки»: внутри отступлений располагаются новые экскурсы.
Так, например, в пределах экскурса о сестре Пселл умудрился вставить подробнейший рассказ о собственной персоне [1 (V), с. 28.19 и сл.].
Писатель не раз, как и положено, извиняется по поводу необходимости отвлекаться от основной темы, но в целом, благодаря этим отвлечениям, энкомий матери оказывается уже на грани семейной хроники мемуарного характера.
Структура этой речи весьма неоднородна. Начало выдержано рамках трафаретной риторической теории, в ряде разделов ощущается влияние житийного стандарта. (Если композиция классического энкомия представляет собой «цепочку» или «бусы» из как на нитку нанизанных добродетелей, то композиция классического жития – тоже «бусы», но уже из отдельных деяний героя. Разница понятна: если персонаж энкомия обладает массой разнородных «добродетелей», то у героя жития лишь одна-единственная добродетель – святость, которая последовательно и обнаруживает себя в «цепочке» из его подвигов и чудес.) Причина этого явления легко объяснима: образ матери (равно как и сестры писателя в том же произведении) стилизован под святую агиографии и поэтому «притягивает» к себе трафареты житийного жанра.468
И наконец, уже знакомая неожиданность в финале. Речь заканчивается рассуждениями об аскетической жизни, прямо противоположными предыдущему содержанию энкомия! Вновь Пселл, следуя причудливому ходу своей мысли, считает возможным пренебречь не только стилистическим и композиционным единством, но и смысловой согласованностью разделов речи.
Начав разбор композиции речей с относительно «уравновешенного» энкомия Лихуду, мы перешли к произведениям с ярко выраженным авторским, личностным началом. Еще дальше от «центра» находятся речи, в которых историко-биографический элемент и, в значительной мере, эйдологические характеристики если не подавлены вовсе, то очень приглушены лирически-мемуарной стихией.
Образец речей такого рода – эпитафия Никите, учителю школы св. Петра (№ 49). Писатель и здесь сохраняет большинство разделов традиционной схемы, но почти каждый из них превращает в лирические воспоминания о герое. Сведений о происхождении, предках и родителях Никиты почти нет, зато раздел ἀνατροφή – «воспитание» (в данном случае лучше παιδεία – «образование») развит весьма подробно по той, конечно, причине, что автор обучался с героем в одной школе и может детально, по личным воспоминаниям, рассказать о нем и заодно о себе [1 (V), с. 88.25 и сл.]. Раздел «деяния» посвящен главным образом учительской деятельности Никиты, но, поскольку последний и в данном случае был коллегой Пселла, энкомий вновь превращается в серию лирических воспоминаний (с. 90.10 и сл.).
Если в эпитафии Никите номинально сохранен хронологический принцип изложения, то в энкомии внуку (№ 32) историко-биографической канвы нет вовсе, да и быть не может (внук умер в четырех месячном возрасте!), и вся речь выливается в лирический монолог, уже не сохраняющий основных жанровых признаков энкомия или монодии.469
От энкомия Лихуду можно было бы «двигаться» и в противоположную сторону, приводя примеры совершенно иного характера. Как уже говорилось, в эпитафии Кируларию десятки страниц заняты изложением событий исторического типа, мало чем отличающегося от стиля повествования исторических хроник. Своеобразный парадокс: в то время как пселловская «Хронография» испытывала влияние риторики, некоторые части его речей по стилю приближались к историографии.
Сохранившиеся эпидейктические речи Пселла в структурном отношении представляют собой весьма пестрое зрелище. В специфике их композиции соединились, казалось бы, несоединимые принципы: давно затвердевшая схема и субъективная, доходящая до произвола авторская воля. Подобное сосуществование двух взаимоисключающих принципов отмечали мы и в теоретических воззрениях писателя (см. выше).
* * *
Структура, или «устройство», «порядок» (τάξις, οἰκονομία), эпидейктической речи, зафиксированная позднеантичными теоретиками, не просто предусматривала порядок расположения материала, а даже предписывала, о чем и что именно ритор должен сказать в произведении. В этом отношении она была не столько композиционной схемой, сколько настоящей программой любой речи. На долю образованного оратора оставалось лишь заполнить материалом уже подготовленные пустые ячейки. Композиция энкомиастической речи и образ ее главного героя между собой тесно связаны: элементы того и другого по сути оказывались тождественными понятиями.
В таких условиях любая энкомиастическая речь фактически оказывалась своего рода «каталогом» или «кругом» добродетелей героя (оба выражения заимствуем у самого Пселла [16 (I), с. 155.4; 1 (V), с. 106.4]). Например, Константин Мономах из посвященного ему энкомия (№ 11) (пример произволен, почти каждое произведение этого типа репрезентативно для десятков ему подобных) обладает быстрым, как молния, умом, величием природы, сверкающей красотой, он превзошел философию, юриспруденцию, красноречие, это – великий полководец, как никто другой преданный Богу, а на подданных изливший дождь благодеяний. В серьезных делах он проявляет серьезность, а в общении с друзьями – прелесть. Каждая черта (скорее доблесть – ἀρετή) героя существует отдельно и никак не сопряжена с соседней. По образному выражении. Д.С. Лихачева, персонаж одет как бы в кольчугу из добродетелей [89, с. 32]. Сквозь эту кольчугу почти невозможно добраться до живого тела, она лишь очень приблизительно подогнана к фигуре персонажа.
Такой образ не представляет собой организованной замкнутой структуры, он остается «открытым», поскольку к нему произвольно можно добавлять бесконечное число «добродетелей», никак не изменяя этот образ и очень слабо влияя на него в целом.
Отдельно взятая какая-либо «добродетель» не несет в себе ничего специфического и индивидуального, она «безлична» и почти всегда легко подходит к другому аналогичному герою аналогичного произведения. Автор озабочен не индивидуализацией, а максимальной гиперболизацией черт прославляемого лица. Любая из этих доблестей имеет эталон, до которого она дотягивается и который часто должна превзойти. Отсюда масса разнородных и несовместимых сравнений (у каждой добродетели свой образец!), «разрывающих» и «растягивающих» образ в разные стороны. В упомянутом уже небольшом энкомии Мономаху царь сравнивается с солнцем, с олимпийским победителем, с Евклидом, с целым сонмом античных ораторов и поэтов, с библейским Самуилом, с пророком Ильей и т. д.
Само собой разумеется, что этот конгломерат черт, который с большим трудом можно назвать образом в современном смысле данного слова, абсолютно статичен и неизменен. Как дети на картинах средневековых мастеров изображались маленькими взрослыми, так и герои энкомия, только родившись, уже сияют всеми добродетелями, которые украшают их и в расцвете сил.
Разумеется, что связи такого героя со своим прототипом весьма призрачны. Для этого достаточно сравнить изображение Константина Мономаха в «Хронографии» с персонажем уже упоминавшегося энкомия. Реальность фактически не входит в произведения такого типа, отдельные же, вырванные из действительности факты «втискиваются» в заданную схему и существуют как бы на периферии (в цитированном энкомии – это сообщения, подкрепленные другими источниками, что царь отличал людей не по роду, а по способностям, или упоминания о диковинных зверях, доставленных из Египта). Именно поэтому энкомии обычно невысоко ценятся как исторические источники.
Такой характер обрисовки исторического героя, берущий свое начало в античной энкомиастической литературе, – наиболее яркий образец средневекового типа восприятия и изображения человека.470
Однако нарисованная здесь картина, как всякое усредненное изображение, отражает не всю правду.
Неверно, конечно, думать, что герои византийских панегириков вовсе ничем друг от друга не отличались и представляли собой некую маску, равно подходящую для любого лица. Различие между ними, видимое уже при простом чтении, определяют прежде всего причины внелитературного ряда.
Уже в поздней Римской империи, на заре развития жанра, придворные ораторы, которым доверялось произнесение торжественных речей в честь царственных лиц, пытались «делать политику» и воздействовать на императоров, идеализируя и оттеняя отдельные действительные или вымышленные их черты [см. 294, с. 251 и сл.]. Метод обрисовки персонажа в этих случаях оставался тем же, несколько иначе подбирались только звенья «кольчуги», в которую автор облачал своего героя. Такое же «идеологическое» использование образа императора можно наблюдать и в некоторых «царских словах» Пселла. Наиболее явный тому пример – речи к Михаилу VII Дуке.
Нам известно, с каким презрением современники отзывались о деятельности Пселла при дворе юного Михаила VII. Империя, казалось, шла к неминуемой гибели, а стареющий философ занимался со своим царственным воспитанником учеными забавами. Сторонники «военной» партии были возмущены бездействием Михаила, которое они приписывали влиянию глашатая «гражданской» партии Пселлу (ср. выше, с. 331). Эти претензии политических противников писателя находят недвусмысленное подтверждение в речах Пселла, обращенных к Михаилу. Из всей массы императорских «добродетелей», которые были в распоряжении ритора и которыми он так ловко манипулировал в семи своих речах Мономаху в применении к Дуке Пселл использует только две: любомудрие и кротость. Если раньше двери дворца были открыты лишь для податей, то теперь, разглагольствует оратор, сама мудрость как бы воплотилась в этом царе и привлекает к себе своих питомцев [16 (I), с. 15 и сл.]. Кротость же императора – выше всякой меры, и в «безумных делах Арея» царь, по словам панегириста, не скор на убийство и не радуется потокам крови [16 (I), с. 36 и сл.].
Кротость, равно как и любомудрие, конечно, традиционные черты хвалимого императора, но прославление их как единственных его добродетелей в период, когда страну раздирали на части внешние и внутренние недруги, обусловливалось, должно быть, политическими соображениями: в присутствии воинственно настроенных сановников Пселл хвалит императора за отвращение к войне!
Не менее «актуально» должна была звучать и другая небольшая речь к Михаилу, датируемая 1077г. (№ 41). Человеколюбие, справедливость – вот свойства, за которые придворный панегирист хвалит царя накануне неминуемого, казалось, краха империи. Энкомий для Пселла продолжает оставаться если не средством политической агитации, то во всяком случае рычагом воздействия на императора и двор. В соответствии с этими задачами и формируется образ монарха.
Похвальное слово, обращенное к царствующему самодержцу, допускало, конечно, наименьшую свободу в обрисовке образа героя. Произносившееся в торжественной обстановке придворной церемонии, оно само было частью ритуала и отличалось свойственной ему нормативностью и традиционностью.
В изображении людей не столь высокого ранга, особенно друзей, учеников и родственников, Пселл дозволял себе придавать герою значительно больше индивидуальных черт. Любой образ в риторическом произведении представлял собой описанную выше конструкцию сборно-разборного типа, однако используемые для характеристики клише могли в применении к герою модифицироваться.
Из персонажей уже упоминавшихся «больших» энкомиев Пселла наиболее стандартной фигурой является Лихуд. На этом герое нетрудно продемонстрировать нехитрую анатомию риторического образа. Уже младенцем Лихуд обладает всеми мыслимыми добродетелями и умудряется намного превзойти своих наставников: его отличают ум, приятность нрава, природа, он – знаток красноречия, законов, философии, он – такой же идеальный «первый министр» у Константина Мономаха, как в дальнейшем благочестивый и милостивый патриарх. Каждая новая добродетель попросту прибавляется к предыдущим.
Причина такой стандартности героя (а мы видели, и композиции) этого энкомия заключается, возможно, в особенностях самого прототипа. Лихуд – один из наиболее просвещенных людей своего времени – многосторонне проявил себя как деятель государственной и церковной истории, в нем соединялись определенная широта взглядов и христианское благочестие, и к тому же он был покровителем и другом Пселла. «Идеальный» в представлении писателя образ лучше всего укладывался в идеальную схему энкомия.
Все отмеченные элементы образа Лихуда в той или иной степени характерны и для персонажей других речей. Однако сопоставление похвального слова Лихуду с аналогичными сочинениями этого же жанра обнаруживает не только сходство, но и различие.
Кируларий (герой самой большой по объему эпитафии) – патриарх, как и Лихуд. Однако если похвалы Лихуду отражают истинное отношение автора, то славословия Кируларию – не более как дань жанровым канонам: эпитафия ему была написана по заказу царственного свойственника покойного. Как и Лихуд, Кируларий – человек недостижимых для других добродетелей. «Один только этот муж оказался достоин людей прошлого, стал чудом нашего времени, образцом и одухотворенным примером для будущих ревнителей добродетели» [1 (IV), с. 305.2 и сл.]. Как и Лихуд, уже ребенком поражал он всех своей красотой, речами и умом (с. 309.22 и сл.). Как и Лихуд, он аккумулирует в себе все мыслимые добродетели, каждая из которых доводится до своего предела серией гиперболических сравнений и ассоциаций.
И тем не менее внимательный читатель не может не обнаружить, что на «втором плане» энкомия присутствует иной образ патриарха, резко контрастирующий со стандартизованной фигурой «первого плана». Образ «второго плана» чаще проявляет себя не в риторических описаниях, а в деталях и нюансах. Вот некоторые примеры. Говоря о риторических занятиях патриарха, Пселл отмечает его пристрастие не к «внешней красоте» и не к «убедительности» речи, а к истине и твердости, свойственным философии [1 (IV), с. 310.5 и сл.]; стремление Кирулария к неприкрашенной истине оттеняет суровость его нрава. Константин Мономах, который ко всем прочим людям является приветливым и обаятельным, в отношениях с патриархом нередко оказывается «мрачным и ощетинившимся».471 Император в данном случае так, видимо, реагирует на поведение Михаила. Далее Пселл уже без обиняков пишет о мрачности, суровости и гневливости самого Кирулария, объясняя, впрочем, эти свойства стремлением патриарха воспитывать людей в добродетели (с. 342.14 и сл.).
Противоречие образов «первого и второго планов» особенно наглядно в той части энкомия, где содержится сравнение (синкрисис) Кирулария с его старшим братом, явно пользующимся предпочтением писателя. Вот вкратце пункты этого противопоставления: Кируларий превосходит брата в устремлении к высшему; Кируларий сосредоточен и малодоступен для собеседника; брат обладает приятной внешностью, в его лике отражена душа, лик его исполнен харит. У Кирулария ум строгий, у брата – острый; у Кирулария речь искусная, у брата – бойкая; у Кирулария одежда и образ жизни простые, у брата – пышные; Кируларий старался жить «выше природы», брат его был женат и имел детей. Природа старшего брата более земная, и он предпочел светское образование. Кируларий же все свои занятия, в том числе и политические, оставил ради дел духовных [1 (IV), с. 310 и сл.]. «Второй образ» Кирулария явно отражает давнюю нелюбовь писателя к покойному патриарху и скорее напоминает его образ в речи полемического содержания, с которой в свое время обратился к нему Пселл (№ 22), нежели персонаж «первого плана» той же эпитафии.
Реальный прототип как бы вступает в противоречие с накладываемой на него идеальной схемой. Противоречия эти порой обнажаются очень резко. Мрачный и неприступный Кируларий в той же эпитафии вдруг оказывается «исполненным харит, со сладостной и приятной речью и радушным, радостным взглядом», к тому же он еще и противопоставлен суровым, бегущим человеческого общения людям! (с. 332.15 и сл.). Пселл не может отказаться от клише и в то же время не в состоянии полностью «подогнать» под него своего героя, противоречащие черты того и другого остаются сосуществовать в пределах одного произведения, швы меж ними видны невооруженным глазом.
Свойства прототипа (особенно людей, которых писатель знал близко) иногда значительно модифицируют клише, придавая образу индивидуальность. Так случилось, например, с фигурой Мавропода в похвальном ему слове. Уже в начале энкомия Пселл обращается к своему герою с просьбой благосклонно выслушать его сочинение: «А ты мужественно вынеси славословия, не откажись выслушать мою речь и не закрой ушей, как это ты обычно делаешь, едва заслышав хоть малейшую похвалу по своему адресу» (1 (V), с. 142.26 и сл.]. Конечно, скромность – обязательная черта героя христианского энкомия. Однако в данном случае это свойство играет особую роль, поднимаясь до уровня лейтмотива образа. В том же введении утверждается, что Иоанн настолько мало гордился всем «внешним», что разве только не забыл, откуда он родом (с. 143.21). «Нрав души» заставляет Мавропода упорно отказываться от предложенного ему поста евхаитского митрополита (с. 155.8 и сл.). Пселл порицает своего друга за «неумеренную скромность».
Биографы Мавропода обладают в данном случае достаточным материалом для утверждения того, что «скромность» Иоанна в энкомии – не дань традиции, а реальная черта прототипа. О «скромности» Мавропода неоднократно идет речь в его переписке с Пселлом, она становится даже одной из причин размолвки между друзьями; сам Мавропод неоднократно декларировал свою «скромность».
Приведенный пример показывает, сколь опасной может быть тенденция во всех случаях объяснять особенности византийской риторики следованием расхожим схемам. В то же время, говоря о лейтмотиве образа, нельзя вкладывать в это понятие и современный смысл. Под лейтмотивом мы понимаем здесь не доминанту, вокруг которой группируются и которой определяются остальные черты образа, а наиболее часто подчеркиваемое автором свойство в ряду других равноправных качеств героя.
Какими возможностями для индивидуализации своих героев обладал византийский ритор даже в пределах обязательного канона, могло бы показать и сравнение двух наиболее значительных женских образов, созданных в речах Пселлом: его матери и кесарисы Ирины (№ 30). Хотя последняя, как и положено женщине, изображается весьма набожной и благочестивой, по сравнению с «непревзойденной в аскезе» Феодотой, она может представиться читателю настоящей светской дамой.
* * *
Исследования памятников византийской литературы подчас и поныне завершаются установлением образца, которому следовал греческий автор. То, что должно было бы быть исходным моментом изучения, в этом случае оказывается его результатом.
Вряд ли нужно искать образцы для всех риторических произведений Пселла, нередко писатель творит в русле безликой школьной традиции. Однако в ряде случаев определить «образцы» для речей Пселла нетрудно. Как уже говорилось, Пселл с несвойственной ему последовательностью отдает пальму первенства в риторическом искусстве Отцам церкви IV в., и в первую очередь Григорию Назианзину. Ему он и в действительности следует в некоторых своих речах.
Интерес, однако, представляет не столько сам факт подражания, весьма обычный для византийской литературы [см. 200], сколько его характер и источники. Р. Анастази, который перевел на итальянский язык и прокомментировал энкомий Пселла Мавроподу, скрупулезно исследовал зависимость писателя от своего «образца» и насчитал в этой речи пятнадцать случаев заимствования, главным образом из эпитафии Василию Кесарийскому (17, с. 35]. Часть из приведенных ученым примеров спорна, но большинство из них сомнений не вызывает, хотя лексические совпадения, как правило, ограничиваются двумя-тремя словами, и речь скорее должна идти о мыслях, навеянных Григорием, чем о копировании образца. То же самое можно отметить и в отношении недавно опубликованной эпитафии игумену Николаю (№ 18), издатель которой, П. Готье, насчитал тридцать шесть скрытых цитат из сочинения Григория.
В то же время поклонник пселловского таланта будет не мало удручен, найдя у Григория прообраз тех мыслей, которые он вправе был бы счесть за искренние выражения чувств самого автора. Так, в эпилоге похвального слова Мавроподу престарелый писатель с горечью вопрошает: найдется ли такой человек, который составит ему самому похвальное слово? [1 (V), с. 167.9 и сл.]. Такого же рода сетованиями завершается и эпитафия Василию Григория Назианзина [38, LXXXII]. (Пселл дважды говорит об этом и в произведениях, посвященных другим своим друзьям: патрикию Иоанну и вестарху Георгию.) Предположить совпадение невозможно: мысль эта не затеряна в середине, а находится в эпилогах обоих произведений.
Знаменательное совпадение не одной, а нескольких последовательных мыслей находится в не менее «заметной» части другой речи – в прологе энкомия матери. Образцом в данном случае служит вступление к эпитафии сестре Горгонии того же Григория Назианзина. Уже энергичные зачины произведений одинаковы по тону: «Энкомий матери» [1 (V), с. 3.5], – заявляет Пселл, «Хваля сестру...» [PG, 35, col. 789], – начинает сочинение Назианзин. В обоих случаях сразу же называются хвалимые лица – ближайшие родственники авторов. Более существенные совпадения следуют дальше. Мы создаем эпитафии чужим людям, так справедливо ли лишать их своих родственников? [1 (V), с. 4.1; PG, 35, col. 792.5 и сл.]. Если мы почитаем своих родственников при жизни, то тем более следует воздавать им хвалу после смерти [1 (V), с. 4.6; PG, 35, col. 792.15 и сл.]. Речь произносится в присутствии людей, сумеющих проверить истинность слов автора [1 (V), с. 4.18; PG, 35, col. 789.7 и сл.]. Страх вызывает не то, что автора могут заподозрить во лжи, но то, что его искусство не в силах будет воздать должное героине [1 (V), с. 4.22 и сл.; PG, 35, col. 792.1 и сл.].
Сходство ситуаций (энкомии создаются в честь умерших ближайших родственников) определяет и выбор Пселлом «образца». Писатель примерно сохраняет последовательность мыслей оригинала, но избегает прямых лексических заимствований.
Только нейтральное οὐ τοῦτον ἐγὼ φοβοῦμαι τὸν φόβον является у Пселла почти дословным воспроизведением оригинала. Подражание – μίμησις Пселла характеризует вполне уместное использование выраженных в оригинале чувств и мыслей.
Но не в переработке отдельных пассажей суть «подражания» Пселла.
Оценивая литературные достоинства произведений Григория, Ф. Фаррар пишет, что «речи его слишком расплывчаты и изобилуют отступлениями, слишком преувеличены в своих выражениях и отличаются недостатком систематичности в расположении предметов» [115, с. 560]. Не обладающее в данном случае большой глубиной суждение английского богослова ценно своей безыскусственной передачей впечатления от чтения произведений Назианзина. То, что Фаррар склонен считать недостатком, на самом деле – художественная специфика энкомиев Отца церкви. «Расплывчатость», «обилие отступлений», «недостаток систематичности» – это та субъективная стихия, которая входит в христианский панегирик и которая была также отмечена нами в применении к Пселлу.
Эти свойства речей Григория доводятся писателем XI в. до своей крайности. Если Назианзин только иногда вводит себя в качестве действующего лица, то Пселл делает это постоянно, надолго и часто без нужды отвлекаясь от темы повествования. Григорий действительно допускает отступления от рассказа, но они не идут в сравнение с многочисленными и очень длинными экскурсами Пселла.
Из-за отсутствия четких «опорных пунктов» нелегко доказать зависимость структуры такого рода от композиции речей Григория, но по крайней мере в одном случае такая связь кажется нам очевидной. В эпитафии отцу в двух симметрично расположенных (в начале и перед концом) пассажах Григорий делает большие отступления о матери [PG, 35, col. 992.44 и сл.; col. 1021.29 и сл.]. В эпитафии матери Пселл примерно в аналогичных местах вставляет длинные рассказы об отце (см. выше схему). Сходство темы (эпитафии родителям) предопределяет и некоторый параллелизм в композиции.
Еще труднее доказать зависимость некоторых образов Пселла от героев Григория, интуитивно ощущаемую при чтении произведений. Сама эта трудность, однако, весьма показательна: при формальной компиляции решающим доводом было бы установление простого лексического соответствия. Однако в данном случае речь должна идти не о компиляции, а о сознательной или бессознательной ассоциации, уподоблении автором некоторых своих героев персонажам «образцового предшественника». Укажем на некоторые случаи.
В энкомии матери (упоминавшемся выше) не только композиция, но и сам образ Феодоты вызывает определенные ассоциации с фигурой матери Григория – Нонны из похвального слова отцу Григория Назианзина. Доводами в пользу такого утверждения не могли бы служить ни изображение обеих героинь образцами благочестия, смирения и аскетизма, ни утверждения, что их брак с мужьями – «союз душ посредством плоти» (оба мотива достаточно трафаретны), но вот стремление писателей представить своих матерей в виде руководительниц и наставниц благочестия для мужей – деталь более индивидуальная и доказательная, особенно если учесть и некоторое лексическое совпадение в рассуждениях по этому поводу.
Григорий Назианзин пишет о Нонне: τῷ δὲ οὐ συνεργὸς μόνον ἡ παρὰ Θεοῦ δοθεῖσα [PG, 35, col. 993].
Пселл сообщает о матери: τῷ γε ἐμῷ πατρὶ οὐ συνεργὸς μόνον καὶ βοηθὸς ἐτύγχανεν οὖσα [1 (V), с. 19.14].472
Как уже отмечалось, Р. Анастази установил ряд лексических соответствий между похвальными словами Пселла Мавроподу и Григория Назианзина Василию Кесарийскому. Почти все они содержатся в характеристиках главных героев. Пселл пишет образ Иоанна Евхаитского «с оглядкой» на фигуру Василия, и лексические соответствия – только внешнее выражение более глубокой общности. И Мавропод, и Василий – скромные благочестивые христианские пастыри, весьма ценящие в то же время и (очень существенная деталь!) «внешнюю», т.е. светскую, античную образованность, в которой сами немало преуспели. Не случайно в обоих произведениях содержатся значительные по объему, аналогичные по содержанию отступления с явной полемической направленностью, где защищается право христианина заниматься светскими науками [см. 1 (V), с. 152. 18 и сл. и 38, XI]. Сам стиль отношений между Пселлом и Мавроподом весьма напоминает характер дружбы Григория Назианзина и Василия Великого: в обоих случаях это преданная идеальная φιλία, основой которой прежде всего являются общие ученые интересы.
Все сказанное полностью относится и к фигуре Ксифилина – герою посвященной ему эпитафии Пселла. Сама внешняя канва отношений этих двух пар (Пселл – Ксифилин, Григорий – Василий) в значительной мере совпадает. Григорий и Василий встречаются в Афинах, Пселл и Ксифилин – в Константинополе, там предаются они общим ученым занятиям. Григорий посещает Василия в Понте, Пселл Ксифилина – на горе Олимп и т.д. То, что такой ассоциации не был чужд и сам Пселл, доказывают два его письма к Ксифилину [1 (V), № 44; 16 (II), № 191], где писатель прямо ссылается на отношения Григория и Василия как на образец для их собственного поведения.473
Итак, в лучших своих произведениях Пселл « вступает в соревнование (конечно, в античном и средневековом смысле выражения) с Григорием Назианзином. До появления специальных исследований нельзя безапелляционно утверждать, однако можно предположить, что в ряде аспектов Пселл по своему мироощущению вообще близок к Григорию Назианзину, особенно его этике, более широкой и человечной, нежели представления фанатичных современников Пселла – Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, Михаила Кирулария и других (см. выше). Видимо, поэтому следование раннехристианским риторам объясняется более глубокими причинами, нежели только обязательное благочестие и литературный usus. Не византийская ученая компиляция, которой Пселл отдал щедрую дань в своих научных трактатах, а попытка воспроизведения духа оригинала характеризует в данном случае зависимость писателя от своих образцов.474
Как бы ни оценивать с позиций современного литературного вкуса ораторские сочинения Пселла, само возрождение в XI в. линии раннехристианской риторики с ее субъективным началом и теплотой чувств весьма знаменательно для эпохи подъема интеллектуальной жизни и сдвигов в художественном сознании византийцев.
Риторика и тесно связанные с ней литературные виды, вытесняя господствовавшую до тех пор агиографию и перенимая у нее «беллетристическую» функцию, вновь начинают играть для византийцев универсальную роль и вбирают в себя свойства, характерные для иных жанров. Не случайно ряд риторических сочинений Пселла оказывается на грани других литературных видов: лирики, биографического повествования мемуарного типа, историографии.
На этом пути Пселла могли ожидать отдельные удачи, но не художественные открытия: слишком «выработанной» была к его времени «жила» риторики, чтобы можно было рассчитывать на крупные находки. Однако блестяще отработанная техника и некоторые принципы и традиции красноречия оплодотворили творчество Пселла уже в другом жанре, достижения в котором принесли писателю истинную славу – историографии.475 Анализу пселловской «Хронографии» и посвящены следующие разделы работы.
Глава 6-я. Вершина творчества «Хронография»
Предварительные замечания
(новые находки, время написания. Состав произведения)
До недавней поры «Хронография» была известна только по одной рукописи (Paris, gr. 1712), что, естественно, весьма затрудняло исследование ее текста и решение ряда специальных вопросов, касающихся времени издания, формы отдельных частей и т.д. Семидесятые годы принесли неожиданные открытия. Американский исследователь Х.-К. Снайпс обнаружил новую рукопись «Хронографии»,476 а осенью 1975г. в нашем распоряжении оказались фотокопии другой рукописи, содержащей дотоле неизвестную «Краткую историю» Пселла, текст которой частично совпадает с «Хронографией». Публикация и изучение новых текстов (а это займет немало времени) должны привести к решению ряда спорных проблем. Поэтому мы ограничимся здесь лишь отдельными замечаниями и наблюдениями, касающимися формы, рукописной традиции и состава «Хронографии». Но прежде сообщим некоторые сведения о «Краткой истории», с рукописью которой имели возможность познакомиться.
«Краткая история» содержится в рукописи XIV в. Синайского монастыря Св. Екатерины (№ 1117). Еще в 1911г. она была описана профессором Петербургского университета В.Н. Бенешевичем [68, с. 266 и сл.] и по странной случайности долгие годы не привлекала внимания ни одного из византинистов.477 <Ныне «Краткая история» опубликована (W. Aerts, 1980/81). Издатель текста В. Артс полагает, что произведение было приписано Пселлу ошибочно. Точку зрения В. Артса поддержал Д. Райнш (D. Reinsch, 1990). Мне эти сомнения показались лишенными каких бы то ни было оснований (см. J. Ljubarskij, 1993; Я. Любарский, 1994, перепечатано в: Я. Любарский, 1999, с. 174–181). Был уверен в принадлежности «Краткой истории» Пселлу и Х.-К. Снайпс (К. Snipes, 1991, р. 12).>
Лемма «Краткой истории»
Краткая история царей старшего Рима и младшего, начинающаяся с Ромула, с опущением царей, которые не совершили ничего примечательного. Составитель же истории ипертим Пселл.
Состав «Краткой истории»
Краткая история не имеет предисловия, она начинается с Ромула и непрерывно продолжается до царствования Василия II включительно. История республиканского Рима описана весьма сумбурно и бегло
Проблема соотношения «Краткой истории» и «Хронографии»
После конца «Краткой истории» в рукописи пропуск (40 строк на с. 279 и вся страница 280), позднее заполненный посторонним текстом. Заманчиво было бы считать «Краткую историю» утерянной первой частью известной «Хронографии». В пользу этого можно было бы привести веские доводы. «Хронография» не имеет предисловия, повествование начинается как бы с середины, и его первая строчка: «Вот так расстался с жизнью император Иоанн Цимисхий...» – предполагает наличие какого-то исчезнувшего или сознательно опущенного начала. В самом тексте «Хронография» определяется как σύντομος ἱστορία, что соответствует содержащемуся в лемме новонайденного произведения названию «Краткая история». Тем не менее к этой гипотезе приходится подходить с крайней осторожностью, ибо история Василия II в «Краткой истории» и в «Хронографии» изложена по-разному. Возможно, что «Краткая история» в том виде, в каком она до нас дошла, – результат соединения двух произведений: некоей краткой хроники о Риме и раннем периоде Византии и известной «Хронографии». Середина этой контаминации была утеряна, и переписчик (вся «Краткая история» написана одним почерком), надеясь в будущем восполнить пробел, оставил в середине рукописи незаполненные листы.
Время и обстоятельства возникновения «Краткой истории»
Нам удалось обнаружить лишь одно место из «Краткой истории», которое может дать основание для предположений о времени и обстоятельствах написания произведения. Переходя к изложению истории императорского Рима, Пселл пишет: «Я примусь за другую историю, начав с цезаря Юлия, чтобы в одних вещах ты подражал императорам, а в других их высмеял»
Есть основания думать, что именно «Краткую историю» (а не «Хронографию»!) имеет в виду Скилица, давший в своем сочинении следующую оценку Пселлу-историку: «Сицилиец – учитель, а в наше время ипат философов и ипертим Пселл, кроме них и другие, занявшись вещами второстепенными, отказались от тщательности. Большую часть самого существенного они опустили и потому стали бесполезными для потомков. Они только перечислили царей и сообщили, кто после кого овладел скипетром, а более ничего. Да и это они описали неудачно и нанесли своим читателям скорее вред, нежели пользу» [45, с. 3]. Исследователей давно поражала столь странная оценка «Хронографии» Пселла. В приложении же к «Краткой истории» она гораздо более оправданна.478
Соотношение идентичных текстов «Краткой истории» и «Хронографии»
Как уже отмечалось, в последних частях «Краткая история» и «Хронография» совпадают. В каком соотношении находятся тексты обоих произведений? В отдельных случаях «Хронография» дает лучшие чтения, но чаще более исправным оказывается текст «Краткой истории». Иногда пропуски в новом тексте (от одного слова до целой строки) заполнены в старом, чаще же наоборот. Приведем для примера два случая (выделенная нами часть фразы содержится только в «Краткой истории»):
1) Характеристика кесаря Иоанна Дуки (а вместе с ней и все произведение) заканчивается словами: «Что я перечисляю все в отдельности! Во всем он превосходил всех, кроме брата и племянника – двух царей и непобедимых [20(H), с. 182]. «Хронография» явно не завершена композиционно: биография Михаила VII, а вместе с ней и все произведение в целом, заканчивается панегириком кесарю Иоанну. Последние слова из «Краткой истории» как бы возвращают читателя к образам императоров Дук, которым Пселл посвятил вторую часть своего исторического сочинения, и придают некоторую логическую завершенность повествованию.
2) В начале характеристики Михаила VII Пселл пишет:
«Но может быть кто-нибудь скажет, что было у ребенка царственного, а у царя ребячливого». Игра слов, содержащаяся в «Краткой истории», придает изящество и вообще смысл всей фразе.
Таким образом, между обоими текстами нет прямой связи. Возможность же возведения их к одному архетипу не исключена, поскольку тексты содержат общие ошибки (например, ἀττάλον, вместо – ἀγγέλων в характеристике юного Константина, сына императора Михаила VII) [20(II), с. 178.27].479
Проблема источников «Краткой истории»
Вопрос об источниках и традиции византийской хронографической литературы принадлежит к числу наиболее сложных. Трудность его решения определяется, во-первых, утерей ряда произведений, во-вторых отсутствием критического издания большинства хроник. Ни одного автора, произведение которого послужило бы Пселлу источником, он по имени не называет. Из ряда мест «Краткой истории» можно заключить, что писатель пользовался не одним, а несколькими источниками. Так, Пселл, приводя разные версии о смерти римского императора Деция, начинает излагать их словами: «Другие же утверждают...»
Детальное определение источников «Краткой истории» – дело будущего. Отметим здесь лишь многочисленные совпадения найденного сочинения со всемирной хроникой, доведенной до 948г., разные версии которой в разных рукописях приписываются то Симеону Магистру и Логофету (возможно, идентичен Симеону Метафрасту), то Феодосию Мелитинскому, то Льву Грамматику [см. 253, с. 515 и сл.; издание текста см. 49].
В дальнейшем мы будем называть это сочинение «Хроникой» Симеона. Соответствия между двумя произведениями начинаются в рассказе о первых римских императорах и обнаруживаются вплоть до повествования об императоре Феофиле. Иногда совпадения бывают явными, лексическими, и занимают десятки строчек, иногда ограничиваются несколькими словами. В рассказах о некоторых императорах параллелизм выражается не лексически, а в отборе и порядке изложения фактов. Предложить прямое использование Пселлом «Хроники» Симеона трудно, ибо у писателя (при том, что «Краткая история» много короче «Хроники» Симеона!) содержатся факты, о которых «Хроника» умалчивает. Скорее всего, Пселл и автор «Хроники» пользовались одним источником.
Свой источник Пселл контаминировал с данными, почерпнутыми из других произведений, точнее определить которые пока не удается. Совершенно очевидно, что писатель не считает себя обязанным точно пересказывать свидетельства предшественников и весьма вольно передает их содержание. Любопытно, что в рассказах об императорах часто опущены реальные факты, сообщенные в «Хронике» Симеона, но вместо них появляется характеристика царей, логически вытекающая из этих «опущенных» фактов. Это вполне соответствует методу Пселла-историка, всегда предпочитающему описанию событий обрисовку образов.
В тексте нередки следы субъективного отношения автора к упоминаемым событиям и лицам. Смотри, например, замечания вроде: «как я считаю» (в рассказе о Константине и Ирине –
«Вольность» Пселла в обращении со своими источниками великолепно иллюстрирует его ошибка в рассказе о замужестве будущей царицы Феодоры
Мы кратко остановились на характеристике «Краткой истории» Михаила Пселла, ибо нам придется неоднократно ссылаться на нее в ходе дальнейшего исследования.
Уже первыми исследователями было замечено, что «Хронография» составлена как бы из двух частей: первая кончается историей царствования Исаака Комнина, вторая начинается правлением Константина Дуки [108, с. III; 319, с. 133]. Свидетельство тому – сама лемма, перечисляющая имена всех императоров, история которых должна быть изложена в хронике. Этот реестр завершается Исааком Комниным, причем специально оговаривается, что изложение доводится до Константина Дуки [20 (I), с. I]. Единственное разумное объяснение этому факту может заключаться в том, что лемма относилась первоначально только к первой части, а затем была использована переписчиками для всего произведения в целом.483 О двучастном делении труда Пселла свидетельствует также и разная композиция частей: первая – подразделяется на семь «томов», во второй – подобное деление отсутствует. К сказанному можно также добавить, что Пселл уже в самом тексте сообщает о своем намерении закончить историю правлением Исаака Комнина [20(H), с. 115.18 и сл.].
Однако никакого словесно выраженного завершения первая часть не имеет. Напротив, после изложения событий царствования Комнина писатель как бы хочет перейти ко времени Константина Дуки, история которого должна быть непосредственным продолжением его рассказа [20 (11), с. 138.12 и сл.]. Повествование о Константине Дуке также начинается как простое развитие предыдущего. Пселл, вероятно, мыслил вторую часть как продолжение первой и сам их «состыковал». Об этом же говорит и ссылка на предыдущее изложение в биографии Константина X [20 (II), с. 142.22–23]. В то же время писатель не позаботился устранить ряд возникших противоречий между частями вроде упомянутого уже заявления о том, что он хочет завершить историю событиями царствования Исаака Комнина.
«Хронография» не имеет предисловия – факт очень редкий в византийской историографии, вызывающий удивление многих ученых. Напомним в этой связи, что и «Краткая история» лишена предисловия. Не проявляется ли тут сознательная авторская установка?484
Труд историка Пселл взял на себя не добровольно, а по настоянию какого-то «самого дорогого из всех людей» [20 (I), с. 152.18]. Под этим анонимным другом чаще всего, начиная еще с К. Сафы, подразумевали Константина Лихуда. Высказывались также предположения об Иоанне Ксифилине, Иоанне Мавроподе и даже императоре Константине Дуке. Последняя кандидатура сомнительна, что касается первых трех, то их «шансы» примерно одинаковы. Время издания первой части определяется обычно 1059–1063 гг. (нижний предел – отречение Исаака Комнина, верхний – смерть Константина Лихуда, упоминаемого как живого). Попытка И. Сикутриса ограничить время 1062–1063 гг. [301, с. 62 и сл.], с нашей точки зрения, малоосновательна. Напротив, как явствует из письма Пселла к друнгарию виглы некоему Махитарию [1 (V), № 108], писатель начал составлять «Хронографию» уже осенью 1057г.
Адресат письма, видимо, обрушился на Пселла с нападками по поводу получения последним от Исаака Комнина титула проэдра (осень 1057г.; см. выше). В отместку писатель грозит рассчитаться с ним в «Хронографии», которую он «составляет». Писалась первая часть, видимо, сразу (in einem Zuge, по выражению Сикутриса), а не по частям, как думает Р. Анастази,485 и представляет собой единое произведение: писатель часто ссылается на самого себя, обещает что-то рассказать в будущем и, как правило, выполняет обещанное.
Вторую часть «Хронографии» Пселл начал писать уже после прихода к власти Михаила VII (в биографии Константина X писатель сообщает, что Михаил в будущем наследует его царство) [20 (II), с. 141.14 и сл.]. Более точно время можно определить по упоминанию младенца Константина Порфирородного – будущего жениха Анны Комниной, родившегося в 1075г. [20 (II), с. 178]. В то же время продолжить «Хронографию» Пселл обещал уже Константину Дуке [20(II), с. 140.15 и сл.].486
Большие недоумения ученых вызывает обычно помещенное в конце рукописи «Хронографии» «Письмо царя к Фоке», содержащее призыв императора к мятежному «Фоке» воздержаться от бунта [20 (II), с. 182 и сл.]. Вопрос этот заслуживает специального рассмотрения.
Многие исследователи и комментаторы «Хронографии» отмечали искусственность присоединения письма к тексту произведения Пселла. Строя различные догадки о том, каким образом могло это письмо быть включено в «Хронографию», они, однако, не сомневались, что само послание представляет собой призыв императора Михаила VII к мятежному Никифору Вотаниату и должно датироваться концом 1077г., временем, когда Никифор поднял восстание и провозгласил себя царем. В пользу такой атрибуции, казалось бы, непреложно свидетельствуют два обстоятельства. Во-первых, панегирист Никифора Вотаниата Михаил Атталиат возводит (явно легендарно!) род Вотаниатов к Фокам [50, с. 217 и сл.; 55, с. 172. II], и, таким образом, под «Фокой» вполне резонно можно понимать Никифора. Во-вторых, послание помещено в конце «Хронографии», обрывающейся на событиях царствования Михаила VII, и, следовательно, между «Письмом царя» и остальным текстом «Хронографии» имеется непосредственная хронологическая преемственность.
Существуют аргументы, заставляющие усомниться в традиционной атрибуции:
1) в «Краткой истории» Михаила Пселла «Письма» нет вовсе. Связь между «Письмом» и остальным текстом «Хронографии», следовательно, не столь уж бесспорна;
2) автор «Письма» именует «Фоку» магистром. Однако к 1077г. Никифор уже давно миновал эту иерархическую ступень. По официальному документу 1062г., Никифор – проэдр [168, № 57.32]. Согласно моливдовулу, Никифор – судья Эллады и Пелопоннеса и протопроэдр [140, с. 3]. В 1073г. Никифор – уже куропалат [50, с. 185.15; 55, с. 172.4]. Невозможно предположить, чтобы в «Письме», цель которого примириться с восставшим Никифором, последний вместо куропалата был назван магистром;
3) в «Письме» говорится о «тяжком изгнании», «отчаянной бедности», «грязном плаще и рваных одеждах», от которых избавил «Фоку» царь, вернувший его из ссылки. О какой-либо ссылке Никифора нам вообще ничего не известно, хотя его жизненный путь прослеживается по источникам достаточно подробно. Правда, во время третьего похода Романа IV Диогена против сельджуков, незадолго до сражения при Манцикерте летом 1071г. царь «отослал от себя Никифора Вотаниата и других таких же, как людей подозрительных» [55, с. 143.17 и сл.], но с «тяжким изгнанием» это не имеет ничего общего;
4) в «Письме» говорится о великих милостях, которыми царь осыпал вернувшегося из изгнания «Фоку». Можно понять, что «Фока» стал доверенным человеком при дворе, «ушами и оком» царя. Однако по другим источникам Никифор Вотаниат был при Михаиле VII назначен стратигом фемы Анатолика [50, с. 213.6 и сл.; 51, с. 117.14 и сл.]487 и таким образом должен был находиться вдали от столицы и никак не мог выполнять тех функций, которые ему приписываются в «Письме»;
5) в «Письме» упоминаются отец и брат «Фоки», которым царь оказывал благодеяния. Ни о каком брате Никифора в других источниках не говорится вовсе, хотя Михаил Атталиат, посвятивший восхвалению рода Вотаниатов несколько страниц своей «Истории», видимо, не преминул бы о нем рассказать. Что же касается отца Никифора, то он (Михаил Вотаниат) еще в 1014г. сражался с болгарами [45, с. 350], а в 1079–1080 гг., когда писалась «История» Атталиата, был уже мертв, ибо историк рассказывает о нем в прошедшем времени [50, с. 230.22 и сл.]. Теоретически можно себе представить, что глубокий старец Михаил еще жил в 1077г., но это маловероятно, ибо сам Никифор к тому времени был уже человеком, «подавленным старостью и годами» [51, с. 5.12].
Какой же из многочисленных узурпаторов, известных в византийской истории, мог быть адресатом этого письма? Первое и самое естественное предположение, что Фока – мятежный феодал Варда Фока, поднявший в 987г. восстание против императора Василия II Болгаробойцы. Предположение это кажется тем более правдоподобным, что о мятеже Варды Фоки рассказывается в «Хронографии» Пселла, к которой «Письмо» приложено. Рассмотрим, насколько данные самого «Письма» соответствуют этой гипотезе.
1. Варда Фока, поднявший мятеж и объявивший себя императором 15 августа 987г., обладал в то время титулом магистра (45, с. 324).
2. В 971г., после первого своего мятежа против Иоанна I Цимисхия, Варда Фока был схвачен, пострижен в монахи и отправлен в ссылку на о-в Хиос [45, с. 294; 48, с. 126]. Из ссылки его вернул в 978г. император Василий II, когда войска восставшего Варды Склира приближались к столице и фаворит императора паракимомен Василий нашел в Фоке достойного противника в борьбе против мятежника [45, с. 324].
3. Возвращенному из изгнания Варде Фоке Василий «в избытке предоставил богатств, почтил титулом магистра и назначил его доместиком схол» [45, с. 324 и сл.; ср. у Пселла – 20 (I), с. 5.17 и сл.].
4. Отец Варды Фоки, Лев Фока, ставший куропалатом при Никифоре II, поднял в 969г. мятеж против Иоанна I Цимисхия, был сослан на Лесбос, приговорен к смерти, но помилован. Позже он поднял новый мятеж, однако его схватили и отправили на остров Проти и там ослепили. Судьбу Льва Фоки разделил и его сын, брат Варды – Никифор [45, с. 303; 36, с. 149]. О дальнейшей судьбе Льва и Никифора Фок в источниках ничего не говорится, но, естественно, что после приближения ко двору Варды они тоже должны были возвратиться из изгнания.
Таким образом, все данные «Письма», противоречащие его традиционной атрибуции, получают вполне удовлетворительное объяснение, если мы сочтем «Письмо» за послание Василия II Варде Фоке.
Хорошо согласуются с этой новой атрибуцией и другие детали «Письма».
«Тебе одному открывал я то, что таил от брата и матери», – пишет царь [20 (II), с. 183.1]. Врат Василия Константин был формальным соправителем царя, и потому доверие, большее, чем брату-соправителю, должно было означать огромную милость. Мать Василия и Константина – Феофано находилась в Константинополе, ибо ее вернули из ссылки сразу после прихода к власти сыновей.
«С твоей помощью мечтал я унять разгулявшуюся бурю», – пишет царь [20(11), с. 183.17]. «Разгулявшаяся буря» – мятеж Варды Склира, для подавления которого и был возвращен из ссылки Варда Фока.
«Мы только себе делаем хуже, полагая, что пожар можно гасить маслом», – жалуется царь [20 (II), с. 183.22 и сл.]. «Гасить маслом пожар» означает в данном контексте посылать против одного мятежника (Варды Склира) другого (Варду Фоку). Нейтральная, казалось бы, фраза приобретает вполне конкретный смысл.
«Утверждают, что ты взялся за оружие, чтобы наказать меня, будто претерпев от меня величайшую обиду и зло...» [20 (II), с. 184.1 и сл.]. Комментарием к этому заявлению могут служить слова Скилицы, объясняющего причины мятежа Варды Фоки:
«Ромейские вельможи, Варда Фока и те, кто был с ним, разгневались на царя за то, что он, отправляясь на войну с болгарами, пренебрег ими» [45, с. 332]. О пренебрежении, с которым начал относиться к Фоке Василий II, пишет и сам Пселл в «Хронографии» [20(1), с. 7.12 и сл.].
Как могло «приклеиться» к «Хронографии» это «Письмо»? Быть может, Пселл, собирая материал для исторического труда, законспектировал послание, и позднее оно было включено переписчиком в текст. Возможны и другие предположения. Это уже, однако, область гипотез. Без сомнения только, что существует гораздо больше оснований считать это послание письмом Василия II Варде Фоке, а не Михаила VII Никифору Вотаниату и относить его, таким образом, не к 1077, а к 987г.
Если наши рассуждения справедливы, вопрос о «Письме царя к Фоке» к проблеме «Хронографии» отношения не имеет.488
2. Жанровые особенности. Композиция
Средневековые писатели, как известно, обычно определяли жанр своего сочинения уже в заголовке (лемме) рукописи [см. 88, с. 42 и сл.]. Само заглавие сочинения Пселла – «Хронография», содержащееся в лемме, представляет собой жанровую характеристику. Начиная с К. Крумбахера ученые различают в византийской историографии две жанровые линии, так называемые «хрогографии» и «истории». Принято считать, что «хронографии», начинавшие изложение событий чаще всего от сотворения мира или «от Адама», писались полуобразованными монахами, адресовались непритязательным монашеским кругам и распределяли материал в хронологическом порядке. Напротив, «истории» создавались образованными вельможами и чиновниками и были посвящены современным автору событиям [подробно см. 182]. Условность строгого деления между двумя поджанрами историографии показал уже Х.-Г. Бек [136]. Лучшим опровержением традиционной точки зрения могут служить и исторические сочинения самого Пселла: непритязательная «Краткая история», начинающаяся если не «от Адама», то от Ромула, по авторскому определению – история, а обширная и ученая «Хронография», посвященная главным образом современным писателю событиям, – хронография.489 Оба произведения принадлежат одному писателю. Чужда Пселлу терминологическая строгость и в самой «Хронографии», которую он в тексте своего сочинения называет то «хронографией» [20 (I), с. 101], то «историей» [20 (I), с. 32.10, с. 130.12, 140.12; 20 (II), с. 70, 76.20, 160.5].490
В одном случае писатель несколько подробней останавливается на жанровой специфике своего произведения. Заявив о том, что он не собирается писать подробной истории и вдаваться в детали, Пселл продолжает: «...поэтому-то я и опустил в истории многое, достойное упоминания, не расчленил ее по олимпиадам и не разделил, подобно историку (Фукидиду. – Я.Л.), по временам года, но просто повествую о наиболее важном и о том, что у меня всплывает в памяти, когда я пишу. Как я уже сказал, я избегаю сейчас подробного рассказа о всех событиях и предпочел средний путь между теми, кто писал о владычестве и деяниях Древнего Рима, и теми, кто в наши дни создает хронографии; я не подражаю ни пространному изложению первых, ни сжатости последних, чтобы мое сочинение не вызвало скуки, но и не опустило ничего существенного» [20 (I), с. 152.19 и сл.]. В приведенном отрывке высказаны три сознательные авторские установки. Прежде всего, Пселл отказывается от анналистической традиции в расположении материала. Во-вторых, Пселл открыто провозглашает мемуарный характер своего сочинения. Фраза: «...просто повествую о наиболее важном и о том, что у меня всплывает в памяти, когда я пишу» – стереотип мемуарной литературы любой эпохи. И наконец, в-третьих, Пселл говорит о своей промежуточной позиции между древними историками и современными ему авторами хронографических сочинений.491
Мемуарный характер «Хронографии» бросается в глаза уже при первом чтении: Пселл не только постоянно вводит себя в рассказ в качестве наблюдателя или участника событий, но и пропускает весь исторический материал сквозь призму авторского восприятия. В этом отношении у Пселла нет равных в предыдущей византийской историографии. Как видно из цитированного нами отрывка, Пселл не связывает себя ни с каким традиционным историографическим жанром, хотя и ощущает некоторую зависимость от них и резервирует себе свободу в расположении и выборе материала. Действительно, у Пселла нет образца, которому бы он сознательно подражал, хотя такая практика и была в обычае византийской историографии. Напомним, что относительно недалекий предшественник Пселла Лев Диакон часто настолько рабски следовал за своим образцом, историографом VI в. Агафием, что подчас трудно определить, что в его описаниях от реальности, а что от литературного прототипа [113]. В этом смысле «Хронография» Пселла совершенно оригинальна.
Тем не менее жанровые корни у «Хронографии» есть. Х.-Г. Бек, писавший об условности разделения историографии на жанровые подвиды, все-таки признавал наличие у «истории» и «хронографии» определенной специфики в выборе, организации и расположении материала. Отнеся в лемме свое сочинение к хронографическому поджанру, Пселл, нам кажется, старается выдержать его принципы. «Хронография», как говорилось, не имеет предисловия и начата так, будто ее изложение примыкает к какому-то предыдущему рассказу (не исключено, что к рассказу «Краткой истории» самого Пселла). По крайней мере две первые биографии (Василия II и Константина VIII) изложены не по личным воспоминаниям, а по литературным источникам. Об этом сообщает и Пселл: «Как я слышал от историков, которые его (Василия II. – Я.Л.) описывали» [20 (I), с. 4.4]; «Таким изображает этого мужа (Константина VIII. – Я.Л.) сочинение, в котором он описывается» [20 (I), с. 25.11].
О предполагаемом здесь источнике можно только догадываться. Единственный параллельный Пселлу памятник, повествующий о событиях того времени, – сочинение Иоанна Скилицы. Скилица пользовался для своего труда письменными источниками. Трудно себе представить, чтобы Пселл, самый образованный человек своей эпохи, не знал сочинений, использованных Скилицей. Обычных признаков наличия общего источника – лексических совпадений и точного соответствия порядка изложения – между Пселлом и Скилицей обнаружить не удается. Тем не менее, по нашему мнению, имеются следы знакомства обоих авторов с одним и тем же письменным памятником. Все немногочисленные факты и практические детали, приведенные Пселлом в этой биографии, встречаются и у Скилицы: расправы Константина с заговорщиками; приближение ко двору незнатных евнухов; назначение наследником Романа Аргира. Подобных совпадений нет больше ни в одном из разделов сочинений этих авторов. Их зависимость от одного источника, нам кажется, особенно ясно видна в двух последних упомянутых уже эпизодах. Фраза Скилицы: «От дочери патрикия Алипия, на которой он женился еще при жизни Василия, у Константина было три дочери, старшая из них, Евдокия, приняла постриг» [45, с. 374.11 и сл.] – развернута у Пселла в целый эпизод, в котором, однако, нет никаких практических сведений, кроме данных Скилицей. Заполняют же эпизод главным образом характеристика жены и старшей дочери Константина (у Скилицы таких характеристик не бывает вовсе). Обращает на себя внимание совпадение у обоих авторов необязательных деталей: Константин женился еще при жизни Василия, его жена – дочь Алипия и т.д. Во многих частностях совпадают и рассказы о поисках и назначении престолонаследника Константина (первоначальное обращение к Константину Далассину, сопротивление жены Романа, ее постриг и т. д.).
Авторы французского и английского переводов Э. Рено и Сьютер полагают, видимо, что речь здесь идет об устной традиции. «Сочинение, в котором он описывается (ὑπογράφων ὁ λόγος)», они переводят как les recits и tradition.492
Рассказы о царствованиях отдельных императоров, наконец, выделены у Пселла (не только в «Хронографии», но и в «Краткой истории») в отдельные, снабженные заголовком главки. Все это черты не «истории», а «хронографии», в традиционном крумбахеровском смысле слова, и, точнее, того подвида «хронографии», который в научной литературе получил наименование «императорских хроник» (Kaiserchronik), представленных Иоанном Малалой, Симеоном Логофетом, Георгием Монахом, Иоанном Скилицей и др.
Такое парадоксальное сближение не может не вызвать протеста исследователей и читателей. Действительно, что может быть общего между непритязательной «монашеской» хроникой и одним из самых совершенных созданий византийской литературы, произведением ученейшего Пселла! Однако дальнейшее рассмотрение структуры «Хронографии» только убеждает в справедливости такого вывода. Начнем с жизнеописания Константина VIII. Этот выбор определяется соображениями удобства: биография Константина невелика, легко обозрима, в ней нет столь характерных для Пселла обширных отступлений, затемняющих основную структуру рассказа. Наша задача: выделить композиционную схему биографии и выяснить, насколько она приложима к другим жизнеописаниям. Вот краткий план биографии Константина: 1) восшествие на престол (гл. I, 1–6); 2) нрав (гл. 1.7–11); 3) щедрость (гл. III); 4) женитьба Константина, его дочери (гл. IV–V); 5) передача управления ученым людям, любовь к представительству (гл. VI; 6); любовь к зрелищам и прочим развлечениям (гл. VIII–IX); 7) поиски наследника, смерть (гл. X).493
Первый и последний пункты приведенного плана (восшествие на престол, смерть, иногда постриг) представляет композиционную и логическую рамку биографии и являются обязательным компонентом всех жизнеописаний. Объем этих разделов (мы называем эти пункты ввиду их обязательности первым и последним разделами той «идеальной» схемы пселловских биографий, которую намерены установить) может быть различным: от сухого сообщения до подробного повествования об обстоятельствах принятия власти или смерти. Что же касается остальной, средней части биографии, то и она четко делится на два раздела, которые мы условно назовем «предварительной характеристикой» (гл. II–III) и «детальной характеристикой» или «деяниями» (гл. VI–IX).494 Формальной границей между обоими разделами служит фраза: «Пусть же мой рассказ характеризует самодержца, ничего не прибавляя и ничего не отнимая от действительности» [20(1), с. 28.1–2].
Разделы отличаются друг от друга своей структурой. Первый из них представляет собой характеристику императора, построенную по чисто эйдологическому принципу: без стремления установить какую-либо хронологическую последовательность Пселл перечисляет свойства Константина и сообщает некоторые сведения, кажущиеся ему наиболее существенными. Третий раздел построен иначе: первая же его фраза возвращает читателя к моменту принятия Константином единодержавной власти [20 (I), с. 28.22], а заканчивается он сообщением о смерти. В отличие от второго раздела здесь видна тенденция построить рассказ во временной последовательности.
К биографии Константина VIII в композиционном отношении ближе всего жизнеописание Михаила IV [20 (I), с. 53–85].
И здесь повествование, заключенное между рассказами о восшествии на престол и постригом, смертью императора, четко делится на два раздела – «предварительную характеристику» и «деяния», или «детальную характеристику». Так же, как в биографии Константина VIII, после предварительной характеристики императора рассказ возвращается к началу царствования Михаила. И опять, в третьем разделе, в отличие от второго, ощутимо хронологическое движение материала.
Такая же четырехчленная схема – «восшествие на престол», «характеристика», «деяния», «смерть или постриг» – прослеживается и в большинстве других разделов «Хронографии». Не так уж трудно обнаружить и ее истоки: по четырехчленной схеме строятся и почти все разделы «Хроники» Иоанна Малалы, и «Хроники» Симеона Логофета. Появление последнего произведения в этом контексте особенно знаменательно. Вспомним, у «Хроники» Симеона общий источник с «Краткой историей» Пселла... Обнаруживается тот путь, по которому схема построения «императорских хроник» могла попасть и в пселловскую «Хронографию».
И все-таки между «Хронографией» и хрониками Малалы или Симеона лишь то сходство, которое может существовать между шедевром и примитивом. На фоне этого сходства только явственнее проступают различия. Для того чтобы это продемонстрировать, мы прибегнем к методу сравнения, но объектом своим выберем не «Хронику» Симеона, а «Историю» Иоанна Скилицы. Такой выбор имеет несколько оснований. Во-первых, сочинение Скилицы – тоже «императорская хроника», и, таким образом, мы остаемся в пределах одной жанровой разновидности, во-вторых, Скилица – современник Пселла, в-третьих, по историческому материалу произведения Пселла и Скилицы частично совпадают, и различие в предметах изображения не помешает делать выводы.
Об Иоанне Скилице, написавшем в самом конце XI в. обширное хронографическое сочинение, частично описывающее современные автору события, нам почти ничего не известно. Уже это обстоятельство дает материал для сопоставлений. Жизнь Пселла – по одной только «Хронографии»! – мы можем проследить по годам, а в эпизоде с посольством к мятежному Исааку Комнину – даже по часам. Если Скилица сознательно самоустраняется из рассказа – и в этом он продолжает традицию нарочито «анонимных» византийских хроник, то «Хронография» Пселла – почти мемуары. Иначе организован у Скилицы и исторический материал. Следует при этом оговориться, что структура разных «биографий» в сочинении хрониста не совсем однородна, и зависит, видимо, от источников, которыми он пользовался.
Вот как, например, построен рассказ Скилицы о царствовании Михаила IV (1034–1041). Хронист начинает «биографию» повествованием о событиях во дворце, об интригах «первого министра» – Иоанна Орфанотрофа, о заговорах против императора и его родственников, но вскоре эта «дворцовая» история перебивается самыми разнообразными эпизодами, не имеющими между собой никакой внутренней связи. «На одном уровне» повествует Скилица о мероприятиях Иоанна Орфанотрофа, о граде, побившем посевы, «падении» звезды, о болезни императора, о варяге, пытавшемся изнасиловать некую женщину во Фракисии и убитом ею, о тучах саранчи, напавших на поля, о вещем сне, виденном неким священнослужителем, о возмущении жителей Антиохии, о землетрясении в Иерусалиме, о наступлении арабов, о нападении печенегов и т.д. Мы перечислили события в том порядке, в каком приводит их Скилица в начале рассказа о времени Михаила IV. Не станем продолжать перечня: принцип организации исторического материала ясен и из уже сказанного. Сочленение эпизодов чисто хронологическое. «В том же году...», «В это же время...» – такими замечаниями пестрит текст хроники, и они, по сути дела, – единственные связующие звенья между эпизодами. Естественно, что события, продолжительные по времени, расчленяются и попадают в различные части произведения. При строгой хронологической закрепленности эпизоды лишены не только причинных, но и территориальных связей. Действие рассказа с легкостью переносится из Константинополя в отдаленную малоазийскую фему, а оттуда в Сицилию, Болгарию или на Русь. Местом действия хроники практически оказывается вся византийская ойкумена. В такой композиции нетрудно увидеть трансформацию принципов анналистической историографии.
Весьма характерно особое внимание автора к всевозможным природным явлениям и «чудесам». Пожары, засухи, «падения» звезд, землетрясения и прочее – все старательно фиксируется Скилицей (одних землетрясений в рассказе о времени правления Михаила IV насчитывается более десяти!). В ряде случаев Скилица даже комментирует эти явления. Град, побивший посевы, – знак Божий, ибо Господь недоволен незаконным способом, которым новый царь пришел к власти, налет саранчи – наказание ромеям за нарушение божественных заповедей, землетрясение – кара царю Михаилу и т.д. Но и без авторского толкования византийский читатель воспринимал эти экстраординарные явления как знамения высшей воли и потому нисколько не удивлялся соседству сообщений о них с рассказами о войнах, заговорах и других политических событиях. Рассказы о чудесах, необычных явлениях и стихийных бедствиях как бы коррелировали реальные исторические события с бдящим божественным Промыслом.
У Пселла в биографии Михаила IV, как, впрочем, и в других разделах «Хронографии», ни о каких «чудесах» и природных явлениях речь не идет вовсе, все повествование концентрируется вокруг человеческих поступков и реальных исторических событий. Если у Скилицы повествование свободно переносится в любую точку византийской ойкумены, то у Пселла оно сосредоточено вокруг императорского дворца, а точнее, вокруг личности самого императора. Лишь один раз переносит Пселл действие из Константинополя в Болгарию и то лишь потому, что туда отправился сам царь.
Весь рассказ о Михаиле IV строится на иных структурных принципах, чем у Скилицы. Начав биографию, как и положено, с сообщения о воцарении Михаила (гл. I–V), историк тут же переходит к характеристике царя (гл. VI–VIII). Закончив ее, Пселл заявляет о необходимости «вернуть к началу свой рассказ», и далее естественно было бы ожидать повествования о «деяниях императора» (пункт третий той идеальной четырехчленной схемы, которую мы выше пытались установить). Такое повествование действительно следует, но построено оно весьма оригинально. Вторично похвалив Михаила за его добрые свойства, Пселл указывает на единственный недостаток царя – низменные качества его братьев (гл. X). Это замечание дает ему основание подробно описать и братьев (гл. XII–XV). Затем Пселл возвращается к Михаилу, говорит об изменившемся его отношении к царице Зое (гл. XVI и сл.) и видит главную причину этой перемены в болезни императора. Отныне мотив царского недуга становится ведущим и сквозным в биографии. Пселл повествует о страданиях царя (гл. XVIII), а потом предлагает читателю посмотреть, что делал царь между приступами болезни. В следующей короткой главе «о времени между приступами болезни» (гл. XIX) Пселл умудряется уместить рассказ о всей внешнеполитической и внутригосударственной деятельности Михаила! «Постигшая болезнь уже грозила его жизни, а Михаил как ни в чем не бывало занимался делами», – такими словами заканчивает Пселл этот раздел. И как бы вновь подхватив мотив царского недуга, Пселл продолжает его развивать. Болезнь и приближающийся конец императора активизируют интриги Иоанна Орфанотрофа, обеспокоенного судьбой царского наследия и желающего закрепить власть за своим родом. Его усилия приводят в конце концов к усыновлению Зоей царского племянника Михаила – будущего императора Михаила V. После характеристики Михаила (Пселл никогда не упускает случая набросать портрет упомянутого персонажа!) историк вновь возвращается к мотиву болезни: умирающий царь строительством храма и другими богоугодными делами хочет обеспечить себе спасение в загробной жизни (гл. XXXI–XXXVII). Пселл собирается уже завершить рассказ, но, вновь с похвалой упомянув царя, считает необходимым в подтверждение своего мнения, «выбрав один эпизод из многих», поведать о подавлении Михаилом болгарского восстания Петра Деляна. Впервые на протяжении всей биографии (как иллюстрация положительной оценки героя!) идет более или менее подробное повествование о внешнеполитических событиях и действиях императора (гл. XXXIX–L). Из болгарского похода Михаил возвращается еле живым, и это делает естественным переход к рассказу о его постриге и смерти (гл. LII и сл.). Фактически раздел «деяния» оказывается здесь новой, только уже «детальной» характеристикой императора.
Подобно Скилице, Пселл повествует о Михаиле IV с момента его восшествия на престол и до самой смерти, но как разнится структура их рассказов (мы отвлекаемся сейчас от разницы в оценке императора!): у Скилицы элементарная от года к году повременная смена разрозненных событий, у Пселла, вообще не называющего ни одной даты, – сложное движение и взаимосвязь эпизодов. Группируются они вокруг личности царя, сочленены словесно-ассоциативной связью и в большинстве случаев «зацеплены» за сквозной мотив царского недуга, к которому рассказ неизменно возвращается. Вместо временного развития здесь ассоциативное движение авторской мысли, лишь имитирующее движение хронологическое.
В некоторых случаях ассоциативные связи, используемые Пселлом и создающие иллюзию хронологического развития, носят даже характер словесно-риторического трюка. Прекрасный в этом отношении пример содержится в уже упомянутой выше биографии Константина VIII. Охарактеризовав своего героя, автор, как и положено, должен закончить рассказ сообщением о его смерти, и тут Пселл говорит об увлечении Константина игрой в кости, после чего следует фраза, которую лучше всего передать на русский язык образом, заимствованным из области игры не в кости, а в карты: «И вот его, ставящего на карту державу, таким образом постигла смерть» [20(1), с. 30.15].
Разницу между Скилицей и Пселлом нетрудно, очевидно, объяснить несопоставимым интеллектуальным уровнем авторов. Первый – «один из самых сухих и, по-видимому, совершенно тупых византийских хронистов» (мы приводим крайнюю и не совсем справедливую характеристику К. Крумбахера), второй – самый блестящий ученый и ритор эпохи. Безусловно, риторическая техника, которой великолепно владел Пселл и которая уже в X в. все больше проникает в историографию [209], оказала на структуру «Хронографии» огромное влияние. Можно определенно утверждать, что именно из риторики заимствовал Пселл изощренное умение пользоваться ассоциативными связями и словесными сцеплениями, что, подобно Плутарху, он решает «исторические задачи риторическими средствами» [314, с. 59].
Повременим, однако, делать выводы. Продолжим рассмотрение композиции «Хронографии».
Установленное деление на четыре раздела, восходящее, как мы видели, к византийским хронографическим сочинениям, характерно почти для всех жизнеописаний. Основным из этих разделов, естественно, оказывается «детальная характеристика». Композиционное различие между биографиями более всего сказывается в разнице методов построения этого основного раздела. Принцип словесно-ассоциативной связи соблюдается почти везде, однако во многих жизнеописаниях появляется и нечто новое, о чем речь пойдет ниже. Начнем с биографии наиболее показательной – жизнеописания Исаака Комнина.
Раздел третий этой биографии начинается с общих рассуждений о том, почему Исааку не удалось достичь своих целей [20 (II), с. 114.15 и сл.].495 Вскоре, однако, Пселл «спохватывается» и заявляет, что во избежание сумбурности повествования он последовательно расскажет, во-первых, о том, как чрезмерно располнело тело государства, во-вторых, как Исаак принялся отсекать его больные члены, и, в-третьих, как у императора ничего из этого не вышло. (В рассказе об Исааке Пселл пользуется распространенной метафорой: тело государства болезненно вздулось, и император лечит его прижиганиями и хирургическими операциями.)496 Таким образом, сам Пселл предупреждает о трехчастном делении основного раздела биографии и строго его придерживается, расчленяя свой рассказ на три «периода» (καιροί) жизни государства и императора.
«Первый период» – время прогрессирующей болезни государства.497 «Второй период» – время, когда император, принявшись за лечение государства, некстати применил быстродействующие средства.498 И наконец, «третий период» – время, когда характер императора резко изменяется.499 Исаак Комнин становится подозрительным и суровым, отходит от дел, проводит весь свой досуг на охоте. Последнее дает возможность Пселлу путем ассоциативной связи перейти к рассказу о болезни императора (он простудился на охоте), а уж от болезни, логически, – к отречению, поискам наследника и т. д.
Как можно заключить из слов писателя, «первый период» включает в себя годы, предшествующие правлению Исаака, начиная со времени царствования Василия II (именно тогда «тело государства» начало раздуваться), а также начальный этап царствования самого Исаака. Наиболее подробно повествует Пселл о «втором периоде», когда император пытался «лечить тело государства». Фактически писатель рассказывает здесь о мероприятиях Исаака во внутренней и внешней политике. Примечательно, что прагматическая история и в этом случае мало интересует Пселла: в композиционном отношении изложение исторических фактов подчинено тезису о скоропалительности решений императора и заключается выводом о резком изменении характера Исаака под влиянием событий. Сообщение об этом изменении и составляет композиционную грань между второй и третьей частями («периодами») третьего раздела.
Таким образом, основной раздел биографии Исаака в гораздо большей степени, чем в рассмотренных выше жизнеописаниях, выдержан хронологически. Однако ведущим принципом оказывается здесь не временная последовательность, а «хронология характера» героя. То, что этот принцип не является случайным, должен показать анализ других жизнеописаний.
«Хронография» начинается рассказом о Василии II. Пселл основывается в нем уже не на личных воспоминаниях (как при написании биографии Исаака Комнина), а на каком-то неизвестном источнике. Интересно, что именно из него Пселл, по-видимому, почерпнул сведения об изменении характера Василия – факт, положенный в основу жизнеописания. «Как я слышал от историков, которые описывали Василия II, – замечает Пселл, – император вовсе не был таким; напротив, от распущенного и изнеженного он перешел к строгому образу жизни, обстоятельства как бы укрепили его нрав, сделали крепким то, что в нем было расслабленным, твердым то, что было размягченным, и целиком преобразили его жизнь» [20 (I), с. 4.4 и сл.].
Упомянув в самом начале третьего раздела500 о трансформации нрава Василия II, Пселл сразу же приступает к изложению тех событий, которые к этой трансформации привели: восстаний Варды Склира и Варды Фоки. Как и в других биографиях, прагматическая история оказывается своеобразным комментарием к характеристике нрава императора, расширенным изложением обстоятельств, приведших к изменению характера правителя. Лишний раз это подчеркивается в конце рассказа: «С этого момента (имеется в виду гибель Варды Фоки. – Я.Л.) император стал совершенно другим. Стал подозрительно относиться ко всему...» [20 (I), с. 11.26].
Таким образом, изменение характера опять оказывается композиционным рубежом в биографии. Остальная часть третьего раздела посвящена «деяниям» «изменившегося» императора, проявляющего дурные свойства нрава. Пселл описывает расправу с паракимоменом Василием, постепенное отстранение от власти брата Константина, приближение незнатных людей, накопление сокровищ и т.д. Следует при этом учесть, что изменение нрава Василия Пселл датирует концом 80-х годов, а события его последующего почти сорокалетнего царствования излагаются без распределения во времени (вместо хронологической связи и здесь – ассоциативное сцепление эпизодов). Как и в биографии Исаака, Пселла больше интересует хронология характера, чем хронология событий. Скорее всего, именно это обстоятельство и приводит Пселла в некоторых случаях к нарушению реальной хронологии. Так, согласно Пселлу, изгнание паракимомена Василия произошло после гибели Варды Фоки, т.е. после 989г. На самом деле паракимомен был отстранен от дел четырьмя годами раньше. Поскольку борьба с Фокой, по Пселлу, – одна из причин изменения характера Василия, а изгнание паракимомена – результат этого изменения, реальное хронологическое соотношение фактов искажено. Иными словами, хронологическая ошибка – следствие своеобразного авторского способа расположения материала.
Наблюдения, сделанные при анализе биографий Исаака Комнина и Василия Болгаробойцы, можно подтвердить и примером жизнеописания Романа III Аргира [20 (I), с. 32 и сл.].
После ярко выраженного здесь второго раздела («Так вернемся же к рассказу о происхождении его власти», – заканчивает Пселл «предварительную характеристику» императора [20 (1), с. 34.10]), Пселл обращается к началу царствования Романа. Рассказывая о его правлении, он дважды отмечает изменение характера этого императора. Более других самодержцев склонный прежде к раздачам и благодеяниям, Роман, «будто с ним случилось какое-то неожиданное и непредвиденное изменение... стал вдруг совсем непохож на себя» [20 (I), с. 35.9 и сл.]. Это первое изменение характера приводит к резкому ухудшению отношений Романа с женой – Зоей.
Однако композиционное значение имеет тут главным образом новый сдвиг в характере императора после неудачной кампании против «сарацин» (1030г.): «Терзаясь душой от пережитых огорчений, он резко переменился и обратился к образу жизни, ему не привычному» [20 (I), с. 40.6]. Надеясь вернуть растраченные на войне богатства, Роман стал теперь похож скорее на сборщика налогов, чем на императора. Это заявление дает писателю возможность перейти к описанию мероприятий, предпринятых императором, которые служат как бы иллюстрацией к высказанной мысли.
В определенной степени к этому же типу биографии примыкает и жизнеописание императора Романа Диогена, хотя роль композиционного стержня здесь выполняет не факт резкого изменения нрава, а нечто другое. Во втором разделе («предварительная характеристика») Пселл сообщает об основных, с его точки зрения, свойствах Романа: император был человеком лукавым и бахвалом (так лишь приблизительно можно передать значение эпитетов εἰρωνικός и ἀλαζών), он стремился к самовластию в управлении всеми делами [20 (II), с. 158]. Именно эти качества, по Пселлу, и заставили Романа отправиться в первый поход против сельджуков в 1068г. Успех кампании становится для императора «предлогом для бахвальства» [20 (II), с. 159.12]: Роман третирует императрицу, благодаря которой получил престол, и т. д.
Но еще больше наглое бахвальство императора возрастает в результате успешного окончания похода в 1069г. [20 (II), с. 160.22]. С императрицей он уже обращается, как с пленницей, а кесаря Иоанна Дуку даже собирается предать смерти. И наконец, высшим выражением «бахвальства» императора становится третий, закончившийся трагедией при Манцикерте поход 1071г. Неудача служит естественным поводом для Пселла перейти к рассказу о драматических перипетиях судьбы Романа последних месяцев его жизни (плен, ослепление, смерть [20 (II), с. 163 и сл.]).
Нетрудно заметить, что эпизоды биографии располагаются в хронологической последовательности: временную канву создают три похода императора против сельджуков. Однако хронология событий оказывается тесно связанной с «хронологией характера»: каждый поход Романа является некоей новой ступенью в проявлении его «бахвальства».
Итак, структура группы рассмотренных выше биографий определяется главным образом стремлением автора показать эволюцию нрава героя под влиянием событий. Это стремление вытекает из собственных этических теорий Пселла: характер человека, особенно если этот человек император, принципиально не является постоянным, а подвержен непрерывным изменениям (см. ниже).
Проделанный анализ, как мы надеемся, показал, сколь далеко ушел Пселл от традиционной византийской хронографии, к которой в жанровом отношении примыкает его историческое сочинение.
Отличия невозможно объяснить одной лишь риторической выучкой автора, хотя она, без всякого сомнения, и способствовала искусному построению произведения. Эти отличия следует искать в самих мировоззренческих основах.
Сформулированная раннехристианскими философами и богословами христианская концепция истории, согласно которой история стала мыслиться как детерминированное божественным промыслом поступательное движение, имеющее определенное начало и конечную цель, Константинополь представлялся «новым Иерусалимом», Византийская империя – Царством Божьим на земле, а император – наместником Божиим,501 не получила адекватного отражения в византийской историографии. Лишь Евсевий на заре развития византийской историографии более или менее последовательно излагал ход мировых событий как историю «благодатных для человека действий промысла Божия» и видел содержание всемирной истории в «борьбе неба с адом». Хотя линия Евсевия практически не получила развития и сам жанр «церковной истории» вскоре иссяк, тем не менее если не всегда прямо, то косвенно это «христианское ощущение истории» нашло свое отражение во «всемирных хрониках» – специфическом создании послеантичного времени. В Средневековье «всемирные хроники» (и не только в Византии) всегда находились в связи с той или иной религиозно-идеологической системой [105, с. 17]. Начиная рассказ от сотворения мира или человека, всякий раз заново излагая (а в некоторых случаях – непосредственно продолжая) труд предшественника, включая в повествование всю византийскую ойкумену, авторы хроник как бы стремились охватить мироздание в целом, постичь лежащую в основе бытия идею [78, с. 187 и сл.). Хронисты не пытались логически или словесно «сочленить» разрозненные события и эпизоды, ибо, по их представлениям, все в мире и так соединено высшей связью и является результатом действия божественного Промысла. Нельзя, естественно, во всех византийских хронистах предполагать столь развитого религиозного сознания, вероятно, многие из них строили таким образом свои произведения просто по традиции, тем не менее именно эти идеи в конечном счете лежали в основе этого удивительно живучего жанра историографии.
Авторы «императорских хроник» (Иоанн Малала, Симеон Логофет, Георгий Монах, Иоанн Скилица и др.), т.е. той жанровой разновидности, к которой так или иначе примыкает и «Хронография», дробили свои хроники на отдельные «царствования», однако императоры играли у них роль своеобразных эпонимов, почти не влиявших на структуру и характер повествования, остававшегося каталогом или описанием сменявших одно другое во времени разнородных событий и эпизодов.
Вышедшая из той же традиции, «Хронография» – на деле отрицание мировоззренческих основ, на которых жанр хронографии возник и мог развиваться на протяжении всех веков византийской истории. Пселл не начинает рассказа с сотворения мира или человека. Если даже полагать, что «Краткая история» – первая часть «Хронографии», все равно открывается она не Адамом, а Ромулом – факт уникальный в византийском летописании. Это вообще не «всемирная хроника», а история «римских» царей (русское слово «римский» не может передать содержание греческого ῥωμαῖος, означающего как «римский», так и «византийский»). Но главное – другое. В сознании интеллектуала XI в., поклонника античной культуры Пселла, уже не существовало той универсальной связи, которая бы объединяла разнообразные события мировой истории и тем самым делала бы лишним «литературное» сцепление эпизодов. Эта утерянная «всеобщая связь» компенсировалась у Пселла словесно-ассоциативными приемами, заимствованными из риторической практики, повествование же об исторических событиях уже не формально, а по существу тесно связывалось с личностью императоров. Утеря «религиозно-идеологических основ» привела к выдвижению на первый план личности исторического героя – прежде всего императора.
В этом отношении процесс развития византийской историография в самом общем виде повторил путь историографии античной. Системообразующая, «концептуальная» историография, обладающая определенными принципами освещения истории (Фукидид, Полибий), существует только в периоды государственного подъема, образования или расцвета новой общественной системы: греческого полиса, римской государственности. В периоды нисходящего развития историография (какого бы высокого художественного уровня она ни достигала!) концентрирует свое внимание на личности «хорошего» или «плохого» императора. «Горизонт историков, прежде пытавшихся включить в поле зрения весь мир или хотя бы весь римский народ (речь идет о римской историографии.– Я.Л.), сузился до пределов императорского дворца. История стала тесно переплетаться с императорскими биографиями. Их составляли Плутарх, Светоний, позже авторы, известные как “писатели истории августов”, и многие другие, сочинения которых до нас не дошли. Историография теряла свою прежнюю общефилософскую и общесоциальную значимость» [118, с. 96 и сл.]. Как античная биография «возникла и развивалась в отталкивании от монументальной историографии как порождение центробежных, антимонументальных тенденций эллинистической культуры» [60, с. 176 и сл.], так и византийские исторические сочинения, концентрирующие свое внимание на личности государей, «возникли и развились в отталкивании» от монументальных «всемирных хроник». Процесс этот имел глубокие исторические корни, и не Пселл стоял у его истоков.
Более ста лет до Пселла историки из круга «просвещенного монарха» Константина VII – Иосиф Генесий и так называемые «писатели после Феофана» начали, возрождая эллинистическую традицию, создавать произведения, охватывающие не всемирную историю, а царствования одного или нескольких императоров, произведения, содержанием которых были «деяния» и характеристики царей. Характерно уже название труда Генесия – «Царствования» – Βασιλεῖαι. Некоторые «истории» превращались в настоящие жизнеописания царей, традиционное наименование одной из таких «историй», принадлежащей перу самого Константина VII – Vita Basilii, т.е. «Жизнеописание Василия» (имеется в виду Василий I Македонянин), весьма точно отражает ее содержание. Эта, идущая от эллинистических истоков, линия502 продолжалась и дальше. Фактически описанием «царских деяний» была и «история» Льва Диакона (вторая половина X в.) и современника Пселла – Михаила Атталиата.
Таким образом, жанровые корни «Хронографии» надо искать не только во «всемирных хрониках», но и в возрожденной древней традиции «царской истории».503 Однако между «Хронографией» Пселла и современной ему историографией огромная дистанция. Чтобы это показать, вновь прибегнем к методу сравнения и его объектом возьмем на сей раз «Историю» Михаила Атталиата.504 Время жизни обоих авторов примерно совпадает, оба обладали высокими титулами, занимали важные государственные посты и пользовались милостями царствующих императоров, оба писали не понаслышке, а были свидетелями и участниками многих важных политических и исторических событий. Атталиат, подобно Пселлу, принадлежал к интеллектуальной верхушке общества и (в этом важное отличие от Скилицы!) не только не умаляет своей роли в событиях и при царском дворе, но и всячески ее подчеркивает и даже преувеличивает.
Как и Пселл, Атталиат дробит повествование на рассказы об отдельных «царствованиях», каждый из которых представляет собой логическое и даже композиционное целое. Такое разделение отнюдь не формально, и имя царя – вовсе не эпоним действия: рассказ действительно концентрируется вокруг фигуры императора, более того, удачи и неудачи империи часто прямо выводятся из достоинств или недостатков царя.
Как и при сравнении Пселла со Скилицей, мы остановились на сходстве, чтобы еще ярче были видны отличия. Покажем их, сопоставляя разделы обеих «историй», касающихся Константина IX Мономаха. Рассказ Атталиата о Константине IX Мономахе – история деяний царя, который в этой биографии чаще оказывается лицом, страдающим от всевозможных обрушивающихся на него бед, нежели фигурой активной. Не успел Константин прийти к власти, как начинается мятеж Георгия Маниака [50, с. 18]. Едва избавляется царь от этой напасти, как к стенам Константинополя приближается русская флотилия (с. 21). Победоносно закончив войну, император принимается за устройство гражданских дел, и его стараниями были открыты юридическая и философская школы (с. 21). Против Константина поднимается мятеж Льва Торника, но царь успешно подавляет восстание (с. 29). Тем временем печенеги переправляются через Дунай и поселяются во владениях империи. Царь борется с печенегами, однако, не имея сил противостоять захватчикам, начинает задабривать их дарами (с. 30). На Ивирию нападают сельджуки, царские войска противостоят нашествию, эта борьба длится до самой смерти императора (с. 47).
Кончина Константина позволяет автору дать развернутую характеристику царя. В рамках характеристики для иллюстрации «черт» Константина сообщается и о некоторых его деяниях (например, о строительстве храма).
«Заключительная характеристика» – это обычный элемент, завершающий жизнеописание царя в античной историографии – так называемый elogium.
Биография Константина Мономаха в «Хронографии» занимает около трети произведения и представляет собой самую сложно построенную и, пожалуй, наиболее интересную ее часть.
После весьма обширного первого раздела, включающего историю возвышения Константина, начинается второй раздел, который весьма оригинален. Пселл начинает издалека: он не хотел писать истории и принялся за этот труд только под влиянием уговоров друзей. В особенно трудном положении он находится при составлении жизнеописания Мономаха. Как совместить в одном произведении похвалу энкомия (Пселл не хочет оказаться неблагодарным) с объективным изложением фактов? И вот для обоснования своей позиции он излагает взгляды на человеческий характер вообще. «Некоторые, – пишет Пселл, – поскольку деяния царственных особ неодинаковы и добрые поступки переплетаются у них с дурными, не умеют ни безоговорочно хвалить, ни целиком порицать, их приводит в замешательство соседство противоположностей» (20 (I), с. 129.25 и сл.].505 «Ничего удивительного, если ни один из императоров не вел безупречной жизни. Только моему и никакому другому императору пожелал бы я такую долю, но не по нашей воле развиваются события...», – заканчивает свои рассуждения Пселл. Эти мысли предшествуют детальной характеристике императора, занимают место второго раздела («предварительной характеристики») и, по сути дела, таковой и являются: Пселл называет тут основное свойство характера – «соседство противоположностей», раскрытию которых и служит остальная биография.
Как и полагается, третий раздел открывается характеристикой начала правления императора. И здесь хронологическая последовательность постоянно подменяется ассоциативной связью, а реальные исторические события служат иллюстрацией свойств и состояний героя.506 Пользуясь этими традиционными для себя приемами, писатель, казалось бы, доводит повествование до логического конца (Пселл приступает к рассказу о болезни, предшествовавшей смерти, описывает внешность императора), однако в этот момент, когда по канонам пселловских биографий следовало бы ожидать заключительного раздела, повествование неожиданно возвращается назад. «Поскольку, – заявляет Пселл, – как и обычно в данном сочинении, я многое опустил в этом рассказе, я вновь вернусь к Константину, прежде, однако, расскажу о Зое, а затем опять примусь за другой рассказ». Таким образом, все, о чем повествовал Пселл до сих пор, оказывается первым рассказом (ὑπόθεσις), за которым должно последовать новое повествование о Константине – «другой рассказ» (ἑτέρα ὑπόθεσις). Писатель выполняет обещание: после характеристики Зои он действительно начинает новый рассказ об императоре, продолжающийся уже до начала четвертого раздела – сообщения о смерти Константина.
Интересно, что «другой рассказ» композиционно параллелен «первому» и соответствует уже установленному нами типу построения биографий: он начинается с «предварительной характеристики», за которой следует характеристика «детальная», иллюстрируемая рядом исторических экскурсов. Таким образом, в этой биографии происходит своеобразное дублирование композиционной схемы.507
Чтобы наглядней представить сложную композицию этой большой биографии, приведем схему ее построения:508
Раздел I
Восшествие на престол (гл. XV–XXI) ὑπόθεσις I («Первый рассказ»)
Раздел II
Предварительная характеристика (гл. XXII–XXXVIII)
Раздел III
A. Начало царствования, раздача чинов (гл. XXIX–XXX)
Б. Доброта и приятный нрав (гл. XXXI–XXXIV)
Рассказ о самом себе (гл. XXXV–XLVI)
B. Легкомыслие императора, связь со Склириной (гл. XLVII–LXXI).
Г. Нежелание императора заниматься делами.
1. Восстание Георгия Маниака (гл. LXXIV–LXXXIX)
2. Нападение русских на Византию (гл. ХС–XCV)
3. Мятеж Льва Торника (гл. XCVIII–CXXIII)
Д. Внешность императора (гл. CXXIV–CXXVI)
Е. Болезнь императора, беспечное отношение к болезни (гл. CXXVII–CXXXVIII)
Ж. Беспечное отношение к охране своей персоны
1. Первое покушение на Константина (гл. CXXXIV–CXXXVII)
2. Второе покушение на Константина (гл. CXXXVIII–CLX)
Характеристика императрицы Зои (гл. CLVII–CLX)
ὑπόθεσις II («Другой рассказ»)
Раздел IIа
Предварительная характеристика (гл. CLXI–CLXIV)
Раздел IIIа
A. Милосердие Константина (гл. CLXV–CLXXII)
Б. Любовь к удовольствиям и развлечениям (гл. CLXXIII–CLXXIV)
B. Неуравновешенность характера
1. Приближение евнуха Иоанна (гл. CLXXVII)
2. Возвышение и падение Константина Лихуда (гл. CLXXVIII–CLXXXII)
3. Горе в связи со смертью Зои (гл. CLXXXIII–CLXXXIV)
4. Сооружение роскошного храма (гл. CLXXXV–CLXXXIX)
Г. Стремление Константина к упрочению власти (гл. CLXXXIX–CXC)
Постриг Пселла (гл. CXCI–CC)
Раздел IV
Болезнь и смерть Константина (гл. СС–ССIII)
Никакое схематическое изложение не в состоянии передать действительной сложности композиции биографии Константина Мономаха, построенной как непринужденный рассказ со свободным движением мысли, необязательными переносами, едва уловимыми ассоциативными переходами, но непременно концентрирующийся вокруг личности главного героя. «Рассказ об этом императоре как будто противоречит сам себе, он изменяется и преобразуется вместе с Константином. Он построен по законам правды, а не риторики, уподобляется и как бы сопереживает герою». Эту характеристику мы заимствовали не из оценок современных критиков. Она принадлежит самому Пселлу [20 (II), с. 71.20].
Если рассказ Атталиата – хронологическая смена эпизодов, связанных с личностью императора, характеристика которого вынесена в конец в виде самостоятельного небольшого раздела, то биография у Пселла – это, по сути, сама по себе усложненная характеристика героя, в которой растворяется исторический материал, характеристика, «замаскированная» (термин не совсем точный, потому что речь идет не о сознательном акте) под историю. На место средневековой скованности византийских хронистов, их зависимости от христианских концепций и невозможности подняться над материалом, который диктует им последовательность изложения, приходит «художественная свобода» Пселла.
Пселл ощущает себя не столько историком, излагающим материал действительности, сколько своеобразным режиссером драмы на историческую тему. Эта художественная и совсем «не средневековая» раскованность Пселла может быть иллюстрирована примером из разобранной выше биографии Константина Мономаха. Начав рассказ о Зое – законной жене легкомысленного императора, писатель замечает: «Расскажу о ней подробней, пока царь блаженствует со своей севастой» [20 (I), с. 148.27 и сл.] (имеется в виду любовница Константина – Склирина, об открытой и шокирующей окружающих связи с которой писатель только что рассказывал). Следующий затем рассказ о Зое заканчивается словами: «Доведя до этого места повествование о царице, снова вернемся к севасте и самодержцу и, если угодно, разбудим их, разъединим и Константина прибережем для дальнейшего рассказа, а жизнь Склирины завершим уже здесь» [20 (I), с. 150.12 и сл.]. В данном случае уничтожается дистанция между героями и авторами, между прошлым и настоящим (Пселл пишет через десятилетия после смерти любовников), и все течение рассказа подчиняется произволу художника.
Как бы ни был «свободен» Пселл в построении «Хронографии», ее композиция, говорили мы, подчинена одной задаче – характеристике героев.509 К рассмотрению искусства обрисовки образов мы и перейдем в следующем разделе этой главы.
3. Образы
Исторические факты служат Пселлу материалом для характеристики образов его героев. (Это вовсе не означает, что «Хронография» не имеет большого значения как исторический источник. Скорее наоборот. Стремясь полнее обрисовать своих героев, Пселл сообщает о таких деталях, рисует такие сцены византийской действительности, которых нет и, более того, принципиально не может быть в сочинениях других историков. В этом смысле «Хронография» уникальна и как исторический источник. Речь идет о другом – о способе художественной организации исторического материала.) Проблема образов, по сути дела, главная при анализе «Хронографии».
Искусство построения образов и психологического проникновения, поражавшее новейших ценителей творчества Пселла, было вполне осознано самим писателем и, более того, составляло предмет его гордости. «Я проник в твою душу и понимаю тебя лучше, чем ты самого себя; хочешь, я коротко представлю, каков ты душой», – пишет он митрополиту Амасии [16 (II), с. 162.20 и сл.]. «Как никто другой, – похваляется Пселл, – способен я распознавать людей и посредством ощущений, как сквозь двери, проникать в душу и постигать ее, отраженную в бровях и глазах» [16 (I), с. 77.21 и сл.; ср. 16 (II), с. 12.4 и сл.].
Каковы же общие представления Пселла о человеке и его характере?510
Для обозначения понятия «характер» и близких к нему понятий Пселл пользуется несколькими терминами: ἦθος, τρόπος, γνώμη, διάθεσις. Это же значение имеет в ряде случаев и χαρακτήρ, перешедшее затем в большинство европейских языков. Было бы чрезвычайно интересно проследить эволюцию этих понятий у византийских авторов. Однако и без специального исследования можно отметить различие в их значениях у Пселла и античных писателей; у последних слова эти чаще всего употребляются для обозначения характера «общего типа», «типического», «нормированного» [ср. словарь Liddel – Scott s. v. χαρακτήρ, 4. Type of character (regarded as shared with others) of things or persons, rarely of individual nature].511 Напротив, словоупотребление Пселла приближается к современному бытовому: «Характер – совокупность основных наиболее устойчивых свойств человека, которые проявляются в его действиях и поступках» (БСЭ, т. 46, с. 66).
Оставляя в стороне другие термины, укажем, что слово χαρακτήρ в этом значении используется у Пселла [например: 16 (I), с. 207; 16 (II), с. 85; 20(1), с. 130.17].
Явно не без воздействия аристотелевской этики Пселл высказывает суждение, согласно которому в человеке врожденные свойства, составляющие его природу (φύσις), сочетаются с благоприобретенными в результате воспитания и жизненной практики (последние образуют его ἦθος или τρόπος). Так, умерший брат некоего актуария характеризуется Пселлом отдельно «по природе» и «по нраву», причем специально отмечается, что «первая от родителей, другой – от воспитания» [1 (V), с. 97].
Наряду с делением человеческих свойств на врожденные и благоприобретенные Пселл различает в душе человека два начала: разумное (ἡ λογικὴ φύσις τῆς ψυχῆς) и неразумное (τὸ ἄλογον) [1 (IV) , с. 331 и сл]. Более подробно эта мысль развивается в письме к Иаситу: «Так вот природа наша составлена. Мы представляем собой смешение разумного и неразумного, причем разумного в нас меньше, чем неразумного. В первом из них – мысль (διάνοια, имеется в виду практический ум. – Я.Л.), по которой мы существуем, во втором – чувственное восприятие, представление, воображение и большинство мнений. Из этих свойств, разумных и неразумных, мы состоим, и никто из нас не является только разумным или только неразумным. Разуму, как господину и царю, необходимо владычество над тем, что ниже его и чем он управляет, как конем и колесницей. Поэтому служат ему органы чувств, восприятие, впечатление и постигающее их смысл мнение, желание внешних благ, благородный и воинственный дух, вожделение и прочие проявления наших свойств» [1 (V), с. 435 и сл.]. Из приведенных слов ясно: помимо разума Пселл признает в человеке не контролируемую рассудком сферу, в которой наряду с первыми ступенями познания (чувственное восприятие, представление, мнение) объединяется то, что, пользуясь современными определениями можно было бы назвать областью подсознательного и инстинктивного.512
Уже говорилось о настойчивом повторении Пселлом тезиса, согласно которому человеческий характер не является статичным и цельным, а, напротив, он подвижен, изменчив и противоречив. В наиболее законченном виде эта мысль выражена в «Хронографии» в связи с рассказом о Константине IX Мономахе [20 (I), с. 129.25 и сл.]. Главное свойство характера императора, по Пселлу, – это «соседство противоположностей». Ни один из императоров не остается неизменным до конца своих дней: одни из них становятся лучше, другие – хуже. Противоречивость и изменчивость натуры, однако, не составляют привилегии одних императоров (последним она свойственна лишь в большей степени, чем обычным людям). Сдвиги в характере происходят под воздействием внешних причин («изменчивое существо человек, особенно если серьезные поводы для изменений находятся вне его» [20 (II), с. [54.24]). Впрочем, имманентные причины упоминаются Пселлом как нечто само собой разумеющееся. «Находясь вне тела, душа недоступна изменению и преобразованию, но, пребывая в теле, обладающем пестрым многообразием, она изменяется и преобразуется не только под воздействием свойственных ей страстей, но из-за внешних обстоятельств» [16 (II), с. 62 и сл.]. Представление о человеке как существе противоречивом и изменчивом Пселл с готовностью распространяет и на самого себя.
Можно сказать и больше: подчеркивание в объекте противоположных сторон становится для Пселла чем-то вроде привычной нормы и даже своего рода риторического штампа. Очень многие герои энкомиев, монодий и иных ораторских сочинений представляются писателем как смешение самых разных несовместимых добродетелей и свойств.
Приведем некоторые примеры. Михаил Дука, по Пселлу, – «смешение противоположностей» (μίξις τῶν ἐναντίων), он соединил в себе «высоту и глубину, царское величие и умеренность» и т.д. [16 (II), с. 42.8 и сл.]. Кесарь Иоанн Дука соединил несовместимые свойства (ἄμικτα πράγματα): «острый ум и скромность, несравненный разум и неподражаемый нрав» [16 (II), с. 66. 24 и сл]. Обладала «смешением противоположностей» и мать Пселла [1 (V), с. 15.25; ср. характеристики Романа Диогена – 1 (V), с. 228, Михаила Кирулария – 1 (IV), с. 378, Константина Мономаха – 1 (IV), с. 430 и др.]. «Совмещение несовместимого» в большинстве случаев не только отмечается, но оказывается лейтмотивом всей характеристики (все примеры заимствованы из ораторских сочинений).
В большинстве этих случаев за обилием антитез нет попытки проникнуть в истинную противоречивость персонажа и сам «диалектизм» низведен до уровня формального приема. Но как раз эта «формализация» и характерна, она показывает, насколько укоренился в сознании Пселла тот подход к изображению человека, который с известной мерой допущения можно назвать диалектическим. Как уже говорилось, Г. Миш видит истоки подобных воззрений в античной диалектике, которая пришлась по вкусу бесхарактерному и «испорченному» Пселлу. Думается, однако, что дело не только в античных реминисценциях и в моральной неполноценности самого писателя. Коренятся они, скорее всего, в принципиальной антитетичности византийского сознания и православной теологии, для которых сосуществование тезы и антитезы было не только допустимым, но подчас и обязательным [69, с. 165].513
Мышление Пселла, образованнейшего человека своего времени, было, без сомнения, приучено к всевозможным диалектическим ходам, столь свойственным как неоплатонической философии, так и православной теологии, к объединению которых стремился писатель.
Оставляя в стороне другие общеизвестные философские противоречия, которые неоплатоники и христианские теологи пытались решить с помощью диалектических допущений, напомним, что с богословской точки зрения человек и был как раз классическим примером «совмещения несовместимого». Человек «смертен и бессмертен», «велик и ничтожен», он «необычайное смешение противоположностей», пишет в «Слове о душе» современник Пселла Никита Стифат [54, с. 78, 80].514 Что касается взгляда на человека как на существо непостоянное и изменчивое, то он, возможно, вообще не был особенностью мировоззрения Пселла, а входил в систему этических представлений византийцев той поры. Во всяком случае другой современник Пселла, не отличавшийся, видимо, глубокой образованностью, Кекавмен замечает: «Природа людей изменчива и непостоянна, иногда она изменяется от хорошего к дурному, а иногда склоняется от дурного к хорошему» [33, с. 230.5 и сл.].
Приведенные здесь суждения Пселла не плод теоретизирования и доктринерства, а выражение общих этических концепций писателя. Изменчивость и противоречивость, по Пселлу, – норма человеческого характера, в то время как постоянство и монолитная цельность – исключение.
Как уже отмечалось, Пселл отказывается от догматического ригоризма и воспринимает христианскую этику в ее наиболее человечном аспекте. Идеалу непреклонно-сурового, монолитно-цельного, непоколебимого христианина Пселл противополагает представление о человеке, которому не чуждо ничто человеческое, который доступен всем впечатлениям бытия, в характере которого могут уживаться свойства противоречивые, к тому же не постоянные и раз и навсегда данные, а изменяющиеся под влиянием среды и обстоятельств.
В связи со сказанным немалый интерес представляют и отдельные оброненные Пселлом замечания, касающиеся уже не характера человека, а принципов его оценки и изображения. В сочинении «К своему грамматику» писатель защищает адресата от нападок каких-то анонимных недоброжелателей. «Обвинители, – пишет Пселл, – по нраву своему люди политические, но не философы по образу мыслей, поэтому они и судят о вещах по своей жизни, а не по канону истины» [16 (I), с. 60.14 и сл.]. Нельзя судить о характере по внешним признакам, одежде, прическе и т. д., иначе полсвета придется счесть сумасшедшими, говорит писатель в том же произведении, ведь одни предпочитают одно, другие – другое. Мы отличны друг от друга, и потому нужен иной критерий и лучший судья [16 (I), с. 63]. В другом случае Пселл полемизирует с риторами, создающими энкомий в честь Константина Лихуда «не по его (Лихуда. – Я.Л.) мере», а в зависимости от «силы слова» (1 (IV), с. 390.7 и сл..515
В этих замечаниях, сделанных по разному поводу и в разном контексте, по сути дела, отразилась одна и та же мысль: не ограниченный жизненный опыт и не риторический шаблон, а сам объект («его мера») должен быть основным критерием оценки или изображения. Этой позиции писателя свойственны та же широта и гибкость, что и его представлениям о человеческом характере.
* * *
Рассуждая типологически, метод изображения человека, принятый в «Хронографии» Михаила Пселла, можно назвать дедуктивным;516 как правило, писатель предваряет рассказ о герое некоей характеристикой, раскрывающейся в процессе дальнейшего изложения. Этот метод, наиболее отвечающий принципам нормативного художественного мышления Средневековья и потому доминирующий в византийской литературе (яркий тому пример – энкомий), изначально предполагает обобщение и абстрактизацию, подведение индивидуальных свойств под родовые определения [см. об этом у А. Каждана – 78, с. 158 и сл.]. Византийские писатели в большинстве случаев не стремятся постигнуть своеобразие личности, им достаточно, к примеру, назвать своего героя благочестивым (т.е. подвести под родовое понятие), а затем рядом примеров или риторических фигур раскрыть тезис. Схематизм и затемнение частного, индивидуального, свойственные этому методу и сделавшие его столь чуждым новейшим художникам, позволяют применять к образам средневековой литературы приемы заслуженно непопулярного ныне анализа «по чертам».
Сопоставляя основных героев «Хронографии», можно довольно четко выделить те их качества и свойства, которые с большей или меньшей регулярностью отмечаются писателем. Вот их короткий перечень: 1) род, происхождение; 2) образ жизни; 3) ученость, отношение к ученым; 4) красноречие; 5) благочестие; 6) личная храбрость, выносливость; 7) качества государственного деятеля (отношение к императорским обязанностям, характер управления государством, отношение к подданным, щедрость); 8) ум; 9) нравственные качества.
Приведенный перечень фактически охватывает все стороны человеческой личности и уже в силу своей универсальности не может дать представления об индивидуальности писателя. Последняя проявляется в разном интересе к тем или иным свойствам личности (ср. Urteilskategorien К. Бергена).
Хотя, следуя непреложной традиции биографического жанра, Пселл обычно упоминает род описываемых лиц, происхождение, как правило, не играет сколько-нибудь существенной роли в поступках и судьбе героя.
В оценке образа жизни императоров Пселл, в сущности, пользуется двумя категориями: «строгость» или «легкомыслии». Избыток того и другого вызывает осуждение философа – приверженца античной aurea mediocritas (см. характеристики Василия II и Константина VIII [20 (I), с. 4], Константина IX Мономаха [20 (I), с. 140, (II), с. 37]).
Описанию такого частного (во всяком случае для царской персоны Византии XI в.) свойства, как отношение к ученым и ученость, Пселл отводит непропорционально большое место и, как правило, специально оговаривает знание или незнание своим героем светских наук (см. характеристики Василия II [20 (I), с. 18.12], Константина VIII [20 (I), с. 28.29 и сл.], Романа III Аргира [20 (I), с. 32.21 и сл.), Константина IX Мономаха [20 (I), с. 134.22 и сл.], Михаила IV [20 (I), с. 56.14 и сл.]).
Не меньшую роль, чем образованность в науках, играет для Пселла красноречие (см. характеристики Константина VIII [20 (I), с. 29.1 и сл.], Романа III Аргира [20 (I), с. 33.1 и сл.], Исаака I Комнина [20 (II), с. 113.3 и сл.], Константина X Дуки [20 (II), с. 141]). Эти качества имеют для Пселла исключительное значение. Знаменателен в этом отношении тот факт, что в очень небольших характеристиках императоров в «Краткой истории» Пселл использует всякую, даже минимальную, возможность, чтобы отметить наличие (или, наоборот, отсутствие) образования и дара красноречия у своих героев. Оба эти свойства (ученость и красноречие) в «Хронографии» явно потеснили такие традиционные добродетели христианских государей, как благочестие и личная храбрость.
О благочестии Пселл говорит лишь в панегирических характеристиках Константина X и Михаила VII [20 (II), с. 140, 173], в жизнеописаниях Зои и Феодоры [20 (II), с. 48, 79] (благочестие всегда привилегия женщин) и, наконец, в описании Романа III Аргира, где оно оказывается... лицемерной маской.
Что касается личной храбрости, то и она в «Хронографии» занимает скромное место. Следует учесть, что среди героев писателя – такие воинственные императоры, как Василий II, Исаак Комнин, Роман Диоген и др.
Главный критерий оценки писателем своих героев-императоров – их качества государственных деятелей. Одни из них ревностно занимаются делами управления (Василий II, Исаак Комнин), другие ими пренебрегают (Константин VIII, Константин IX Мономах); одни сведущи в науке правосудия (Константин X), другие не знают ни законов, ни канонов и судят по своему разумению (Михаил IV) и т. д.
Щедрость – традиционная добродетель византийских императоров – почти непременно отмечается Пселлом, причем ее избыток, расточительность встречают постоянное осуждение (Константин VIII [20 (I), с. 26]; Роман III Аргир [20 (I), с. 35]; Константин IX Мономах [20 (I), с. 132]; Константин X [20 (II), с. 145]).
С особой подробностью говорится, как правило, об отношении императора к подданным. Если одни монархи обращаются с ними милостиво и не позволяют гневу увлечь себя (Константин IX Мономах), то другие устрашают окружающих своей суровостью и не прощают даже незначительных провинностей (Роман III Аргир, Михаил V, Василий II). «Милостивые» императоры пользуются наибольшим уважением писателя, традиционная императорская φιλανθρωπία одно из наиболее ценимых свойств.
Нередко привлекает внимание Пселла такая черта героя, как стремление к самовластию или, напротив, его желание иметь советников (в роли последнего нередко фигурирует сам автор).
Набор эпитетов и характеристик, относящихся к уму и нравственной природе персонажей, в «Хронографии» велик и разнообразен.
Чисто оценочные характеристики, рожденные льстивой преданностью или благочестивой ненавистью, столь частые у предшественников Пселла и в его собственных энкомиях, в «Хронографии» редки (большая часть восторженных описаний приходится на энкомиастические жизнеописания Константина X и Михаила VII). В подавляющем большинстве случаев Пселл стремится указать на какие-то конкретные качества (наглость, лукавость, лицемерие и т.д.). Обращает на себя внимание следующее: среди многообразных определений одна черта почти непременно встречается в характеристиках писателя – герой-император по своему нраву бывает «ласковый» или «суровый», «мягкий» или «грубый», «сострадательный» или «гневливый», «улыбчивый» или «озабоченный» и т. д.
Если бы нам ничего не было известно о самом Пселле, то уже из акцентов его характеристик императорских особ можно было бы достаточно отчетливо представить себе облик писателя. Человек, ценящий дарование гораздо больше, чем благородное происхождение; скорее ученый и ритор, чем воин; человек, при всем своем христианском благочестии, свободомыслящий; влиятельнейший государственный деятель, привыкший поучать самодержцев, и в то же время придворный льстец без достоинства, льстец, судьба которого зависит от улыбки или нахмуренных бровей повелителя, – таким является нам Пселл, автор императорских жизнеописаний, таким мы знаем его и по многочисленным письмам и откровенным признаниям в других сочинениях. Это косвенное «самораскрытие» автора византийской хроники само по себе весьма знаменательно: субъективное мироощущение, а не обязательный набор качеств было исходной позицией, той мерой, с которой писатель приступал к изображению героев.
* * *
Специфика пселловского метода проявляется уже в первоэлементах характеристик – обрисовке отдельных свойств. Начнем с примеров из короткой и компактной биографии Константина VIII. «Сильный телом, он был труслив душой» [20 (I), с. 25.14]; «Легко поддающийся гневу, он не был чужд и сострадания... в отличие от брата Василия гневался он недолго и быстро отходил» [20 (I), с. 26.15 и сл.]; «Он оказывал благодеяний больше всех других императоров, однако в своих щедротах не соблюдал равной справедливости» [20 (I), с. 26.28 и сл.]; «Он был не слишком образован, лишь слегка, по-ученически знаком с эллинской наукой, но тем не менее человек от природы способный и привлекательный, с изящной и бойкой речью, он с блеском выражал мысли, рождавшиеся в его душе» [20 (I), с. 28.29].
Приведенные цитаты составляют значительную часть скупого (для Пселла) описания Константина VIII. Во всех характеристиках одна особенность: они двучленны по своему построению – тезис сопровождается в них антитезисом, частично или полностью отрицающим, корректирующим, ограничивающим основное утверждение (синтаксически это выражается при помощи предложений с причастными оборотами или сочинительной связи с μέν…δέ либо ἀλλά и т.д.). Аналогичные примеры обильно встречаются и в других жизнеописаниях. «Большей частью он оставался тверд в своих решениях, но случалось, что и менял их» (Василий II [20 (I), с. 22];| «К эллинской образованности был он непричастен, тем не менее воспитал свой нрав лучше иных философов, постигших ее» (Михаил IV [20 (I), с. 56.14]); «Я поражался ее (императрицы Феодоры. – Я.Л.) благочестию, однако любовь к самодержавной власти побуждала ее преступать законы» [20 (II), с. 79]; «Ни один из прежних императоров не мог бы с ним (Исааком Комниным. – Я.Л.) сравниться, однако необузданность, нежелание подчинятся велениям разума разрушали благородство его духа» [20 (II) с. 121.28]. Характер Романа Диогена – «иногда прямой, но большей частью лукавый и наглый» [20 (II), с. 157.12]. Подобные «двучленные» определения иногда вкраплены в жизнеописания, иногда на них строится вся характеристика.
Большинство свойств героев Пселла не абсолютны, сфера их проявления ограничена временем, ситуацией или какой-либо чертой характера, и, что самое важное, они существуют не изолированно, а как бы «зацеплены» друг за друга.
* * *
Специфика методов характеристики может быть обнаружена не в отдельных «чертах», а в образе в целом. Для удобства анализа мы позволили себе разделить императоров – героев Пселла на несколько «типов».
Деятельный и суровый император Василий II
Биография Василия II начинается восходящим к античной традиции синкрисисом – сравнением двух царственных братьев Василия и Константина.517 Сопоставление, по сути дела, производится по одному признаку: младший из них «распущенный и легкомысленный», старший, Василий, – «деятельный» (дословно «бодрствующий»), «сосредоточенный» и «озабоченный». Дальнейшие описания уточняют и дополняют начальную характеристику, не меняя ее основного смысла. Окружающим Василий казался мрачным, он был человеком грубого нрава, гневным и неотходчивым, умеренным в образе жизни, чуждым всякой изнеженности [20 (I), с. 4], ко всем относился подозрительно, был мрачен, скрытен, никому не прощал вины (с. 11). Все эти качества не были свойственны Василию от природы, а появились в результате влияния неблагоприятных обстоятельств (главным образом восстаний Варды Склира и Варды Фоки). Император отказался от добродушия, пренебрег украшениями, превратился в «озабоченного и сосредоточенного» (с. 13.28 и сл.) (обращаем внимание на вторичное появление тех же эпитетов), стал управлять с помощью страха, а не милости. При своей подозрительности Василий перестал испытывать нужду в советниках и потому прогнал прежде возвышенного им же паракимомена Василия (с. 12), правил, не соблюдая законов, презрел науку и ученость (с. 18).
Последний раздел биографии посвящен поведению Василия II в пору войны и мира. Во время войны Василий коварен, во время мира – «царствен» (свойства героя определяются ситуацией). Солдат и полководец, Василий неприхотлив и вынослив, великолепно знает военное дело [20 (I), с. 20], нетерпим к промахам своих воинов, однако наказывает их не сразу, а лишь по возвращении из похода (с. 21–22). Василия можно было лишь с трудом подвигнуть на какое-нибудь предприятие, но раз принятое решение он уже не менял. Гнев и милость императора были непоколебимы, а волю свою он почитал за «божественный суд» (с. 22).
Трудно сказать, насколько Василий, нарисованный Пселлом, соответствует реальному прообразу (строго говоря, нам вообще неизвестно, каким был тот или иной деятель XI в., мы можем судить лишь о том, каким он изображен у Пселла, Скилицы, Атталиата и т.д.); очевидно, однако, что отдельные «черты» характеристики Василия в «Хронографии» не представляют самодовлеющих качеств, а, дополняя друг друга, вместе составляют образ немилостивого и грубого, энергичного и упрямого, подозрительного и беспощадного императора.
Исаак I Комнин
Второй вариант «деятельного и сурового» императора – Исаак I Комнин. Его (в отличие от Василия II) Пселл описывает по личным впечатлениям, и потому этот образ – более детальный и более полный. Впервые на страницах «Хронографии» Исаак появляется еще не императором, а «тираном», возглавившим мятеж против Михаила Стратиотика. Несколько предварительных штрихов создают впечатление о герое. У Исаака властный вид, благородный образ мыслей, душевная твердость, он «благородный» полководец [20 (II), с. 85]. Повстанец Исаак деятелен и целеустремлен, он проводит ночи в беспокойных мыслях, дни отдает делам (с. 87). Действия его отличаются разумностью – Пселл дважды отмечает, что Исаак поступает «скорее разумно, чем дерзко». В облике героя подчеркивается сдержанная суровость: Комнин никогда не обнажал меча на провинившегося, но его нахмуренные брови действовали сильнее любого удара (с. 87). В некоторых эпизодах фигура императора окружена героическим ореолом. Таков он в батальной сцене, когда четыре «скифа», приставив с разных сторон копья к Исааку, удержали его в седле (с. 90–91). Такова по-царски величественная картина приема Исааком императорского посольства во главе с Лихудом и Пселлом (с. 96) и т. д.
Императору-воину присуща государственная мудрость: он с необычайным вниманием прислушивается к советам (черта, как уже отмечалось, весьма ценимая Пселлом, тем более что в качестве советчика выступает он сам) и философски относится к собственным успехам, полагая, что чрезмерная удача редко приводит к хорошему исходу [20 (II), с. 108–109].
Энкомиастические нотки первых описаний подготовляют торжественно-панегирический стиль эпизода восшествия на престол и рассказа о первых шагах нового императора. Исаак, «муж во всех отношениях деятельный», «не стряхнув с себя пыль битв, не переменив платья», принялся за государственные дела и приступил к управлению, «едва только успел из открытого моря и бурь спастись в гавань, не стерев соль с губ и не переведя дух» [20 (II), с. 110.25 и сл.].
Традиционной условности стиля соответствует и устойчиво энкомиастический тип изображения героя: император уподобляется восходящему солнцу, лучи которого разгоняют облака [20 (II), с. 111]. Его образ рисуется с помощью ряда графически четких сцен, запечатленных как бы наблюдателем «извне». Император на троне, занятый государственными заботами, суров, непреклонен, и, казалось, нрав его не может смягчиться. Но тот же император, находясь в домашней обстановке или раздавая должности, неожиданно превращается в «мягкого и доступного». Одна и та же струна, пишет Пселл, издает то резкие, то гармоничные звуки, император – «двойной», в нем совмещены несовместимые свойства (с. 111–112).
Другой эпизод рисует «грозного» Исаака [20 (II), с. 112.17 и сл.]. Император поднимается на трон, кругом располагаются синклитики; сначала он не произносит ни слова, но, как бы отдавшись размышлениям, сохраняет на лице «точное» «Ксенократово выражение».518 Собравшихся охватывает страх. Одни застывают на месте, как от удара молнии, из их «сжавшихся и ссохшихся» тел как бы отлетает душа, другие бесшумно двигаются, третьи еще крепче охватывают руками грудь и, собрав всю силу воли, стараются стоять неподвижно. Сцена замечательна своей статичной монументальностью. Вместе с тем, как это ни парадоксально, в ней присутствует и доля легкой иронии. Император здесь не только на самом деле величествен, но еще и изображает величие. Его действия заранее рассчитаны на определенный внешний эффект; Исаак «как бы» (οἷον) предается размышлениям, «копирует» (μιμησάμενος) «точное» (ἀκριβῶς) «Ксенократово выражение» лица.
Еле заметный иронический подтекст сохраняется и в дальнейшем изложении.
Император был немногословен, продолжает Пселл, как Лисий, умел обуздывать свою речь, его молчание было красноречивее слов, а кивок и жест могли заменить обильные словоизлияния [20 (II), с. 113]. Все это, конечно, совершенно серьезно. Но тут же следует описание Исаака в роли судебного арбитра: не сведущий в законах император не берет на себя вынесение приговоров, а поручает это судьям. Тем не менее он делает вид, будто заранее знает содержание приговора, более того, выдает себя за его автора. Вместе с тем, не желая демонстрировать неправильное произношение юридических терминов, Исаак сам не зачитывает приговор, но всегда что-то добавляет или убавляет в тексте, когда его оглашает кто-то другой. И здесь усилия Исаака направлены на создание внешнего впечатления, сокрытие собственных недостатков.
Общий энкомиастический тон первой части биографии, несмотря на элемент иронии, настораживает: Пселл пишет об Исааке уже после его смерти. И действительно, дальнейший рассказ («детальная характеристика», по нашей классификации) приносит нечто новое. Оказывается, что все положительные свойства императора, декларированные писателем, не дают никаких результатов, их влияние сводится на нет нетерпеливостью и поспешностью Исаака. Последний все стремится делать немедленно [20 (II), с. 121], избыток напористости и приводит его к неудачам, В свою очередь, неудачи изменяют характер и образ жизни Исаака, который стал не в меру суров, начал презрительно относиться к окружающим и почти все время проводит на охоте (с. 128). Заключительные страницы добавляют последний штрих к образу: губительный недуг не согнул императора-воина, он не отказался от своего «благородства», и когда, уже больной, выходил из дому, его не вели за руку; был он подобен «высокому кипарису», раскачивающемуся под порывами ветра (с. 132.10).
Исаак, в отличие от Василия, – «положительный» вариант образа сурового и деятельного государя. Восхищение императором заставляет Пселла прибегать к редким в «Хронографии» энкомиастическим приемам изображения, однако второй частью биографии писатель сводит на нет или во всяком случае значительно ограничивает высокую оценку героя в первой части. «Двучленность», вообще свойственная пселловским характеристикам, проведена здесь в масштабе целого жизнеописания. Интересно, что. даже в панегирическом разделе биографии монументально-торжественный стиль смягчен легким ироническим подтекстом: отношение автора к герою в «Хронографии» лишено догматической однозначности.
Легкомысленный, и бездеятельный император
К этому типу героя в «Хронографии» можно отнести двух Константинов: Константина VIII и Константина IX Мономаха. О «диалектическом» характере большинства свойств первого из них говорилось выше. Этот император «нрава чрезвычайно мягкого», с «душой, склонной к любым удовольствиям», с «характером легкомысленным», «почти не занимающийся делами управления», превыше всего ценящий гастрономические радости и любовные утехи, «до безумия влюбленный в зрелища», страстный охотник.
Биография другого императора – Константина IX Мономаха – самая большая по объему и самая интересная по содержанию. Герой повествования выступает в разных ситуациях, обрисовывается с разных сторон, и, только рассмотрев образ во всех аспектах, можно вывести суждение о методах его изображения.
Константин IX Мономах
Государственная деятельность. Свое отношение к Константину Мономаху-монарху Пселл высказывает прямо и недвусмысленно: «Этот государь не постиг природы императорской власти, не понял, что она представляет собой служение на благо подданных, что она требует души, постоянно озабоченной тем, как лучше управлять делами. Напротив, он полагал, что власть означает избавление от трудов, исполнение желаний, ослабление напряжения» [20(1), с. 140.16 и сл.].
Мысль эта неоднократно в разных вариантах повторяется Пселлом («Овладев ромейским скипетром, самодержец решил дать себе отдых, как бы достигнув царской гавани после плавания в открытом море» [20 (II), с. 58.21]). Мероприятия внутренней и внешней политики Мономаха вызывают ироническое или отрицательное отношение писателя: Константин постоянно пытается переложить на чужие плечи бремя государственных забот; придя к власти, принялся за дела без должной силы и соблюдения осторожности, напротив, он прекраснодушно мечтает о «некоем новом счастии»; воплощая свои фантазии в жизнь, направо и налево раздает богатства и истощает государственную казну [20 (I), с. 132]. Даже серьезные опасности (например, восстание Маниака) не заставляют Мономаха отрешиться от легкомыслия. В результате – новые бедствия, обрушивающиеся на империю (20 (II), с. 8; ср. 20 (I), с. 141]. У Пселла нет сомнений: причина такого поведения – особенности «нрава» императора. «Он от природы, – утверждает писатель, – имел такой нрав и к тому же еще более развил его... Поскольку власть предоставляла для этого большие возможности» [20 (I), с. 140.28 и сл.].
Характер Мономаха. Страницы, посвященные описанию характера, принадлежат к числу наиболее впечатляющих в этой биографии. О нраве своего героя Пселл заговаривает уже на первых страницах жизнеописания. Мономах никогда не проявлял заносчивости, не бывал насупленным и надменным, напротив, с готовностью улыбался, сохранял на лице веселое выражение и обладал удивительным умением завоевывать сердца подданных [20 (I), с. 133 и сл.]. Все это, естественно, вызывает полное одобрение Пселла, но (мы уже убедились, какое огромное значение в характеристиках писателя имеет это «но») постепенно, в процессе дальнейшего повествования, едва уловимо для читателя, похвальные качества Мономаха переходят в свою противоположность. Веселость, замечает писатель, не покидала императора не только во время развлечений, но и в серьезных занятиях. Более того, с ним нельзя было заговорить о чем-нибудь серьезном, не предварив разговора какой-либо: шуткой [20, с. 134 и сл.].519 Пселл отмечает, что небрежение государственными делами было результатом «души легкомысленной и беспечной», и в конце концов, полемизируя с какими-то неизвестными нам оппонентами, категорически заявляет, что страсть императора к развлечениям чрезвычайно мешала исполнению государственных обязанностей [20 (II), с. 56].
Однако значительно интересней собственных оценок Пселла эпизоды, в которых легкомыслие и беспечность императора проявляются на деле. Такова, например, история стремительной придворной карьеры Романа Воилы. Судя по «Хронографии», развлечения Константина не отличались изысканностью или утонченностью. Ни музыка, ни танцы, ничто другое не доставляли Мономаху такого удовольствия, как чье-то неправильное произношение слов. Именно за эти «достоинства» и был возвышен «полунемой мерзавец» Роман, попавший в высшие придворные сферы прямо с «уличного перекрестка». Лестью и расчетливым угодничеством он постепенно подчиняет своему влиянию императора. Причем Констанстин, прекрасно понимая притворство Воилы, с удовольствием поддается обману [20 (II), с. 39]. Распоясавшийся фаворит подстраивает «шутки», безвкусие которых шокирует современного читателя не меньше, чем девять веков назад утонченного Пселла. По этому поводу писатель разражается сетованиями на жалкую участь придворных, вынужденных вслед за императором смеяться тогда, когда на глаза навертываются слезы (с. 40).
История с Романом Воилой кончается трагически-фарсовой сценой, когда плененный любовницей Константина фаворит готовит покушение на императора, а последний, вынужденный расследовать дело, больше гневается на доносчика, чем на виновного, при первых полуизвинениях прощает Воилу и даже обещает увенчать его диадемой и одеть в пурпурное платье, если тот согласится по-прежнему ласково смотреть на своего государя [20 (II), с. 44]. Невозможно определить, насколько соответствует действительности эта сцена, во всяком случае она великолепно рисует не только дворцовые нравы, но и характер жуира и раба собственных страстей Мономаха.
Импульсивность Мономаха, отсутствие чувства меры,520 последовательно, каждый раз с добавлением новых деталей раскрываются в ряде дальнейших сцен, самая образная из которых – эпизод строительства храма Св. Георгия [20 (II), с. 61.18 и сл.].
Рассказ о сооружении монастырей, приютов, церквей и т.п. принадлежит к числу традиционных в хронографическом жанре. Под пером Пселла он превращается в еще одно средство характеристики героя. Мономах без конца перестраивает храм, велит уничтожить уже сделанное, а на этом месте воздвигает еще более пышные сооружения. «Император парил душой в облаках, и все завершенное и уже заблиставшее красотой теряло для него всякий интерес. Лишь новые планы воспламеняли его и распаляли в нем любовь к неведомому» [20 (II), с. 63.28 и сл.].
Большое место среди «развлечений» императора занимают любовные истории, которые Пселл описывает с неожиданной для средневекового хрониста подробностью (впрочем, автор «Хронографии» отнюдь не был, по свидетельству его писем, равнодушен к этой сфере человеческой жизни). Уже само возвышение Мономах произошло за счет его «мужских» достоинств: приобретя богатство и знатность благодаря женитьбе, он вскоре очаровывает своим цветущим видом императрицу Зою и таким образом становится ромейским самодержцем.
Описание отношений Мономаха с первой его возлюбленной Склириной содержит все аксессуары, которые, начиная с античного романа, сопутствуют в литературе описаниям любовной страсти.521 Склирина следует за Константином в изгнание, любовники не могут жить друг без друга, их не пугают превратности судьбы, в бедствиях Склирина служит утешением возлюбленному и т.д. Взойдя на престол благодаря браку с Зоей, Константин смотрит на жену только «телесными очами», в то время как образ Склирины стоит перед «глазами его души» [20 (I), с. 142]. Как всегда, Мономах не соблюдает ни предосторожности, ни меры. Уже в первые дни после венчания убеждает он императрицу приблизить ко двору Склирину. История возвышения последней и открытой «любви втроем» описывается Пселлом как беспрецедентная и шокирующая. Многочисленные детали (императрица не решается войти в покои мужа, если тот принимает любовницу; придворные, видя пылкость Константина, стараются под разными предлогами покинуть помещение и т.д.) не только вводят в обстановку царского интима, но и характеризует самого Мономаха – человека, не умеющего и не желающего управлять своими страстями.
Смерть любовницы ненадолго оставляет Мономаха в одиночестве. Рассказу о новой страсти Мономаха Пселл предпосылает характеристику темперамента своего героя: «Императрица Зоя уже вышла из того возраста, чтобы иметь общение с мужем, в императоре бушевали страсти; а так как севаста (Склирина. – Я.Л.) скончалась, Константин, мечтая о любви, парил в фантазиях и странных видениях. По природе он был весьма склонен к любовным делам и не умел удовлетворять страсть простым общением, но приходил в волнение при (воспоминании о) прежних наслаждениях ложа и потому полюбил некую девушку...» [20 (II), с. 45.10 и сл.]. Эти слова могли бы дать пищу для фрейдистского истолкования личности Мономаха, однако и без соотнесения с теорией знаменитого австрийца герой Пселла предстает здесь своего рода эстетом любовного наслаждения, с навязчивыми и причудливыми эротическими эмоциями.
Новая любовь (на этот раз к юной аланке) внезапно и всецело овладевает Мономахом. В новой своей страсти Мономах настолько же безудержен, как и в истории со Склириной.
Мы отнесли Мономаха к категории «легкомысленных», «бездеятельных» монархов. Хотя это свойство действительно лейтмотив образа, сам герой в изображении Пселла слишком сложен и противоречив, для того чтобы его сущность можно было бы выразить одним или несколькими определениями. Даже основной черте – «легкомыслию» своего персонажа Пселл не дает однозначной оценки. В какой-то степени оно хорошо, поскольку является следствием столь ценимого писателем добродушия, но оно и плохо, так как приводит к небрежению государственными делами и скандальному поведению. Как бы пасуя перед сложностью своего героя, Пселл сознательно отказывается от общих однозначных оценок его самого и его деятельности.522 Грани этого образа нечетки и размыты. Но эта размытость – не следствие недостатка искусства, а, напротив, высокая его степень, когда сложность и противоречивость объекта автор стремится воспроизвести адекватными художественными средствами.
Император-лицемер
Лицемерие от века не без основания считалось классической «византийской» чертой. В творчестве Пселла оно достигает своего апогея и как бы «осознает само себя». Сам классический лицемер, Пселл неоднократно с отвращением пишет об этом свойстве. В «Хронографии» мы встречаем двух героев, которых с полным основанием можно отнести к типу лицемеров: Михаила V и Романа III Аргира.
Михаил V
Пятимесячному правлению Михаила V в «Хронографии» отведено непропорционально большое место, видимо, из-за драматических событий его царствования и той ненависти, которую питает Пселл к этому императору. Некоторые пассажи биографии напоминают традиционные характеристики узурпаторов, свойственные историографии предшествующих веков. Было бы, однако, несправедливо сводить образ Михаила к типу обычного «злодея на троне».
Уже первые описания (Михаил – тогда еще не император, а лишь предполагаемый преемник Михаила IV) содержат не только перечисление «злодейских свойств», но и указание на то основное качество, которое в дальнейшем станет лейтмотивом образа: «Как никто другой, умел этот человек под золой скрывать пламя (я имею в виду мерзкий характер под маской благомыслия), он лелеял чудовищные замыслы, не испытывал никакой благодарности к своим благодетелям... однако его лицемерие (προσποίησις) умело все это скрывать» [20(1), с. 70.13 и сл.].
Еще не вступив на престол, кесарь Михаил с наслаждением предвкушает момент, когда он расправится со своими доброжелателями (извечная страсть деспотов сводить счеты с друзьями не вызывает ни малейшего удивления писателя), и особенно с евнухом Иоанном, которому обязан более всего. Именно по отношению к нему Михаил ведет себя «наиболее лицемерно» [20 (I), с. 70.29]. Отношения этих людей становятся сложными. Иоанн – «более проницательный, чем Михаил лицемерный»,– знает об истинных намерениях будущего императора, но до поры до времени не выдает своего знания. В результате Михаил и Иоанн втайне злоумышляют друг против друга, но изображают доброе расположение, и хотя каждый думает, что его намерения неизвестны другому, оба хорошо понимают, чего хочет противник. С восшествием на престол Михаила эта драматическая ситуация получает дальнейшее развитие. В первое время молодой император дружелюбно и даже с некоторым подобострастием относится к Зое и Иоанну (как бы передразнивая своего героя, Пселл вводит в повествование прямую речь: от Михаила можно было постоянно слышать «моя госпожа», «императрица», «я буду ей рабом», «мой господин» и т.д.), однако вскоре он обнаруживает свои истинные намерения (с. 88).
Образ Михаила, казалось бы, совершенно ясен, тем не менее Пселл считает нужным еще раз дать ему – на этот раз прямую – характеристику: «В жизни своей этот человек был существом изменчивым, имел душу изворотливую и непостоянную, речь его была в противоречии с сердцем, одно у него было на уме, другое на языке... он мог вечером за одним столом пировать с тем, кого наутро решил подвергнуть жесточайшему наказанию» (20 (I), с. 90.17 и сл.]. Поражает та точность, с которой Пселл схватывает в образе своего героя «родовые» черты лицемерного деспота, с удивительной закономерностью проявляющиеся вне зависимости от места и времени: «Родство и, более того, кровная близость были для него детскими забавами. Михаила ничуть не тронуло бы, если бы всю его родню смыло одной волной. Он ревновал их не только к власти – это было бы еще понятно, – но к огню, к воздуху и вообще ко всему... Встречаясь с трудностями, он в речах и поступках проявлял себя человеком низменным, с душой раба, а если удача, хотя бы ненадолго, улыбалась ему, он немедленно менял декорации, сбрасывал притворную маску, гнев переполнял его и он принимался за свои страшные дела...» (с. 90.25).
Вся история кратковременного царствования Михаила в изображении Пселла – это история «классического деспота». Своевольное управление, введение неоправданных, с точки зрения писателя, новшеств, преследование чиновных и знатных, заискивание перед толпой и, наконец, изгнание императрицы Зои, согласно писателю, – следствие дурного нрава деспота и в то же время причина его гибели.
Заключительная сцена ослепления императора завершает его образ: император не находит в себе сил мужественно встретить испытания. Он рыдает, молит о пощаде, проявляя неблагородство и низменность своей натуры.
Образ Михаила – один из наиболее цельных и законченных в «Хронографии».
Роман III Аргир
В отличие от жизнеописания Михаила V биография другого «лицемера» – Романа Аргира начинается с характеристики, близкой к панегирической: «Этот муж был воспитан на эллинских науках, был приобщен к знаниям, которые доставляются наукой латинской, он обладал приятной речью, внушительным голосом, ростом героя и царственной внешностью» [20 (I), с. 32.21]. Но уже следующая фраза (это обычно для «двучленных» характеристик Пселла) нас настораживает: «В то же время, – продолжает писатель, – он воображал, что обладает знаниями большими, чем на самом деле». Это противоречие между претензиями и действительностью становится ключом к образу императора. Роман хочет подражать великим древним государям Марку Аврелию и Августу в занятиях науками и военном деле, но в последнем он был полным невеждой, науки же знал крайне поверхностно. Император, пишет Пселл, занимался философско-теологическими проблемами, однако это было маской и лицемерием (προσωπεῖον καὶ προσποίησις), а не выяснением и исследованием истины (с. 33). Да и вообще деятельность императора могла бы принести немалую пользу, если бы не представляла собой «воображение и лицемерие» (с. 34.4).
Итак, «лицемерие» (слово προσποίησις постоянно встречается в тексте биографии) – определяющая черта Романа. Однако между лицемерием Романа и лицемерием Михаила большая дистанция. Для Михаила V – это сознательно надетая маска, имеющая целью обман и мистификацию окружающих. Роман III притворяется перед самим собой. Его претензии находятся в постоянном противоречии с его возможностями, а жертвой этого противоречия прежде всего становится он сам: «Воображение и напряжение сверх меры души обманули его в важнейших делах» [20 (I), с. 33.10].
Основная часть биографии Романа – история постепенного превращения щедрого и даже расточительного государя в прижимистого «сборщика налогов», однако главная черта героя неизменно проявляется если не в прямых оценках, то в многочисленных образных деталях – косвенных характеристиках персонажа. Вот некоторые примеры.
Описывая вступление императора в Антиохию, Пселл замечает, что его въезд «скорее имел характер театрального зрелища, нежели боевого шествия, и потому не мог поразить воображение противника» [20 (I), с. 36.21 и сл.]. Театральность императорской процессии, естественно, соотносится в сознании читателя со свойственным герою стремлением к чисто внешней эффектности. Во время того же похода враги предлагают Роману мир, но он, «способный только на то, чтобы строить и готовить к бою отряды... и делать все то, что, как мы слышали, совершали знаменитый Траян и Адриан, а раньше – цезарь Август, а еще до него – Александр, сын Филиппа» (выделено нами. – Я.Л.), ни с чем отсылает обратно послов» (с. 37.2 и сл.). «Великие предки» фигурируют здесь, конечно, не случайно: авторская речь воспроизводит ход мысли героя, подражающего древним императорам. Вообще стремление «делать себя» под легендарных царей – характерная черта Романа.
Как и в биографии Константина Мономаха, традиционный эпизод строительства храма превращается у Пселла в средство характеристики: Роман возводит церковь, соревнуясь со знаменитым царем Соломоном и подражая самодержцу Юстиниану [20 (I), с. 41.9 и сл.]. Не благочестие, а стремление походить на властителей прошлого движет византийским императором. Сравни слова Пселла: «Предметом заботы этого императора было иметь вид благочестивого человека, и он действительно заботился о божественном, но притворства было больше, чем истинной веры, и казаться значило для него больше, чем быть» (с. 40.26 и сл.).
Нетрудно видеть, что Михаила V и Романа III объединяет лишь общность основного «родового» качества – лицемерия. В остальном это образы совершенно различные: у каждого из героев «свой», характерный именно для него тип лицемерия. Внимание писателя направлено не на общее, «родовое», а на частное, индивидуальное.
Император-«аладзон»
Роман IV Диоген
Роман Диоген – герой с четко выраженной доминантой характера. Уже в первых строках биографии говорится: «Нрав его иногда прямой, большей же частью лукавый и склонный к бахвальству (εἰρωνικὸς καὶ ἀλαζών)». Два последних определения вызывают ассоциации с классическими типами «аладзона» и «эйрона», хорошо известными со времен древнеаттической комедии и вошедшими в знаменитый реестр характеров Феофраста. «Ирония», однако, в ходе дальнейшего изложения больше не фигурирует, в то время как «наглое бахвальство» (ἀλαζονεία) становится ведущим свойством героя. Именно все возрастающее «бахвальство» заставляет Романа совершить три последовательных похода против сельджуков, которые приводят императора к катастрофе. Поскольку описание этих походов составляет сюжетную канву жизнеописания, то вся биография становится средством выявления ведущего качества персонажа. Весьма характерно для Пселла: «бахвальство» Романа раскрывается не только в прямых характеристиках, но и в постоянном противопоставлении претензий, кажущегося, видимого в императоре с реальными возможностями и результатами его усилий. Внешне серьезный (иногда даже торжественный, с гомеровскими цитатами) тон в ряде эпизодов служит контрастом ничтожности императорских успехов, порождая определенный комический эффект. Пселл рассказывает, например, о приготовлениях Романа к своему первому походу: «Император облачился в боевые доспехи из дворца, взял в левую руку щит, в правую – копье, “сбитое крепко гвоздями, двадцать два локтя длиною”. Щитом император рассчитывал преградить путь врагу, а копьем поразить его в бок. При виде этого остальные подняли боевой крик и рукоплескали, я же, догадываясь о том, что должно произойти, оставался мрачным» [20 (II), с. 158.23 и сл.]. Окончание же этого эпизода Пселл описывает следующим образом: «Император вернулся с видом победителя, но не привез с собой ни мидийской, ни персидской добычи, гордясь разве только тем, что воевал с врагом» (с. 159.8). Тем не менее этот поход становится для него «предлогом для бахвальства» (πρόφασις τῆς ἀλαζονείας). Аналогичным образом описываются и результаты второго похода: «Хотя тысячи наших воинов пали, все-таки мы взяли в плен двух или трех врагов и не были побеждены, и много было у нас разговоров по поводу победы над врагами» (с. 160.20).
Образ Романа Диогена лишен сложности и противоречивости, присущей большинству пселловских образов. Автор относится к своему герою со слишком большой неприязнью, чтобы копаться в психологических тонкостях. Вместе с тем Роман Диоген у Пселла – четко очерченный персонаж, никоим образом не напоминающий «злодея» допселловской хронографии. Особенности его изображения – наличие ярко выраженной «ведущей черты» характера и использование «непрямых» методов (определенный иронический подтекст) характеристики.
Женщины-императрицы
Императрица Зоя
Зоя, супруга трех государей, сама единодержавная правительница, фигурирует в нескольких книгах «Хронографии». Выйдя замуж в 50-летнем возрасте, она тщетно пытается зачать ребенка, теряет расположение супруга и начинает его ненавидеть, уязвленная в царской гордости и разочарованная в эротических надеждах, которые, совсем не по возрасту, поддерживала в ней изнеженная дворцовая жизнь [20 (I), с. 34]. Завидуя сестре Феодоре, она убеждает супруга постричь ее в монахини (с. 107).
Вновь «по страсти, а не по рассудку» выйдя замуж за Михаила IV, Зоя вторично терпит разочарование, поскольку ее новый царственный супруг не только не выказывал никакого расположения к ней, но, напротив, всячески уязвлял гордость своей благодетельницы. На этот раз Зоя кротко переносит дурное обхождение и готова простить своего гонителя. Внешняя кротость и «непротивление» отныне становятся характерной чертой стареющей императрицы. Получивший власть Михаил V относится к ней не лучше прежних государей, полностью разделяя ту удивительную ненависть, которую питали к Зое возведенные ею на престол императоры. Вскоре пожилая государыня вынуждена постричься в монастырь. Возвращенная в результате народного возмущения во дворец, она уже не рада счастливому повороту судьбы, не пользуется случаем отомстить Михаилу V и даже не находит слов для его осуждения [20 (I), с. 106]. После падения Михаила Зоя вместе с Феодорой берут власть в свои руки. Короткое царствование сестер дает Пселлу возможность произвести – совсем в античных традициях – сравнение, «синкрисис» этих двух сестер, о котором речь ниже.
Подпав под воздействие чар Константина Мономаха, Зоя вскоре отдает ему руку и самодержавную власть. Мономах, как и его предшественники, третирует жену, однако Зою уже ничто не трогает, и даже скандальная связь Константина со Склириной оставляет ее равнодушной: «Она не питала ревности, изнуренная многими бедами и войдя в тот возраст, которому не свойственны подобные страсти» [20 (I), с. 143.11 и сл.].
Все сказанное выше о Зое – фактически переложение нескольких пассажей из «Хронографии», в которых нет попытки дать законченную характеристику императрицы. Тем не менее ее образ проступает достаточно отчетливо. Чувственная, завистливая, постоянно уязвляемая в своем женском и царском достоинстве, при всем окружающем блеске одинокая женщина с возрастом перестает остро реагировать на постигающие ее удары судьбы. Зоя уже безразлична ко всему, кроме своего последнего старческого увлечения – приготовления ароматических смесей.
Образ Зои – пример характеристики «мимоходом», образец искусства Пселла обрисовать персонаж не с помощью прямого описания, а рядом удачно подобранных деталей.
Вместе с тем писатель считает нужным охарактеризовать свою героиню и специально. Первый раз он делает это в «синкрисисе», второй – в «заключительной характеристике», объединенной, по образцу античного elogium’a, с сообщением о смерти героини [20 (II), с. 48].
Зоя была не приспособлена к делам, пишет Пселл, и совершенно испорчена «императорским безвкусием» (ὑπὸ βασιλικῆς ἀπειροκαλίας – трудно придумать более смелое и «современное» определение, которым автор выражает всю меру своего презрения к царственной даме). «Если у нее и были какие-то душевные достоинства, то характер ее не сохранил их в чистоте, – продолжает писатель, – а, проявляя чаще, чем нужно, превратил из благородных в безвкусные. Не буду говорить о ее благочестии, не хочу обвинять за его избыток: в этой добродетели она была ни с кем не сравнима... Что же касается остальной жизни, то была она или простой и ослабленной, или тугой и натянутой (Пселл пользуется здесь скрытым сравнением с лирой. – Я.Л.). Оба эти состояния без всякой причины мгновенно сменяли друг друга...» [20 (II), с. 48.14 и сл.]. И наконец, последняя деталь, придающая образу фанатичной богомолки жутковатый оттенок: в молодости Зоя выражала недовольство по поводу того, что ее отец Константин VIII редко карает ослеплением. Только вмешательство самодержца спасало многих ее жертв (с. 49).
Заключительная характеристика, которую Пселл с присущим ему диалектизмом дает Зое в «Хронографии», позволяет сравнить образ императрицы с образом ее последнего супруга – Константина Мономаха.
Императрица Феодора
В сравнении двух царственных сестер Пселл отмечает индивидуальные особенности каждой из них (20 (I), с. 118–119]. Старшая (Зоя) питала в душе все новые замыслы, но была неразговорчива. Младшая (Феодора), напротив, была медлительна в своих планах, зато весьма многоречива. Старшая проявляла решительность в действиях, даже тогда, когда речь шла о жизни и смерти, младшая имела характер ровный и как бы «притупленный». Старшая была беспредельно щедра, младшая, наоборот, – чрезвычайно расчетлива. В «сравнении» обращает на себя внимание стремление писателя не сопоставлять отдельные «черты», а выявить тенденции характеров сестер: импульсивной, склонной к крайностям Зои и спокойной, «себе на уме», Феодоры.
Более подробное описание Феодоры дается в связи с ее вторым царствованием. Императрица «по-мужски», «открыто» берется за государственные дела – Пселл отмечает твердость голоса, которым Феодора выносит свои решения [20 (II), с. 72], непоколебимость ее желаний (с. 78) и т.д. Вместе с тем деятельность Феодоры вызывает явное неудовольствие писателя: она приближала к себе недостойных людей и, несмотря на благочестие, нередко преступала законы из-за любви к самодержавной власти (с. 79). Уже с нескрываемым раздражением пишет Пселл о фанатичных монахах («назиреях»), под сильное влияние которых подпала императрица, совершившая в результате ряд промахов (с. 80–81). Традиционная женская добродетель – благочестие – здесь, как и в образе Зои, превращается в свою противоположность.
В скупо очерченном образе Феодоры мы встречаемся с той же тенденцией к индивидуализации и «диалектизму», которая характерна для большинства персонажей «Хронографии».
Третья женщина «Хронографии» – императрица Евдокия – характерный пример эволюционирующего персонажа. Пселл говорит о скромности героини, которая постепенно «освобождается» от этого достоинства в связи с опасениями за судьбу сына.
Второстепенные персонажи
Иоанн Орфанотроф
Помимо императоров на страницах «Хронографии» выступает целый ряд героев всех званий и положений, от простых воинов до «первых министров». Одни из них только упоминаются, чаще всего в сопровождении краткой и традиционной характеристики, другие описываются подробней или даже обрисовываются с той тщательностью и психологическим проникновением, которые обычно отличают пселловское искусство.
Некоторые второстепенные персонажи по тонкости и мастерству изображения ничем не уступают основным героям «Хронографии». Это в первую очередь относится к описанию всесильного временщика, брата Михаила IV, Иоанна Орфанотрофа. Его характеристику Пселл стремится построить по принципу перечисления хороших и дурных свойств. Однако таланту Пселла органически противопоказано расчленение белого и черного, и образ Иоанна в действительности очень мало похож на «каталог черт».
«Умный, энергичный, трудолюбивый», Орфанотроф даже на празднествах и пирушках не забывал о делах и в самое неподходящее время появлялся в любой части города. И вот, в страхе перед ретивым чиновником, все «сжались, замкнулись в себе, жили каждый сам по себе и прекратили общение». Изменчивый душой, он приспособлялся к характеру собеседника. Если собеседник высказывал какую-нибудь полезную мысль, Иоанн делал вид, будто знает о ней, и даже порицал человека за нерасторопность, неумение применить ее. Тот уходил пристыженный, а Орфанотроф тут же претворял мысль в дело. Иоанн стремился жить с блеском и управлять по-царски, но врожденный нрав не позволял ему этого, «природа» его не могла отказаться от свойственного ей чревоугодия. Напиваясь, он творил всякие бесчинства. Однако и пьяный, он не забывал о государственных заботах и сохранял грозное выражение лица, дабы удержать людей от дурных поступков. Во время пирушек Иоанн внимательно следил за поведением собутыльников и потом привлекал их к ответу за неосторожные речи и дела. Поэтому пьяного его боялись больше, чем трезвого. «Был этот человек средоточием различных качеств; уже давно приняв монашество, он и во сне не помышлял о монашеском благообразии, тем не менее изображал, будто выполняет все положенное монахам свыше и яро презирал ведущих распущенную жизнь. В то же время он враждебно относился ко всякому, кто жил благообразно и в добродетели или украшал душу светскими науками, и всеми способами унижал предмет их рвения. Так нелепо вел он себя во всем...» [20 (I), с. 60.27 и сл.].
Неоднократно отмечавшийся нами «диалектизм» пселловского метода в изображении Орфанотрофа достигает своего апогея. За каждым утверждением следует отрицание или ограничение, за каждой тезой – антитеза. Обычная двучленность характеристики превращается здесь уже в «многочленность» (вспомним последнюю, приведенную выше цитату: Иоанн – монах, но не благочестив, тем не менее порицает нечестивцев, а к благочестивым людям враждебен). Мысль автора, как бы следуя и «сопереживая» персонажу (пользуемся выражением самого Пселла), противоречит самой себе и вместе с тем собственной противоречивостью создает сложный образ героя.
Иоанн Орфанотроф в «Хронографии» – пожалуй, лучшее в среднегреческой литературе выражение духа «византинизма» (в трафаретном значении слова), который надолго пережил саму Византию. Умный, энергичный, со сладкой улыбкой на устах и злобой в сердце, растленный, но изображающий благочиние, третирующий всех, чьи интересы лежат в сколько-нибудь возвышенной сфере, – такой персонаж мог бы занять место среди «вечных» литературных образов, не затеряйся он на страницах пселловских мемуаров.
* * *
Приступая к рассмотрению системы образов «Хронографии», мы, исходя из композиции жизнеописаний, определили метод Пселла как дедуктивный – соответствующий средневековому нормативному мышлению. Однако конкретный анализ привел нас к противоположным выводам. Основная тенденция Пселла состоит не в подведении индивидуального и конкретного под общее и абстрактное, а, напротив, в максимально возможной для того этапа литературного развития индивидуализации.
Можно говорить и о большем: о появлении в историографическом жанре принципиально нового способа организации образа.
Исторический или мнимо исторический герой в византийской литературе был предметом более или менее детальной характеристики в трех жанрах: «похвальном слове» (или его антиподе «поношении» – «псогосе»), агиографии и историографии. Их образы, говорили мы, не представляли собой замкнутой и внутренне организованной системы. Они или разбивались на произвольное число» «добродетелей» (в энкомиях), или представляли собой одну-единственную добродетель, иллюстрируемую неопределенным и ничем не ограниченным числом эпизодов (в житиях, мы отвлекаемся сейчас от возможных вариантов).523 Что касается историографических произведений, то стиль характеристики императоров (если она вообще в них давалась) зависел от отношения писателя к изображаемом» лицу. Характеристика могла строиться по принципам похвального слова, если автор хотел прославить своего героя (например, изображение Никифора III Вотаниата, Исаака I Комнина, Романа IV Диогена у Михаила Атталиата), могла превращаться в «поношение» – «псогос» (например, изображения императоров-икооноборцев у ряда хронистов), но могла и претендовать на определенную» объективность, если отношение историка к герою не было однозначным. Так, император Константин X Дука у Атталиата радеет о пополнении казны и о правосудии, однако мало заботится о военных успехах империи, это милостивый, благочестивый и щедрый царь, тем не менее благодетельствует он лишь немногих избранных, и его политика оказалась причиной упадка государства, хотя вину скорее нужно возлагать не на самого царя, а на его дурных советников [50, с. 76]. Этот портрет Константина X, как и ряда других героев историографических сочинений, далек от энкомиастического стандарта, но это портрет функциональный, в котором отмечаются лишь свойства и качества мужа государственного, так или иначе влияющие на политику и вообще на исторические события. Во всех случаях связь между характеристикой героя и историческим повествованием поверхностна. Портрет императора или предшествует рассказу, или его заключает, или, наконец, на манер отступления, вставлен в середину. Его почти всегда можно безболезненно изъять, не нарушив структуры рассказа.
Совершенно иной тип построения у Пселла. Черты его героев – не равноправные детали в мозаике «добродетелей» или «пороков», а взаимосвязанные элементы единой картины, группирующиеся в сложных взаимоотношениях вокруг одного или нескольких свойств, составляющих сердцевину образа. Образ в «Хронографии» – структурное единство, и изъятие любого из его элементов (в отличие от агиографии или энкомия) наносит непоправимый ущерб целому. Изъятие самого образа героя в «Хронографии» (в отличие от прочих византийских историографических произведений) – почти такая же невозможная операция, как, скажем, изъятие из «Войны и мира» образов Андрея Болконского, Пьера Безухова или Наташи Ростовой. Именно это и создает ощущение удивительной «современности» «Хронографии».
Находка нового текста части «Хронографии», известной до того времени только по одной рукописи, позволила поднять текстологические проблемы, связанные с «Хронографией», уже на новой основе, а также возобновить дискуссию о времени написания этого произведения. Чтения Синайской рукописи были учтены в итальянском издании «Хронографии» 1984г. (Psello Michele, 1984). В свою очередь подготовка и публикация этого издания инициировали появление ряда новых исследований (S. Ronchey, 1985; S. Ronchey, 1988; J.-L. van Dieten, 1985. U. Albini, 1984; U. Albini, 1985; U. Albini, 1988; U. Albini, 1989; K. Snipes, 1989. A. Karpozilos, 1988; A. Dyck, 1994).
Признанием художественных достоинств и исторической значимости «Хронографии» безусловно является публикация переводов этого сочинения на новые языки: за истекшее двадцатилетие «Хронография» издавалась, помимо уже упомянутого итальянского перевода, дважды (в разных переводах!) по-новогречески, она вышла по-польски и по-шведски. Вряд ли на долю какого-нибудь другого византийского сочинения выпал подобный «издательский успех» в Новое время! В то же время исследований, посвященных «Хронографии» как художественному феномену, практически нет. Исследователи чаще всего ограничивались констатацией художественных достоинств и уникального характера сочинения Пселла, но редко затрудняли себя более детальными рассуждениями о природе этого произведения.524 Некоторое исключение представляет П. Карелос, исследующий способ, каким историограф включал в свое сочинение цитаты и реминисценции из античных авторов, и отмечающий уникальную образованность писателя и его владение языком. Ученый утверждает, что у Пселла – автора «Хронографии», не было предшественников и не нашлось продолжателей в византийской литературе (Р. Carelos, 1991). Литературным реминисценциям в «Хронографии» посвящена статья St. Linnér, 1981.
Признает уникальность Пселла в «Хронографии» и Р. Макридис, хотя и заканчивает свои рассуждения достаточно парадоксальным образом: «Да, Пселл изменил тот метод, которым писалась история, однако сделал это, как я полагаю, разрушительным способом» (R. Macrides, 1996, р. 215).
Насколько действительно «неожиданным» было появление пселловской «Хронографии» в византийской литературе? Вопрос этот, необычайно интересен, особенно в связи с проблемой преемственности в среднегреческой словесности (если его, конечно, рассматривать не в традиционном аспекте филиации текстов, а в более широком историко-литературном контексте). Занимаясь все эти годы проблемами допселловской историографии, я хотя и не отказался от мысли о совершенно особом месте «Хронографии» в ряду византийских исторических сочинений, тем не менее склонен рассматривать ныне произведение Пселла как итог и логическое завершение многовекового пути, пройденного жанром византийского историописания (J. Ljubarskij, 1992–2, перепечатано в: Я. Любарский, 1999, с. 318–337).>
Глава 7-я. Как выглядели герои Пселла
Рассуждая об образах Пселла, мы оставили без внимания их внешнюю характеристику. Между тем портреты героев разработаны писателем подчас весьма подробно.
Проблема литературного портрета может показаться частной и необязательной, тем не менее интересует она нас не только сама по себе, но и потому, что в способе изображения внешности литературных персонажей наглядно и зримо (почти в буквальном смысле слова) проявляются общие художественные принципы автора.525
В некоторых случаях, приступая к описанию внешности своих героев, Пселл считает нужным оговориться. «Пусть никто не обвиняет меня и не думает, что я позорю философию, если решаюсь восхищаться красотой тела... Если Священное Писание и не ценит телесную красоту, то оно не отвергает природу саму по себе, а лишь для того, чтобы, восхищаясь ею, мы не чуждались высшего. Если смотреть на материальный мир нематериальным взором и испытывать к нему пристрастие, лишенное страсти, то это не только не предосудительно, но и чрезвычайно похвально» [16 (I), с.149.16 и сл.]. Пселл предупреждает здесь нападки религиозных фанатиков: «философия», позорить которую не хочет писатель,– система религиозно-аскетических взглядов монахов и монашествующих византийцев. Конкретность выпада становится совершенно очевидной из другого пассажа: «Я знаю многих людей из числа строго монашествующих (так описательно мы переводим греч. τῶν εἰς ἄκρον φιλοσοφησάντων – Я.Л.), которые не упоминают о телесной красоте и не считают возможным хвалить за нее людей, прославляя их за достоинства более значительные и высокие: твердость ума... душевное благородство...» [I (IV), с. 308.12 и сл.]. Сам принявший монашество, Пселл испытывает некоторое неудобство, когда сталкивается с необходимостью описать внешность. Впрочем, он быстро справляется со своим смущением и преподносит читателю портреты персонажей. В колебаниях Пселла нет ничего необычного. Вопрос об отношении к человеческому телу, особенно красивому, всегда в Средние века разделял сторонников христианско-аскетического и «гуманистического» мировоззрений. Отражение этих споров мы находим в сочинениях Пселла, который сам явно на стороне «гуманистов».
«Гуманизм» писателя носит ярко выраженную христианскую окраску: телесная красота, заявляет он, по своей ценности не идет ни в какое сравнение с душевными добродетелями, хотя в соревновании одинаково добродетельных людей красивый обладает очевидными преимуществами [1 (IV), с. 308]. Некоторые герои писателя не только не культивируют, но, напротив, уничтожают свою красоту, расцветающую помимо их воли (кесариса Ирина [16 (I), с. 167], мать Пселла [1 (V), с. 7], мать Михаила Кирулария [1 (IV), с. 307]). Внешность человека важна для Пселла не сама по себе, а как выражение его внутреннего содержания. «Я восхищаюсь, – пишет Пселл о физиогномистах, – знатоками этого рода философии, потому что они уподобляют тело душе, сопоставляют его с душой. Благодаря этому они понимают, что означает ее (речь идет о кесарисе Ирине. – Я.Л.) внешний вид, и по внешности умеют распознавать суть, так что неподвижные глаза свидетельствуют об одном нраве, подвижные и живые – о другом» [16 (I), с. 162].
Связь между «внешним» и «внутренним» устанавливается, как правило, прямая и механическая. Вид героя непосредственно свидетельствует о его сущности (например, у Константина Лихуда [1 (IV), с. 391], Константина Дуки [16 (II), с. 178]). Помимо «зеркала души» – глаз, основную роль играют брови: прямые свидетельствуют о мягком и даже женственном нраве, высокие, изогнутые – о суровости или наглости [1 (V), с. 20; 16 (I), с. 22].
Портрет героя был непременным компонентом для ряда античных и зависящих от них ранневизантийских жанров. В дальнейшем, в связи с христианизацией и спиритуализацией литературы, он почти полностью исчезает из произведений византийской словесности. Напротив, его реставрация в X–XI вв. (в «Дигенисе Акрите», у Льва Диакона) явилась, видимо, следствием общего возрождения античных художественных норм.
Пселл, примыкая к теоретикам второй софистики, считает описания внешности обязательной составной частью энкомия.526 Скорее всего, именно из ораторских сочинений вместе с другими элементами риторики проникли эти описания и в «Хронографию». Своим построением стандартный пселловский портрет напоминает структуру образов риторических произведений писателя и представляет своеобразную «сборно-разборную конструкцию». Взор автора как бы скользит – чаще всего сверху вниз – по предмету изображения, фиксируя отдельные детали, каждая из которых без труда может быть исключена или заменена другой. Именно это позволяет составить нечто вроде «инвентарной описи» элементов женского и мужского портретов. Общими для того и другого являются: голова, лицо, волосы, брови, глаза, нос, рот, руки, пальцы, цвет кожи, рост, голос, речь. В женском портрете встречаются, кроме того, щеки, зубы, соски, колени, лодыжки и др.
Из двенадцати учтенных нами здесь портретов527 описание глаз встречается в десяти случаях, роста – в шести, бровей, волос, цвета кожи – в пяти, головы, лица – в чертырех. Остальные элементы упоминаются реже.
Поддаются учету не только детали, но и примерный круг свойств, которые им чаще всего приписываются или отсутствие которых отмечается. Глаза – большие (Стилиана, Зоя, младенец Константин), проницательные, подвижные (мать, Ирина, внук). Волосы – светлые, золотистые, огненные (Стилиана, Зоя, внук, младенец Константин), курчавые (Стилиана, внук). Брови – прямые или изогнутые (Стилиана, отец, Василий II, младенец Константин)
Нос – прямой или с горбинкой (Стилиана, Зоя, младенец Константин). Голова или лицо – круглые (Стилиана, внук, Василий II, младенец Константин). Рост – большой (Зоя, Ирина, Феодора, отец). Цвет кожи – белый, блестящий (Стилиана, Зоя, мать, аланка, Константин Мономах).
Не станем продолжать этого реестра. Уже из приведенной его. части видно: ни сами элементы портрета, ни их характеристика не являются изобретением Пселла или какого-нибудь иного византийского писателя: то и другое Gemeingut античного литературного портрета, возникновение которого следует отнести еще к Гомеру, функционирование – ко всему периоду классической древности.528 Можно утверждать и большее: основные элементы внешности пселловского героя совпадают с деталями портрета средневековых западных писателей. В этом нет ничего удивительного – классические греческие нормы через посредство латинской литературы утвердились на Западе [см. 288]. Античное происхождение портрета подтверждает и система сравнений и метафор, используемых Пселлом при описании внешности: белоснежная кожа, глаза – звезды, фигура, подобная кипарису, лицо – только что распустившийся бутон, щеки – розовый луг – все это хорошо известный арсенал древних изобразительных средств, которые ныне нельзя воспринять иначе, как поэтические трюизмы. Сюда же можно отнести изображение красоты через действие, которое она производит на смотрящего, и т. д.
«Универсальность» и длительная традиция элементов внешней характеристики персонажей, казалось бы, исключают возможность более или менее точно возвести пселловские описания к какому-либо образцу. Такого образца не существует и в действительности, однако структура пселловского (а возможно, и вообще византийского) портрета более всего напоминает риторическую экфразу, нашедшую отражение в позднеантичном романе. Именно роман, вобравший в себя большинство традиционных элементов, впервые дает описание внешности как законченного целого [286, с. 395 и сл.]. Возможность прямого влияния романа на Пселла никак нельзя исключить, прежде всего потому, что Пселл хорошо знал и высоко ценил этот популярный в Византии античный жанр. С некоторой осторожностью можно даже говорить о прямом заимствовании византийским писателем деталей. О дочери Стилиане Пселл пишет: τοὺς μέντοι μαστοὺς εἶχεν… μικρὸν ἢ οὐδὲν προκύπτειν δυναμένους. У Ахилла Татия мы встречаем при изображении Европы: μαζοὶ τῶν στέρνων ἠρέμα προκύπτοντες (Ach. Tat., I, 1). О том, что эта деталь не осталась незамеченной византийцами, свидетельствует ее появление в «Дигенисе Акрите» [40, VI. 783]. Не станем приводить других соответствий: в большинстве своем они составляют часть общего стандарта и потому не могут служить доказательствами.529
Структурное сходство не скрывает, а, напротив, оттеняет отличие пселловского (в значительной мере и вообще византийского) портрета от античных риторических описаний. Прежде всего внешность у византийского писателя изображена, как правило, много подробней, чем в любой античной экфразе. «Портрет-гигант» дочери Пселла Стилианы состоит из 21 элемента и занимает 175 строк, современного издания. Портреты Василия II в «Хронографии» соответственно – 9 и 40, Константина (сына Михаила VII) – 6 и 14. и т. д. Количество элементов и объем других описаний меньше, однако в большинстве случаев Пселл, как и обычно средневековые художники, в принципе стремится к исчерпывающему изображению, не оставляющему места для воображения читателя. Достигается это не только умножением элементов, но и максимальной детализированностью каждого из них. Так, например, описание лишь бровей Стилианы занимает более 800 печатных знаков! [1 (V),. с. 68–69].
Подобные скрупулезные описания вызывали раздражение современных критиков, не без основания считавших ряд пселловских портретов тяжелыми, многословными и скорее напоминающими анатомический трактат, нежели литературное изображение.
Действительно, современный читатель должен сделать определенное эмоциональное усилие, чтобы эстетически воспринять внешнюю характеристику большинства героев Пселла. Следует, однако, иметь в виду, что эти описания – проявление и развитие одной из тенденций среднегреческой литературы. Византийский литературный портрет, как и вообще любая экфраза в Средневековье, становятся все подробнее и «тяжелее». В этом легко убедиться, сравнивая хотя бы внешние характеристики персонажей Евмафия Макремволита и Ахилла Татия, связанные между собой, генетически (например, Eust. Macremb. [III. 6=Ach. Tat., 1.4; ср. у Поляковой [103, с. 128]).
Процесс восприятия и в то же время расширения и «усугубления» хорошо известных в античности элементов внешнего портрета легко прослеживается на изображении Пселлом цвета. Историки эстетики неоднократно отмечали «слепоту» древних в отношении цвета. Весьма ограниченная палитра красок и у византийцев, в частности у Пселла. Глаза героев писателя светлые (редко голубые), брови – чертные, кожа – белая, с румянцем, волосы – русые, золотистые, огненные и т.д. Как правило, Пселл не выходит за пределы этого набора, хотя подчас (в стиле своих описаний) старается детализировать колорит. Вот как характеризует он, например, цвет волос дочери Стилианы: волосы, ниспадающие на спину, были «плотного русого цвета с небольшим золотистым оттенком», волосы же, опускающиеся на лоб, – «не совсем русые, но и не слишком темные, имели светлый оттенок и скорее были похожи на золотистые...» [1 (V), с. 71]. Пселл стремится как можно точнее передать оттенки и в то же время колеблется лишь между двумя традиционными определениями: χρυσός и ξανθός. Здесь метод писателя можно сравнить с приемами византийской книжной миниатюры, авторам которых удавалось подчас воспроизвести тончайшие оттенки одного и того же цвета.
Детали «сборно-разборной конструкции» пселловского портрета, как и ἀρεταί энкомиастических образов, свободно нанизываются на нить повествования и редко имеют какую-либо четко выраженную связь с соседними элементами. Связь эта чаще всего сводится к цветовому контрасту (белое и черное, белое и красное). Черные брови оттеняют белизну кожи, румянец или красные губы подчеркивают белый цвет лица и т.д. Этот заимствованный из античности и уже успевший формализоваться прием в некоторых случаях создает эффектный цветовой образ в портрете. Например, Константина Мономаха в «Хронографии»: «Каждый из его членов природа окрасила в нужный цвет... голову – в огненно-рыжий, а грудь, живот до ног и спину, соблюдая меру, наполнила чистой белизной. Тот, кому приходилось видеть его вблизи, когда был он еще во цвете сил и члены его еще не ослабли, сравнивал его голову, сверкающую лучами волос, с солнцем, а остальное тело – с чистейшим и прозрачным льдом» [20 (II), с. 31.6].
Однако помимо цветового контраста, между элементами портрета почти всегда существует и другая, более универсальная связь – соотношение симметрии и гармонии (συμμετρία, ἁρμονία). Оба эти слова и их производные, особенно первое, чаще всего встречаются во внешних характеристиках персонажей. В многократно уже упомянутом портрете Стилианы эти понятия применяются в отношении к бровям, ноздрям, рту, рукам, коленям – мы не включаем сюда случаи, когда Пселл пользуется близкими определениями, например, «соответствие» (ἀναλογία, ὁμολογία и др.). То же самое и в других портретах:
Константина Мономаха природа сотворила, «строго соблюдая пропорции» [20 (II), с. 30.7], руки и особенно пальцы его отличались симметрией. Красота матери Пселла заключена «в симметрии членов» [1 (V), с. 6] и т.п. Напротив, лицо Феодоры «несоразмерно с фигурой» [20 (I), с. 120.18]. Весьма характерно в этом отношении описание внешности патрикия Иоанна [16 (I), с. 150]. Почти целиком оно состоит из восторгов по поводу «гармонии» и «соразмерности» членов.
Хорошо известно, что эстетические категории «симметрии» и «гармонии» составляют наиболее существенную часть общего понятия «красоты» в античной эстетике [см. 117, с. 19 и сл.]. Интересно, однако, что в античных литературных описаниях внешности «симметрия» и «гармония» почти никогда не фигурируют. Это вовсе не означает, что данные категории неизвестны древним писателям, скорее они молчаливо предпосланы портретам, как заметил это в применении к роману О. Шиссель [286, с. 395]. Напротив, у Пселла, как, впрочем, и у некоторых других византийских авторов, понятия «гармония» и «симметрия» повторяются с необыкновенной назойливостью и приобретают почти универсальное значение.
Симметрия и гармония тесно связаны с другой категорией античной эстетики, также нашедшей широкое применение у византийцев, и в частности у Пселла, – «мерой» (τὸ μέτρον) и близкими ей – «ритмом», «уравновешенностью» (ῥυθμός, εὐρυθμία) [см. 90, с. 13 и сл.]. Если первые два понятия касаются скорее соотношения между элементами портрета, то последние выражают внутреннее качество той или иной детали или облика в целом. И тут примеры могут быть весьма многочисленны. Описание безобразной внешности ненавистного ему священника [16 (I), с. 67] Пселл начинает риторическим вопросом: «Может быть, внешность его была достойной (μέτριος) и благообразной (εὐπρεπής)?» Следующая затем экфраза должна полностью опровергнуть это предположение. «Мера» здесь синоним «достойной красоты».
«Уравновешенность», внутренний «ритм» – компонент внешности многих идеальных персонажей Пселла.530 Несколько упрощая смысл многозначного термина, можно сказать, что «мера» в эстетических теориях древних – середина между крайностями. Любая крайность плоха, в то время как середина между ними – «мера» прекрасна. Представление это выражается Пселлом не только прямо, но и косвенно в самой структуре портрета и даже способе построения фраз. «Брови у нее (Стилианы. – Я.Л. [1 (V), с. 69]) были не слишком изогнутыми, но и не совершенно прямыми: и то и другое нарушает меру». Это – один из штампов пселловских описаний. Писатель называет не свойство объекта, а те крайности, между которыми оно находится и которых оно избегает.531 Повторение подобных конструкций создает впечатление уравновешенности, «внутренней меры», свойственных предмету изображения. В этом отношении особенности литературного портрета – проявление общих принципов византийской эстетики с ее «математическим» подходом к прекрасному, предполагающему «не только точную симметрию частей, но и эвритмию и уравновешенность движения» [247, с. 23 и сл.].
Итак, все отличия пселловского портрета от античного, о которых мы говорили до сих пор, при ближайшем рассмотрении оказываются не столько отличиями, сколько развитием и доведением до предела античных приемов. Некогда живые методы изображения и характеристики внешности «застывают» и «окостеневают», как окостеневают и застывают в византийской эстетике и многие другие античные формы. Вместе с «окостенением» приемов становится неподвижным и как бы застывает сам портрет. Это, однако, не результат падения мастерства, а сознательная тенденция, отвечающая закономерностям византийского мироощущения и художественного вкуса: все преходящее непременно должно соотноситься с вечным, подвижное – с неизменным.
Большинство приемов византийского писателя служит этой единой цели. Вот характерный пример: сравнение героя со «статуей» (ἄγαλμα). Впервые образ этот встречается у Сафо, затем появляется в романе (Chariton, I, 1; Heliod., X, 9; Ach. Tat., Ill, 7; ср. Anthol. Palat., X, 9), у Пселла он становится компонентом многих портретов. Рост патрикия Иоанна, пишет Пселл, был таким, какой придавал статуям своих героев Дедал [16 (I), с. 150.10]. Константин Мономах, по Пселлу, – «статуя красоты» [20 (II), с. 30.6].
Дважды сравнивается со статуей и Константин Лихуд [1 (IV), с. 391.10, 397.19]. То же сравнение употреблено в описаниях Склирины [16 (I), с. 191.1], Стилианы [1 (V), с. 72.12] и Василия II [20 (1), с. 23.5]. Можно предположить, что в ряде из этих случаев слово ἄγαλμα употреблено не в значении «статуя», а в более общем – «образ», зафиксированном уже у Платона [1 (V), с. 521.22]. В обоих случаях, однако, живое и движущееся соотносится с неподвижным, застывшим и нормативным. Интересно в этой связи, что иногда Пселл в описаниях портрета прибегает к лексике, заимствованной из области ваяния, как бы поддерживая этим ассоциации со статуей. Так, о Константине Мономахе он пишет: «Природа изваяла и отполировала его, можно сказать искусно вырезала для него черты, украсив его со всем свойственным ей искусством» [20 (II), с. 30.28 и сл.]. В похожих выражениях говорится и о Михаиле Кируларии [1 (IV), с. 309.11 и сл.].
Своеобразный парадокс: античные и византийские эпиграмматисты (в том числе и современник Пселла – Христофор Митиленский) постоянно сравнивают восхищающие их скульптурные изваяния с живыми людьми, а писатель, рисующий человека, сопоставляет своего идеального героя со статуей. Помимо ощущения неподвижности прямое или скрытое сравнение со статуей естественно должно натолкнуть на мысль о нормативности, идеальном характере свойств персонажа. Нормативность, вообще свойственная византийской эстетике, находит не только косвенное, но и прямое выражение в пселловских портретах. «Природа, – пишет Пселл о кесарисе Ирине (мы уже цитировали это место), – создала ее в точном соответствии с каноном и ритмом» [16 (I), с. 167.6 и сл.]. «Их рост, – замечает писатель об ивирийских воинах, – как бы соответствовал канону» [20 (I), с. 10.15]. Канон здесь – некая идеальная мера, приближение к которой определяет эстетическую ценность человеческого тела.
Вряд ли можно говорить о существовании в Византии каких-то точно установленных стандартов идеальной красоты, хотя в практике византийского двора и были, видимо, определенные нормативы, удовлетворять которым должна была, например, невеста императора.532 Тем не менее византийский автор претендует на знание того, каким должно быть человеческое тело, отсюда несколько раз встречающиеся у Пселла в портретах выражения типа: «как нужно...», «где подобает...».
Итак, статичность, уравновешенность, внутренняя мера и нормативность, как и вообще в эстетике византийцев, оказываются главными чертами портретов героев Пселла. Характерно, что динамика и отсутствие «меры» свойственно только портретам отрицательных персонажей, весьма немногочисленным у писателя. Портрет ненавистного автору священника рисуется Пселлом в следующих выражениях: «Он без всякой нужды выворачивает губы то вправо, то вдруг влево, часто строит одну и ту же гримасу. Он вращает глазами, презрительно и нагло хмыкает носом, мотает головой, подергивает плечами, двигает руками и то хватается за шею, то обеими руками скребет себя по животу, то гладит себя по бедрам или делает нечто еще более несуразное...» [16 (I), с. 67.23 и сл.].
Место спокойного величия идеальных героев533 занимает здесь непрерывное суетливое движение отвратительного автору персонажа. «В глазах византийца, – пишет В. Н. Лазарев, – человек был неподвижен тогда, когда он был преисполнен сверхчеловеческим, божественным содержанием, когда он так или иначе включался в покой божественной жизни. Наоборот, человек в состоянии безблагодатном или доблагодатном, человек еще не “успокоившийся” в Боге или просто не достигший цели своего жизненного пути, изображался обыкновенно крайне подвижным, полным нервного напряжения. [83, с. 33]
Принципы создания внешнего портрета у Пселла можно сопоставить с методами анонимного автора «Христа страстотерпца», который, используя стихи античной трагедии, написал христианскую и по содержанию и по форме необыкновенно статичную драму [см. 61, с. 99]. Однако эта аналогия неполная. Было бы неверно уподоблять Пселла средневековым зодчим, использующим для строительства христианских храмов камни языческих капищ. Византийскому писателю духовно близок древний идеал калокагатии, а в некоторых случаях и языческий сенсуализм. Вопреки византийским канонам Пселл рисует обнаженное тело, описывая такие его части, которые имеют наименьшее отношение к духовной природе человека. Так, писатель не забывает отметить, что «все тело Зои сверкало белизной» [20(1), с. 120.10], что чистой белизной отличались «грудь, живот до ног и спина» Константина Мономаха [20 (II), с. 31.7 и сл.] и т. д.
Однако наиболее показательно в этом отношении изображение дочери Стилианы. Соски, бедра, голени, лодыжки Стилианы описываются с не меньшей подробностью и восхищением, чем брови, глаза или волосы («и лодыжки ее не были лишены прелести, белоснежные. сверкающие, как молния, они заставляли смотрящего цепенеть и в изумлении застыть на месте» и т.д. [1 (V), с. 72.16 и сл.]. В античной поэзии только анакреонтические поэты и некоторые поздние эпиграмматисты осмеливались касаться таких деталей. Для создания нужного впечатления Пселл мобилизует весь арсенал средств античной эротической поэзии, как всегда утрируя и детализируя описания. Знаменательно, что описание бедер дочери Пселл завершает сравнением ее со статуей Афродиты Книдской, с которой «...как рассказывается в мифе, хотел сочетаться любовью некий человек, плененный красотой статуи». Сравнение с богиней – античный топос. Характерно, однако, что в древнем романе в трех случаях девушка сопоставляется с Артемидой и только в одном – с Афродитой. Пселл выбирает последнее сравнение и к тому же усиливает его эротизм упоминанием о сексуальных эмоциях в связи со статуей. Однако античная образность кажется византийскому писателю недостаточной, и в поисках изобразительных средств он обращается к библейской «Песне песней». Дважды Пселл непосредственно ссылается на песню царя Соломона – говоря об алых устах Стилианы и сравнивая ее голову с башней Давида [1 (V), с. 70.6; 71.4; ср. «Песня песней», IV, 3]. Важнее, однако, что «Песня песней» как бы находится «в подтексте» в некоторых частях портрета. Писатель приводит библейское сравнение с гранатовым плодом:... δίκην ῥοιᾶς λεπύρων [1 (V), с. 69.19]; ср. ὡς λέπυρον («Песня песней», IV, 3). Для характеристики μαστοί Пселл пользуется эпитетами ἄωρος («несозревший») и ὀμφακίας («кислый», «неспелый»). Второй из них обычно относится к винограду. Не навеян ли он строчками из «Песни песней» (VII, 8): «И соски твои будут как виноградные ягоды»?
В еще более глубокий подтекст запрятаны ассоциации с «Песней», касающиеся уже не словесных соответствий, а совпадения тона обоих произведений. Главное здесь – сопоставление женского тела с буйной природной растительностью: «Волосы ее, – пишет Пселл, – ниспадали с головы до ног и были как налитые колосья, взращенные на тучной, изобилующей источниками ниве» [1 (V), с. 71.8 и сл.]. Пальцы дочери сравниваются с молодыми побегами (там же) и т.д. Разумеется, между рационалистическим в своей основе, непомерно раздутым описанием Стилианы и высокой поэзией «Песни песней» – огромная дистанция. Тем не менее портрет Стилианы было бы неверно считать только плодом византийского риторического педантизма.
Чувственность, обычно глубоко скрытая под покровом официального византийского аскетизма, парадоксальным образом проявляется в описании умершей дочери.534 Эротизм в сочетании с миниатюрной выписанностью деталей и доведенным до предела риторическим «обилием» делают изображение Стилианы в своем роде весьма примечательным литературным портретом.
До сих пор, рассматривая портреты персонажей Пселла, мы не принимали во внимание жанр сочинений, в которых они содержатся. Сама возможность такого недифференцированного анализа – свидетельство тождества общих принципов, на которых строятся внешние характеристики героев «Хронографии», энкомиев и монодий. Если стиль византийского внешнего портрета с его неподвижностью, уравновешенностью и нормативностью вполне аналогичен идеализирующей манере энкомия и монодий, то с художественными методами «Хронографии» он приходит в явное противоречие. Герой «Хронографии», как правило, индивидуален, изменчив, противоречив. Его внешний облик нормативен, статичен и целен. Василий II у Пселла – император немилостивый и грубый, энергичный и упрямый, подозрительный и беспощадный, а его внешний портрет приближается к энкомиастическому стандарту и в некоторых деталях противоречит образу, созданному писателем. Это противоречие оттеняется самим автором, начинающего описание внешности переходной фразой: «Таков его нрав, внешность же (императора. – Я.Л.) свидетельствовала о благородстве природы» [20 (I), с. 22.15 и сл.]. «Глаза у него были ясные и светлые, – продолжает Пселл, – брови не нависшие, не насупленные, не вытянутые, как у женщин, в прямую линию, но высокие, свидетельствующие о непреклонности мужа. Взор его не был угрюмым – свидетельство коварства и злобы, и не вовсе открытый – знак распущенности, он светился мужественным блеском...». Не станем продолжать описание. В своем стиле это прекрасный портрет, построенный, однако, по иным законам, нежели сам образ. Пожалуй, лишь упоминание о привычке теребить бороду в минуты раздумий или гнева и об отрывистой, «деревенской» речи представляют собой живые и индивидуальные черты.
Константин Мономах – самый сложный и диалектичный образ «Хронографии», достоинства и недостатки которого переходят друг в друга, грани их нечетки, размыты. Описание же внешности Константина, великолепное в своей цельности и законченности, по своей структуре ничем не отличается от портрета этого же императора в энкомии [см., например, 1 (V), с. 131). Однако если в энкомии оно полностью соответствует типу изображения императора – средоточия всех добродетелей, то в «Хронографии», напротив, противоречит стилю изображения героя. Это же противоречие обнаруживается в биографиях Исаака Комнина, Романа III Аргира и др. В целом портрет в «Хронографии» оказывается много «консервативней» художественного метода обрисовки Пселлом героев.
И все-таки художественный сдвиг, столь ощутимый в «Хронографии», не мог не сказаться и на описаниях внешнего облика.
В «Хронографии» Пселла нет фиксированного места для портрета и в этом ее отличие от энкомия, в котором, там, где это допускает предмет изображения, портрет следует непосредственно за рассказом о рождении героя и является, по сути дела, описанием младенца. Больше панегирист к внешности персонажа не возвращается, хотя сам герой, подчиняясь естественному ходу вещей, взрослеет, мужает, стареет. Такая «однократность» портрета вполне понятна в художественной системе энкомия, герой которого статичен и неподвижен – представляет собой сумму внутренних и внешних добродетелей, данных от природы и потому постоянно, от младенчества до самой смерти, ему присущих (см. выше).
Эволюции внешности в строгом смысле слова нет и в «Хронографии», хотя характер героев этого сочинения принципиально изменчив. И тем не менее в нескольких биографиях Пселл считает нужным обрисовать облик героя дважды: первый раз – в момент его расцвета, второй – в старости или перед смертью. Часто и здесь Пселл остается в кругу традиционных образов. Так, Исаак Комнин в период своего подъема – обладатель «царственной внешности» [20 (II), с. 85], перед смертью уподобляется высокому кипарису, раскачивающемуся под порывами ветра [20 (II), с. 132]. Сравнение с кипарисом стандартно, хотя в новой ситуации старый образ как бы восстанавливает свою свежесть. Вполне традиционна также и излюбленная в Средневековье картина чудовищного изменения больного человека (Михаил IV [20 (I), с. 56]).
Однако в ряде пассажей «Хронографии» Пселл явно выходит за рамки канона. Вспомним портрет Романа III Аргира. Внешность Романа в период его расцвета описана нормативно и традиционно («фигура героя», «царственность» и т. д. [20 (II), с. 33]). Но вот портрет умирающего императора: «В таком состоянии я часто видел его во время процессий... Он мало чем отличался от мертвеца, все лицо его распухло, а цвет кожи был не лучше, чем у трупа, пролежавшего три дня. Он учащенно дышал и часто останавливался. Волосы у него, как у мертвого, свисали с головы, а небольшая их часть – коротких и редких – в беспорядке падала на лоб и шевелилась, как я полагаю, от его дыхания» [20 (I), с. 50.11 и сл.].
Портрет этот – уже не «сборно-разборная конструкция». В нем образные, эмоциональные детали (например, редкие волосы, шевелящиеся от тяжелого дыхания смертельно больного человека), субъективное видение объекта: не случайно Пселл подчеркивает, что он сам видел императора, и в описание вставляет вводное «как я полагаю».
К изображению Зои, как и Романа III, Пселл обращается дважды: первый раз, сравнивая императрицу, уже не молодую, в традиционном синкрисисе с сестрой Феодорой, вторично – рисуя ее уже перед самой смертью. Первый портрет, хотя и обладает индивидуальными чертами (Зоя полнее Феодоры, невысокого роста), тем не менее построен по хорошо известному шаблону (большие глаза под грозными бровями, нос с легкой горбинкой, русые волосы, белая гладкая девичья кожа, гармония членов) [20 (I), с. 120]. Второе описание – не является портретом в риторическом смысле слова: «Достигнув семидесяти лет, она сохранила лицо без единой морщины и цвела юной красотой, однако она не могла унять дрожи в руках, и спина ее согнулась» [20 (II), с. 49.13 и сл.]. Это живое описание престарелой императрицы, стержень которого составляет контраст между молодым лицом и старческим телом. Уже такой контраст разрушает цельность, присущую обычному энкомиастическому портрету.535
Знаменательно, что наиболее живые черты Пселл находит для описания героя в старости или даже перед самой смертью, т.е. периода, когда к нему менее всего мог быть применен канон, основанный на принципах античной калокагатии. Примечательно также, что специфическая красота старости остается Пселлу недоступной: и в старческом возрасте прекрасно для Пселла лишь то, что напоминает о молодости.
Какие бы образные детали ни находил Пселл для некоторых портретов «Хронографии», внешность персонажа почти никак не соотносится с его характером. Связь внешнего и внутреннего на этом этапе византийской литературы мыслится лишь как прямая и непосредственная (идеальная наружность соответствует идеальной сущности). Сложный, изменчивый, противоречивый герой Пселла еще не получил адекватной себе внешней характеристики.
* * *
Из огромного творческого наследия Пселла мы выбрали для исследования некоторые его риторические произведения и «Хронографию», а из всей массы связанных с ними проблем обращали внимание в основном на композицию и искусство построения образов. Но и на этом материале можно сделать определенные выводы.
В риторике, говорили мы, Пселл следует ораторским канонам, но в ряде речей настолько искусно манипулирует «правилами», что создает сложные и разнообразные произведения и, по существу, подрывает сами каноны. Но истинный «взрыв» литературной традиции происходит в «Хронографии», в которой используется принципиально новый метод изображения реальности. Литература «средневековой системы» была весьма тесно, гораздо теснее и во всяком случае непосредственней, чем в Новое время, связана с исторической реальностью. Однако это была связь особого рода. Жанры словесности удовлетворяли в Средние века вполне конкретные потребности жизненной практики, церковного богослужения, придворного церемониала и т.д. и служили определенным внеположенным литературе целям. Подчас литературные произведения непосредственно включались в жизненную практику, становясь составной частью религиозного ритуала (гимнография) или дворцовых церемоний (похвальное слово). Историография в этом смысле в Византии всегда была более «свободна», хотя и подчинялась диктату внеположенных литературе факторов (например, хронологически последовательное изложение событий в хрониках), не говорим уже о целой системе, связывающей византийского писателя, клише, выработанных внутри самой литературы, но в конечном счете зависящих от тех же внешних факторов.
Именно в этом соотношении «литература – действительность», с нашей точки зрения, и произвела «взрыв» «Хронография». Действительность здесь, пропущенная через творческое сознание писателя, как бы заново воссоздается в произведении, образуя новую и уже «художественную реальность». Композиция «Хронографии» не следует (или следует лишь внешне) действительной последовательности событий, а подчинена художественной задаче писателя. Образы «Хронографии» определяются не риторической схемой, а художественной логикой.
Почему Пселл – автор десятков больших произведений – только в одной «Хронографии» так резко порывает с традицией? Объяснить это в какой-то степени могут два обстоятельства. Во-первых, как уже говорилось, историография всегда была в Византии жанром, наиболее свободным от канонических предписаний. Истина наряду с пользой упорно (в том числе и Пселлом) провозглашается целью и смыслом исторического повествования. Пселл настаивает главным образом на «истине» [91, с. 105]. Во-вторых, как бы ни было велико значение «Хронографии», для самого Пселла это лишь небольшой эпизод в его литературной деятельности, «побочный» продукт творчества – как известно, новые явления очень часто возникают не на магистральном пути, а в боковых ответвлениях.
Изложенное выше не должно породить представления о тождестве метода Пселла – в «Хронографии» – и писателей Нового времени. Черты литературы «средневековой системы» проявляются у Пселла не только в пышных панегириках императорам, компилятивных ученых сочинениях и житии св. Авксентия, но и в самой «Хронографии», ее стиле, образной системе языка и даже обрисовке некоторых героев. Переплетение традиционного и нового мы стремились показать, рассуждая о внешнем портрете пселловских героев.
Заключительные замечания
Пселл и проблема византийского предгуманизма
Произведенный нами анализ не только не снял многочисленных противоречий личности Пселла, его мироощущения и творчества, но и заметно их увеличил. Такое заключение звучит малоутешительно и для автора, и для читателей: выводы книги, как кажется, должны были бы повторить ее презумпции. Это произошло бы и в действительности, если бы мы рассматривали все противоречивые стороны личности и творчества писателя в одном ряду, не проводя различия между тем, что находилось «на среднем уровне» византийской культуры XI в., и всем над ним возвышающимся. Между тем исторический подход требует внимания прежде всего к явлениям экстраординарным и новым в культурном контексте эпохи. При таком подходе в многообразии личности и творчества Пселла нетрудно обнаружить и определенное единство. О вполне осознанной «нестандартности» и самобытности личности и мироощущения Пселла мы говорили в заключительном разделе первой части книги. Тот же тезис вполне применим и к его литературному творчеству. Пселл – «теоретик литературы», хотя и применяет к словесности клише позднеантичной и византийской риторической теории, тем не менее стремится подчеркнуть в принятых им за образец произведениях оригинальность и неповторимость. Эти утверждения представляются совершенно необычными для средневековой теории литературы, но оказываются вполне понятными в контексте всего сказанного о Пселле – человеке и художнике. Пселл – писатель, говорили мы, в лучших риторических произведениях «изнутри подрывает» каноны красноречия, а в «Хронографии» воспроизводит историческую реальность по законам, выходящим за рамки средневекового типа связи «литература – действительность». Это новаторство тоже в значительной мере осознано самим Пселлом.
Таким образом, как личность Пселла (в ее основных тенденциях), так и его творчество (в лучших образцах) формировались не столько в рамках «средневековой системы», сколько в отталкивании от нее. Такое рассуждение по естественной аналогии с историей западноевропейской культуры наталкивает на мысль о гуманистических или, вернее, предгуманистических тенденциях в творчестве писателя, тем более что явления, выводящие Пселла за рамки «средневековой системы», весьма напоминают признаки западного Предренессанса и Ренессанса. Суммируем их вкратце. Это, во-первых, высокий уровень самосознания Пселла, писателя и ученого. Во-вторых, широта и гибкость его интеллекта. В-третьих, свобода и терпимость в отношении морально-нравственных принципов. В-четвертых, далекое от византийского педантизма отношение к античности, которая была для писателя предметом живого подражания и эстетического наслаждения. В-пятых, исповедуемый Пселлом и осуществляемый им на практике идеал соединения активной политической, ученой и литературной деятельности. Это, наконец, новые методы изображения действительности в литературном творчестве.
Чтобы завершить аналогию с явлениями западноевропейского Ренессанса, напомним, что Пселл, как бы его фигура ни возвышалась над современниками, был не одинок в Византии XI в., его деятельность развивалась в рамках кружка интеллектуальной элиты с его особой духовно-нравственной атмосферой. Вместе с тем вопрос о «византийском гуманизме» не прост. Сама возможность применения понятий «гуманизм» и «возрождение» (равно как и «предгуманизм» и «предвозрождение») к культурным явлениям вне западноевропейского ареала подвергалась и подвергается небезосновательному сомнению. Развитая Н. Конрадом концепция «всемирного Ренессанса» нашла, как известно, не только горячих сторонников, но и пылких противников.536 Само собой разумеется, что Ренессанса как целостной системы, в которой сдвиги в социально-экономической сфере вызывают переворот в политической и религиозной идеологии, во всем мировоззрении и самом образе человека, равно как и в характере эстетических ценностей, Византия не знала. То обстоятельство, что исследователи насчитывают в Византии несколько «ренессансов» и «гуманизмов» – только лишнее подтверждение этому обстоятельству.537 Уже это делает не строгим употребление в приложении к Византии терминов «предвозрождение» или «предгуманизм».538
Тем не менее новый облик византийского интеллектуала и новые принципы литературного творчества Пселла – не отдельные, изолированные черты, а стороны одного и того же процесса эмансипации и расковывания человеческой личности, того «открытия человека», которое начиная с Мишле и Буркхардта считается самым существенным признаком возрожденческой культуры. Историкам культуры предстоит еще немало сделать для выяснения деталей и причин этого процесса, но уже и сейчас представляется продуктивной идея объяснять эти явления переходным характером эпохи. XI век (начиная с его 30-х годов) переходный не только потому, что это был период «слабой» власти между господством «сильных» императоров Македонской династии и дома Комниных. В XI веке для части византийской интеллектуальной элиты стали постепенно терять значение сами устои византийской жизни. Догматы христианской религии, конечно, оставались (и будут еще долго оставаться) объектом непререкаемой веры, тем не менее они превращались в некую обязательную данность, неспособную воодушевить византийского интеллектуала ни на самоотверженное служение в жизни, ни на вдохновенное воплощение в литературе. Тем более переживала кризис идея богоизбранничества ромеев. Страна, на престоле которой сменялись бесконечной чередой ничтожные и слабые императоры, не находившая сил обеспечить безопасность собственных границ, очень мало подходила для роли «Нового Рима» или «Нового Иерусалима». Терпели крах и традиционные универсалистские представления. Иначе говоря, стала рушиться система иерархического миропорядка, та τάξις, которой, в глазах византийца, подчинялся весь мир и его собственная жизнь.539 Византийский интеллектуал теперь уже как бы выделял себя из этой универсальной и даже полусознательно противопоставлял себя ей. Начинался поиск новых моральных и эстетических ценностей.
Сама политическая ситуация времени правления «слабых» императоров, конечно, немало способствовала этому процессу. Константин Мономах, Дуки и другие покровители придворных интеллектуалов забавлялись всяческой образованностью, нисколько не понимая, к чему в конце концов может привести игра ума, освобождающегося от традиционных табу. Характерно, однако, что уже первый «сильный» император – Алексей Комнин прекрасно это понял и судом над Иоанном Италом открыл серию подобных процессов.540
В бегло набросанной нами картине нетрудно увидеть отнюдь не только внешнюю аналогию развития западной культуры периода «высокого средневековья» и «предгуманизма». И там возрождение античной (в латинском варианте) культуры было выражением процесса начавшейся эмансипации человеческой личности, освобождения человеческого духа от средневековых норм.541
Если, однако, на Западе этот процесс привел в конце концов к культуре Возрождения, то в Византии ему не суждено было принести столь прекрасные плоды.
Предмет нашего исследования был ограничен творческим наследием – и то не в полном объеме – одного Михаила Пселла. Проблема византийского предгуманизма нуждается в более широком изучении. Византинист пока не вправе ограничиться ссылками на труды других ученых (византийское литературоведение сейчас делает только первые шаги). Думается, однако, что можно говорить о предгуманистических явлениях и в творчестве других писателей XI в. – в язвительных эпиграммах Христофора Митиленского, искренних стихах Иоанна Мавропода; тем более проявляются эти черты у историографов XII в.: Никиты Хониата, Евстафия Солунского.
Если со всеми сделанными оговорками тенденции византийской культуры XI в., продолженные в XII в., следует называть предгуманистическими, то первым во времени и лучшим их выразителем надо считать Михаила Пселла.
<Годы, истекшие после первой публикации книги, конечно, не решили множества проблем, связанных с личностью и творчеством Пселла. Пселл и сейчас остается для современного читателя, в том числе и автора этих строк, не менее загадочным, чем двадцать лет назад. Однако эта «загадочность» кажется теперь несколько иной, чем раньше. Постепенно отходят на второй план столь волновавшие прежних ученых вопросы типа, насколько «морально ущербен» и «нравственно неполноценен» был писатель, как мог восхвалять и чернить одних и тех же людей и т.п.
После многочисленных работ о самых различных аспектах деятельности Пселла все явственнее проступают нестандартность и масштабы этой необыкновенной личности, особенно на фоне Византии XI в. Естественно, встает вопрос о том, как Пселлу удалось – во всяком случае в лучших из своих созданий – подняться над уровнем мироощущения и сознания своей эпохи и оказаться столь «созвучным» последующим временам. Иными словами, как удалось ему выйти за рамки клише, определенных временем, и – если говорить опять же о лучших из его литературных произведений – преодолеть максимально суровый в Средневековье «диктат жанра» (напомню в этой связи название одной из статей М. Маллет: «Безумие жанра» [М. Mullet, 1992]).
Попробуем развить эту мысль немного подробнее. Не знаю, случайность это или нет, но в последние годы увеличилось число работ, авторы которых показывают Пселла, творящего не столько по законам того или иного жанра, сколько вопреки им, Пселла – талантливого независимо от литературных, общественных и прочих ограничений, которым он должен был следовать. Как уже отмечалось, итальянский исследователь У. Крискуоло подчеркивал оригинальность Пселла в таком устоявшемся и «школьном» жанре, как риторика (U. Criscuolo, 1982). Дж. Вергари усматривал в некоторых эпизодах «Эпитафии матери» истинную «трагедию в прозе» с особой драматической структурой (G. Vergari, 1987–2). А. Дейк счел достаточно оригинальными литературно-эстетические оценки Пселла (A. Dyck, 1983, 318–19, ср.: A. Dyck, 1986 passim). А. Литлвуд стремится показать, сколь творчески Пселл трактует известные античные мотивы. При этом ученый пользуется такими непривычными для византиниста понятиями, как «оригинальность» и даже «художественность» (artistry) (A. Littlewood, 1981). М. Кириакис отмечает «хорошую внутреннюю организацию и литературный стиль, философские рассуждения, тонкие наблюдения и характеристики личности» даже в таком явно «не художественном» сочинении, как обвинительная речь против Элпидия Кенхри (М. Куriakis, 1976–1977, р. 66 ff.).
Приведенные примеры легко можно продолжить. Некоторые ученые склонны приписывать Пселлу достижения даже в тех областях, в которых ранее он считался заведомо тривиальным, например в теологии и философии (D. Gemitti, 1983). Примечательно, что все упомянутые суждения относятся не к «Хронографии», давно признанной художественным шедевром византийской литературы, а к произведениям других жанров.
Приведенные оценки могут быть справедливы или оказаться преувеличенными, однако в трех случаях, уже отмеченных исследователями, «приоритет» и «необыкновенность» Пселла нам кажутся почти бесспорными.
Так интереснейшие наблюдения над пселловским «Житием Авксентия» принадлежит А.П. Каждану (A. Kazhdan 1983, перепечатано: A. Kazhdan, 1993–2, р. 546–556). Ученый считает, что в традиционный сюжет жития Пселл вводит элементы, не имеющие ничего общего с событиями жизни святого, но явно отражающие реальность пселловского окружения. Главные персонажи «Жития», как доказывает А.П. Каждан, на самом деле – не что иное, как «проекция» образов ближайших друзей Пселла, а его собственные черты в той или иной степени воплощены в образе главного героя – Авксентия.
Трудно себе представить более «революционное» преобразование жанровых условностей житийной литературы, чем то, которое совершил Пселл, изображая себя и своих друзей в рамках традиционного жития. В том, что Пселл (и, пожалуй, никто кроме него в византийской словесности!) был способен на такое «нововведение», убеждает нас и второй пример, о котором речь ниже.
Уже упоминавшаяся «Краткая история», принадлежащая, по нашему глубокому убеждению, перу Пселла, относится к жанру так называемых хроник, не отличающихся, как правило, большой оригинальностью и небезосновательно названных Г. Хунгером Trivialliteratur. Однако пселловская «Краткая история» заслуживает такой характеристики меньше всего. Как я старался показать (см.: J. Ljubarskij, 1993; Я. Любарский, 1994), обычно безличная у других авторов хроника приобретает у Пселла яркий отпечаток личности ее автора, некоторые же из «статей» хроники, посвященных царствованию отдельных императоров, превращаются в законченные новеллы, порой даже любовного содержания! На такое «преобразование жанра» был способен, пожалуй, тоже только один Пселл!
Третий пример не менее выразителен. Р. Браунинг и А. Катлер ставят в относительно недавней работе вопрос о том, каким образом воспринимал Пселл иконы (R. Browning, A. Cutler, 1992). Материалом для анализа ученым служат шесть писем Пселла. Четыре из них достаточно традиционны и тривиальны, зато два остальных могут поразить воображение любого читателя. Содержание первого из них (Michaelis Pselli Scripta minora magnam partem adhuc inedita. Vol. 2. Ed. E. Kurtz, F. Drexl, Milano, 1941. №. 129) можно назвать скандальным: Пселл сознается в том, что... ворует иконы. Если же его начинают подозревать, всё клятвенно отрицает. Конечно, не исключена мысль, что склонный к театральности Пселл «играет» и здесь, хотя такая «игра» сама по себе весьма знаменательна. Однако, скорее всего, речь идет все-таки о реальности. Я далек от мысли защищать воровство в любом виде и не только в церквах, но сколько нужно было иметь христианскому ученому, писателю, государственному мужу внутренней свободы, если воздержаться от более жестких определений, чтобы хвастаться воровством в храмах! Тем не менее самое любопытное следует дальше. Оказывается, оправданием этого воровства является его, Пселла, «любовь к этим прекрасным картинам, свидетельствующим об искусстве художника».
Эта же мысль содержится и в другом письме Пселла (там же, № 194), в котором писатель объявляет себя «весьма ревностным созерцателем икон». Одна из них поразила его своей неописуемой красотой и, подобно молнии, парализовала его чувства. Не может быть сомнений: Пселл воспринимает иконы – во всяком случае, в упомянутых письмах – не как средство постижения божественного, а чисто эстетически, что византийцам, казалось бы, совсем несвойственно. Авторы статьи Р. Браунинг и А. Катлер, по-видимому, сами были удивлены выводами, которые им пришлось сделать. «Не исключено, – пишут они, – что идеи, обнаруженные нами, могут поколебать наши представления о Византии (“It may be that the ideas we have singled out should be moved closer to the center of our thinking about Byzantium”)», – неуверенно заключают они свою статью. Это без сомнения так. Но наследие какого писателя, кроме Пселла, могло бы столь кардинально изменить наши представления о менталитете византийцев в XI в.?!
Весьма любопытно, что выводы Р. Браунинга и А. Катлера в самое последнее время нашли подтверждение в работах других исследователей. Уже упомянутая Ева де Вриес-ван дер Вельден подчеркивает необыкновенную эстетическую восприимчивость Пселла, который четко разделяет религиозное содержание и художественную ценность восхищавших его икон (Eva van de Vries-van der Velden, 1997–2). Ту же мысль, но уже на материале восприятия Пселлом светского искусства, развивает и X. Ангелиди в статье, посвященной описанию Пселлом статуи спящего Эрота (Ch. Angelidi, 1998). Совпадение самостоятельно выработанных концепций разных ученых, конечно, не может быть случайным.
Все сказанное не снимает наших прежних утверждений: Пселл умел быть (или казаться?) вполне тривиальным. Но разве потомки не судят писателей прошлого по их высшим достижениям и в творчестве, и в мысли? «Диктат жанра», так хорошо известный любому исследователю средневековой литературы, преодолевался мощью пселловского таланта. Пожалуй, этот вывод, следующий их тех новых исследований, которые появились за последние двадцать лет о Михаиле Пселле, наиболее интересен.>
* * *
Современной полной библиографии работ о Пселле не существует. Литература до 1897 г. тщательно подобрана К. Крумбахером [227, с. 441 и сл.].
Библиография Д. Моравчика, доведенная до 1956 г. [253, с. 439 и сл.], не учитывает многих статей и публикаций. В библиографии, завершающей нашу книгу, помимо цитированных исследований, указаны названия некоторых работ, не вошедших в библиографии К. Крумбахера и Д. Моравчика, а также основная литература о Пселле, появившаяся в последнее двадцатилетие. <Исследования о Пселле, опубликованные после 1977 г., приведены в дополнительном библиографическом списке в конце книги.>
Большинство этих произведений было перепечатано Ж.-П. Минем [PG, t. 122].
См. рец. Е. Миллера [251].
См. рец. А. Грегуара, И. Сикутриса [186; 299].
Наиболее значительные публикации послевоенного времени следующие: 1) [21] – первая полная публикация энциклопедического трактата писателя; 2) [14] – первое издание жития Авксентия; 3) [312; 313]. В приложение к этим работам впервые включены произведения Пселла главным образом риторического характера. Благодаря первой из упомянутых работ западногерманского византиниста исследователи имеют ныне также возможность познакомиться с содержанием многих остающихся еще в рукописях сочинений писателя.
В последнее время отдельные письма и речи Пселла по всем правилам современной эдиционной техники начали публиковаться итальянскими и греческими учеными [17; 18; 19] и др.
Многие сочинения Пселла прочитаны нами по рукописям, микрофильмы которых удалось получить из европейских хранилищ.
<Имеется в виду книга П. В. Безобразова, опубликованная в настоящем издании.>
Трудно сказать ныне, о чем думал ученый, когда в жандармской России конца прошлого века писал эти и подобные им строки. Видимо, не только Пселла и Византию он имел в виду, говоря, что не турки и не печенеги погубили империю, а «она сама себя погубила; погубили ее чиновники, не имевшие ничего общего с народом, видевшие в нем исключительно плательщиков, из которых следует извлекать как можно больше денег всякими способами, дозволенными и недозволенными» [65, с. IV].
Ту же оценку повторяет и Д. Дакурас [163, с. 13 и сл.].
В связи с этим Пселл противопоставляется Зервосом Иоанну Ксифилину и Никите Стифату, согласно которым истину можно постигнуть не путем рационального мышления, а благодаря озарению свыше.
Более сдержанно оценивает Хассей мировоззрение Пселла в статье: «Византийская империя в XI веке» [201], где автор полемически заостряет уже высказанную Зервосом мысль, что XI в. – период интеллектуального подъема в Византии, и утверждает, что деятельность Пселла необходимо рассматривать на фоне оживившейся культурной и литературной жизни.
Подробней см. нашу рецензию на книгу Гадолин [97]. Ср. также рецензии Ф. Тиннефельда [306] и Г. Вейса [311].
Статья Прехтера опровергает высказанную Крумбахером мысль, что Михаил Эфесский был учеником Пселла. Метод последовательного сопоставления взглядов философов-современников, которым пользуется ученый, весьма плодотворен для выяснения своеобразия их мировоззрения: едва различимые ныне нюансы подчас оказываются выражением весьма существенных в свое время расхождений.
Статья Вальденберга полемически заострена против распространенных представлений о византийской философии как единой и лишенной направлений, насквозь проникнутой спиритуализмом и мистицизмом. В. Вальденберг, однако, оставил без внимания многие важные сочинения Пселла.
Философским воззрениям Пселла посвящены две большие статьи в шестом томе «Travaux et Mémoires» [186а; 193а]. Учесть позиции их авторов в настоящем обзоре мы уже не имеем возможности.
См., например, рассказ о шутовской сцене, устроенной одним из фаворитов на потеху Константину IX: «И самое страшное, – заканчивает повествование Пселл, – это то, что мы понимали этот фарс. Порицать же его – куда там! Мы стали жертвой неразумия императора и вынуждены были смеяться тогда, когда надо было плакать» [20 (II), с. 40. 20 и сл.].
Имя Константин в качестве пренома Пселла зафиксировано в лемме «Ямбов на смерть Склирины» [по Парижской рукописи 16 (I), с. 190] и у Продолжателя Скилицы [55, с. 141. 16]. Констант – в постановлении синода от июля 1054 г. [58, с. 166] и пародийном каноне против монаха Иакова [1 (V), с. 177. 9].
Год рождения легко устанавливается со слов самого Пселла в «Хронографии» [20(1), с. 50. 11–13, с. 134. 27–28].
Константинополь считают местом рождения Пселла такие исследователи, как П. Безобразов [65, с. 2], Зервос [319, с. 61], Рено [20 (I), с. IX] и др. [ср. 226, с. 55].
См. работы Зегера [289, с. 150], Алкэна [195, с. 406], Мааса [244, с. 131] и др.
Иоанну полагает, что речь идет о монастыре Пиги, расположенном за воротами того же названия [214, с. 413].
О Нарсийском монастыре см. опубликованную в 1976 г. статью П. Готье [184 б]. <О проблеме Нарсийского монастыря в жизни Пселла см.: Р. Lemerie, 1977, р. 212.>
Сохранилось письмо Феофилакта Болгарского, адресованное «брату умершего Пселла» [см. REB, 24, 1966, с. 169]. Ни о каком брате сам Пселл ничего не говорит. Возможно, Фиофиоакт имеет в виду другого Пселла.
Служанка, оповещающая Пселла о смертельной болезни отца, обращается к нему «μειράκιον» [1 (V), с. 38. 1], т.е. Пселлу было не более 20 лет.
В этом возрасте Пселл ненадолго прерывает образование и отправляется на Запад в качестве помощника какого-то чиновника.
В научной литературе к имени Никита без всяких оснований прибавляют прозвище «византийский». На эту ошибку указал еще Е. А. Черноусов [116, с. 4, пр. 3]. Никиту ошибочно обычно называют учителем Пселла, хотя он был одним из старших учеников в классе, куда пришел новичок Пселл [см. 1 (V), с. 88–89]. Именно соучеником (συμμαθητής) назван Никита и в лемме посвященной ему эпитафии в Vatic, gr., 672, fol. 209 [66, с. 75].
Пселл называет Мавропода своим единственным учителем (см. ниже, с. 239). Возможно, Мавропод заслуживает этого потому, что Пселл и раньше обучался в школе, во главе которой стоял будущий евхаитский митрополит.
Вместо καὶ γάρ τι γενειῶν в издании Рено [20 (I), с. 59. 2–3] предлагаем читать καὶ γ’ ἄρτι γενειῶν.
Возможно, эту должность Пселл получил в результате только что упомянутого послания к императору.
Вызывает некоторые сомнения в этой фразе слово ἀφήβης (в значении ἐξέφηβος). Насколько нам известно, оно не встречается в других текстах. Может быть, следует читать ἔφηβος? В этом случает речь должна идти о 14–летнем Пселле (эфебы – мальчики 14–16 лет).
Пселл сообщает, что в это время он τῷ κατὰ Φλῶρον ἐκείνῳ εἰλώτευον (по изданию Сафы). П. Иоанну, видимо, читает τῷ καταφλώρῳ вместо τῷ κατὰ Φλῶρον (т.е. «когда я служил тому самому Катафлорону»). Иоанну [214, с. 284] сопоставляет этого Катафлорона с Иоанном Верресом Катафлороном, упомянутым в одном из документов 1079 г. [169, № 1044]. Чтение Иоанну остроумно и правильно, но отождествление Катафлорона остается догадкой. Неясно, почему Иоанну считает, что вслед за путешествием в Месопотамию Пселл вместе с Катафлороном отправился во Фракию и Македонию. Его ссылка (V, с. 10) неверна. Путешествие в западные провинции было первым выходом будущего писателя из Константинополя и, следовательно, не могло состояться после поездки в Месопотамию.
Филадельфия входила в состав Фракийской фемы и была местопребыванием должностных лиц [108, с. 206]. Безобразов ошибочно пишет, что Пселл был судьей Месопотамской фемы [65, с. 4].
Пселл пишет судье Вукелариев о том, что к нему обратился некий человек, которого он некогда судил. Однако в дальнейшем этот человек вновь был осужден по тому же делу «Морохарзаном, который был судьей в феме после меня» [16 (II), № 65, с. 99–100]. П. Иоанну не дифференцирует приведенные выше свидетельства о судейских должностях Пселла и считает его лишь судьей фемы Вукелариев [214, с. 284]. Не совсем ясно также, на какие свидетельства опирается ученый, утверждая, что должность судьи досталась Пселлу по протекции Епифания Филарета. Утверждение Г. Вейса [313, с. 23], что Пселл исполнял в это же время также и функции судьи Армениака, было подвергнуто сомнению П. Готье [183].
Время, когда Пселл получил должность протасикрита, неизвестно. Его сочинение – ответ обвиняющим его в связи с занятием этого поста [16 (I), с. 361–371] – написано было уже в период преподавания в «университете» (адресовано ученикам, см. обращение (φιλοσοφίας τρόφιμοι [16 (I), с. 366.24]).
Д. Цветлер [162] полагает, что указ этот не принадлежит перу Мавропода. Чешский ученый считает, что его авторами были все члены кружка Лихуда – Пселла, а инициатором и духовным вдохновителем – сам Иоанн Ксифилин.
Свидетельство Атталиата, также как и указ, написанный Мавроподом, касается юридической школы, однако, согласно Пселлу, юридическая и философская школы были организованы почти одновременно. Вопрос о том, какая из них учреждена раньше, по-разному решался исследователями [см. 203, с. 52 и сл.]. Философскую школу, видимо, открыли несколько раньше, поскольку, по словам указа, другие науки, в том числе гуманитарные (λογικαί), уже имели в Константинополе «и свое место, и наставников», тогда как науки юридические еще пребывали в забвении [52, № 7]. Указ позволяет немного уточнить terminus post quem для открытия «университета». Нами уже отмечалось, что это событие произошло после того, как император покончил с внутренними волнениями. Под последними, видимо, следует понимать восстание против Склирины в марте 1044г. [45, с. 434]. Э. Фолиери [178, с. 14], полагающая, что в конце 1043 – начале 1044г. Мавропод уже покинул Константинополь, вынуждена искусственно относить открытие «университета» к очень раннему времени – концу 1043 г. <С Э. Фолиери солидаризировалась М. Спадаро (М. D. Spadaro, 1977/8, р. 87 п. 3). Все свидетельства, касающиеся «профессорской» деятельности Пселла, собраны П. Лемерлем (Lemerle, 1977, р. 215 suiv.). Помимо упомянутых работ, посвященных открытию константинопольского «университета», см.: J. Lefort, 1976, р. 279–80. Лефорт полагает, что «университет» был открыт между апрелем 1046 н сентябрем 1947г.>
Добавлением переписчика скорее является лемма этого сочинения в Vatic, gr., 1276, где Пселл назван «мудрейшим монахом и проэдром» (Пселл – монах после 1055 г., проэдр – только при Исааке Комнине).
В научной литературе называются различные даты получения Пселлом этого титула. Н. Скабаланович [108, с. 96] и В. Грюмель [189, с. 153 и сл.] относят это событие к позднему времени. Д. Моравчик [253, с. 437] без аргументации говорит о времени Константина Мономаха.
Вестархом именуется Пселл и в более позднем документе, относящемся к августу 1056г. [193(1), с. 24. Ср. также 16 (И), № 361; 184а, с. 95 и сл.].
Дзльгер [169, № 908] датирует это событие – около 1053 г. О термине василикат см.: 185, с. 73 н сл.; 65, с. 26 и сл.
То, что эти монастыри были получены во владение Пселлом при Мономахе, ясно из письма судье Зоме о Мидикийском монастрые, датируемого второй половиной 1054 г. [1 (V), № 29]. Все три монастыря вместе упоминаются в письмах [1 (V), № 77; 16 (II), № 200], скорее всего направленных тому же судье. <Пселлу – харистикарию трех упомянутых монастырей, посвятил специальную работу Р. Анастази (R. Anastasi, 1978).>
Пселл был харистикарием уже упомянутого Нарсийского монастыря вблизи Константинополя. Часть земель, принадлежащих монастырю, находилась в феме Эгейского моря [см. 1 (V), № 65, с. 297.12 и сл.]. Именно поэтому Пселл несколько раз обращался к судье этой фемы с просьбой о покровительстве монастырю [16 (II), № 127, 150; 1 (V), № 15]. Это обстоятельство привело Дрексля к ошибочному мнению, что монастырь был расположен в феме Эгейского моря. Письма эгейскому судье датируются относительно поздним временем (см. ниже, с. 318 и сл.); когда Пселл получил во владение Нарсийский монастырь – неясно. [Ср. 1846, с. 105 и сл.] Пселл же был покровителем обители Ἡ Ἀχειροποιήτου μονή близ Константинополя [16 (I), № 124, 250, 251].
Роман упоминается в списке митрополитов 1072 г. В 1054 и в 1079 гг. в Кизике были другие митрополиты [259, с. 60], последние даты и представляют собой хронологические рамки для письма.
Ср. статью Тыпковой-Заимовой [114, с. 388]. Мнение автора статьи, что монастырь получен Пселлом при Константине Мономахе, не кажется нам строго доказанным (нет твердых оснований отождествлять адресата письма, солунского митрополита, со школьным товарищем Пселла Никитой).
Супруга Пселла, как полагают, принадлежала к роду Аргиров [250, с. 360]. Основанием к такому предположению послужило лишь единственное обстоятельство: Пселл одного из своих корреспондентов из этого рода – Пофоса Аргира именует «племянником». Однако обращение ἀνεψιός в византийской эпистолографии никоим образом не является свидетельством реального родства между корреспондентами. Весьма сомнительно также высказанное недавно мнение, что род жены Пселла берет начало от Стилиана Заутцы – тестя императора Льва VI [241].
Время установлено Гийаном [193 (I), с. 123 и сл.]. Остальные даты получены путем приблизительного отсчета от этой. <Обвинение Элпидия Кенхри было недавно переиздано Дж. Деннисом (Psellus Michael, 1994–2, р. 143–155), а также в значительной своей части переведено на английский язык и откомментировано М. Кириакисом (М. Kyriakis, 1977).>
Время установлено благодаря датировке «Панегирика матери».
В научной литературе широко распространена дата этого события – 1050г., которая приводится обычно без всякой аргументации [287, с.68; 20(II), с. 60, пр. 1 и др.].
Между тем источники не дают нам никаких оснований для точной датировки. Скилица и Зонара упоминают о падении Лихуда ретроспективно, в контексте рассказа о последних днях жизни Мономаха [45, с. 610; 59, с. 180]. Судя по «Энкомию Лихуду» [1 (IV), с. 405], отставка произошла незадолго до смерти Мономаха. В «Хронографии» рассказ об этом событии соседствует с сообщением о смерти императрицы Зои (1050 г.), однако хронологическая последовательность в «Хронографии» не выдержана. Иоанн Мавропод, чье удаление из Константинополя было уже результатом падения Лихуда, был назначен в Евхаиту до 1050 г. [см. нашу статью – 92]. Таким образом, время падения Лихуда нельзя датировать точнее, чем концом 40-х годов.
Сам Пселл утверждает, что он стал монахом незадолго до воцарения Феодоры (20 (II), с. 76]. В уже упомянутом документе, датированном июлем 1054 г. [58, с. 166], Пселл назван ипатом философов и вестархом Константом (а не монашеским именем Михаил). Вероятно, в это время писатель еще не принял монашество, хотя нельзя полностью исключить и возможность того, что он продолжает в документе именоваться своим мирским именем.
Время получения титула, видимо, следует отнести к осени 1057 г. [312, с. 32]. Пселл обладал также чином протопроэдра [16 (II), № 36, с. 58.11]. Время получения этого титула неизвестно.
Отказывается доверять этим сообщениям Пселла П. Иоанну [214, с. 286]. Писатель, по его мнению, обманулся в своих ожиданиях, ибо Константин Лихуд якобы возбудил против него процесс в связи с тем, что Пселл-монах ведет светский образ жизни. В результате он должен был отправиться в Нарсийский монастырь, из которого освободился только после смерти Лихуда. Однако Иоанну никак не интерпретирует часто весьма туманный текст сочинений Пселла. Из сообщений Пселла, на которые опирается ученый, следует только, что в какой-то период Лихуду поступали наветы на писателя [16 (II), с. 295].
< Ὃ δέ με <οὐ> διέλαθεν, ἔλαθεν τοῦτον. Поправка была отвергнута Сикутрисом (BZ, 29 [1929] р. 47) и в моем переводе «Хронографии» (Пселл Михаил, 1978, с. 182), но принята С. Импелиццери в итальянском издании сочинения Пселла (Psello Michele, 1984, vol. 2, р. 338). >
То, что Пселл преподавал в «академии» в царствование Константина Дуки, ясно из письма к кесарю Иоанну Дуке [1 (V), № 156, с. 408.3]. Несколько произведений, обращенных к ученикам, были написаны им именно в это время.
Большинство современных биографов Пселла полагают, что вскоре после воцарения Михаила философ попал в опалу, и говорят даже о «неблагодарности» императора, о «несбывшихся надеждах» Пселла и т. д. [278, с. 10; 319, с. 74; 20 (I), с. XVI]. Основанием для таких утверждений являются сообщения источников о возвышении Никифорицы, отстранившего прочих фаворитов Михаила [50, с. 182; 59, с. 708]. Однако источники говорят лишь о том, что Никифорица сменил у кормила государства возвышенного ранее митрополита Иоанна Сидского и оттеснил кесаря Иоанна Дуку. Видимо, Пселл с самого начала нового царствования не играл активной политической роли (первым министром был митрополит Сидский!), а удовольствовался функциями ученого наставника и советника [ср. 308, с. 123, прим. 387].
1078 г. датируют смерть Пселла ученые Бек [138, с. 539], Готье [11] и Вейс [313, с. 105, прим. 349].
<Следует признать, что этот аргумент в определенной мере ослаблен тем обстоятельством, что в рукописи Vat. gr. 672, f. 285v речь прямо адресована, согласно лемме, Роману Диогену (P. Gauter, 1980, №15.>
<А. Сидерас полагает, что второй фрагмент относится к монодии Михаилу Радину, а не Андронику Дуке (A. Sideras, 1981).>
<Этот мой аргумент в пользу датировки «Похвального слова Лихуду» временем после 1081 г. вызвал энергичные возражения У. Крискуоло, высказанные им в предисловии к его итальянскому переводу этого произведения (Psello Michele, 1983, р. 34–39; U. Criscuolo, 1982, р. 208). Вместе с тем итальянский ученый признает, что эта речь – одно из последних сочинений Пселла. Не продолжая полемику, укажу только, что У. Крискуоло не обратил внимания на то, что мой довод – лишь один из нескольких аргументов в пользу «поздней датировки» смерти Пселла.>
Характерно также, что Продолжатель Скилицы, пересказывающий «Историю» Михаила Атталиата и в отличие от последнего неоднократно и недоброжелательно упоминающий Пселла, опускает цитированный пассаж своего предшественника.
В защиту «поздней» датировки смерти Пселла убедительно и аргументированно высказался в статье, опубликованной в 1976 г., А. П. Каждан [82а, с. 27 и сл.].
Опубликовано в кн.: Spatharakis J. The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts. Leiden, 1976, pl. 174. Указанием на публикацию я обязан В. Д. Лихачевой.
*<Проблема датировки смерти Пселла и поныне далека от разрешения. Только отсутствием интереса к современной научной литературе можно объяснить время от времени предлагаемую для этого события без всяких объяснений дату 1078 (см., например, Михаил Пселл, 1998, с. 15; A. Sideras, 1994, р. 111). Современные исследователи все чаще склоняются к поздней датировке смерти Пселла и отвергают идентификацию «Михаила из Никомидии», упомянутого у Атталиата, с Михаилом Пселлом (см.: Р. Lemerle, 1977–2, р. 262, n. 28; Eva de Vries-van der Velden, 1997, p. 307, n. 95). «Оксфордский словарь по византинистике» осторожно датирует смерть Пселла «после 1081 г.» (The Oxford Dictionary of Byzantium. Vol. 3 (1991), p. 1754). Уже на стадии корректуры настоящего издания в моем распоряжении оказалась рукопись статьи А. Шминка (Byzantinische Zeitschrift, A. Schmink, 2001). По его мнению, Михаил Пселл скончался осенью 1092–зимой 1092/93 г. в монастыре Красивого источника на вифинском Олимпе.>
Письма Пселла, помимо уже цитированных нами изданий Сафы, Курца – Дрексля и Буассонада, публиковались в изданиях, помещенных под №28, 282 нашей библиографии. Ряд писем Пселла поныне остается в рукописи, см. о них работы, помещенные под № 166, 156, 312 нашей библиографии. <Число публикаций писем Пселла в настоящее время заметно увеличилось. Назовем только некоторые из них: А. Зайцев, Я. Любарский, 1978; A. Karpozilos, 1980; М. Agati, 1980; К. Snipes, 1081; P. Gautier, 1986; E. Maltese, 1987; Е. Maltese, 1988 (в значительной мере дублирует другие издания). Полный список публикаций писем Пселла см. Е. Papaioannou, 1998.>
На фоне огромного множества гражданских чиновников можно назвать только единичных лиц воинского сословия, которым Пселл посвящает свои произведения или адресует письма. См., например, монодию некоему Николаю [16 (I), с. 216 и сл.], письма Катакалону Кекавмену [16 (II), № 30, 41, 59; см. о них 86], Далассину [16 (II), № 264] и некоторые другие.
Литература, трактующая о стандартах византийской и особенно античной эпистолографии, очень велика. Из относительно недавних работ см. № 62, 223, 305, 309 нашей библиографии. Литературу вопроса см. в кн. В.А. Сметанина [110].
<Гораздо более «снисходительно», чем упомянутые выше авторы, оценивают византийских эпистолографов А. Литлвуд и Дж. Деннис (A. Littlewood, 1976; G. Dennis, 1988).>
Произведение Феодора опубликовано в приложении к статье Евстратиадиса [175, с. 431. 39–44].
См. стихотворение Мавропода, озаглавленное в рукописи «К собственному дому, в связи с тем, что продал и покинул его» [46, № 47, ср. также 46, № 98].
Основные источники для восстановления взаимоотношений Пселла и Мавропода:
1. Энкомий Пселла Иоанну Мавроподу [1 (V), с. 142–167], написанный после 1075 г. (см. ниже, с. 508). <Опубликован также в Psellus Michael, 1994, р. 143–174.>
2. Письма Мавропода Пселлу. Лишь одно письмо [1 (V), № 202] имеет имя адресата, получателем других Пселл считается предположительно. Без сомнения, Пселл был адресатом письма № 22 [46; см. 176, с. 13; 180, с. 30]. Кроме того, Пселлу скорее всего направлялись послания № 150, 158, 159, 169 [46]. Все письма были отправлены во время пребывания Мавропода в Евхаите. <Письма Мавропода заново опубликованы вместе с английским переводом и комментарием А. Карпозилосом: Ioannis Mauropodis, 1990.>
3. Письма Пселла Мавроподу. В издании К. Сафы опубликовано шесть писем Пселла Мавроподу [1 (V), № 40, 80, 173, 182, 183, 203]. В издании Курца – Дрексля кроме писем, уже в рукописи адресованных евхаитскому митрополиту [16 (II), № 33, 34, 45, 46, 105, 229], содержится также несколько посланий, отнесенных издателями Мавроподу предположительно [16 (II), № 190, 217, 228, 265, 269]; послание № 255 [16 (II)] отнесено Иоанну Ксифилину, однако в дальнейшем «переадресовано» Дрекслем Иоанну Мавроподу. Судя по содержанию, только № 190 из них может быть без сомнений отнесен к евхаитскому митрополиту. Можно выдвинуть также предположение, что именно Мавроподу были адресованы три следующие в рукописи одно за другим письма [1 (V), № 41, 42, 43]. Они написаны духовному лицу и интимному другу Пселла. Мотивы и даже лексика письма № 91 [1 (V)] весьма напоминают мотивы и лексику письма № 105 [16 (II)] Мавроподу. Ситуация, вырисовывающаяся из послания № 93 [1 (V)] (Пселл ходатайствует перед императором за адресата, добивающегося возвращения в столицу), вполне соответствует ситуации, возникшей в отношениях Пселла и Мавропода в 50-х годах XI в. Как утверждает Г. Вейс [318, с. 27 и сл.], Мавроподу были направлены четыре оставшиеся неопубликованными письма (Cod. Barber., 240, fol. 137, fol. 146–147, Canart. S. 54, № 4–7). <Ныне опубликованы: P. Gautier, 1986, p. 187–189.>
Все письма должны относиться к периоду пребывания Мавропода на посту евхаитского митрополита и не могут быть датированы временем до конца 40-х годов.
Подробно вопрос об эпистолографическом наследии Иоанна Мавропода разбирается в нашей работе [92]. <Перепечатано в: Я. Любарский, 1999, 161–173. См. также A. Karpozilos, 1982, а также предисловие и комментарии к изданию писем Мавропода: Ioannis Mauropodis, 1990.>
Дело происходит в декабре. День Святых Отцов отмечался в последнее воскресенье перед Рождеством.
Пользуемся нашей реконструкцией биографии Иоанна [92].
<Предложенная мною реконструкция биографии Мавропода была принята несколькими исследователями, в том числе автором монографии о Мавроподе А. Карпозилосом (A. Karpozilos, 1982). Позже А. П. Каждан значительно «радикализировал» мои утверждения и предложил ряд новых достаточно смелых датировок. Так, по утверждению ученого, Мавропода назначил на митрополичью кафедру Евхаит не Константин IX Мономах, а Константин X Дука в 60-х годах XI века. Эта гипотеза заставила А. П. Каждана пересмотреть хронологию эпистолярного наследия Мавропода и Пселла (A. Kazhdan, 1993). Новые датировки А. П. Каждана не вызвали сочувствия у А. Карпозилоса (A. Karpozilos, 1994).>
По мнению Нейманна [256, с. 598], это письмо адресовано другому Константину – Лихуду. Однако, как уже говорилось, Мавропод, видимо, получил назначение в Евхаиту вслед за отставкой Лихуда, который, конечно, уже не смог бы оказать какой-либо помощи евхаитскому митрополиту.
Пселл пишет о том, что Мавропод еще недавно «наслаждался этим Эдемом» (т.е. жил при дворе). Некоторые основания для датировки дает также следующее сообщение Пселла. Пселл информирует друга о положении в столице: «Мы же теперь и вовсе находимся под луной и солнцами и порядок очень изменился. Наша луна заняла теперь не седьмой, а первый пояс, а под ней находится блистательная и сиятельная чета... τηλαυγὴς συζυγία (с. 55.7 и сл.). Не вызывает сомнений, что под «солнцами», а также под «блистательной четой» Пселл имеет в виду императора и императрицу (сравнения императора с солнцем обычны для византийских энкомиастов). Можно предположить, что «луной», красоту и молодость которой он дальше описывает, Пселл называет прекрасную аланку, любовницу Константина Мономаха, ставшую влиятельнейшей фавориткой императора в конце 40-х годов [20 (II), с. 45–46]. Эти отождествления помогают уточнить не только сроки отправления письма, но и время назначения Мавропода митрополитом. Письмо было написано не позже 1050 г. (года смерти императрицы Зои), но и не намного раньше этого срока (Пселл сообщает о возвышении аланки, происшедшем в конце 40-х годов).
<Упомянутое письмо Пселла по-разному датировалось и комментировалось исследователями. П. Маас и Е. Фолиери полагали, что под «луной» Пселл имел в виду Склирину, и соответственно датировали письмо началом 40-х годов. С моим толкованием («луна» – аланка) солидаризировался А. Карпозилос (A. Karpozilos, 1982, р. 39–40), но не согласилась М. Спадаро (A. Spadaro, 1975, р. 361, п. 28). Р. Анастази, а вслед за ним и А. Каждан, полагали, что имеется в виду императрица Евдокия и относили письмо к 1068 г. (R. Anastasi, 1988; A. Kazhdan, 1993). В самое недавнее время с несколько парадоксальными идеями относительно этого письма выступила Ева де Вриес-ван дер Велден, которая предполагает, что «луна» – молодая жена Пселла и датирует письмо временем женитьбы писателя – 1043/44 гг. (Eva de Vries-van der Velden, 1996–2). Как видно, загадочно-риторическая манера выражаться, свойственная Пселлу и другим византийцам, дает ныне возможность предлагать совершенно различные толкования словам и фразам, ясным и однозначным для современников писателя.>
Скорее всего, именно Пселлу было адресовано письмо [46, № 168], в котором Мавропод благодарит за содействие и память о себе и сообщает о том, что направил новое послание императору в надежде на помощь друга [ср. 256, с. 528]. К. Неймаин справедливо связывает это послание с письмами Пселла Мавроподу [1 (V), № 80, 183].
Вполне вероятно, что об этих волнениях евхаитцев идет речь и в энкомии Пселла Мавроподу [1 (V), с. 167. 26 и сл.].
Пселлу адресует это письмо уже К. Нейманн [266, с. 598].
Мы приводим первую часть уже цитированного нами выше письма [16 (II), № 229]. Аналогичные мотивы содержатся в двух других письмах Пселла Мавроподу [1 (V), № 182, 183].
См. энкомий Мавроподу [1 (V), с. 164]. Аналогичным образом реагировал на постриг самого Пселла Константин Мономах: сначала решительно отговаривал, затем хвалил [см. 20 (II), с. 67–68].
Датировка перечисленных писем в основном совпала с недавно и, вероятно, независимо от нас предложенной У. Крискуоло [161, с. 2, прим. 8]. Исключение составляет лишь письмо № 37 (1 (V)], которое итальянский ученый относит к осени 1057 г.
<Письмо ныне издано в: P. Gautier, 1986, р. 158–61.>
<Письмо ныне издано в: P. Gautier, 1986, р. 182–184 и в более полном виде Е. Maltese, 1988, р. 218–219.>
Утвердившаяся в некоторых исследованиях дата этого события – июнь 1043 г. – ни на чем не основана [см. 146, с. 29, со ссылкой на (IV), с. XL].
П. Безобразов [65, с. 19 и сл.] на основании неверно переданной мысли Фишера [176, с. 14] считает, что Ксифилин занимал должность ὁ ἐπὶ τῶν χρίσεων. Поэтому он ошибочно атрибуирует ему письма Пселла, адресованные носителю этого чина [1 (V), № 157 и др.].
О конфликте с Офридой и полемическом сочинении Пселла см. [318а, с. 238 и сл.].
Фишер [176, с.19], а вслед за ним и Бонис [146, с. 71] считает, что это произошло в 1054г. Дата эта, однако, ни на чем не основана.
Вейс [312, с. 32], с нашей точки зрения, неправомерно датирует это письмо примерно 1057 г.
<См. примечание к стр. 249.>
К этому же или близкому времени относится, возможно, и письмо № 265 [16 (II)], в котором, как и в письме № 3 [156, с. 52], писатель сообщает об успехах племянника Ксифилина, находившегося у него в обучении.
Помимо «Хронографии» и «Энкомия Лихуду» Пселла [1 (IV), с. 38–421; см. ниже, с. 507, <энкомий переведен на итальянский язык и откомментирован У. Крискуоло, Psello Michele, 1983>] источником в данном разделе могут служить письма Пселла Константину Лихуду. С леммой «Лихуду» сохранилось три письма [1 (V), № 28, 68; 16 (II), № 245]. По содержанию все письма весьма традиционны. Первое (лемма: «протовестиарию Лихуду») можно отнести к периоду царствования Константина Мономаха, второе и третье (лемма: «патриарху Лихуду») – ко времени патриаршества Лихуда (1059 – 1063). Впрочем, и эта весьма неопределеннпя датировка может оказаться ошибочной, поскольку указания лемм нередко не соответствуют действительности. Лихуду, видимо, было направлено и сохранившееся без леммы письмо [1 (V), № 177], адресованное «протовестиарию». В пользу такой атрибуции говорит следующее: а) к адресату автор обращается αὐθέντα μου, такие же обращения к Лихуду содержатся и в других письмах [1 (V), с. 262.25; 1 (V), с. 309.2]; б) Пселл называет адресата весьма торжественно «великим благом ромеев» (с. 456.10). Такого обозначения мог удостоиться только весьма влиятельный человек. Лихуда, вероятно, имеет в виду Пселл под «проэдром и протовестиарием» в письме, адресованном судье Харсиана [1 (V), № 73, с. 309.2 и сл.].
Лихуд был старше Ксифилина и Мавропода [1 (IV), с. 393.19]. По свидетельству Скилицы [45, с. 570], сын Лихуда в 40-х годах был уже стратигом Васпуракана.
Утверждение некоторых исследователей, что Лихуд – соученик Пселла не соответствует действительности.
П. Иоанну без всяких оснований полагает, что Лихуд в это время возбудил против Пселла процесс, в результате которого последний должен был вновь удалиться в монастырь. См. выше, с. 224, прим. 34.
Письмо датируется скорее всего весной 1060 г. Написано оно из Кесарии, откуда Пселл собирается возвращаться назад (в Константинополь), в то время как адресаты продолжают «военной дорогой» двигаться вперед. О путешествии в Кесарию и обратно писатель сообщает также в письме к Константину Кируларию [312, с. 30] <ныне опубликовано К. Snipes, 1981>. Речь идет о втором походе Романа Диогена против сельджуков. Император останавливался тогда в Кесарии и его сопровождал Пселл [20 (II), с. 161.13].
Видимо, епископу Горднаса (город в Каппадокии) [см. 171].
В обоих случаях, подписывая письма, Пселл называет себя вестом. Означает ли это, что послания следует датировать временем Константина Мономаха, в конце царствования которого писатель обладал уже следующим чином вестарха?
<Письмо опубликовано ныне в: P. Gautier, 1986, р. 177–178. П. Готье составил также краткий очерк гипотетичной биографии Хиросфакта (там же, с. 117–119).>
Вейс [312, с. 30, прим. 72] идентифицирует этого Хиросфакта с павшим при Манцикерте протасикритом Хиросфактом, упомянутым Атталиатом. Можно пойти дальше и отождествить с ним судью Кивериотов, бывшего протонотария дрома, адресата письма [1 (V), № 171]. Характер обрисовки этого лица и стиль его отношений с Пселлом дают, казалось бы, все основания для такого отождествления. Однако из-за отсутствия формальных критериев – единственно решающих в данном случае – воздержимся от подобных утверждений.
<Ныне опубликовано в: Psellus Michael, 1992, р. 120–141.>
Н. Дюэ совершенно произвольно ассоциирует этого Василия с другим корреспондентом Пселла, Василием Малеси [173; ср. наши возражения – 219, с. 219 и сл.]. Василий – корреспондент Пселла, вероятно, идентичен хранителю императорской чернильницы Василию, упомянутому Скилицей [45, с. 47.1]. Эту должность он занял между 1052 и 1065 гг. [313, с. 199, прим. 271].
*<Это письмо уже опубликовано в: P. Gautier, 1986, р. 173–175. В предисловии к работе П. Готье помещен также краткий очерк о письмах, направленных Пселлом Аристину (op. cit., р. 116–117).>
Письма с леммой протасикриту без указания имени мы не имеем основания однозначно относить Аристину, поскольку у Пселла упоминается и другой протасикрит – Епифаннй Филарет.
Сохранились два письма к Иаситу [1 (V), № 171; 16 (II), № 6]. Кроме того, Иасит упоминается в двух других письмах: к Константину Кируларию [312, с. 30] и Евстратию Хиросфакту [312, с. 30, прим, 72; 156, с. 60]. <Оба эти письма уже опубликованы, см. прим, к стр. 267 и прим, к стр. 262.> Если последний идентичен упомянутому нами выше Хиросфакту, то Иасит находился в сфере кружка Аристина и его товарищей.
О Пофосе см. в книге Леви [242, с. 29 и сл.].
В анафеме латинских послов Михаилу Кируларию лета 1045 г. упоминается также сакеларий патриарха Константин [58, с. 154]. Возможно, он идентичен племяннику Кирулария.
Ссылки на письма см. в нашей статье [95, с. 91 и сл.].
Подробней о карьере Константина см. [260, с. 119 и сл.; 184, с. 212]. Икономидис и Гийан [192, с. 21] приписывали должность логофета геникона также Константину. Друнгарий и протопроэдр Константин известен среди чиновников Михаила VII [см. 169, № 1004]. Родиус полагал, что Константин (адресат Пселла) – это будущий император Константин Дука, женатый на племяннице Кирулария Евдокии [278, с. 14]. Ошибку Родиуса повторяют некоторые современные исследователи. Возможно, что племянника патриарха Михаила нужно видеть также в друнгарии и протопроэдре Константине, владельце проастия Кале близ Константинополя [16 (I), с. 357–359].
<Ева де Вриес-ван дер Велден полагает, что речь идет об императрице Евдокии и относит письмо к периоду между 1074 н 1080 годами (Eva de Vries-van der Velden, 1996, p. 145).>
Вопрос о более точной датировке этих писем не прост. Константин Кируларий был женат дважды. Во второй брак он вступил после смерти первой жены в 70-х годах XI в. Его супругой стала дама из свиты Марфы Грузинской (Марии Аланской грузинских источников) [44, V, 586 и сл.]. О каком браке Константина идет речь в письмах Пселла? П. Готье [164, с. 212 и сл.] полагает, что о втором. Французский ученый приводит два аргумента. В лемме письма № 83 [1 (V)] Константин назван «великим друнгарием», а эта должность (в отличие от просто «друнгария») была введена при Михаиле VII между 1072 и 1074 гг. [108, с. 348]. Следует однако, отметить, что в самом тексте писем Константин нигде великим друнгарием не назван, а в лемме другого письма [1 (V), № 1] именуется просто друнгарием. Не является ли «великий друнгарий» в лемме позднейшим добавлением, появившимся тогда, когда Константин действительно занял эту должность? Предположение это тем более вероятно, что подобный казус наверняка произошел и с другим письмом Пселла к Константину [16 (II), № 214]. Последнее послание сохранилось в двух рукописях: в Barber, gr., 240, fol. 163 (обращение в лемме: «министру юстиции и севасту»), и в Vatic, gr., 712, fol. 69r (обращение в лемме: «великому друнгарию»). Разные леммы сами по себе свидетельствуют о позднем своем происхождении! Но любопытно другое. Само письмо – это явствует из его содержания – было написано не позднее 1056 г. А в это время Константин не мог быть ни великим друнгарием, ни севастом. Последний титул впервые зафиксирован только в конце 70-х годов [см. 108, с. 151]. Малосостоятелен и второй аргумент в пользу поздней датировки. В одном из писем [1 (V), с. 321, 18] упомянут некий ὁ Σίδης, которого П. Готье ассоциирует с фаворитом Михаила VII Иоанном Сидским.
<Это письмо уже опубликовано, переведено на английский язык и прокомментировано К. Снайпсом (К. Snipes, 1981).>
<Это письмо (уже дважды!) опубликовано к настоящему времени. См.: А. Зайцев, Я. Любарский, 1978, р. 24–28; Е. Maltese, 1988, р. 116 ff. Кроме упомянутых, ныне изданы еще два Письма Пселла, направленных племянникам Михаила Кирулария, см.: P. Gautier, 1986, р. 167–170; А. Зайцев, Я. Любарский, 1978.>
Произведение это, опубликованное Сафой среди писем, на самом деле является трактатом, который, как и обычно в Средневековье, был адресован определенным лицам, в данном случае – братьям Кирулариям. Свидетельство этому – как леммы («О дружбе» – в Paris, gr., 1182, «Слово, назидающее о дружбе» – Vatic, gr., 672), так и местоположение произведения в обоих кодексах среди речей, трактатов и т. д. Кроме того, сам Пселл называет свое сочинение λόγος (с. 514.20, 23), а не ἐπιστολή. Характерно, что трактат о дружбе Пселл направляет именно братьям Кирулариям.
Любопытно в этом отношении и письмо № 186 1(1 (V)], которое, как мы считаем, тоже было направлено братьям. Пселл заверяет их, что никогда не забудет «философию и дружбу» (с. 471.14). Оба понятия как бы подняты на один уровень.
О том, что речь в данном случае должна идти не только об античных литературных реминисценциях, но и о действительной театрализованной игре, свидетельствует письмо Пселла о монахе Илье – талантливом лицедее, изображавшем всевозможные сценки в домах византийских вельмож (см. ниже, с. 281 сл.).
Об этих персонажах см. работу Штернбаха [293, с. 3].
В уже упомянутом письме к «министру» по делам прошений, например уговаривая адресата не обижаться на его шутки, Пселл восклицает с сожалением: «Ты презираешь шутки, которые одни только, примешанные к нашей жизни, делают наше существование веселым» [1 (V), с. 245, 24 и сл.].
<Письма к Иоанну Дуке, опубликованные в прошлом веке по одной рукописи Буассонадом и Рюэлем (№ 22, 282 основного списка литературы) были критически переизданы П. Готье (P. Gautier, 1986, р. 127–143; 147–149). В этом же издании находятся также два вновь опубликованных письма Пселла Иоанну Дуке (ibid., р. 144–147). Вновь изданные письма вполне вписываются в картину отношений между корреспондентами, обрисованную нами.>
Это письмо написано в период отставки кесаря, живущего, видимо, в своем имении [1 (V), с. 409]. Утешая Иоанна, Пселл говорит главным образом об императрице, которая сочувственно выслушивает добрые слова о кесаре. Император тоже упоминается в этой связи, но на втором месте и без обычного – если речь идет о Константине – прибавления «твой брат».
В другом письме Пселл хвалит Иоанна за «любовь к слову, страсть к знаниям, желание воспринимать мудрые речи и умение восхищаться красотой сочинений и прелестью писем» [22, с. 184–185].
Вспомним знаменитый 130-й сонет Шекспира: «Ее глаза на звезды не похожи...».
Только одно письмо к Дуке строится на библейской образности [22, с.170]. Античная образность является преобладающей в письмах пселла не только к Дуке, но и ко всем его «интеллектуальным» друзьям.
Письмо № 212 [16 (II)] (адресовано кесарю Иоанну Дуке) не содержит имени Ильи. Однако то же письмо находится в составе другой рукописи – Cod. Barber., 240, fol. 185, где оно адресовано племяннику патриарха (т.е.» видимо, Константину – племяннику Михаила Кирулария). В лемме сообщается, что речь идет об Илье Кристале (Крустуле?). Таким образом, мы получаем прозвище или фамилию героя.
Vindob. phil. gr., 321, fol. 51; 156, с. 60, № 28. Канар считает по непонятным причинам, что это письмо адресовано Пселлу каким-то корреспондентом, ср. у Вейса [312, с. 26, прим. 55]. <Опубликовано ныне П. Готье (P. Gautier, 1986, р. 179–181).>
Имя судьи указано лишь в письме [316, с. 51.1].
С адресацией этого письма не все ясно. В тексте издания Курца – Дрексля указано: «судье Катотиков». В то же время из подстрочного примечания явствует, что в рукописи письмо имеет лемму «ему же», а предыдущее письмо адресовалось судье Вукелариев. Если письмо действительно было направлено судье Эллады и Пелопоннеса, его вероятный адресат – Никифорица.
К этому же времени должно относиться и письмо № 93 [16 (II)], если только его адресат действительно Никифорица.
О странствующих монахах в Византии говорится у Зонары (см. об этом ст. А. Каждана [79, с. 51, прим. 17]).
<Е. Мальтезе, опубликовавший одно из писем Пселла об Илье (Е. Maltese, 1988), в комментарии сопоставляет фигуру этого монаха с другим пселловским героем – Πάπας, которому писатель посвятил одну из своих «малых речей» (Psellus Michael, 1985, or. 16). Аналогия достаточно близкая, хотя между двумя персонажами столько же сходства, сколько и разницы: Πάπας – шут и забулдыга – предмет насмешки и поношений, в то время как Илья вызывает не только иронию, но и глубокую симпатию Пселла. Об Илье в корреспонденции Пселла см. также: G. Dennis, 1988, р. 162 ff.>
Михаилу Кируларию – «виновнику» разделения Восточной и Западной церквей – посвящена огромная литература. Это избавляет нас от необходимости пересказывать биографию патриарха. Из работ на русском языке назовем статью М. Сюзюмова «Разделение Церквей в 1054 г.» [112]. Там же содержится сравнительно полная библиография вопроса. Литература указана в «Истории Византии» [77 (2), с. 449, прим. 43 к гл. 10]. Отношениям Пселла и Кирулария посвящена специальная статья [120], к сожалению оставшаяся нам недоступной. <Из более новых работ укажем на статью Ф. Тиннефельда (F. Tinnefeld, 1989).>
Письмо, напечатанное у Сафы под № 56, по другой рукописи (Cod. Barocc., 131), издано у Курца – Дрексля [16 (II), № 208].
П. Безобразов [65, с. 22 и сл.] и Г. Вейс [312, с. 28, прим. 63] относят это письмо ко времени Константина Мономаха.
<В одних рукописях трактат обращен к Иоанну Ксифилину, в других Михаилу Кируларию. См. U. Albini, 1987.>
См. в энкомии самого Пселла [1 (IV), с. 326, 334, 341, 357].
Тот же мотив (выраженный к тому же в аналогичной синтаксической конструкции!) звучит и в позднем письме Пселла, где он уже ретроспективно касается своих отношений с Кируларием этого периода: «Я выражал дружбу, а меня ненавидели, я любил, а меня отвергали, я говорил прекрасно, но слушали меня дурно...» [312, с. 46, 32 и ел.]. Там же рассказывается и о некоем клеветнике, оболгавшем Пселла перед патриархом.
Выяснить эту позицию в специальной большой статье, цитированной нами, пытается Михель [250]. Однако большинство построений ученого – не более как вероятные гипотезы, чисто логическим путем выведенные одна из другой. Михель стремится представить, как должен был бы действовать Пселл в определенных исторических ситуациях. Однако, как известно, человеческое поведение отнюдь не всегда подчиняется предписаниям тривиальной логики.
Подробно на содержании «письма» останавливается во введении к его критическому изданию У. Крискуоло (см. ниже, с. 502).
Именно этот нарисованный Пселлом (совпадающий в ряде деталей с оценками западных средневековых источников) образ Кирулария был подхвачен западной историографией XVIII–XIX и частично XX вв. Не последнюю роль в этом играли причины конфессионального свойства. Очень активно (из вполне понятных соображений) против этого выступали некоторые православные историки Церкви. См., например, анонимную брошюру «Михаил Кируларий, патриарх Константинопольский», изданную в Киеве в 1854 г. Даже у такого трезвого ученого, как Н. Скабаланович, «невежественный, злой и нетерпимый» Кируларий становится «твердым, неколебимым и хладнокровным» [109, с. 737].
Подробней об этом см. ниже, в разделе, посвященном энкомиям Пселла (с. 395).
Слово трудно поддается переводу. Возможно, употреблено в зафиксированном у Отцов церкви значении «Culpable indifference about conduct» [см. 233, s. v.].
Имя Параспондил зафиксировано Зонарой и в письмах Михаила Пселла. Стравоспондилом называет Льва Скилица. Нет сомнений в том, что речь идет об одном и том же лице [см. 278, с. 19 и сл.]
Возможно, Параспондилу принадлежит печать синкела Льва (издана Лораном [234, № 217]).
В «Хронографии» Пселл ни разу не называет по имени Параспондила, однако сравнение сообщений Пселла со свидетельствами других источников не оставляет сомнений в том, что имеется в виду Лев.
По свидетельству Пселла, при Константине Мономахе Параспондил влиянием не пользовался [20 (II), с. 79].
Некоторые сомнения может вызвать адресация письма [16 (II), № 87]. По своему содержанию и характеру оно очень напоминает серию писем, направленных Пселлом патриарху Михаилу Кируларию [1 (V), № 56, 59, 164, ср. № 359, 160].
Протосинкелу адресовано также «Слово, рассказывающее о добродетели протосинкела» 1[16 (I), с. 56–59] и «К протосинкелу, попросившему рассказать о чудесах чудотворца Григория» [16 (I), с. 142–144]. Последнее сочинение дошло до нас не полностью. Сохранившийся текст представляет собой только вступление к самому повествованию о чудесах – обращение к протосинкелу. <Опубликованы также в Psellus Michael, 1994,р. 134–142.>
Н. Скабаланович справедливо указывает, что протосинкелов одновременно было несколько. Ученый называет четырех известных ему протосинкелов второй половины XI в. [108, с. 158]. У самого Пселла есть монодия, посвященная другому протосинкелу – эфесскому митрополиту Никифору [16 (I), с. 206–210]. Протосинкелом был и другой адресат многих сочинений Пселла – Иоанн Мавропод. О синкелах и протосинкелах в Византии см. 127.
Укажем на некоторые основания. В «Слове, рассказывающем...» Пселл говорит о маленьком росте адресата произведения [16 (1), с. 59.9]. Вспомним, что Исаак Комнин называет Льва «низкорослым». В письме [1 (V), № 8, с. 237] говорится о высоком положении, дружбе императора и многочисленных телохранителях, которые раньше были у протосинкела. Это последнее письмо в рукописи находится рядом с двумя другими [1 (V), № 7, 9], также адресованными протосинкелу; естественно, они все были направлены одному лицу. Немаловажным обстоятельством является также следующее: во всех этих произведениях характер адресата рисуется примерно одними красками.
Ср. 65, с. 56, Дрексль полагает, что речь идет о Гариде [16 (I), ad. loc.].
Нельзя исключить и возможность того, что письма эти были написаны много позднее, и патриарх здесь – Константин Лихуд или даже Иоанн Ксифилин. По сообщению Атталиата [50, с. 71], придя к власти, Константин Дука восстановил в правах многих приближенных Михаила Стратиотика, подпавших в опалу при Исааке Комнине. Момент этот был удобен для ходатайств за Льва.
Среди неопубликованных писем Пселла есть одно, адресованное «монаху протосинкелу» (Vatic, gr., 1912, fol. 172–173). По предположению Дарузеса, оно было адресовано хартофилаку Никите [см. 156, с. 52 № 1]. В связи с установленным нами фактом ухода Льва в монастырь уместно выдвинуть предположение, не направлено ли было и это письмо Параспондилу. <Письмо ныне опубликовано (P. Gautier, 1986, р. 185–187) и уверенно отнесено издателем Льву Параспондилу.>
Ср., например, противопоставление этих двух видов мудрости в письме Пселла Михаилу Кируларию [1 (V), с. 506–507].
То же отношение ко Льву – ирония, замаскированная панегирическими фразами, – нашло отражение и в короткой эпиграмме, адресатом которой считал Параспондила еще К. Сафа [1 (IV), с. LXXIV; ср. 127, с. 26–27].
<П. Готье издал не три, а пять не публиковавшихся ранее писем Эмилиану (P. Gautier, 1986, р.р. 150–158, 170–173).>
Можно ли делать из этих слов вывод, что Пселл писал это письмо будучи монахом, но находясь на царской службе, т.е. после 1056г.?
Эпиграмма эта переведена М.Л. Гаспаровым в «Памятниках византийской литературы IX–XIV веков» [31, с. 288]. Вряд ли нужно предполагать, как это делает автор комментария [31, с. 448], что под богинями имеется в виду императрица Феодора и ее свита.
<Стихи против Иакова и Савваита опубликованы в Psellus, 1992–2, №21, 22. Их издатель Л. Вестеринк доказывает, что они написаны в 1059 г., в начале патриаршества Константина Лихуда.>
<Богатый материал об отношении Пселла к монахам дает его «Эпитафия Николаю, настоятелю монастыря Красивого источника» (№ 10 основного списка литературы). Ср. рассуждения по этому поводу Г. Вейса (G. Weisa, 1977. S. 291 ff.).>
В XI в. судья (κριτής, δικατής, πραίτωρ) – фактический правитель византийской фемы, глава аппарата провинциального управления [см. 185, с. 69 и сл.; 84, с. 295, 303 и сл.].
Мы не причисляем сюда письма с леммами «Судье Фракии и Македонии» и «судье Македонии», поскольку среди адресатов Пселла был и другой судья Македонии – вестарх Хасан [1 (V), № 38, 172].
Обращения Пселла в письмах отличаются постоянством, ἀνεψιέ, например, – обычное обращение к Константину, племяннику Михаила Кирулария.
Пофоса издатели без достаточных оснований считают также получателем писем № 218 и 257 [16 (II)]. О Пофосе см. в диссертации П. Леви | [242, с. 29 и сл.].
То, что Пселл пишет, будто патриарха «лишила лучей» (τῶν ἀκτίνων ἀπήλαυνε) сама Антиохия, – возможно, результат субъективного восприятия событий. Как сообщает Вриенний, внутри Антиохии была партия, противоборствовавшая Эмилиану [51, с. 96. 17 и сл.]. Идентификация (без аргументации) была сделана еще Н. Скабалановичем [108, с. 421].
Письма № 36 и № 273 [1 (V); 16 (II)] адресованы в рукописи судье Опсикия по ошибке. Появилась она, скорее всего, в результате неверной догадки переписчика, обратившего внимание на упоминание Келлийского монастыря, неоднократно фигурирующего в письмах этому судье. Письмо, как уже отмечал Сафа, было адресовано Иоанну Ксифилину.
Мы, естественно, предполагаем, что несколько посланий, следующих в рукописи одно за другим с леммами «ему же», относятся к одному лицу. Атрибуция одного из писем группы механически распространяется на всю группу.
<Письмо переиздано в: P. Gautier 1986, р. 179–181.>
<Судье Фракисия направлено также письмо, опубликованное А. Карпозилосом: A. Karpozilos, р. 299–310.>
Атрибуция Сафой письма судье Эллады ошибочна и связана, видимо, с упоминанием в нем Пирея. Последний, однако, в данном контексте – синоним гавани.
Фема Эллады и Пелопоннеса и фема Катотиков для византийских авторов – синонимы [см. 145, с. 159–160]. Одно и то же письмо Пселла [16 (II), № 74=1 (V), № 32] адресуется в разных рукописях судье Эллады и Пелопоннеса и судье Катотиков.
В виде предложения эту мысль высказал еще Гийан [191, с. 204].
*<Полной ревизии весь материал, относящийся к Василию Малеси, подвергается в работе Евы де Вриес-ван дер Велден (Eva de Vries-van der Velden, 1996). Со свойственной ей решительностью исследовательница путем ряда достаточно рискованных идентификаций признает Василия Малеси зятем Пселла (мужем его приемной дочери) и даже пытается рисовать довольно подробную картину отношений писателя с семьей дочери.>
Этого Малеси без всяких оснований Н. Дюэ [173] ассоциирует с упомянутым у Атталиата логофетом вод Василием Малеси. Единственным аргументом в пользу позиции французской исследовательницы (кстати, ею самой незамеченным) может служить следующее. Из письма Пселла № 96 [16 (II)] явствует, что в период жизни писателя во главе фемы Армениак стояли два судьи по имени Василий. Патроним одного из них – Сплинарий. Патроним другого – неизвестен. Но можно ли безоговорочно утверждать, что это был Малеси? Вовсе никаких оснований не обнаруживается для отождествления Малеси с хранителем императорской чернильницы Василием, которому были адресованы три письма писателя (см. выше, с. 263). Подробней см. 219.
Эти факты подвергает сомнению П. Иоанну. Однако его ссылка на Скилицу и Атталиата [214, с.286] не имеет отношения к делу.
Именно Пселлу было поручено составление первой тронной речи императора (ἐπαναγνωστικόν). Речь опубликована в 1972 г. Вейсом [312, с. 49].
Следует отметить, что Пселл все-таки отважился на критику Константина X [см. об этом 308, с. 128]. Образ же Михаила энкомиастический.
Эти сочинения в большинстве своем опубликованы в PG, t. 122, некоторые остаются пока в рукописи. Список произведений, связанных с именем Михаила, см. 270, с. 44 и сл. Полемис упустил только Oblatio nomocanonis [PG, t. 122, col. 919–924].
В сочинении выражается радость по поводу того, что император, поверивший было клеветникам, вновь милостиво относится к Пселлу. В речи содержится также интересный намек на какой-то мятеж, который подняли против императора «отпрыски негодяев». Михаил одолевает врагов, заверяет автор, поскольку за него «закованные в железо и вооруженные катафракты». На что намекает писатель, неясно.
<Совершенно иную трактовку отношений Пселла с Дуками предлагает У. Крискуоло. По мнению итальянского ученого, за восторженными характеристиками дома Дук в «Хронографии» проглядывает плохо скрытая авторская ирония (U. Criscuolo, 1982, р. 203). Аргументы У. Крискуоло трудно признать убедительными: византийские похвалы – даже самые «серьезные» – нередко могут восприниматься современным читателем как настоящая пародия. Впрочем, Пселл, безусловно, был весьма ироничен и являлся одним из очень немногих византийцев, способных на скрытую насмешку.>
Особенно категоричен, главным образом в отношении Михаила, Атталиат [50, с. 76–77, 182, 167, 208, 211, 212]. Продолжатель Скилицы, пересказывающий Атталиата, а вслед за ним и Зонара, в большинстве случаев воспроизводят эти обвинения. К этой же традиции примыкают Манасси и Скутариот [39, с. 620 и сл.; 36, с. 169 и сл.].
В научной литературе обычно говорится о двух группировках, ожесточенно боровшихся в то время за власть, противоположные интересы которых выразили, с одной стороны, Пселл, с другой – Атталиат. Н. Скабаланович [108, с. 94] называет их «патриотами» и «антипатриотами». Г. Острогорский говорит о столичной чиновной знати и военной аристократии [263, с. 271 и сл.], нередко отождествляемой с провинциальной знатью [77 (II), с. 282]. Это справедливо только отчасти. На деле ситуация, видимо, была сложней. Достаточно сказать, что сами Дуки были выходцами из провинциальной знати, а Константин даже участвовал в восстании Исаака Комнина. Что касается «антипатриота» Пселла, то сам он себя несколько раз называет «ромейским патриотом», считает необходимым, чтобы императоры, наряду с синклитиками и народом, заботились о воинском сословии [20 (II), с. 83], и даже Константина упрекнул в пренебрежении к военному делу [20 (II), с. 146].
Несовпадение объема понятий φίλος и φιλία со значениями, которые в новых языках имеют слова «друг» и «дружба», отмечено филологами уже для эллинистического периода [см. 273 (II), s. v. φίλος, φιλία]. «Слова φίλος, φιλία употребляются не для обозначения тесной связи, но для характеристики хороших отношений со всевозможными нюансами» [223, с. 16]. Под категорию φίλος нередко попадали даже деловые партнеры.
См. замечания А. Каждана [81, с. 20]. Пренебрежение дружбой А. Каждан отмечает также и для современника Пселла – Кекавмена. О понятии «дружба» в переписке Пселла см. также статью Тиннефельда [307].
Как уже отмечалось (см. выше, с. 191), за время, прошедшее после первой публикации этой книги, появилось много вполне квалифицированных изданий и переизданий произведений Пселла.
<Последние годы принесли некоторый сдвиг в отношении к византийской литературе. Сейчас уже перестали быть редкостью работы, авторы которых склонны признавать определенные художественные достоинства за отдельными из произведений византийских авторов. А.П. Каждан предпринял попытку написать историю византийской литературы, строящуюся не по традиционному «жанровому принципу», а рассматривающую византийских писателей как творцов и создателей belles-lettres. К сожалению, из задуманного шеститомного труда ученому удалось закончить только два, охватывающих историю литературы VIII–X веков. Подробно о круге проблем, связанных с «художественностью» византийской литературы, см. в моей дискуссионной статье J. Ljubarskij, 1998.>
В этих традициях написаны и две книги Х.-Г. Бека [137; 138], призванные на новом этапе заменить уже устаревающий труд К. Крумбахера [227]. Лишь в последнее время стали раздаваться голоса, ратующие за иной принцип построения истории византийской литературы [см. 82, с. 284, 71, с. 21].
Следует отметить, что еще П. Безобразов намеревался посвятить второй том своего исследования творчеству Пселла [65, с. IV]. Однако обещание русского ученого так и не было выполнено.
Риторические произведения Пселла разделили судьбу всей византийской риторики, на неизученность которой еще в 1940 г. жаловался Ф. Дэльгер [BZ, 40, 1940, S. 356, Amn. I]. Речи Пселла очень плохо используются даже как исторические источники. В то же время некоторые энкомии (особенно эпитафия Михаилу Кируларию) содержат факты, отсутствующие в других исторических сочинениях.
*<В последние годы риторические произведения Пселла и других византийских авторов все больше занимают внимание византинистов и как исторические источники, и как литературные памятники. Новая литература, касающаяся этих проблем, приводится нами в комментариях к пятой главе этой книги.>
Форме и времени написания «Хронографии» сам Сикутрис посвятил содержательную статью [см. 301].
Этих же проблем частично касается и Дж. Хассей [204].
Отдельные наблюдения над художественным методом Пселла содержатся в разделе о литературе «Истории Византии» [77 (II), с. 379 и сл.].
См. нашу рецензию [96].
Подробней см. нашу рецензию [97]. Книга эта вызвала единодушную критику и других рецензентов [см. 311; 306].
Византия была, как известно, самой «читающей» страной средневековой Европы. В то же время представления византийцев о литературе пока не привлекали внимания ученых. Можно назвать только несколько специальных работ, посвященных литературным взглядам автора «Библиотеки» Фотия [см. 261, 196, 231]. <Моя попытка определить литературно-эстетическую позицию Михаила Пселла и особенно противопоставить ее взглядам и мнениям его современников вызвала решительные возражения С.С. Аверинцева (С. Аверинцев, 1986, с. 19 сл.; перепечатано в: С. Аверинцев, 1996, с. 255 сл.). С.С. Аверинцев, правда, не столько оспаривал мои аргументы, сколько защищал свою общую (впрочем, не им одним исповедываемую) концепцию, согласно которой во взглядах и теориях византийцев не присутствовало никакого индивидуального начала или тем более каких бы то ни было четко выраженных индивидуальных воззрений. Естественно, в таком случае в Византии не могло возникнуть и «ситуации спора» как следствия развития идей, художественных методов и т. п. Поскольку мои расхождения со взглядами С. С. Аверинцева на византийскую словесность, как оказалось, носили общий и принципиальный характер, я счел возможным вступить в полемику с ним (Я. Любарский, 1988).>
Риторика и поэтика существовали как отдельные предметы школьного преподавания, но под поэтикой (ποίησις) подразумевались уроки метрики и версификаторства [см. 236, с. 252]. Все, касающееся оценки и исследования литературного произведения, еще с периода поздней античности – область риторики.
Литературных проблем в некоторых своих сочинениях касается и Арефа. В двух случаях писатель характеризует сочинения своих современников [37 (I), № 32, 51], в одном защищается от обвинений в неясности (ἀσάφεια) его собственного произведения (№ 17).
В составленном нами списке отсутствуют три из перечисленных Гермогеном элементов: μέθοδος, κῶλον, ἀνάπαυσις. Они тоже встречаются у Пселла, хотя и несравненно реже. Μέθοδος [15, с. 56.309; 13, с. CXIII. 16]; ἀνάπαυσις [15, с. 54.221; 16(I), с. 104.19]; κῶλον [57 (III), рр. 698.8; 699.24].
Книги Гермогена играли исключительно большую роль в византийском риторическом образовании. Нетрудно было бы показать, что и пселловские определения стиля писателей и риторов восходят к гермогеновским ἰδέαι. В отношении Фотия это сделано, например, Ортом [261, с. 46 и сл.].
Любопытный в этом отношении пример: Пселл, в отличие от Фотия, ни разу даже не называет по имени Ахилла Татия и Гелиодора, романы которых он разбирает.
В применении к древнерусской литературе Д.С. Лихачев пишет: «В письменности было “одновременно”, а вернее вневременно все, что написано сейчас или в прошлом. Не было ясного сознания движения истории, движения литературы, не было понятия прогресса и современности, следовательно, не было представлений и об устарелости того или иного литературного приема, жанра» [87, с. 15].
<Оба трактата ныне переизданы А. Дейком: A. Dyck, 1986, р. 40–51.>
Ср. в уже цитированном месте этого сочинения: Григорий, писавший не в подражание древним, был «сам по себе первозданной статуей словесной прелести» [15, с. 48.22 и сл.].
Проблема «вдохновение – правила» отнюдь не впервые возникает в сочинениях Пселла. Она была хорошо известна античной эстетике. См. статью Ф. А. Петровского [101].
Подробно см. об этом у Кустаса [231, с. 139]. Ученый оперирует главным образом примерами оценок Фотием творчества христианских писателей, но аналогичные характеристики содержатся и в разделах, посвященных античным авторам. Эсхил, например, заслуживает похвалы за то, что речь его, самобытная и оригинальная (αὐτοψυὴς καὶ αὐτοσχέδιος), поражает скорей своей «природой», чем «искусством» [PG, р. 103, col. 117].
Кустас усматривает в позиции Фотия, который «видит в каждом авторе, более того, в каждом произведении самодовлеющий психологический феномен», черты христианского мировоззрения.
Характеристику, данную Дионисием Демосфену, см. [41 (I), с. 144.1]. Образ Протея в таком же контексте неоднократно встречается и у Пселла.
Ср. слова Пселла об императрице Зое: «Как наиболее искусные риторы, преобразовалась она в зависимости от лиц и обстоятельств» [20 (I), с. 62.19 и сл.].
В другом случае Пселл с осуждением отзывается о риторах, речи которых разностильны и непохожи на самих себя [1 (I), с. 149.29 и сл.].
*<Представления Пселла, согласно которым стиль и язык произведения должен определяться конкретными обстоятельствами, подробно разбираются У. Крискуоло (U. Criscuolo, 1982). Итальянский исследователь показывает, как этот принцип осуществляется самим Пселлом. Замечания У. Крискуоло в целом совпадают с моими наблюдениями.>
Ср. наблюдения Д.С. Лихачева над системой литературных жанров Древней Руси: «Литературные жанры Древней Руси имеют очень существенные отличия от жанров Нового времени: их существование в гораздо большей степени, чем в Новое время, обусловлено их применением к практической жизни. Они возникают не только как разновидности литературного творчества, но и как определенные явления древнерусского жизненного уклада, обихода, быта в самом широком смысле слова». И дальше: «...жанры различаются по тому, для чего они предназначены» [86, с. 48 и сл.].
<Также и в итальянском переводе: in apporopriato ordine (Psello Michele, 1984, I, p. 273.>
Такое же противоречие наблюдается и в античных литературных теориях: строгое разграничение и в то же время допущение смешения жанров [291, с. 4 и сл.].
Пселл ни разу не упоминает Афтония, равно как и Менандра, по имени, может быть, он не знаком с их сочинениями, хотя, конечно, прекрасно знает излагаемые ими положения.
В энкомии Лихуду Пселл пишет, например, что храм, воздвигнутый последним, можно было бы хвалить за «соразмерность и гармоничность, за совершенную уравновешенность колонн» [1 (IV), с. 415.24–26].
В предисловии А. Егунова в кн. «Гелиодор. Эфиопика» [74, с. 27] эта оценка романа приписана Фотию.
<3наменитое античное «смешение приятного с полезным» тоже встречается однажды у Пселла в речи к ученикам: «Иной миф, – считает писатель, – несет с приятным и полезное» (Psellus Michael, 1985, р. 92. 140–141)>.
χάρις, ἡδύς, κάλλος – наиболее часто встречающиеся понятия и определения в стилистической критике Фотия [см. 261, с. 96].
Ср. у Болдуина: «Из-за своего рода интеллектуальной близорукости они (греки позднеантичного периода. – Я.Л.) ограничивают после своего зрения параграфом, периодом, даже словом. Их эстетическое чувство, так сказать, фрагментарно» [132, с. 20]
Особенно много замечаний, касающихся содержания произведений, находим в сочинении об Ахилле Татии и Гелиодоре. Ср. также в энкомии Симеону Метафрасту [16 (I), с. 104.10 и сл.].
Об этом Аристине см. выше, с. 264 сл.
Нельзя не заметить противоречия между двумя последними фразами писателя. Ученики не хотят слушать, если Пселл говорит что-либо вопреки Гермогеновой науке (οὐκ ἀποδέχονται, εἴ τι παρὰ <τὴν> τοῦ Ἑρμογένους τέχνην φθέγξομαι), таким образом Пселл – враг Гермогена. В то же время ученики хотят «оттащить его за нос от того, что создал Гермоген» (βούλονται γὰρ με ἕλκεσθαι τῆς ῥινὸς ἀφ’ ὧν οὖτος ἐποίησεν), и получается, что Пселл – почитатель Гермогена. В данном случае можно предположить порчу текста, причем скорее всего в первой из приведенных фраз, где уже издатели текста ощущали необходимость восстановления артикля τήν. Выпад против Гермогена явно противоречил бы воззрениям писателя. <Иначе толкует последнюю фразу Пселла А. Дейк, предлагающий вместо ἀφ’ ὧν читать ὑφ’ ὧν. Таким образом, предложение должно означать: «ученики желают, чтобы учение Гермогена водило меня за нос» (A. Dyck, 1986, р. 32).>
Не заметил противоречия в тексте и неточно передал слова Пселла Ф. Фукс [180, с. 32 и сл.]. О. Шиссель, ссылаясь на Фукса, прямо говорит о враждебности Пселла Гермогену [285, с. 273]. Это уже противоречит истине.
Ср. пассаж из опубликованной в 1973 г. эпитафии Афанасию. Последний, «помня о молоке», не пренебрегал более почтенной пищей (речь идет об обучении Афанасия). И далее: риторика, заявляет Пселл, породила, вспеленала и вскормила его молоком (γαλακτοτροφήσασα) [313, с. 278.59 и сл.].
<Речь ныне издана: Psellus Michael, 1985, р. 88–93)>.
По мнению Фукса [180, с. 32 и сл.], Пселл выступает против тенденций, которые в дальнейшем привели к возникновению напыщенной риторики комниновского времени.
Защите этого идеала посвящено два больших полемических сочинения Пселла [16 (I), с. 361 и сл.; 7].
Письмо это написано в период, когда Мавропод удалился от дел в монастырь и, видимо, на старости лет все более склонялся к аскетической жизни.
Непереводимая игра слов: ὑποψελλίζει τὸ μέλλος – Пселл намекает на свое фамильное имя.
В опубликованной в 1975 г. статье Т. Миллер подробно разбирается «мотив оригинальности писателя» в применении к сочинению Пселла – «Слово для вестарха Пофоса». «Из каких побуждений Пселл прославляет самобытность Григория (Назианзина.– Я.Л.) и ради чего делает это?» – задается вопросом автор работы [99, с. 153]. Нам представляется, что решение этой проблемы нельзя найти, оставаясь в круге литературно-эстетических и риторических идей писателя. Его нужно искать во всей специфике как личности, так и творчества Пселла.
Краткая характеристика и предположительная датировка учтенных нами риторических сочинений дается в приложении, см. с. 498 и сл.
<3а истекшие 20 лет ситуация с риторическими сочинениями Пселла в определенной мере изменилась. Многие произведения, остававшиеся в рукописи, ныне уже опубликованы. Переизданы с учетом чтения нескольких рукописей ряд речей, изданных прежде только по одному списку. В большинстве случаев новые публикации отмечены нами в моих добавлениях к списку риторических сочинений.>
<Возродившийся интерес к риторике, наблюдавшийся уже в период написания книги, еще усилился за истекшее время как в русской, так и в зарубежной науке. Следует отметить, прежде всего, серию статей С.С. Аверинцева (опубликованы в: С. Аверинцев, 1996). Появилась даже – впрочем весьма поверхностная – книга о византийской риторике (G. Kennedy, 1980). Ряд работ, посвященных непосредственно риторике Михаила Пселла, принадлежит перу итальянских ученых – Р. Анастази, Дж. Вергари и других.>
Мы не станем здесь обсуждать аргументы сторонников и противников тезиса об упадке византийской культуры в VII–IX вв. Исчерпывающий материал по этому поводу собран в книге П. Лемерля [236]. Собранные Лемерлем факты неопровержимо свидетельствуют об упадке, они убеждают тем более, что сам французский ученый – противник этого тезиса.
Письма этого периода постепенно теряют свои информативные функции, все более превращаясь в замысловатую риторическую игру, цель которой продемонстрировать образованность и изощренность автора [см. 218, с. 14 и сл.; 104, с. 205 и сл.]. Ряд исторических произведений по языку и даже композиции (Vita Basilii) приобретает откровенно риторический характер [см. 121].
Оба типа этих риторических упражнений хорошо известны со времени второй софистики. Образцом для похвал насекомых Пселлу могла послужить знаменитая лукиановская «Похвала мухе».
В классификации риторических жанров следуем трактату теоретика III в. Менандра [53 (III), с. 368 и сл.].
Некоторые произведения Пселла находятся на грани светского и духовного красноречия (например, энкомии игумену Николаю, № 18). Таких сочинений, однако, немного, и они не меняют общей картины.
Схема «идеального» энкомия вычленена из трактата Афтония (IV в.) в уже упомянутой книге Барджеса [155, с. 289]. Номера страниц и строчек даются по соответствующему изданию. Римские и арабские цифры обозначают условный номер раздела и подраздела по Афтонию. Ἀνατροφή («воспитание») и παιδεία («образование») не подразделяются. Обычный в эпитафиях προσφώνησις включен в эпилог: Афтонием этот раздел (прямое обращение к покойному) специально не выделен. Синкрисис, предусмотренный схемой ритора, обычно встречается у Пселла в рудиментарном виде или включается в другие разделы.
Примером такого стилистического разнобоя может служить эпитафия Кируларию. Выдержанная в целом в обычном приподнятом стиле, она включает в себя большие разделы с почти деловым историческим повествованием, которые легко можно себе представить в составе пселловской «Хронографии» [см., например, 1 (IV), с. 313 и сл.].
М. Бахман и Ф. Дэльгер ошибочно считают автором такого «нововведения» Григория Антиоха (XII в.) [см. 180].
Исследователи античных биографий уделяли большое внимание хронологическому и «эйдологическому» принципу изложения материала (в последнем случае материал располагается «по добродетелям» героя). После известной книги Ф. Лео [237] считалось, что следование тому или иному принципу определяло тип античной биографии. Ср. у С. Аверинцева [60, с. 119].
<О росте авторского самосознания византийских писателей XI–XII вв. см.: A. Kazhdan and A. Epstein, 1985; J. Ljubarskij, 1991.>
Интересно в этой связи замечание Пселла, свидетельствующее о принятии им композиции такого типа. Рассказав о вступлении Ксифилина на патриарший престол, писатель замечает, что в своем повествовании он уже рассмотрел этого мужа как государственного деятеля и как монаха, ныне же следует взглянуть на него как на архиерея [1 (IV), с. 449.3 и сл.]. В другом случае, в традиционном извинении по поводу введения в повествование собственной персоны, Пселл заявляет, что будет это делать «и восхваляя и повествуя» (с. 427.1). Писатель как бы сам расчленяет свое повествование на «восхваляющие» и повествовательные (историко-биографические) части и добавляет к ним мемуарные разделы.
По принципу «житийной цепочки» построены эпизоды пребывания Феодоты в монастыре [1 (V), с. 44 и сл.], а также повествование о сестре писателя (с. 26 и сл.). Сближает энкомий с житийной литературой также большое число видений.
Это обстоятельство прекрасно подметил Х.-Г. Бек, писавший об энкомии внуку следующее: «Сочинение это могло бы с тем же успехом быть написано в форме лирического стихотворения, его одухотворяют удивительная нежность и искренность, любовь и отчаяние, гордость и печаль, а к тому же и немалая доля пселловской иронии» [135, с. 97]. К тому же типу относится и менее совершенная эпитафия дочери Стилиане (№ 14).
«Герой средневековых рассказов, – пишет А.Я. Гуревич, – не целостная личность, но некоторая совокупность разрозненных качеств и сил, действующих самостоятельно» [73, с. 269 и сл.].
σύννους καὶ πεφρικώς [1 (IV), с. 325.10]. Вместо πεφρικώς возможно следует читать πεφροντικώς . Сочетание этих двух причастий встречается у Пселла [20 (I), с. 2.9–10] и Атталиата [50, с. 66.14].
* <Сходные мысли развивает в специальной работе, посвященной энкомию Пселла, и Милованович (С. Milovanovič, 1984). Напротив, Дж. Вергари полагает, что моделью для Феодоты послужила Макрина из речи Григория Нисского, игравшая, по мнению итальянского ученого, роль парадигмы для женских персонажей в византийской литературе. В то же время Вергари склонен признать определенную самостоятельность Пселла в обрисовке образа матери. См.: G. Vergari, 1987. Ср.: G. Vergari, 1987–2; G. Vergari, 1990.>
К сходным выводам пришел немецкий исследователь Ф. Тиннефельд [307, с. 166].
<К сходным выводам об отношении Михаила Пселла к Григорию Назианзину пришел Е. Малтезе: см.: Е. Maltese, 1992; Е. Maltese, 1993.>
Чем меньше была способна риторика служить почвой для оригинального творчества внутри себя, тем больше играла она роль моста между античной и раннехристианской культурой, с одной стороны, и культурой «высокого» Средневековья – с другой. Риторика не только «иссушала», как это обычно считается, творчество средневековых писателей, но и оплодотворяла его развитым своим искусством и традициями, которые несла с собой. Об особой роли риторики вплоть до Нового времени см.: 159, с. 151 и сл.
Письмо Х.-К. Снайпса к автору от 16.1.1975 г. Снайпс сообщает о своем намерении издать «Хронографию» с учетом новой рукописи. <Покойный Х.-К. Снайпс так и не успел исполнить свое намерение. Чтения Синайской рукописи учтены в уже упоминавшемся итальянском издании «Хронографии».>
Наше внимание на «Краткую историю» обратил П. Шрайнер, который и прислал фотокопии рукописи.
<С этим моим предположением согласился Х.-К. Снайпс (К. Snipes, 1977; К. Snipes, 1982), но решительно отверг их В. Артс (W. Aerts, 1980/81).>
<Подробное сопоставление обоих текстов см.: W. Aerts 1980/81. Критически оценил выводы Артса Ван Дитен (J. L. van Dieten, 1985).>
<Все обнаруженные текстовые соответствия отмечены в комментарии к изданию «Краткой истории». Проблеме источников этого произведения посвящен специальный раздел предисловия (р. XXIII–XXV).>
<О субъективном характере «Краткой истории» и многочисленных случаях «авторского вторжения» в ее текст подробно см. в моих статьях: Ljubarskij, 1993; Я. Любарский, 1994, перепечатано в: Я. Любарский, 1999, с. 174–181.>
Все известные версии этого эпизода приведены в книге И. Рохов о Кассии [280, с. 5 и сл.].
И. Сикутрис полагает, что и эта лемма, и прибавленные к тексту названия отдельных разделов «Хронографии» Пселлу не принадлежат и являются добавлением редактора или переписчика [301, с. 62, прим. 5].
<Попытку объяснить отсутствие проэмия в «Хронографии» сделал Х.-К. Снайпс (К. Snipes, 1991, с. 318–337).>
Как уже отмечалось, Р. Анастази пытается датировать отдельные части «Хронографии», исходя из посылки, когда Пселлу «выгодно» или «невыгодно» было их опубликовать. По мнению ученого, к Мономаху в «Хронографии» Пселл относится резко отрицательно, лукавому царедворцу имело практический смысл развенчать своего прежнего покровителя в период прихода к власти так называемой «военной партии» (время Михаила VI Стратиотика, начало царствования Исаака Комнина), когда ниспровержением былых кумиров нетрудно было доказать преданность новым порядкам. Эта датировка подкрепляется двумя аргументами аналогичного свойства. Один из них касается отношения Пселла к монахам, другой – к представителям «военной партии», Георгию Маниаку, в частности. По мнению автора, оценка обоих сословий в этой части «Хронографии» соответствует позиции Пселла раннего периода царствования Исаака. Таким образом, «Хронография», по Анастази, писалась не сразу, а частями, и в местах их соединений видны плохо заделанные швы.
<Времени и обстоятельствам написания второй части «Хронографии» посвящена статья М. Agati, 1991. Ср. также: W. Aerts, 1980/81; R. Anastasi, 1975.>
По словам Вриенния, Вотаниат «давно был назначен царем стратигом Анатолика».
<Насколько мне известно, моя атрибуция «Письма царя к Фоке» не вызвала серьезных возражений специалистов.>
<Проблему «историки – хронисты» я пытался подробнее осветить в своей статье: Я. Любарский, 1988.>
<Сомнение в том, что название (оно же – жанровое определение) «Хронография» принадлежит самому Пселлу, выразил Г. Хунгер (H. Hunger, 1978. 8. 377). Вполне основательно Г. Хунгеру возразил Р. Анастази (R. Anastasi 1978).>
По мнению Э. Рено (20 (I), с. 152, прим. 3], Пселл имеет здесь в виду, с одной стороны, Дионисия Галикарнасского, с другой – Скилицу. И то, и другое отождествление представляется нам недоказанным. Под греческими историками, писавшими о Древнем Риме, вполне могли подразумеваться Полибий или Дион Кассий, хорошо известные в Византии того времени. Что же касается Скилицы, то вряд ли он способен служить примером хронографической краткости. Трудно также предположить, что Пселлу в период написания первой части «Хронографии» уже было известно сочинение Скилицы.
<В итальянском переводе С. Ронкей – racconti. Комментатор итальянского издания «Хронографии» (У. Крискуоло) объясняет это как «ссылку на источники письменные и устные».>
Мы ссылаемся здесь и дальше на главки, на которые текст «Хронографии» разбит в издании Э. Рено.
Необходимость введения двух терминов будет очевидна из дальнейшего.
Пселл заканчивает второй раздел биографии словами: «Этого достаточно ему для энкомия». Характерно, что термином «энкомий» писатель обозначает здесь «эйдологический» раздел своего сочинения, по принципам построения действительно напоминающий энкомий.
<Л. Кресчи усматривает в этом пассаже заимствование из Гиппократа: L. Cresci, 1987.>
Пселл заканчивает рассказ об этом периоде: «Таков первый период (ὁ μὲν οὖν πρῶτος καιρὸς οὗτος), который вместо людей породил многочисленных животных, столь разжиревших, что потребовалось немало очистительных лекарств...» [20 (II), с. 118.3 и сл.]. Слово καιρός Сьютер переводит в данном случае crisis, Рено – circonstance. Между тем καιρός в этой биографии всегда имеет специфическое значение: «период». Так, говоря о некоторых скоропалительных мероприятиях императора, Пселл пишет, что Исаак =ὑπεράλλεται καὶ τουτουῒ τὸν καιρόν (с. 120.9), т.е. «перемахнул через этот период», как бы проводил нужные мероприятия, но не в свое время. Рено считает эту фразу неясной. Ср. дальше [20 (II), с. 121.10 и сл.]: «Если бы император предназначил для своих дел нужные периоды, то он бы вместо беспорядка установил бы порядок...» <Правильно в итальянском переводе С. Ронкей – fase.>
«Я не ставлю этому мужу в упрек начинания, но я осуждаю его за период (τὸν καιρόν), который он выбрал для своих ошибочных действий». «Повременим говорить о третьем периоде, подробнее расскажем о втором» [20(II), с. 118.28 и сл.].
«Таким образом, нрав императора изменился, кончился второй период, и с этого момента начался третий» [20 (II), с. 128.13 и сл.].
Второй раздел этой биографии – традиционное сличение характеров (синкрисис) братьев: Василия и Константина [20 (I), с. 2 и сл.].
Ссылки на литературу вопроса см. в статье Тернера [310].
Об эллинистических корнях византийской историографии X в. см. 121. 209.
Делая такое утверждение, трудно не вспомнить приведенные выше (см. с. 416) замечания Пселла о жанровой природе его «Хронографии». Ведь как раз о среднем пути между этими двумя линиями в историографии и говорит историк!
<Подробное сопоставление исторических сочинений Пселла и Атталиата см. в моей статье: Я. Любарский, 1992, перепечатано в Я. Любарский, 1999, с. 212–221.>
Не вызывает сомнений, что в данном случае под «некоторыми» (οἱ μέν) Пселл подразумевает других авторов жизнеописаний императоров. В английском переводе Сьютера – other writers (Рено переводйт – les autres hommes). В этом нас убеждают непосредственно следующие далее слова, где писатель противопоставляет собственную персону «большинству тех, кто посвящает себя жизнеописанию императоров».
Для биографии Константина Мономаха характерна усложненная рамочная композиция. Эпизоды заключены друг в друге «по принципу матрешки».
Последнее событие, о котором Пселл повествует в «первом рассказе», относится к 1049 г., первое датируемое событие во «втором рассказе» произошло в 1043 г. Таким образом, Пселл не только повторяет композицию, но и возвращается назад в чисто хронологическом отношении. И «первый», и «второй рассказ» начинаются с рассуждений о границах истории и энкомия. Это уже не только композиционная, но и смысловая параллель.
Нами выделены курсивом эпизоды, представляющие собой отступления от основного рассказа, столь частые в «Хронографии».
На плане можно легко видеть, как исторические эпизоды (они обозначены арабскими цифрами) служат у Пселла иллюстрацией черт характера или свойств императора (под буквенным обозначением).
<А. Калделлис полагает, что структура «Хронографии» определяется политической идеей, лежащей в ее основе, а также сложным переплетением философских и риторических представлений автора (A. Kaldellis, 1999). Ср. выше с. 205>.
Нас в данном случае интересуют не столько в большинстве своем компилятивные рассуждения о «метафизике души», сколько мимоходом брошенные замечания, больше отражающие собственные воззрения Пселла. Теории Пселла о душе излагаются и анализируются в книгах Зервоса [319, с. 148 и сл.] и Иоанну [212, с. 87 и сл.]. Ср. также статью Бенакиса [141, с; 213 и сл.]. В большинстве случаев Пселл опирается на античные теории от Аристотеля до неоплатоников, а также на сочинения Отцов церкви. Насколько приводимые мнения соответствуют собственным представлениям Пселла, часто остается неясным. К задачам настоящей работы пселловская метафизика души почти не имеет отношения уже хотя бы потому, что вне тела, «сама по себе» (αὐθύπαρκτον), душа, по Пселлу, вообще лишена каких бы то ни было индивидуальных черт, которые она приобретает, только соединившись с телом.
Об античных представлениях о характере смотри работы Кёрте [222] и Тиме [304].
Сам Пселл говорит об античном происхождении представлений о «разумной и неразумной части души» [1 (IV), с. 354.9 и сл.]. Эти взгляды, видимо, восходят к стоической этике.
<Об антитезе – не только риторической фигуре, но и стиле мышления византийцев см.: Н. Hunger, 1984.>
Во введении к трактату Никита Стифат ставит вопрос исследования: как человек может быть одновременно и порождением праха, и подобием Божьим?
<Ту же мысль мы встречаем во вновь изданной речи Пселла, обращенной к Константину Мономаху, где писатель мимоходом замечает: «Я составляю похвалу тебе не из внешних красот (ἀπὸ τῶν ἔξωθεν κόσμων), как это делают искусные риторы, но глядя на тебя, плету хвалу в соответствии с самим тобою (ἐφ’ ἑαυτοῦ) (Psellus Michael, 1994, р. 52.12–15). Мысль Пселла ясна: не канонические обязательные добродетели, а истинные достоинства императора должны прославляться энкомиастом. Конечно, Пселл вовсе не следует собственным советам, но само появление подобной идеи говорит о многом. >
Дедуктивный и противоположный ему индуктивный методы (при последнем читатель сам «выводит» характеристику персонажа, исходя из его поступков, речей и т.п.) – два параллельно существующих и взаимодействующих приема изображения героя. В научной литературе в этом контексте обычно говорится о «прямом» и «косвенном» способе характеристики [152, с. 5 и сл.]. Против такого членения возражал К. Берген [143, с. 7 и сл.], полагавший, что принципом классификации должны быть Urteilskategorien, т.е. те качества личности, на которые писатель обращает преимущественное внимание. Учитывая условность и вспомогательный характер всякой подобной классификации, следует признать, что оба критерия имеют право на существование.
Синкрисис играет в этой биографии роль « предварительной характеристики»; см. выше, стр. 427.
Ученик Платона философ Ксенократ отличался чрезвычайно мрачным видом.
Интересно, что о том же пишет Пселл в одном из писем к Иоанну Мавроподу [16 (II), с. 229]. Видимо, это действительно было особенностью императора.
Пселл неоднократно отмечает «неумеренность» (ἀμετρία) своего героя: «Мономах ничего не делал умеренно, но во все свои начинания привносил напряжение, резкость... Если он кого-нибудь любил, любовь его не знала меры; если он на кого-нибудь гневался, то очень преувеличивал, а то и выдумывал пороки этого человека» [20 (II), с. 60.18 и сл.].
Любовная тема у Пселла – небезынтересный предмет исследования. Вероятно, что связь с мотивами античного (а может быть, и средневекового) романа не ограничивается чертами случайного внешнего сходства.
«Одни из его деяний были хорошими, другие плохими» [20 (I),с. 124.9]; ср. заключительную характеристику: «Если отнять у него чрезвычайную невоздержанность, то в остальном его можно назвать самым человеколюбивым из всех людей» [20 (II), с. 71.16 и сл.]. Совершенно иначе (как резко отрицательное) характеризует отношение Пселла к Мономаху Р. Анастази [124, с. 175]. Ср. наши возражения в рецензии на эту книгу [95].
Образец такого построения дает и сам Пселл в Житии Авксентия.
<Безусловное исключение представляет собой А. Калделлис (А. Каldellis, 1999), книга которого стала нам доступна после сдачи в печать этой рукописи.>
Поскольку проблема эта представляет собой определенное единство, мы начнем ее рассмотрение без подразделения на жанры историографии и риторики.
*<В относительно недавние годы были опубликованы несколько работ о литературном портрете у византийских историков. Часть из них касается ранневизантийского литературного портрета у Малалы и его последователей, так называемых соматопсихограмм (Е. & М. Jeffreys, 1990; Я. Любарский, 1988–2, перепечатано в: Я. Любарский, 1999, с. 21–30; M. Kokoszko, 1998), другие посвящены изображению внешности героев у историографов ХI–ХII вв. (например, Garland, 1994). Обобщающую статью о византийском литературном портрете опубликовал недавно В. Артс. Некоторые из выводов голландского ученого совпадают с тезисами моих работ, которых Артс, естественно, не читал (rossica non leguntur!). По мнению ученого, портреты у Пселла более близки к реальности, нежели у Анны Комниной (W. Arts, 1997).>
Энкомиаст, по Пселлу, описывает «то, что украшает душу, то, что придает красоту телесной природе, и то, что дано герою его происхождением и озарением свыше» [16 (I), с. 180].
Нами учтены здесь следующие портреты: императрицы Зои [20(I), с. 120; (II), с. 49], Феодоры [20 (I), с. 120], аланки – любовницы Константина Мономаха [20(II), с. 45], младенца Константина – сына Михаила VII [20(II), с. 178], Василия II [20 (I), с. 22], Константина IX Мономаха [20 (I), с. 125; (II), с 30], Стилианы [1 (V), с. 68], кесарисы Ирины [16 (I), с. 167], младенца – внука [16 (I), с. 78], матери [1 (V), с. 6], отца [1 (V), с. 19], патрикия Иоанна [16 (I), с. 150].
Это утверждение настолько очевидно, что не нуждается в специальных доказательствах. Сошлемся на книгу К. Якса [208], где подобраны и систематизированы традиционные детали идеального женского портрета в античной поэзии.
Пселла можно заподозрить в заимствовании описания такой редкой детали, как ноздри: Μυκτῆρες… τοῦ ἀέρος σπῶντες ἐλευθέρως [1 (V), с. 69.29 и сл.]; ἡ δὲ ῥὶς ἐλευθέρα τοὺς μυκτῆρας [20 (II), С. 178.23]. Ср. οἱ μυκτῆρες ἐλευθέρως τὸν ἀέρα εἰσπνέοντες (Heliod., II, 35). Тот же образ есть и у Анны Комниной. Редким эпитетом для волос является ἡλιῶσα [20 (II), с. 26; с. 31.11]. Такой же эпитет встречается и у Гелиодора (Heliod., Ill, 4).
Примеры приводятся нами в греческом оригинале, поскольку перевод не может передать лексическое оформление мысли: ἐκεῖνον (Константина Мономаха.– Я.Л.) ἡ φύσις… οὕτω μὲν ἐμμελῶς συναρμόσασα οὕτω δὲ εὐρύθμως ἀποτυπώσασα [20 (II), С. 30.6 и сл.].
Тельце младенца-внука было ἐῤῥυθμισμένον τοῖς μέλεσι [16 (I), с. 80.21]. О кесарисе Ирине: ἡ σύμπασα ταύτης φύσις πρὸσ κανόνα καὶ ῥυθμόν ἀπηκρίβωτο [16 (I), с. 16.7 и сл.]. Понятия ритма и канона в последнем примере однозначны.
См., например, описание бровей, глаз, груди Василия II [20 (I), с. 22].
На это указывает Г. Хунгер, основывающийся на сцене из «Бельфандра и Хрисанцы» и свидетельствах некоторых других авторов. Этот обычай Хунгер остроумно сопоставляет с упоминанием «канона красоты» у Анны Комниной и Никифора Григоры [199].
Свидетельство того, насколько адинамия является идеалом Пселла, – портрет младенца-внука, которому приписывается размеренность движений и «солидность», как известно, очень мало свойственная этому возрасту. Даже грудь кормилицы ребенок брал спокойно и достойно [16 (I), с. 78.27].
А. Каждан пишет о византийской эпистолографии: «Подавленная сексуальность словно прорывается в раскованности терминологии, в сальности метафор» [78, с. 64].
Описание внешности императрицы Зои (как и ее супруга Константина Мономаха) вызывает в памяти читателя ассоциации с известными мозаиками в южной галерее константинопольской Св. Софии, изображающими царственную чету. Совершенно очевидно, что в обоих случаях изображения императорских особ условны, хотя и не лишены индивидуальных черт [ср. у В. Лазарева – 83, с. 116]. Чтобы избежать поверхностных аналогий и противопоставлений, автор хотел бы здесь уклониться от более подробного рассмотрения этого вопроса: проблема соотношения художественных принципов византийской литературы и живописи не может быть решена или даже поставлена на материале творчества одного писателя.
См. написанную в опровержение этой концепции статью В.И. Рутенбурга «Проблемы Возрождения» [106], там же основная литература вопроса.
Хорошую сводку воззрений современных ученых на проблему византийского гуманизма см. во введении к книге И.П. Медведева [98а, с. 3 и сл.]
Вполне вероятно, что более точным было бы употребление в применении к Византии ХI–ХII вв. термина «Высокое средневековье», тем более что таким понятием нередко обозначают западную культуру близкого периода. Ср. статью И.Н. Голенищева-Кутузова «Данте и Предвозрождение» [72, с. 83]. <О сдвигах в византийской культуре XI–XII вв. см.: A. Kazhdan, A. Epstein, 1985.>
О понятии τάξις в идеологии византийцев см. специальный раздел в книге Э. Арвейлер [119].
Р. Браунинг насчитал в XII в. 25 подобных процессов, в то время как в предшествующую эпоху их не было вовсе [151, с. 117 и сл.].
Ср. характеристику В.М. Жирмунского культуры Возрождения, которую можно с необходимыми оговорками распространить и на «предвозрождение»: «Определяющий момент в развитии новой ренессансной культуры в Западной Европе – не возрождение античной литературы и искусства само по себе, а факты более глубокого и общего порядка: эмансипация личности от сословно-корпоративной связанности средневекового общества, освобождение человеческой мысли от богословского догматизма, гуманистическое миросозерцание, делающее человека мерилом всех вещей, открытие и опытное познание мира – природы и человека, развитие светской гуманистической культуры, науки и искусства» [75, с. 87 и сл.].
