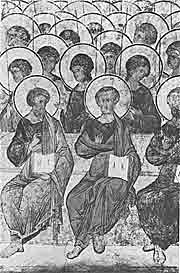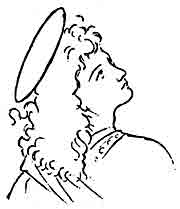Священник Павел Флоренский как-то заметил, что все таинственное – простое.
В этом сполна убеждаешься, изучая иконографию нимба.
И действительно, нимб иконографически, кажется, самый простой формоэлемент иконы. Но по тому содержанию, которое в нем заключено, нимб – из числа самых насыщенных и сложных.
Не обошло его вниманием и иконоведение. Однако места в богословских и искусствоведческих трудах ему уделялось мало. Наиболее представительная по объему работа была написана еще в XIX веке и сейчас забыта.1
С тех пор произошло много событий, и главное для нас в данном вопросе – раскрытие икон и фресок от записей, развернувшееся с начала XX столетия, что существенно повлияло на иконознание и его приумножило. Но в работах нового времени о нимбах сказано или весьма обобщенно, или однобоко.
Поэтому и есть смысл обратиться к иконологии нимба.
Начнем с самого слова. Оно попало в нашу речь при посредстве немецкого языка в XIX веке. Немецкое “nimbus”, означающее “сияние, венчик”, возникло на базе латинского “nimbus” – “туман, облако” (в котором, по представлению древних, “боги спускаются на землю”2).
Уже отсюда можно понять, что изначально имеется в виду содержание нимба.
У ираноязычных народов в глубокой древности сложился ритуал благодарения Бога за ниспосланную милость. В жизненном процессе этого ритуала образовался такой феномен, как сверхъестественный ореол из огня и света – “хварна”, термин, переводимый как “слава”, этот ореол связывался только с иерархически высокой личностью – царем. Этимология индоевропейского корня reg, который лежит в основании многих имен царей, говорит о нем в значении “свет”.
Вспомним обращение к князю во времена Киевской Руси: “Один брат, один свет светлый ты, Игорь!3 ” К братьям и дружине взывали: “Светы мои ясные, зачем потускнели вы?”4; а выражение “Ваша светлость”, адресованная высокосановным особам, просуществовало до знаменательного 1917 года.
В Ветхом Завете мы неоднократно встречаемся с образом славы Божией (kabod). А когда Моисей сошел с Синая со скрижалями, то “лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним” (Исх. 34:29).
Индоиранский синоним “золото = солнце = огонь” закрепляется и в античной культуре Греции. И не только в Греции, но и в культурах земель, с нею связанных. Нимбы известны здесь с эпохи эллинизма.
Уже древние поняли, что лицо есть проявленный “портрет” души. Голова – наивысшая – даже буквально, чисто физически и иерархически – часть тела. В этом, на наш взгляд, и заключается причина помещения солнечного диска, а потом и нимба за- или вокруг головы.
В том, что язычники знали нимб, нет, разумеется, ничего удивительного. Храм церковной культуры строился из тех лучших материалов, которые были на то время. На “гребнях передовых волн Истины” (о. Павел Флоренский) пришло к язычникам знание и о нимбах.
Совершенно логичным актом явилось воцерковление этого знания. Чем и объясняется появление нимба в христианском искусстве (с IV века в изображениях Христа, с V-го – в изображениях апостолов, а потом и святых). Напротив, не будь нимба как иерархически значимого и весомого символа, а отсюда претворенного в меру и модуль композиции, это искусство с неизбежностью теряет стройность и глубину.
В древности нимбы на Руси называли «окружками», с XIX в. – венцами. В этом была и своя логика – и ошибка. Но сначала о слове: ст.-слав. венецъ (греч. stefanos; знаменательно: имя самого первого христианского мученика – Стефан!), так вот, венецъ происходит от русск. вен “венок”, знакомого славянам еще с дохристианских времен.
Не случайно, видимо, “венец” известен в русском языке как декоративный головной убор, как деревянный или кожаный обруч, украшающий женскую прическу, как один ряд бревен в срубе...
Из Евангелия мы знаем о терновом венце, одеваемом на Иисуса Христа (отсюда выражение и понятие “принять мученический венец”). Здесь венец – не просто орудие пыток, а неоднозначный символ и практическое дело, получившее дальнейшую жизнь в христианстве. Венцы – также “необходимая принадлежность таинства Брака, отчего и самое бракосочетание называется венчанием”.5
Не исключено, что изображение растительного орнамента в нимбах – с одной стороны, дань памяти брачным венцам, которые в древней Церкви изготовлялись из древесных ветвей и цветов, а с другой – генетическая память ритуальных дохристианских венков, переосмысленных в христианском ключе, хотя последнее – менее вероятно.
Первохристиане любили цветы, о чем говорил еще Минуций Феликс в “Октавии”.6 Но к “дарам флоры” было отношение воцерковленное. Венки из цветов сливались в их сознании с венцами мученическими.
“Духовно символическое значение венцов в таинстве Брака, – по объяснению св. Иоанна Златоуста, – заключается в знаменовании победы, одержанной целомудрием <...>. Другое значение указывает самое последование венчания в словах: “Господи, Боже наш, славою и честию венчай я”7. Обратите внимание: “славою и честию”, то есть налицо присутствие темы славы в венцах. Отчасти именно так греки и понимали нимб.
Пришла пора разобраться в терминах. Слово “венец”, понимаемое как “нимб”, указывает на его приложение извне (венец – венок – головной убор – обруч и т.п.). Что выглядит крайне неточно во внутренних связях нимба и образа. На это же указывает и Л.А. Успенский: “Дело не в том, чтобы водрузить венец над головой святого, как в католических изображениях, где этот венец является своего рода световой короной, то есть прилагаемым извне, а в том, чтобы указать на сияние его лика”.8 Однако не можем согласиться с Леонидом Александровичем в двух пунктах:
1) если бы стояла задача только “указать на сияние” лика, то в таком случае не нужен и нимб – достаточно было бы изобразить сияние наподобие золотистых, солнцевидных лучей, как это часто делали и католики;

В логической цепи, ведущей в смысловую глубь нимба, как мы говорили, обнаруживается еще один символ – “облако”. В православном миропонимании он означает тайну Божественного присутствия. Облако являет Бога и вместе с тем Его прикрывает. Заметим, что этимология слова “облако” – цер.-слав. облакъ – связана в одних источниках со словом “оболочка” и вытекает из “об-волк” от “волоку, влеку”, в других – с утраченным “обволкати”, откуда ст.-слав. “облакати” – “окружать, одевать”.
В православной живописи существует несколько типов нимба. Наиболее часто – и чаще всего в самых выдающихся памятниках, особенно монументального искусства – с темной обводкой его золотой части. Эта обводка бывала разная, но преимущественно – в виде одной жирной линии или двух тонких, параллельных;
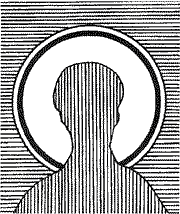
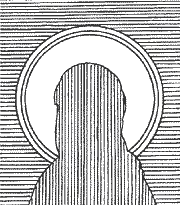
иногда они просто графья. И в том и в другом случае проводилась узкая полоска – светлая обводка – с внешнего края нимба, шириной, примерно, с темную, белого, но часто и того же цвета, что и внутренняя часть нимба. Такая иконография – самая распространенная, и нам представляется самой верной в параканоническом отношении. О чем и говорит ее содержание. Обратим внимание сначала на темную обводку. Поскольку ее присутствие в подавляющем количестве памятников обязательно, постольку напрашивается вывод, о некой ограничительной функции обводки: она нечто вроде “рамы” для света, идущего от святого. Речь здесь, разумеется, о духовном свете – о Свете, который по Дионисию Ареопагиту, “происходит от блага и является образом благости”.
Из современных авторов о свете интересно размышляет архимандрит Рафаил (Карелин). В своем слове на Преображение Господне он уточняет: “Православная церковь учит, что есть три вида света.
Первый вид – чувственный. Сотворенный свет, свет физических энергий, поддающийся измерениям и характеристикам.
Второй – интеллектуальный, присущий человеку, душевный, также сотворенный свет. Это свет суждений и представлений, свет воображения и фантазий. Свет поэтов и художников, ученых и философов. Душевным светом обычно восхищается полуязыческий мир. Этот свет может быть интенсивным и ярким, вводить человека в состояние интеллектуального экстаза. Но душевный свет принадлежит земле. Духовные сферы для него недоступны.
Третий вид света – несотворенный, Божественный, откровение Божественной Красоты на земле и явление вечности во времени. Этот свет сиял в пустынях Египта и Палестины, в пещерах Гареджи и Бетлеми (древние грузинские обители), он воплощен в словах Священного Писания, в церковной литургии и православных иконах”.9
Ареопагит имеет в виду, безусловно, этот третий вид света, сияние которого сообщает всем разумным существам благо в соответствующей их воспринимающим способностям мере, “а затем увеличивает его, изгоняя из души незнание и заблуждение. Этот свет превышает все разумные существа, находящиеся над миром, является “первосветом и сверхсветом”.10
В западнохристианской живописи, особенно эпохи Возрождения, такая ограничительная обводка собственно и есть нимб, или, как мы говорили, точней – “венчик”, “венец”. А сам нимб – уже не символ, но только знак святости. Здесь налицо однозначное решение. Посмотрите на картину Лоренцо Лотто “Обручение святой Екатерины и святые Иероним, Антоний Аббат, Георгий, Себастьян, Николай Баррийский”, и вы увидите вместо нимбов просто золотые обручи с бликами внешнего физического света. И тут дело отнюдь не в Лоренцо Лотто. Такие же “обручи” мы находим и у Джованни Беллини в его “Алтаре Сан Джоббе”, и у Лоренцо Коста в его “Св. Себастьяне”, и у Рафаэля в “Святом семействе” (1506 год), и у Леонардо да Винчи в “Мадонне Бенуа”, и у многих, многих других мастеров. И данный вопрос не замыкается только на итальянцах; подобное решение нимба встречается, например, у голландца Рогира Ван Дер Вейдена (“Оплакивание Христа”) и у француза Жоржа де Латура (“Св. Себастьян”). Здесь суть дела не в национальном, а в католическом толковании.
Нимб в православной иконе, оставаясь символом святости, является и формой, раскрывающей Божественную природу сверхсвета. “Слава Тебе, показавшему нам свет!” – восклицает священник в последней части утрени. Святой в христианстве и выступает прямым свидетелем истины, понимаемой именно как свет. Но здесь значение нимба, конечно же, не ограничивается сказанным. Светлая обводка с внешнего края нимба есть своеобразная оппозиция темной: если последняя – СОкровенная оболочка, выполняющая скрывающую функцию (она есть богословие апофатическое), то первая – ключ, ОТкровение, возможность для молящегося увидеть Свет еще на земле; она играет в данном случае роль раскрывающей функции (катафатическое богословие). Отсюда и белый цвет обводки, то есть символически единосущный золоту, но разный субстанционально.
Но и этим сказано не все. Необходимы уточнения. Золото само по себе не испускает света, а лишь отражает его от реального источника; так и свет святого по природе принадлежит не лично ему, а Богу, и светится во святых, как солнце в золоте; “праведники воссияют как солнце”, по слову Евангелия (Мф. 13:43), “ибо они станут по благодати тем, что Бог есть по природе”11, – пишет В.Н. Лосский, то есть речь идет о благе данном, дарованном – “благо + дати”, – а не о какой-то “самовспышке”, “самовозгорании” света в человеке. Подвиг святости и есть добровольный отказ от самости, борьба с ней. Когда преп. Серафим Саровский просиял этим светом благодати перед Н.А. Мотовиловым, о чем он молился накануне? – “Господи! Удостой его ясно и телесно глазами видеть, то сошествие Духа Твоего, которым Ты удостаиваешь рабов Своих, когда благоволишь являться во свете великолепной славы Твоей!”
Символическое значение трансцендентности сверхсвета вступает в оппозицию, с одной стороны, к реальному сверкающему свету золотого нимба, с другой – к его изобразительному решению как материальной плоскости. Обратите внимание на росписи Успенского собора во Владимире, выполненные преп. Андреем Рублевым, и, особенно, на композицию “Страшный Суд”. Нимб тут мощное материальное средство в построении пространства; нимбы свободно перекрывают лики и фигуры, и, в свою очередь, также перекрываются разведенными руками Ангелов. В мозаике церкви св. Димитрия в Салониках на нимбах ктиторов висят драпировки.
Нимб и мандорла, однако, таинственно-запредельные детали в иконе. Это, пожалуй, такие загадка и тайна, решение которых предполагалось найти только на сверхчувственном уровне, когда человек приобретает способность прозревать мир “пакибытия”. Здесь мыльными пузырями лопаются все схемки узкого рационализма. “Верно, что предложенный в культурном символе смысл прозрачен и общезначим, а именно в той мере, в которой это есть «смысл», то есть нечто внутри себя прозрачное и общезначимое, но столь же верно, что он и “загадочен”, а именно, в той мере, в какой он объективно дан – задан – загадан нашему сознанию извне инстанциями, от последнего не зависящими. В этой загаданной внутри-себя-ясности – суть символа”12.
Но если нимб – загадка, тайна, неизвестность, то мы снова встречаемся с антиномическим построением: оппозиция самой смысловой стороне предмета, то есть тайна-неизвестность уравновешивается известной явленностью святого.
Отсюда нимб не только Свет, но и изображенная суть, то есть явление и визуальное и понятийное. И на понятийном уровне спорящее по важности с визуальным. Если, как мы убедились, в западнохристианском искусстве венец – даже не условный, а условленный знак святости, то нимб в восточнохристианском – само графическое выражение сути изображаемого. Этим, видимо, и объясняется, что построение иконы начиналось именно с места выбора на плоскости иконы нимба. А “нимб главной фигуры помещался в вершине равностороннего треугольника со стороной, равной ширине иконы”13.
Другими словами, нимб (и еще мандорла) принимался иконописцем в качестве главного композиционного элемента. Его радиус служил мерой высоты человеческой фигуры. Более того, размер нимба связывался даже с размерами храма: радиус апостольских нимбов из “Страшного Суда” в Дмитриевском соборе и “Спаса в силах”, что в Успенском соборе (оба во Владимире), равны 1/100 длины собора по центральной оси.
Нимб выстраивается тремя частями, как и храм в целом: светлая обводка – темная обводка – внутренняя часть = притвор – корабль – алтарь.
Сама собой напрашивается мысль о придании изографами нимбу вселенского смысла. Помещение меньшего космоса в больший можно, наверное, считать довольно традиционным и типичным приемом, применяемым в практике церковного искусства.
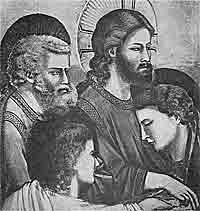
Если нимб при виде со спины все-таки переносился на второй план и помещался как бы перед лицом, то нимб превращался в подобие кокошника, и изображение получалось малоубедительным; не случайно, наверное, к такому приему не прибегал больше и сам Джотто.

Вернемся к византийскому нимбу. В Православии, во всяком случае, до нового времени, нимб совершенно не знает ракурса. Это закон. Примеров обратного здесь просто нет. Почему?! Дело в том, что круг нимба понимался иконописцем как обозначение вечности, причем, подчеркнем, в сознании художника возникает очень устойчивое тождество “круг = вечность”. И древний термин «окружок» это убедительно удостоверяет. Любой ракурс нимба будет уже не идеалом круга и, значит, названное тождество разрушается.
Отметим, что круглый нимб – это еще и знак отсутствия времени, но, изменившись по форме, он может быть и знаком, указывающим на время. Последнее подтверждается существованием четырехугольного нимба. Его мы видим на мозаиках церкви св. Димитрия в Салониках (VII век): “Св. Димитрий с епископом Иоанном и эпархом Леонтием” и “Св. Димитрий с неизвестным диаконом”. По мнению Л.А. Успенского, он означал то, что человек изображен при своей жизни. И здесь есть, разумеется, своя предыстория. Еще античный автор Варрон высказывается о скульптурах Поликлета как о “квадратных” (guadrata). И он был не ироничен. Для древнего грека это звучало похвалой. Выражение “квадратный человек” неоднократно встречается у Аристотеля. В трактате “Риторика” он отмечает: “Является метафорой называть хорошего (agathos) человека – четырехугольным”. У Платона в “Протаторе” читаем: “Действительно, трудно сделать человека хорошим, совершенным во всех отношениях”. А.Ф. Лосев переводит этот платоновский термин “совершенный” как “четырехугольный по рукам, ногам и уму”16. В христианском сознании число “4” прочно воспринимается символом материального мира: мир имеет четыре стороны света, четыре времени года, он состоит из четырех элементов. Поэтому квадрату придается исключительно земной смысл.
По унаследованной еще из Древней Греции традиции, стихия земли символизируется кубом, а стихия огня – шаром. На плоскости куб и шар изображаются в проекции как квадрат и круг. Отсюда нимбы часто представлены высоким рельефом в виде золотой сферы вокруг головы (см. псковскую икону “Архангел Гавриил” из ГРМ). Да и в иконах нового времени, дружно одетых в роскошные “ризы”, нимбы делались сферами еще чаще.
Получается интересная цепь: Au (лат. Aurum – золото) – aureolus (ореол) – аура – нимб. По всей видимости, нимб иногда и воспринимался своеобразным подобием ауры, если исключить из нее все оккультные аксессуары.
Итак, приходим к заключению, что четырехугольный нимб в византийской иконографии свидетельствовал прежде всего о земном времяпребывании человека.
Но символика данного нимба тоже не ограничивается лишь одним значением. Иначе символ превратился бы в знак.
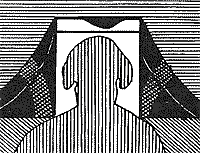
Теперь остановимся на цветовой символике. Цвет круглого и прямоугольного нимбов делался разным: если первый, как правило, был золотым или цветом, имитирующим золото, то второй – белым. В плане смысловых значений это выглядит специально осознанным: неизмененное вечное золото – и – стерильная, светоносная белизна, родственная с Божественным фаворским светом. То есть сохранялась духовная близость, но различность их реальностного существования.
Есть примеры красных, синих, зеленых, сине-зеленых, белых, оранжево-красных, оранжевых нимбов.
В каждом случае иконописец прибегал к трактовке, исходя из символики непосредственно этих цветов.
Особо следует остановиться на черном нимбе. Новгородский иконописец XIV века, работавший в церкви Федора Стратилата на Ручью, в настенной росписи “Евхаристия” изображает с ним Иуду17. Потому что, с одной стороны, Иуда еще ученик Христа, окончательно не совершивший своего предательства (потому – и нимб), с другой – в Иуду уже вошел “князь мира сего”, и вместо прежней благодати теперь царствует мрак ада. Для древнерусской живописи это необычный подход, как в решении самой композиции «Евхаристия», так и в трактовке нимба.
Остался не проанализированным нимб самого Христа. Очень многое, пожалуй, все основное, сказанное раньше относительно золотого нимба, применимо и здесь. С той только разницей, что надо помнить о Христе как об источнике Света и Жизни. Но добавим еще два вопроса: 1) что означает крест на нимбе? и 2) что означает надпись на кресте нимба? Ибо только данными двумя особенностями, собственно, и отличается иконография Христова нимба от нимбов святых.
Чтобы ответить на первый вопрос, следует посмотреть, какое место вообще занимает крест в христианстве. Кресту придавался вселенский смысл, и Крест понимался и понимается в качестве света “Лица Господня”. Именно связь света Христа с Крестом продиктовали неакцентированное внимание цвету креста: он в подавляющем большинстве икон делался таким же, как нимб, то есть световые субстанции креста и нимба были совершенно одинаковы, вселенский же смысл Креста отражался в надписи, которая и наносилась непосредственно на крест: ООН – Сущий, Сый; которая обрастала немалым количеством легенд и мифов.
Очень часто в русских иконах над буквой омега ставится буква “т” .
Она-то и была подтверждением упомянутых мифов. О. Павел Флоренский наблюдал, что “сельские батюшки, и за ними крестьяне, иногда объясняют детям, ученикам церковно-приходских школ, крестообразный венец Спасителя <...> как сокращенное: Он Отец Наш <...>, где от есть, очевидно, уже действительное сокращение слова Отец”.18

Наконец осталось разобраться в том, почему изображение каждой перекладины креста сопровождалось одной вверху и двумя внизу линиями, а не одной, скажем, с обеих сторон. И. К. Языкова считает, например, что данные “девять линеечек” означают “9 ангельских чинов, славу Божию”.19 Возможно, Ирина Константиновна права. На наш же взгляд, дело здесь в следующем. Во-первых, эти “девять линеечек” есть именно крест. Причем призванный подчеркнуть идею центра, сердцевиной которого является сам образ Господа, и “линеечки” – ни что иное, как направление движения: от центра – изнутри вовне. Во-вторых, две линии внизу указывают на толщину креста, Креста как вполне материальной формы, имеющей за собой реальную историю-правду. И в то же время это опять оппозиция материального по форме креста духовной сущности креста и нимба. Особого правила, предписывающего, с какой стороны показывать толщину на вертикальной части креста, не существовало. Обычно она соответствовала тому ракурсу, в котором изображалась голова Христа. И применение такого приема служило не подчеркиванию ракурса, а его подрифмовке.
Трапециевидное утолщение концов креста, за темной обводкой, но часто и внутри нимба – суть посюстороннее проникновение Креста, предсуществовавшего миру и самому времени, а точнее, “разбегание” славы Креста во вселенную, выраженное графически.
Не станем останавливаться на иконографии нимба Саваофа в иконе “Отечество”: Седьмой Вселенский Собор разъяснил невозможность изображения Первой Ипостаси Св. Троицы Ее невоплощением: во плоти был явлен и зрим только Сын; Большой же Московский Собор (1666–1667 гг.) вообще поставил под запрет изображение Бога Отца. Значит, названная иконография церковно противозаконна.
Но существуют еще нимбы треугольной, шестиугольной, восьмиугольной формы... Они тоже не относятся к каноничным, так как сопровождают те символические изображения, которые запрещены или противоречат решениям Пято-Шестого Вселенского Собора. А значит, не входят в круг рассматриваемых нами вопросов.
Теперь обобщим сказанное. Как символическая форма нимб имеет свою родословную и в ветхозаветной культуре (на уровне идеи), и в древних культурах нехристианских народов. Но, попав в христианские условия, он наполняется новым содержанием и становится главной деталью (разумеется, после изображения самого святого) в иконе. Его статус – асоциален. Если у индо-иранских племен прообраз нимба – огненный ореол – связывается исключительно с царским именем, то в христианстве нимбоносец не царь, а великий подвижник, молитвенник, мученик, независимо от его социального положения. Отдельные административные попытки были обречены: святость указом не вводят, ее обнаруживают.
В большинстве случаев древний изограф старался придерживаться параканонических положений в иконографии нимба, особенно когда дело касалось монументальной работы. Отсюда в византийской, южнославянской, христианско-восточной и древнерусской живописи такая иконография на всем протяжении средневековья наименьшим образом была подвержена изменениям и, несмотря на различные национальные культуры, оставалась однотипной. Потому что осознавалась православной.
А когда под воздействием западных ветров церковное искусство Православия начало менять свои очертания, то оно, прежде всего, перестало быть каноничным.
И, значит, целомудренным.
Примечания:
1 Стефаниил. Нимб и лучезарный венец в произведениях древнего искусства. СПб, 1863.
2 Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1971. С. 292.
3 Слово о полку Игореве // Художественная проза Киевской Руси XI–XII веков. С.243.
4 Повесть о разорении Рязани Батыем // Художественная проза Киевской Руси XI–XII веков. С. 273.
5 Настольная книга священнослужителя. Т.4. С. 689.
6 Ранние Отцы Церкви. Брюссель. 1988. С. 589.
7 Настольная книга священнослужителя. Т. 4. С. 689.
8 Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. Париж: изд. Западноевропейского экзархата МП, 1989. С. 139.
9 Рафаил /Карелин/, архим. Великие христианские праздники. СПб.: Новый город, 1997. С. 85–86.
10 История эстетической мысли. Т.1. М.,1985. С. 340.
11 Лосский В.Н.. Богословие света в учении св. Григория Паламы // Журнал Московской Патриархии. 1968. № 4. С. 56.
12 Аверинцев С.С. Предварительные заметки к изучению средневековой эстетики // Древнерусское искусство. Зарубежные связи. С. 378.
13 Гусев Н.В.. Некоторые приемы построения композиции в древнерусской живописи XI–XVII веков // Древнерусское искусство. Художественная культура Новгорода. М.,1968. С. 128.
14 См.: Мазаччо “Исцеление тенью”. 1426–1427 гг. Капелла Бранкаччи, Церковь Санта Мария дельКармине, Флоренция; Мантенья: 1) “Св. Себастьян”. Художественно-исторический музей, Вена; 2) “Св. Эуфимия”. Музей и национальная галерея Каподимонте, Неаполь.
Кстати, такой же “диск” вместо нимба появляется и в русских иконах XVII века (“Илья Пророк с житием”. Втор. пол. XVII в. Из ярославской церкви Ильи Пророка).
Объективности ради, скажем, что “диск” присутствует, кажется, и в мозаике из церкви Санта Мария Маджоре (432–440 гг. Рим). Но этот пример свидетельствует лишь о поисках языка церковного искусства, а не о его норме.
15 См.: Порденоне “Св. Себастьян, св. Рох и св. Екатерина”. Церковь Сан Джовани Элемозинарио, Венеция.
Франческо Франча “Мадонна с младенцем и со святыми”. 1500 г. Эрмитаж, СПб.
Роберти “Мадонна с младенцем и со святыми”. 1481 г. Галерея Брера, Милан.
16 Лосев А.Ф.. Художественные каноны как проблема стиля // Вопросы эстетики. Выпуск 6, 1964. С. 364.
17 См.: Ковалева. В.М. Живопись Церкви Федора Стратилата в Новгороде. По материалам новых открытий 1974–1976 гг. // Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI– XVII веков. М., 1980. С. 166.
18 Флоренский Павел, свящ. Культ, религия и культура. Богословские труды. Сб 17-й. С. 113.
19 Языкова И.К. Богословие иконы. М., 1995. С. 61.