Декабрь
Память святого пророка Наума
1 декабря1
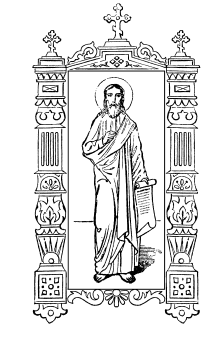
Святой пророк Божий Наум жил лет за семьсот до Рождества Спасителя. За двести лет до Наума пророк Иона по повелению Божию грозил ниневитянам разрушением Ниневии за великие беззакония жителей ее. Ниневитяне покаялись, и всеблагий Господь отменил строгий приговор. Но спустя некоторое время ниневитяне опять развратились; и тогда Господь устами пророка Наума открыл им страшные бедствия, которые постигнут их. Пророчество сбылось в точности. Ниневия, один из самых значительных и богатых городов Древнего мира, была дотла разрушена и разграблена врагами; разлитие реки Тигр довершило опустошение; и теперь едва можно узнать даже место, где стоял этот огромный город.
Дано было Науму провидеть и другие события и утешать верных служителей Божиих откровением евангельских обетований.
«Се, на горах ноги благовествующаго и возвещающаго мир, – восклицает он, – празднуй, Иудо, праздники твоя, воздаждь обеты твоя!» (Наум. 1:15).
Житие праведного Филарета Милостивого
в тот же день

«Блажени милостивии, яко тии помилованы будут», – сказал Господь наш Иисус Христос (Мф. 5:7). Эти слова исполнились над святым Филаретом, который за свою любовь и щедрость к бедным заслужил прозвание милостивого и сам получил от Бога превеликие милости.
Филарет, родом из Малой Азии, был человеком богатым и знатным. С ранних лет благочестивые родители внушили ему любовь к Богу и закону Его. Он женился и с семьей своей, женой и тремя детьми, жил в селении Амния в Пафлагонской области в совершенном довольстве. Кажется, трудно бы было найти человека счастливее его: семья жила дружно, богатства его умножались с каждым днем, ни печали, ни заботы не омрачали его жизни.
Как часто бывает, что, живя в таком довольстве, человек привыкает к самоугождению и забывает о бедных, терпящих нужду! Но Филарет был не таков. «Не для того Бог дал мне богатство, – говорил он, – чтобы я пользовался им один, а для того, чтобы я делился с бедными, с теми, которых на Страшном суде Господь не постыдится назвать братьями Своими. Какая мне польза от имущества, если стану от скупости беречь его? Поможет ли оно мне в день суда, который будет так страшен для немилостивых? Будет ли оно пищей и питьем в грядущем веке? Будут ли мне роскошные платья одеждой нетления? Конечно, нет. Апостол говорит: „Мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынесть из него“ (1Тим. 6:7). Если же ничего из земного имущества нельзя вынесть отсюда, то не лучше ли отдать его Богу руками нищих, а Бог не оставит ни меня, ни семьи моей; верю я пророку Давиду, который говорит: „Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и детей его просящими хлеба» (Пс. 36:25).
Рассуждая таким образом, Филарет так и действовал. Неимущих и несчастных полюбил он, как отец детей своих, и щедро раздавал им пособие. Весь край благословлял его; все нищие, больные, вдовы, сироты, странники находили у него приют, помощь и утешение.
Так прошло много лет. Но вот угодно было Господу попытать верного служителя Своего. Враги, измаильтяне, напали на область, в которой жил добрый Филарет, и, как буря и пламя, опустошили ее. Они разграбили все богатство Филарета, многих служителей его увели в плен, расхитили стада, завладели полями его. У Филарета остались всего только слуга и служанка, дом, в котором он жил, маленькое поле, пара волов и лошадь. С этими скудными средствами только постоянным трудом можно было доставать насущный хлеб для пропитания семейства. Филарет безропотно покорился воле Господней и стал сам обрабатывать поле свое.
Однажды он запряг волов своих и отправился на пашню. Работая, он славил и благодарил Господа, что Он привел его исполнить заповедь, повелевающую в поте лица приобретать себе хлеб, и, послав ему труд, избавил его от лени и праздности, столь опасных для души. В это время другой поселянин работал на соседнем поле, и вдруг пал у него вол. Поселянин очень огорчился: он был беден, а издохший вол принадлежал соседу. Он стал горько плакать. «У кого мне найти помощь? – думал он. – Случись это в прежние годы, я пошел бы к доброму Филарету, и он бы помог мне; но теперь он сам беден. А все-таки пойду к нему, расскажу ему все свое горе; он пожалеет меня и поможет хоть добрым словом». Он так и сделал. Филарет, видя печаль его, отпряг одного вола своего и дал ему. «Возьми, брат, вола моего, продолжай свою работу и благодари Господа», – сказал он ему, а сам отправился домой. Жена Филарета, узнав о случившемся, стала горько упрекать мужа. «Хочешь ли нас с голода уморить, – говорила она, – что отдал вола? Чем будешь ты обрабатывать свое поле? Ведь я знаю, что не из доброты, не ради Бога отдал ты вола, а ради себя, потому что привык жить в богатстве и праздности, и тебе лень трудиться и обрабатывать поле. Чем мы станем жить?» С кротостью отвечал Филарет на эти упреки, обнадеживал жену свою милостью Бога, Который за данное может воздать сторицею, а сам стал с сыном работать день и ночь, не зная почти отдыха.
Однако бедность усиливалась. Филарет почти лишил себя необходимого, но отказать нищему было выше сил его: так он отдал и другого вола, и лошадь; иногда снимал с себя одежду и отдавал неимущему. Жена, заботившаяся более его о житейских потребностях, часто бранила и упрекала его. Филарет говорил домашним своим: «Есть у меня сокровище, о котором вы не знаете»; но жена и дети не понимали его слов. Наконец дошли они до такой нищеты, что стали нуждаться в пище. Иногда соседи посылали им из жалости хлеба или муки; но и тут Филарет свою часть делил с нищими.
Богу угодно было вновь наделить богатством доброго и кроткого Филарета, и вот как это случилось.
Императрица Ирина, царствовавшая в Греции вместе с сыном своим Константином, пожелала женить его; были посланы сановники двора царского, чтобы со всей империи привезти красивейших девиц, из которых царь мог бы выбрать себе невесту. Посланные пришли и в то селение, в котором жил Филарет. Увидев издали дом его, который был всех больше, они захотели в нем остановиться, но жители села сказали им: «Хотя этот дом велик и снаружи прекрасен, внутри беден и пуст, в нем живет беднейший человек». Между тем Филарет, увидев незнакомых, которые шли к его дому, вышел к ним навстречу и стал их звать к себе, совершенно забыв о своей нищете и радуясь, что может дать приют путникам. Они вошли, а Филарет, поспешив к жене, велел ей готовить ужин.
– Что с тобой? – воскликнула она. – Из чего нам изготовить ужин! Нет ни ягненка, ни курицы в бедном нашем доме, а о масле и вине мы едва помним, когда они были у нас.
– Так, по крайней мере, разведи огонь, нагрей воды и приготовь комнату для странников; а может быть, Бог пошлет нам что-нибудь в помощь.
В самом деле, лишь только она начала исполнять сказанное, как в дверях показались старейшины селения; услышав, что у доброго Филарета гости, и зная нищету его, они поспешили помочь ему, кто чем мог: один нес барашка, другой курицу, иной масла, вина и проч. Филарет принимал с благодарностью все эти приношения и радушно угостил странников, которые расспросили его о семействе и узнали, что у него три молодые внучки; они пожелали видеть их и так поражены были красотой и скромностью одной из них, которую звали Марией, что непременно потребовали, чтобы она ехала в Константинополь, и Филарет с семейством отправился туда.
Десять молодых девиц были приведены на выбор царя. Мария, воспитанная в смиренномудрии, не ожидала себе блестящей участи, тем более, что одна из девиц, гордая красотой своей и знатностью рода, прямо говорила подругам своим: «Неужели вы думаете, что царь изберет кого-нибудь из вас? На меня точно падет его выбор, потому что я всех вас и красивее, и умнее, и знатнее». Мария с кротостью слушала эти речи, считая себя совершенно недостойной высокого сана. Но Господь возвышает смиренных, а помышления гордых сокрушает. На Марии остановился выбор царя. Женившись на ней, он и всему ее семейству оказал милость и почет: милостивому Филарету дал богатые дома и поместья.
Жена Филарета и домашние его тогда раскаялись в своем прежнем ропоте и просили прощения у Филарета. «Прости нам, – говорили они, – что мы в безумии грешили против тебя и поносили щедроты и милости твои к нищим и убогим. Что нищему дается, то дается Самому Богу, и Он воздает сторицею в этой жизни и блаженством в будущей. За добродетели твои возвысил тебя Господь и нас вместе с тобой». Среди величия и богатства милосердный Филарет оставался кротким и смиренным, как и прежде, радуясь только, что мог более помогать бедным.
Однажды он сказал жене своей: «Жена, сделаем богатый пир и позовем царя и вельмож его». Жена все приготовила, думая действительно роскошным обедом угостить царя и вельмож, а Филарет между тем пошел звать гостей. В назначенный день множество бедных, хромых, слепых, убогих собралось к нему в дом. Он вышел навстречу, радушно принял их и сам с семейством служил им. Видевшие это поняли тогда, что он действительно принимал Царя Небесного в лице нищих и убогих, ибо Господь Иисус Сам сказал: «Что сделали вы одному из сих братьев Моих меньших, то Мне сделали» (Мф. 25:40). Они говорили между собой: «Воистину этот человек весь Божий и настоящий ученик Христа, сказавшего: „Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем“ (Мф. 11:29)». Филарет, отпуская бедных, дал каждому по золотому. На дела милосердия Филарет употреблял богатство, данное ему царем, который, любя его, охотно поручил бы ему и важную должность, но Филарет удалялся от земного величия и хранил в сердце глубокое смирение. Он часто говорил: «Благодарю и хвалю Бога моего, Который воздвиг меня нищего от гноища и вознес на такую высоту, чтобы быть дедом царицы; этого с меня и довольно, более мне ничего не нужно».
Дожив до глубокой старости, Филарет получил от Бога извещение, что близок час кончины его; он заказал себе гроб, раздал нищим деньги, которые имел, и когда слег в постель, то, призвав к себе жену, детей и внуков, объявил им о близкой своей кончине. Они стали неутешно плакать; он же радостно и спокойно всех благословил и сказал им: «Вы знаете и видели, дети мои, жизнь мою. Господь дал мне сперва великое богатство, потом испытал нищетой и, видя, что я терпеливо и безропотно переношу посланное, вновь возвысил меня земной славой и посадил с царями и сильными мира сего, но я богатства своего не хранил в сундуках, а через бедных и немощных посылал его Богу. Прошу и вас, возлюбленные, не щадите скоротекущего богатства мира сего, но посылайте его в иной мир, куда я уже отхожу. Прошу вас, не забывайте страннолюбия, заступайтесь за вдовиц и сирот, посещайте больных и заключенных в темницах, не оставляйте собраний церковных, чужого не берите, никого не обижайте, не злословьте, не радуйтесь несчастью ни друзей, ни врагов, совершайте память по умершим и меня грешного в молитвах не забывайте».
После этого, сказав еще каждому из внуков несколько поучительных и пророчественных об их судьбе слов и помолившись о всем мире, он с просиявшим лицом запел псалом: «Милость и суд воспою Тебе, Господи» (Пс. 100:1), потом стал читать молитву Господню и при словах «да будет воля Твоя» предал душу Богу. Лицо его по смерти сохранило выражение радостного спокойствия, которое до глубокой старости придавало ему необычайную красоту. Когда весть о кончине его разнеслась по стране той, она возбудила всеобщее горе; царь и вельможи и великое множество нищих с плачем сопровождали до могилы тело милостивого Филарета.
Один сродник блаженного Филарета через день после его кончины видел дивный сон. «Я видел, – рассказывал он, – будто я перенесен в неведомое место и муж светлый указывает мне реку огненную, которая шумом своим устрашает меня. А за огненной рекой видится мне рай светлый и радостный. Там сладкое благоухание наполняет воздух, тихий ветер колеблет прекрасные деревья, покрытые плодами и цветами. Нет слов, чтобы описать все блага, которые Господь там приготовил для любящих Его. Там увидел я праведных, облаченных в белые одежды и наслаждающихся благами небесными. Между ними был один старец, которого я сразу не узнал. Он сидел на престоле золотом; с одной стороны окружали его дети новопросвещенные, держа в руках свечи, с другой – множество нищих толпилось, чтобы подойти к нему поближе. И я спросил у одного юноши: „Кто сей старец, сидящий на престоле посреди этих пресветлых мужей? Не Авраам ли?“ А он мне в ответ: „Это Филарет Амнийский, который за любовь свою к нищим и убогим и за чистое и праведное житие, как второй Авраам, водворяется здесь». Филарет, тут увидев меня, начал звать к себе. „Приди сюда, – говорил он, – да и ты те же блага получишь». А я ему: „Не могу, о преблаженный, река огненная мешает мне; через нее путь узок и мост неудобен». Он же говорит мне: „Дерзай и безбоязненно иди, ибо все, кто здесь, тем же путем шли, и нет пути другого». С этими словами он протянул мне руку, и я безопасно прошел через реку. Но едва коснулся руки его, как чудный сон исчез, и я, проснувшись, опечалился, думая, как я перейду реку огненную и достигну райских селений».
Память святого пророка Аввакума
2 декабря
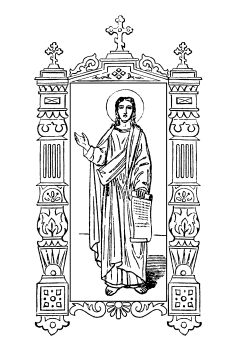
Святой пророк Аввакум за шестьсот лет до Рождества Христа пророчествовал о бедствиях, которые постигнут Иудею. Действительно, царь халдейский Навуходоносор взял Иерусалим, разорил город, храм и отвел в плен множество народа. Тогда и пророк Аввакум ушел в землю израильтянскую; но по удалении Навуходоносора возвратился на родину.
Он был человеком бедным и жил земледелием. Вот однажды изготовил он обед для работников, которые помогали ему жать поле его, как вдруг увидел ангела Господня, который говорил ему: «Аввакум, отнеси этот обед Даниилу в Вавилон, в ров львиный».
Удивился Аввакум и отвечал ангелу: «Господи, я от роду не бывал в Вавилоне и не знаю, где там ров львиный».
Тогда ангел, взяв его за власы, приподнял от земли и понес в Вавилон. А Вавилон был столицей Халдейского царства. Туда было отведено множество пленных иудеев и между прочими отрок по имени Даниил. Отрок этот сделался потом великим пророком Божиим, и даже царь халдейский чествовал его за мудрость. Но по зависти придворные сумели восстановить царя против Даниила, и пророк Божий был брошен в львиный ров. Завистники надеялись, что львы растерзают его, но Господь Бог хранил Своего верного служителя, который оставался здравым и невредимым среди голодных зверей. К этому-то пророку Даниилу и был послан Аввакум. Ангел поставил его близ львиного рва. «Даниил, – закричал он, – возьми обед, который посылает тебе Господь!» Даниил пообедал, и ангел отнес обратно Аввакума на место его жительства.
Оплакивая бедствия народа своего, Аввакум ободрял благочестивых между иудеями и внушал им упование на Бога, исходящего во спасение людей Своих (Авв. 3:13).

В тот же день совершается память святой мученицы Миропии. Эта молодая христианка жила в Эфесе с матерью своей; часто посещала она гробницу одной из дочерей апостола Филиппа, святой Ермионии, а миром, которое истекало от ее мощей, подавала больным исцеление. Началось при Декии жестокое гонение, и Миропия с матерью удалилась на остров Хиос, но гонение дошло и туда. Честный муж по имени Исидор был замучен за веру, и тело его было брошено на съедение птицам и зверям, но Миропия взяла ночью тело мученика и похоронила честно. Когда начальник области узнал, что тело унесено, он осудил сторожей на смертную казнь. Услышала об этом Миропия и поспешила объявить, что она ночью унесла тело Исидора. Правитель велел ее жестоко бить и заключил в темницу. В полночь, пока дева молилась, темница вдруг озарилась необычайным светом; лики ангельские предстали деве; посреди них был мученик Исидор, который сказал ей: «Мир тебе, Миропия, молитвы твои дошли до Бога, ты будешь с нами и приимешь венец, уготованный тебе».
Пока еще мученик говорил, девица предала душу Богу; вся темница исполнилась благоухания. Стражи изумились; один из них, видевший и слышавший все, что происходило, тотчас же просил Святого крещения и затем сподобился скончаться мученически за веру. Тело святой Миропии было благоговейно похоронено христианами.
Память святого пророка софонии
3 декабря

Святой пророк Софония пророчествовал за 610 лет до Рождества Христа. Предсказав бедствия, которые должны постигнуть Иудею и окрестные страны, он предвещал ей те светлые времена Новозаветные, когда Господь посетит народ Свой и изберет Себе людей кротких и смиренных, которые будут благоговеть о имени Господни и не возглаголят суетных, не сотворят неправды, будут призывать имя Господне, работати Ему под игом едиными.
«Радуйся, дщерь Сионова, – восклицает он, – проповедуй, дщерь Иерусалима. Отъял Господь неправды твои, избавил тебя из рук врагов твоих. Воцарится Господь посреди тебя и не узришь зла… Господь Бог твой в тебе; сильный спасет тебя!» (Соф. 3:14–17).
Житие преподобного Саввы Звенигородского
в тот же день

После славной битвы на Куликовском поле в 1380 году великий князь Димитрий Донской пришел в обитель святого Сергия благодарить Господа за дарованную ему победу, а святого Сергия – за его молитвы и благословение. Тогда же он открыл Сергию, что перед битвой он дал обет основать монастырь во имя Пресвятой Богородицы, и просил его совета и помощи в этом деле. Святой Сергий охотно исполнил просьбу великого князя; он обошел многие пустынные места и, выбрав место около реки Дубенки, заложил церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы и назначил настоятелем новоучреждаемого монастыря одного из учеников своих, инока Савву, который в Свято-Троицкой обители славился добродетелью.
В пустыне Дубенской блаженный Савва провел много лет в постоянной молитве и в строгом воздержании, научая словом и делом вверенных ему братьев. Когда преподобный Никон, преемник святого Сергия в Троицкой обители, пожелал уединиться, Савва шесть лет был игуменом Лавры, но по возвращении Никона из уединения вновь удалился в свою пустынь.
Однако недолго после этого оставался он в Дубенской пустыни. Сын Димитрия Донского, князь Георгий, которому он был духовным отцом, упросил его идти с ним в его удельный город Дмитров и после того – в его звенигородскую вотчину, где желал устроить монастырь. Для сей обители было избрано прекрасное место на горе, называемой Сторожи, оттого что там стояла стража на случай набегов литовцев, которые подходили к Москве с этой стороны; оттуда открывался чудесный вид на все окрестности. Помолившись, Савва заложил на этом месте деревянную церковь в честь Рождества Богородицы и, уступая настоятельной просьбе князя, согласился быть игуменом этой новой обители и построил себе около церкви маленькую келью. Вскоре слух о добродетельной его жизни привлек к нему много братьев.
Князь Георгий ревностно заботился о новой обители, построил в ней прекрасную церковь и часто посещал духовного отца своего, советуясь с ним и прося его благословения и молитв пред начатием каждого важного дела. После славной своей победы над болгарами он пришел благодарить преподобного Савву, благословившего его на эту войну. «Благий и милосердый Бог, видя твое благочестивое княжение, смирение сердца и любовь, какую ты оказал убогим, подал тебе такую победу над неверными, – сказал преподобный. – Твое сердце да утвердится в любви Божией, ничем мы не можем столь приблизиться к Богу, как милованием бедных; если так будешь поступать, то и сию жизнь управишь к благу, и вечные блага получишь».

В обители Сторожевской преподобный Савва прожил до глубокой старости и скончался, оплакиваемый всей братией, в 1407 году 3 декабря.
Много лет спустя, когда игуменом обители был Дионисий, ему явился во сне старец и сказал:
– Напиши образ мой.
– Кто ты? – спросил Дионисий.
– Я – Савва, начальник месту сему, – ответствовал старец.
Дионисий, проснувшись, расспросил о Савве у одного старца, который помнил его; рассказ старца вполне согласовался с образом того, кого он видел во сне. Дионисий был искусным живописцем; он написал по памяти образ преподобного.
Через некоторое время братья стали роптать на Дионисия и оклеветали его перед великим князем Иоанном, который и повелел призвать его к себе для разузнания дела. Игумен скорбел и беспокоился. Ночью явился ему Савва и сказал: «Что скорбишь, брат мой? Иди и говори безбоязненно; Господь поможет тебе!» Дионисий, восстав от сна, провел всю ночь в молитве. В эту же ночь преподобный явился тем, которые роптали на Дионисия, и сказал им: «На то ли вы оставили мир, чтобы в ропоте совершать подвиг иночества? Вы ропщете, а игумен ваш со слезами молится. Посмотрим, что одолеет: ваше ли роптание или молитвы отца вашего! Но помните одно, дети мои, что в сердцах строптивых не почивает ни смирение, ни благодать Божия». Затем Дионисий вполне оправдался перед великим князем и с честью возвратился в обитель.
Многочисленными чудесами Бог прославил угодника Своего. Один бесноватый, приведенный ко гробу преподобного, вдруг исцелился и рассказал потом, что, когда игумен осенил его крестным знамением, он увидел стоявшего на гробе старца с крестом в руках, из которого выходило пламя. Слепой прозрел, немой получил разрешение языка у гробницы преподобного. Слух о чудесах распространился, и многие стали приходить на поклонение гробу угодника Божия. Наконец царь Алексей Михайлович велел осмотреть гроб; и тело блаженного Саввы, уже 245 лет лежавшее в земле, было найдено нетленным. Святые мощи с великим торжеством были перенесены в новый гроб и поставлены в соборной церкви 20 января 1652 года. При этом торжестве присутствовали царь, святейший патриарх Иосиф и новгородский митрополит Никон.
В монастыре хранится предание, что открытию мощей послужил следующий случай. Однажды царь Алексей Михайлович, охотясь в лесах близ Звенигорода, удалился от придворных своих; вдруг из чащи леса огромный медведь устремился на него. Царь уже ожидал своей смерти, но внезапно явился около него старец в монашеском одеянии, от которого медведь побежал прочь. Удивленный царь спросил монаха об его имени. «Я Савва, – отвечал тот, – инок Сторожевской обители». Сказав это, старец пошел к монастырю, куда вскоре прибыл и царь со всеми приближенными. Царь спросил архимандрита об иноке Савве, но, к своему удивлению, узнал, что нет в обители монаха с этим именем. Тут, увидев образ преподобного Саввы, он узнал старца, явившегося ему в лесу, и, исполненный благодарности, отслужил ему молебен, а потом велел открыть его гроб. С этих пор царь Алексей Михайлович оказывал великое усердие к святому угоднику, часто посещал его обитель и украсил ее богатыми дарами.
Чудесные исцеления не переставали свидетельствовать о благодати Господней, прославившей мощи святого угодника. Подробное повествование о них находится в книге о житии его, хранящейся в Сторожевской обители.
Житие святой великомученицы Варвары
4 декабря

В царствование императора Максимианажил в Илиополе богатый и знатный человек по имени Диоскор. Жена его умерла, и единственную свою дочь Варвару он любил и хранил как зеницу ока. Он воспитывал ее со всевозможным попечением, но в язычестве, ибо сам был язычником. Девица была красоты необыкновенной. До совершеннолетия отец держал ее в удалении от всякого общества. В прекрасных своих чертогах, устроенных на высоком столбе или на возвышающейся выше столба башне, Варвара никого не видела, кроме наставниц и служанок своих. С высоты ее жилища открывался великолепный вид на находящиеся в отдалении горы, леса и равнины, на свет небесный и красоту земную. Однажды девица, засмотревшись на этот вид, впала в раздумье. «Чья рука, – думала она и спрашивала о том своих наставниц, – создала всю эту красоту?» Наставницы Варвары, язычницы, говорили ей о богах, создавших вселенную, но девица отвечала им: «Не может быть, чтобы все было создано богами, которым мы поклоняемся; они сами – создания рук человеческих, сделаны из золота, серебра и камня и не имеют ни чувства, ни разума. Верно, есть существо высшее и всесильное, истинный Бог, Который создал небеса, основал землю, Который просвещает всю вселенную лучами солнца, сиянием луны, блеском звезд, землю же украшает деревьями и цветами и орошает ее реками и источниками. Верно, есть един Бог, Который все содержит, все оживляет и всем управляет». Таким образом, созерцая красоту природы, девица возносилась мыслью и сердцем к Создателю, стараясь узнать Его. Не было у нее учителя, но Господь, по благости Своей, внушал ей эти стремления и готовил ее к уразумению истины.
Между тем шли годы, и Диоскор стал помышлять о замужестве Варвары. Много нашлось женихов, ибо известны были и красота Варвары, и богатство отца ее. Диоскор объявил дочери о своем желании выдать ее замуж; но она отвечала только слезами и просьбой не говорить ей о замужестве. Диоскор не захотел принуждать любимую дочь, надеясь, что она сама привыкнет к этой мысли; он даже винил себя, что воспитывал ее в таком одиночестве и удалении от людей. Зачем-то понадобилось ему отлучиться на некоторое время; уезжая, он приказал наставницам Варвары доставлять ей случай видеться с другими молодыми девицами и позволять выходить, куда захочет. Он надеялся, что, видя сверстниц своих, выходящих замуж и пользующихся удовольствиями мира, Варвара захочет последовать их примеру.
Вышло иное. Между молодыми девицами, с которыми сблизилась Варвара, были христианки. От них она услышала имя Господа, создавшего небо и землю; от них узнала, что Единородный Сын Божий Иисус Христос сошел на землю, сделался человеком и принял страдание и смерть, чтобы спасти людей от вечного осуждения. Сердце девицы, давно жаждущее истины и к принятию ее уже уготованное тайными внушениями Святого Духа, с неописанной радостью приняло благую весть спасения и исполнилось веры и пламенной любви к Богу. Одного она стала желать – сделаться христианкой. Вскоре это желание осуществилось. В Илиополь приехал из Александрии христианский священник. Узнав о желании Варвары, он приготовил ее объяснением закона христианского к принятию Святого крещения и окрестил ее во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Варвара была вполне счастлива и усердно старалась сделаться достойной имени христианки, проводила все дни в молитве и размышлениях о Боге и о явленных ей от Него благодеяниях.
В таком настроении Варвара однажды пришла к месту, где, по приказанию отца ее, строилась баня с двумя окнами. Созерцая в видимом мире выражение воли, силы и мыслей невидимого Создателя, девица хотела, чтобы в видимых делах человеческих выражались тайны Божии: она приказала устроить в бане вместо двух три окна, в знамение Пресвятой Троицы. В другой раз Варвара вошла и в само здание бани, при котором находилась купальня, кругом обложенная темным мрамором; она наклонилась и, занятая обычными мыслями о Спасителе, начертила на мраморе пальцем изображение распятия. Изображение это врезалось в мрамор, как будто бы оно было сделано железом, и при этом еще, по свидетельству святых мужей, описавших жизнь Варвары, отпечатлелась в купальне девственная стопа ее и открылся источник, вода которого сделалась целебной для верующих.
Диоскор возвратился и вскоре после того пошел осмотреть постройку; с удивлением увидел он три окна в бане вместо двух, которые он приказал устроить. Узнав, что это сделано по воле Варвары, он призвал ее. Она с твердостью объявила отцу, что она христианка и что, по ее мысли, три окна в здании бани служат указанием на три Лица в Едином Божестве – в этом неприступном, неизреченном, незаходящем и немерцающем Свете, просвещающем всякого человека, грядущего в мир. Она показала отцу и спасительное знамение креста, которым хотела освятить строившееся здание. Диоскор страшно разгневался. Язычники считали христианскую веру безумием и бесчестием и не понимали, что можно, презрев богатство и величие мира сего, поклоняться Тому, Кто умер постыдной, по их мнению, смертью на кресте. Диоскор стал жестоко бить дочь свою, потом на несколько дней запер ее в темную комнату, но, видя, что угрозы и наказания остаются равно бесполезными, он ожесточился и решился наконец отвести ее к правителю той страны Мартиану.
– Дочь моя отреклась от богов наших, – сказал он ему, – она верует в Распятого, и я отрекаюсь от нее. Если она не раскается и не поклонится богам, то она уже мне не дочь, а я ей более не отец. Поступай с ней как знаешь.
Мартиан сначала не мог верить твердости Варвары и, надеясь подействовать на нее ласковым обращением, стал хвалить красоту ее и кротко увещевал ее не отклоняться от древних отеческих обычаев, не раздражать отца непокорностью и не отвергать его любви и богатств, которые он собирал для нее. Но на это девица отвечала исповеданием и прославлением имени Христа, Который был ей дороже всех благ, богатств и радостей мирских.
Долго увещевал ее правитель. «Не губи ты молодости своей, – говорил он ей, – пожалей о себе, не вынуждай меня предать тебя мучениям». – «Хвалю Бога моего, – отвечала Варвара, – и готова быть жертвой за имя Его, ибо Он един есть Бог истинный, Бог, создавший небо и землю; ваши же боги ложны, и суетна надежда ваша на них».
Тогда Мартиан, убедившись, что увещания бесполезны, велел бить девицу воловьими жилами. Долго мучили ее, но ничем не могли победить ее твердой веры и, наконец, едва живую перенесли в темницу.
Чувствуя изнеможение от ран, Варвара со слезами умоляла Бога, чтобы Он не допустил поколебаться веру ее, но поддержал бы ее Своей помощью и силой. Молитва ее была услышана: ночью темница ее вдруг озарилась дивным светом, и девица с радостью и трепетом, чувствуя присутствие славы Божьей, увидела Самого Царя славы – Господа Иисуса, взиравшего на нее с неизъяснимым благоволением, и услышала от Него слова: «Дерзай, невеста Моя, и не бойся! Я, Господь Бог всесильный, охраняю тебя и смотрю на подвиг твой; Я облегчу твои страдания и приготовлю тебе за них воздаяние. Потерпи до конца и получишь вечные блага в Царствии Моем». Дивное видение кончилось, исполнив сердце девицы несказанной радостью. Раны ее вдруг исцелились, и она всю ночь провела в пламенной молитве к Богу, укрепившему ее и даровавшему ей небесное утешение среди страдания и скорби.
На другое утро Варвару вновь привели к правителю, который с удивлением увидел, что на ней не осталось и следа нанесенных ран, что она совершенно здорова и что лицо ее сияет радостью и неизреченной красотой.
– Вот видишь ли, девица, – сказал он ей, – как милостивы боги наши; они сжалились над тобой и возвратили тебе силу и здоровье. Поклонись же им и принеси им жертву в знак благодарности.
– Не твои боги исцелили меня, – отвечала Варвара, – меня исцелил Господь Бог Иисус Христос, врачующий всякую болезнь и мертвым дающий жизнь. Ему я с благодарностью поклоняюсь и приношу себя в жертву.
Тогда правитель вновь подверг ее истязаниям, но она, укрепленная верой, все переносила с терпением.
Накануне того дня, когда в первый раз мучили Варвару, в толпе стояла одна христианка по имени Юлиана. Она
с сердечным сокрушением смотрела на страдания мученицы. Когда святую повели в темницу, то и она пошла за ней и всю ночь просидела у окна темницы, все думая о Варваре, о пламенной вере, которая побудила ее в такой ранней молодости покинуть отца и все радости мира, чтобы исповедовать Христа и страдать за имя Его. Мысли эти пробуждали в сердце Юлианы горячую любовь к Богу; она со слезами молила Его, дабы Он и ей даровал такую веру, дабы вложил и в ее сердце твердость и готовность страдать за Христа. Когда Варвару вывели из темницы и опять предали мучениям, Юлиана молча смотрела на ее страдания, проливая горячие слезы, и вдруг стала громко славить истинного Бога и укорять правителя за его жестокость. Ее тотчас же схватили и привели к правителю. Она объявила, что она христианка, и ее предали мучениям, повесив рядом с Варварой. Святая Варвара, возведя глаза к небу, не переставала молиться: «Боже, испытующий сердца людей, – говорила она, – Ты знаешь, что, Тебя одного любя и Твои святые заповеди исполняя, я вся Тебе предалась и на сильную Твою десницу надеюсь. Не оставь меня, Господи, но взгляни милостиво на меня и на сострадательницу мою Юлиану, обеих нас укрепи и дай нам совершить до конца подвиг наш, ибо дух бодр, плоть же немощна». Бог исполнил ее молитву, и обе мученицы с терпением и твердостью перенесли ужаснейшие мучения, взывая ко Господу: «Не отврати лица Твоего от нас, Христе, и Духа Твоего Святого не отыми от нас. Воздай нам радость спасения и Духом владычним утверди нас в вере и любви Твоей». Наконец Мартиан, видя, что злейшие мучения не заставят их отречься от Христа, обеих осудил на смертную казнь.
Казнь должна была совершиться за стенами города. Сам жестокосердый Диоскор, держа в руке меч, вел дочь свою; воины вели Юлиану. Они обе молились. «Боже безначальный, – говорила Варвара, – Ты, распростерший небо, как покров, и основавший на водах землю, Ты, освещающий солнцем Своим праведных и злых, услышь меня, молящуюся рабу Твою, и пошли милость Свою тому, кто помянет меня и страдания мои, да не постигнет его смерть внезапная». Пока она еще молилась, услышан был с небес голос, призывавший ее и обещавший исполнить ее прошение; обе мученицы с радостью преклонили головы свои на отсечение. Сам Диоскор совершил над дочерью смертный приговор.
Диоскора и Мартиана в тот же день постиг гнев Божий. Поднялась гроза, и они оба были поражены громом и сожжены молнией, так что даже останков их нельзя было отыскать. Тела же святых мучениц были сняты и похоронены одним христианином по имени Галентиан. Он соорудил над ними церковь, в которой верующие обретали исцеление от недугов своих.
Теперь мощи святой великомученицы Варвары покоятся в Киеве, куда привлекают великое множество паломников. Они были внесены из Царьграда в древнюю столицу нашу греческой царевной, супругой великого князя Святополка-Михаила. «Варвару святую почтим, – поет Святая Церковь, – вражия бо сети сокруши, и яко птица избавися от них помощию и оружием креста, всечестная».
Житие святого Иоанна Дамаскина
в тот же день

В VII веке после Рождества Христова сарацины завладели сирийским городом Дамаском. В этом городе находилось довольно много христиан; победители обращались с ними жестоко; но, по особенному устроению Промысла, один христианин по имени Сергий, по прозванию Мансур, был ими помилован; они пощадили его и его семью, не отвели его в плен и не отняли у него имущества. Через некоторое время князь, или калиф, сарацинский полюбил его и поручил ему важную должность в городе.
Этот христианин имел сына, которого звали Иоанном; он воспитывал его в законе Господнем. Но по мере того, как рос Иоанн, отец его больше и больше сознавал и чувствовал нужду в человеке ученом, который мог бы обучить Иоанна разным наукам, и усердно молил Господа послать его сыну такого наставника. Молитва была услышана Богом.
Однажды Сергий увидел на городской площади большое стечение народа. Подойдя, он узнал, что сарацинские воины из набегов своих на соседние страны привели взятых в плен христиан. Иных они продали в неволю, других убивали. Между пленными один в особенности привлек его внимание. Он был черноризцем родом из Италии и пользовался великим уважением между своими сопленниками. Всякий из тех, кого осуждали на смерть, подходил к нему и, припадая к его ногам, поручал душу свою его молитвам. Сам же инок, как казалось, был погружен в неутешную печаль. Сергий подошел к нему и, узнав об имени, звании и отечестве, сказал ему:
– О чем скорбишь ты, человек Божий? Тебе ли страшиться предстоящей участи, когда ты и так отрекся от мира и принес в жертву Богу все радости земные, надеясь на радости вечные?
– Я не плачу о радостях земных, – ответил черноризец, – давно я умер для них, давно познал, что все в мире суетно и бренно, но о том плачу, что выхожу бездетен из мира сего и не оставляю по себе наследника.
Эти слова очень удивили слушателя.
– Да ведь ты инок? – сказал он. – Как плакать о том, что не оставляешь наследника, когда ты дал обет безбрачной жизни?
– Ты не понял меня, – отвечал черноризец, – я говорю о наследии духовном. Как ты видишь, я инок бедный, но, по благости Господней, с юных лет я обогатился познаниями, и это драгоценное наследство мне некому передать. Я изучил философию, богословие, науки о мышлении и о слове, музыкальное искусство, мне известны тайны природы, и, получив от Бога столько благ, я ни с кем не поделюсь ими и явлюсь пред Богом, как древо бесплодное, как раб, зарывший в землю порученный ему талант… Вот о чем я плачу!
Услышав эти слова, Сергий подумал: «Вот то сокровище, которого я так давно ищу!» – и, обнадежив черноризца милостью Господней, он поспешно пошел к калифу сарацинскому, упал к ногам его и убедительно просил отдать ему пленного инока. Князь согласился на его просьбу. Ученому иноку поручено было воспитание молодого Иоанна и другого мальчика – Космы, который жил с ним. Этот ученый инок, известный под именем Космы Святоградца, впоследствии написал иконы на важнейшие праздники.
Черноризец с усердием и любовью принялся за воспитание двух мальчиков, и полный успех был ему наградой за труды. Ученики его были умны и внимательны; молодой Иоанн в особенности отличался как способностями ко всем наукам, так равно кротостью и смиренномудрием. Когда Иоанн и товарищ его достигли совершеннолетия, добрый учитель их удалился в обитель Святого Саввы, где и остался до самой своей смерти, а Иоанн, пристрастившийся к наукам и чтению Божественных книг, думал посвятить всю свою жизнь ученым занятиям. Но ему вскоре пришлось пожертвовать своим желанием для блага других. Отец его умер, и калиф сарацинский поставил его правителем города Дамаска.
В это время императором греческим был Лев Исаврянин, жестоко гнавший почитателей святых икон. От этого происходили смуты и волнения между христианами. Святые учители Церкви наставляли их, изъясняя значение икон. Иоанн посланиями, или письмами, увещевал христиан не смущаться гонениями и ложными толками и твердо держаться постановлений Церкви. Эти письма, полные пламенной веры и живого красноречия, сильно действовали на христиан, но они дошли до царя и возбудили в нем ужасный гнев. Лев решился погубить Иоанна. Он оклеветал его перед князем сарацинским, послав последнему поддельное письмо, в котором будто бы Иоанн предлагал ему Дамаск. Князь, поверив письму и не выслушав оправданий Иоанна, жестоко наказал его, именно – приказал отрубить правую его руку и лишил должности. Однако вскоре невинность Иоанна открылась через чудесное, помощью Богоматери, исцеление его руки, и князь, раскаявшись, что так легко поверил клевете, возвратил Иоанну доверие свое и пожелал сделать его правителем всей области. Но давно уже Иоанн тяготился властью и богатством, давно желал удалиться от мира, чтобы в нищете и труде служить Господу. Он упросил князя отпустить его, и тот наконец согласился.
Тогда Иоанн раздал бедным все свое имущество, пошел вместе с Космой в Иерусалим, чтобы поклониться Гробу Господню, и оттуда в лавру Святого Саввы, основанную недалеко от Иерусалима. Придя туда, он стал просить игумена принять его в число иноков и научить его правилам иноческой жизни. Имя Иоанна давно было известно в Лавре, потому что он считался замечательнейшим и ученейшим мужем того времени; никто из монахов не соглашался принять его к себе учеником, всякий считая его несравненно выше себя. Наконец один старец, уважаемый в обители за простоту нрава и добродетельную жизнь, решился быть наставником Иоанну в монашеском житии.
Старец, справедливо почитая смиренномудрие первым основанием христианской добродетели и опасаясь, вероятно, чтобы высокие достоинства Иоанна не вселили в него гордости, требовал от него полного отречения от собственной воли. Он назначал ему и телесные труды, но требовал, чтобы вся его деятельность, как телесная, так и умственная, была полностью подчинена строгому закону послушания. Он поучал его отклоняться от мечтаний мирских, направлять все помыслы к Богу и совершенно отречься от самого себя ради любви к Господу. Иоанн должен был так овладеть волей своей и всеми мыслями своими, чтобы подчинять их совершенно воле руководителя. Для возведения его на такую высоту самоотверженного послушания старец наложил на него трудные испытания; он, между прочим, запретил своему ученику как писать что бы то ни было, так даже говорить кому-то что-либо, относящееся к наукам. Иоанн нелицемерно и беспрекословно повиновался повелениям старца, не человеку угождая, но всецело покорившись Христу.
Однажды старец, желая испытать смирение Иоанна, послал его в Дамаск, чтобы там на торжище продать в пользу монастыря корзинки, которые плели монахи. Иоанн охотно исполнил это поручение и, одетый в рубище, явился смиренным служителем в том самом городе, которым он некогда управлял в богатстве и величии. Такой подвиг не был тягостен для Иоанна. Предавшись Богу всей душой, он не мог дорожить земным блеском и величием и потому никакое состояние не считал для себя унизительным. Гораздо труднее была для него та совершенная покорность ума и мысли, которая от него требовалась. Отказаться по приказанию старца от наслаждений умственной деятельности – вот что было для человека, столь богато одаренного умственными способностями, высочайшим подвигом смирения. В этом подвиге труднее было ему выдержать искушение, и вот что случилось.
В Лавре умер один монах; у этого монаха был брат, который неутешно плакал о покойнике. Напрасно Иоанн старался утешить его. Сиротствующий просил у Иоанна одного – сочинить по умершему надгробный плач. Иоанн отказывался, боясь нарушить заповедь старца; но тот продолжал неотступно умолять его. «Если бы ты видел меня больным, – говорил он, – неужели бы ты не постарался помочь мне? Ныне я страдаю душевно, в твоей власти облегчить печаль мою; неужели ты мне не поможешь?» Долго Иоанн колебался между желанием помочь страждущему брату и обязанностью беспрекословно повиноваться воле старца. Но наконец, тронутый слезами несчастного, он написал ему в утешение надгробные песни, которые и доселе поются у нас при погребении: «Кая житейская сладость, человецы, что всуе мятемся? Вся суета человеческая» и проч.
Сетующий удалился, поблагодарив Иоанна, а Иоанн, оставшись один в келье, пел про себя сочиненную песнь. Старец, услышав его пение, спросил, что это значит. Иоанн рассказал ему о случившемся. Тогда старец стал строго упрекать его за непослушание и, несмотря на слезы и мольбы Иоанна, изгнал его из кельи, запретив возвращаться к нему. Старец с прискорбием и негодованием видел, что Иоанн не выдержал назначенного ему послушания. Сам Иоанн глубоко чувствовал это, потому что, изгнанный от своего руководителя, он, как говорит его жизнеописание, рыдал пред кельей старца, воспоминая изгнание Адама из рая за непослушание. Но напрасно он рыдал, скорбел, напрасно и другие иноки, любившие его, умоляли старца простить ему: старец был непреклонен.
Наконец, уже после нескольких дней, старец смягчился, возложил на Иоанна в виде епитимии тяжкую и унизительную работу. Но никакое послушание не могло казаться тяжким Иоанну – так глубоко сознавал он вину свою, так искренне каялся в ней. Он с живейшей радостью стал исполнять сказанное, и тогда старец, обняв дивного послушника своего, лобызал его голову, плечи и руки, восклицая радостно: «О, какого страдальца во Христе я породил! О, каков истинный свет Божественного послушания!» Принятый в келью своего отца-старца, Иоанн так радовался, как будто в самый рай был возвращен, и стал жить в единомыслии со старцем по-прежнему.
Спустя некоторое время старцу было во сне видение. Ему явилась Богоматерь и сказала: «Зачем загородил ты источник, из которого должна истекать вода сладкая и изобильная, вода, которую хотел пить Давид, которую Христос обещал самарянке? Дай ей течь, и она напоит вселенную, и покроет море ересей, и претворит их в чудную сладость, и жаждущие пойдут к ней. Иоанн примет пророческие гусли, Давидов псалтирь и воспоет песни новые Господу Богу!»
Старец, проснувшись, тотчас призвал Иоанна и сказал ему:
– Отверзи уста свои, чадо послушания Христова, и что Дух Святой написал тебе в сердце, поведай вселенной. Взойди на Синай Боговедения и познания Божественных тайн и восхвали в громких песнях славу Божью. Великое о тебе сказала мне Пресвятая Богоматерь. Мне же прости, – прибавил смиренный старец, – что, по грубости моей и неведению, я до сих пор препятствовал тебе.
С этих пор Иоанн стал усердно заниматься сочинением духовных книг и церковных песней. Он составил церковный октоих, или осмогласник, написал жития многих святых, опровергал ложные учения, изъяснял догматы веры и сложил почти все праздничные тропари. Ему мы обязаны пасхальными песнями, в которых дышит такое пламенное вдохновение.
Он первый из всех христианских учителей изложил догматы веры научным порядком в книгах о православной вере.
Новые гонения против почитателей святых икон вызвали его в Константинополь, где он смело обличал заблуждения иконоборцев.
Он скончался в преклонных летах в сане пресвитера в лавре Святого Саввы в 776 году.
Товарищ Иоанна, Косма, поступил тоже в иноки и впоследствии сделался епископом Маюмским. Он тоже сложил множество духовных песен и мудро пас паству свою.
Житие преподобного Саввы оСвященного
5 декабря
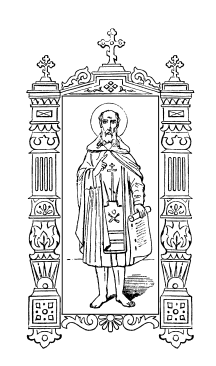
Блаженный Савва, основатель многих монастырей в Палестине и знаменитой лавре, известной под именем лавры Святого Саввы, родился в Каппадокийской области в IV веке от родителей богатых и знатных. По причине несогласия между родственниками, которым было вверено его воспитание, он еще восьмилетним мальчиком поселился в монастыре, где обучался грамоте, и так возлюбил монашеское житие, что постригся в монахи. Желая служить Богу в более уединенном месте, восемнадцатилетний юноша оставил монастырь, в котором жил, и отправился в Иерусалим поклониться Святым местам и посетить пустынников палестинских.
В это время очень славился преподобный Евфимий Великий. Савва захотел поступить в число его учеников, но Евфимий поручил его блаженному Феоктисту в соседнем монастыре; благословив его, он предсказал о нем, что он просияет в иноческой жизни, будет основателем обширной лавры и славным наставником всем палестинским отшельникам.
В монастыре Феоктистовом Савва предался совершенно Богу и проходил все монашеские службы с безропотным послушанием, со смирением, с усердным трудом, так что все дивились его высокой добродетели. Будучи послан в Александрию, он встретил на пути родителей, которые хотели было отклонить его от иноческого жития, но наконец уступили его слезам и мольбам.
Прожив лет двенадцать в монастыре, Савва пожелал большего уединения: он поселился в пещере и там проводил дни и ночи в молитве и труде. Работа его состояла в плетении корзинок, за которые ему из монастыря давали хлеб и овощи. Прожив таким образом лет пять, он присоединился к Евфимию Великому и после смерти этого великого подвижника жил некоторое время в пустыне Иорданской, в том монастыре, где славился преподобный Герасим.
Но преподобный Савва желал совершенного одиночества, чтобы полностью предаться молитве и богомыслию. Однажды, заснув после долгой молитвы, он во сне увидел ангела, который указывал ему пещеру на том месте, где находился иссохший поток Силоамский.
Восстав ото сна, Савва отправился туда, нашел пещеру и поселился в ней. Целый день и большую часть ночи он молился и пел псалмы, питаясь только кореньями, которые росли возле пещеры. Раз, собирая коренья в пустыне, он увидел четырех разбойников, изнемогавших и голодных; он высыпал пред ними собранные коренья, и с тех пор благодарные разбойники стали приносить ему иногда хлеба и плодов. Савва со слезами говорил себе: «О, горе душе моей! Эти люди за одно благодеяние так щедро платят; мы же, получая ежедневно от Бога благодеяния, не благодарим, а в лени и нерадении проводим дни наши, не исполняя Его повелений».
Так в постоянной молитве и совершенном одиночестве провел Савва несколько лет; потом стали приходить к нему другие, желавшие тихого и уединенного жития, и постепенно вся долина потока Силоамского заселилась пустынножителями. Отложив все заботы о здешней жизни, они на единого Бога возлагали все надежды свои; постоянно молясь, хранили безмолвие и строгое воздержание, – и Бог дивно охранял их. Предания о пустынножителях полны примеров чудесного промысла Божия о них. То дивным образом посылается им пища, то жаждущему среди знойной пустыни открывается неведомый источник, то наставленный Богом отшельник приходит к незнакомой пещере, в которой старец, не видав никого несколько десятков лет, называет пришедшего по имени, как всегда знакомого; звери пустынные послушно оставляют свои логовища в пещере, избранной святым пустынником для жилища; силой креста отгоняются бесовские страхи и видения, смущающие иногда одинокого пустынника, – одним словом, всемогущая десница Бога не перестает укреплять и охранять отшельников среди страданий, подвигов и трудов ими избранного жития.
После многих лет, проведенных в пустыне палестинской, Савва имел радость увидеть мать свою, которая, овдовев, поселилась в женской обители близ Иерусалима. Получив по смерти ее богатое наследство, Савва устроил несколько обителей и больниц, основал два странноприимных дома, один в Иерихоне, другой – при пещерах, из которых уже составилась лавра, или большой монастырь. Вокруг него уже собралось множество братьев, и патриарх Иерусалимский поставил Савву начальником над отшельническими обителями. Он наставлял братьев словом и примером своим, научал их кротости, смирению, безмолвию, упованию на Бога и полному отречению от собственной воли, с силой восставал против лжеучителей.
Он скончался мирно в пещере своей, девяносто пяти лет от роду.
Житие святителя Николая, Мирликийского чудотворца
6 декабря
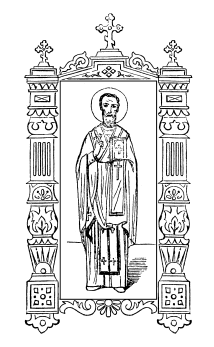
Много бедствий претерпела Церковь христианская. То язычники и иудеи воздвигали на нее жестокие гонения, то самые члены Церкви, отпадая от истины, смущали лжеучениями еще нетвердых в вере. Но Господь Бог, хранящий Церковь Свою, постоянно посылал христианам святых мужей, которые твердостью в страданиях и непоколебимой верой помогали слабым и немощным, утешали страждущих и укрепляли христиан в истинном понимании слова Божия. Таков был и святитель Николай, память которого празднуем мы два раза в год: 6 декабря, в день его преставления, и 9 мая, в день перенесения святых мощей его из города Миры в город Бари.
Святой Николай родился во второй половине III столетия в ликийском городе Патары. С ранних лет видно было в нем начало тех добродетелей, которыми он прославился пред Богом и людьми. Когда он достиг юношеского возраста, родной дядя его Николай, епископ Патарский, уговорил родителей его отдать сына на служение Богу и вскоре возвел его в сан пресвитера. Во время рукоположения епископ, исполнившись духа пророческого, обратился к народу и, указав на юношу, воскликнул: «Братия! Я вижу новое солнце, восходящее над землей и обещающее утешение всем скорбящим. Блаженно стадо, которое будет иметь его пастырем, ибо он приведет к истине заблудших овец, станет пасти их на пажитях благочестия и будет помощником всем страждущим!» Вся жизнь святителя Николая была исполнением этих пророческих слов. Он не переставал помогать страждущим, защищать невинных, укреплять слабых словом истины и веры.
По кончине родителей он все свое богатое наследство употребил на добрые дела, стараясь при том, чтобы его не знали те, коим он благодетельствовал, ибо он помнил заповедь Божию – делать добро втайне и не искать за него славы людской. Вот, например, одно из бесчисленных благодеяний святого Николая.
Один очень богатый житель города Патары вдруг лишился своего состояния и впал в ужасную нищету. Привыкнув к богатству, он не в силах был бороться с искушениями бедности и замышлял уже бесчестными путями доставать средства к жизни себе и своему семейству, состоявшему из трех взрослых дочерей. Но он еще не успел исполнить грешного намерения своего, как был спасен благовременной помощью святого Николая. Узнав о бедственном его состоянии, угодник Божий ночью бросил к нему в окно большой узел золота. Проснувшись поутру, несчастный отец едва мог поверить неожиданному богатству. Дела его поправились, и вскоре он выдал замуж старшую дочь свою. Святой Николай решился тем же путем устроить судьбу и остальных дочерей и через некоторое время опять бросил подобный прежнему узел золота. Пристроена была честно и вторая дочь, и обрадованный отец излил пред Господом чувства благодарности. «Милосердый Боже, искупивший нас Своей кровью и ныне удерживающий меня от греха и бесчестия, – так молился он, – покажи нам того, кто служит орудием благости Твоей, покажи нам того земного ангела, который спасает нас от греха и освобождает от порочных замыслов». Это желание исполнилось. Однажды ночью он услышал, как отворилось окно и брошен был такой же, как и прежде, узел. Он поспешно встал, побежал за своим благодетелем и узнал Николая, который в это время управлял Патарской епархией в отсутствие дяди своего, ездившего в Иерусалим. Он упал к ногам его и, проливая слезы благодарности, говорил: «Если бы не послал тебя Господь для спасения нашего, я не устоял бы против искушения и увлек бы в грех и бесчестие невинных дочерей моих».
По возвращении дяди святой Николай сам отправился на поклонение Гробу Господню и во время плавания молитвой укротил бурю на море и воскресил одного матроса, убившегося от падения с верха корабельной мачты. Все более и более воспламеняясь любовью к Богу, он поселился в одном монастыре и желал всю жизнь свою посвятить Господу и служить Ему трудами и лишениями монашеского жития. Но воля Господня предназначила ему другой путь. Раз ночью святой Николай, стоя на молитве, вдруг услышал голос, говоривший ему: «Николай, войди во всенародный подвиг, если хочешь от Меня получить венец!» В страхе и недоумении Николай размышлял про себя, что бы значило такое призвание. Тот же голос сказал вновь: «Николай, это не та нива, на которой ты можешь принести ожидаемый плод. Обратись к людям, дабы в тебе прославилось имя Мое». Тут Николай понял, что Господь указывает ему иную жизнь и требует от него не монашеского служения. Покорный воле Господней, он оставил избранное им житие и отправился в Миры, главный город Ликии, не зная еще, к чему предназначает его Господь, но готовый исполнить Его повеление.
В это самое время происходило в Мирах избрание архиепископа на место недавно умершего Иоанна. Собравшиеся из всех городов епископы затруднялись избранием и, понимая, что один только Бог может просветить и вразумить их, готовились к этому делу молитвой и постом. Господь Бог услышал молитву их и одному из них открыл волю Свою. Этому епископу во время молитвы явился муж, сияющий неземным светом, и повелел ему в ту же ночь встать у дверей церковных и ожидать приходящих. «Первый, кто войдет, – сказал он, – есть избранный Богом, имя ему Николай». Епископ поведал другим о случившемся и встал ночью у дверей церковных, а прочие епископы собрались в храме. Между тем святой Николай, прибыв в Миры, проводил почти все время в молитве и в эту ночь, по обыкновению своему, пошел в храм слушать утреню. Едва он вошел в двери, как епископ остановил его и спросил об имени. «Николай, раб твоей святыни, владыко», – отвечал он смиренно. Тогда епископ, взяв его за руку, привел в храм и поставил посреди прочих епископов. Молва обо всем этом быстро разнеслась, и народу сбежалось бесчисленное множество. Вразумленный видением, епископ обратился к народу и, указав на Николая, сказал: «Приимите, братия, своего пастыря, которого помазал Дух Святой и которому Он поручил управление душами вашими, которого поставило не собрание человеков, но определение Божие». Народ радовался и благодарил Господа. Сам же Николай в смирении глубоком, считая себя недостойным высокого сана, желал отречься от него, но покорился воле Господней и принял архиепископство. Патриарх Цареградский, святой Мефодий, повествует, что за некоторое время до этого Николай сам имел видение. Ночью ему явился Иисус Христос, сияющий славой, и вручил ему Евангелие, украшенное золотом и жемчугом, а с другой стороны Пресвятая Богородица возлагала на него святительский омофор.
Сделавшись пастырем Ликийской Церкви, святой Николай, всегда строгий к самому себе, еще более умножил труды свои; он рассуждал, что по новому сану и месту еще более прежнего должно жить не для себя, а для других. Он выбрал себе двух достойных сотрудников из пресвитеров и неутомимо заботился о благе тех, которые были вверены его попечению; всех принимал с отеческой любовью, выслушивал всякие прошения и жалобы, охотно подавал помощь и совет, с твердостью заступался за невинных и обиженных. Среди таких забот застигла его буря гонения, которая вдруг разразилась над Церковью христианской, пользовавшейся в течение почти пятидесяти лет спокойствием и тишиной. Это страшное гонение, начатое императорами Диоклетианом и Галерием, продолжавшееся десять лет, началось в городе Никомидии, где в самый день Рождества Христова сожжено в храме до 20 000 христиан. Оттуда гонение распространилось по многочисленным областям Римской империи; везде отыскивали христиан и предавали их мучениям и смерти. Невзирая на опасность, святой Николай продолжал безбоязненно проповедовать Христа и потому вместе со многими христианами был заключен в темницу, где просидел довольно долго, перенося с терпением и голод, и жажду, и различные страдания, не переставая словом Божиим утешать прочих узников. Наконец гонение прекратилось. Вскоре новый император Константин познал истинного Бога, даровавшего ему силой креста победу над врагами. Он освободил проповедников слова Божия и начал повсюду разрушать идольские капища и строить храмы истинному Богу. Тогда и Николай возвратился на свой архипастырский престол.
Кровавые гонения прекратились. Но вскоре наступило для Церкви не менее бедственное время. Начались внутренние раздоры. Некоторые лжеучители стали проповедовать ереси, расколы также смущали христиан. Так Арий, пресвитер александрийский, отвергал Божество Иисуса Христа; Мелетий, отставленный от фивского епископства за отступничество во время гонения, своевольно рукополагал епископов для египетских церквей и отвергал законные власти Церкви. Желая водворить мир в Церкви, император Константин в 325 году созвал в город Никею епископов из всех областей. Собралось их 318; это был Первый Вселенский собор.
На этом соборе, продолжавшемся около двух месяцев, составлен святыми отцами Символ православной веры (до восьмого члена) для общего церковного употребления. Ересь Ария и раскол Мелетия были осуждены. Рассказывают, что святой Николай в споре с Арием не мог равнодушно снести его богохульных слов и в присутствии всего собрания ударил его по щеке. За этот проступок святые отцы лишили было Николая архиерейских знаков. Но некоторые из достойнейших отцов собора сподобились чудного видения: они увидели с одной стороны его Господа Иисуса с Евангелием, а с другой – Божию Матерь с омофором. Узнав из этого, что Сам Господь и Пречистая Его Матерь возвращают Своему избраннику отнятое у него, святые отцы уже не осуждали дерзновенного его поступка и стали почитать его как великого Божьего угодника.
Возвратившись из Никеи, святой Николай стал опять в силе Святого Духа управлять своей паствой, утверждая в ней истинное учение и опровергая всякие ложные толки, могущие смутить верующих. Во всех делах обращались к его помощи; все были уверены, что найдут в нем защитника правых и карателя всякой несправедливости. Однажды, по случаю мятежа во Фригии, император послал туда трех военачальников, Непотиана, Урса и Ерпилиона, со значительным войском. Застигнутые бурей около берегов Ликии, они принуждены были пристать недалеко от Мир. Тут подчиненные им воины, сойдя с корабля, стали обижать и грабить жителей, и от этого произошла кровавая схватка. Услышав об этом, святой Николай немедленно прибыл к враждовавшим и увещаниями успел восстановить между ними согласие. Едва он покончил с этим делом, как из Мир пришли с известием, что в отсутствие архиерея градоначальник, подкупленный злыми людьми, осудил на смерть трех граждан, совершенно невинных, о чем все в городе сетуют и плачут. «С нетерпением ожидают тебя, владыко, – говорили ему вестники, – ибо все уверены, что если бы ты был тут, то не допустил бы такой несправедливости». Святитель со всевозможной поспешностью отправился в Миры, пригласив с собой и посланных от царя военачальников. Когда он вошел в город, несчастные были уже приведены на место казни. Уже палач обнажил меч, когда вдруг народ расступился, и святитель Николай, подойдя к палачу, вырвал меч из руки его и снял оковы с несчастных, которые с радостными слезами упали к ногам его. Никто не смел противиться великому пред Богом и людьми святителю. Градоначальник, чувствуя себя виноватым, стал было оправдываться, но святой Николай отвернулся от него и грозил ему гневом Бога и царя; и тот, исповедуя вину свою, стал смиренно молить о прощении.
Через некоторое время те самые военачальники, возвратившись на родину после усмирения мятежа, были оклеветаны префектом константинопольским, который был подкуплен золотом завистливых их врагов. Он донес царю, будто бы они умышляют произвести возмущение против него. Царь велел заключить их в темницу в ожидании суда. Но вскоре злобные клеветники, боясь, что на суде обнаружится невинность узников, убедили префекта вновь донести царю, что они и в темнице продолжают свои козни, и уговорить царя осудить их на смерть. Несчастные узнали об этом через темничного сторожа и поражены были ужасом, не зная за собой вины. Последняя надежда оправдаться была отнята у них, и они должны были погибнуть, как злодеи. Тогда один из них, Непотиан, вспомнив о том, как святитель Николай спас от смерти трех невинных граждан, стал заочно молить его о заступничестве и воскликнул: «Боже Николаев, избавивший трех узников от неправедной казни, призри и на нас, невинно осужденных, ибо нет нам помощника между людьми… Поспеши на помощь нам». Бог услышал молитву и послал несчастным помощь через Своего угодника, великого архиерея Николая. В эту же ночь царю явился во сне святой Николай и сказал:
– Отпусти трех военачальников, невинно страждущих.
И, объяснив все дело, присовокупил:
– Если же не послушаешь меня, то я объявлю против тебя войну, и ты погибнешь.
Царь, удивленный, спросил:
– Кто ты и как смеешь угрожать мне?
Святитель отвечал:
– Я – Николай, архиепископ Мирликийской митрополии.
Тот же сон видел и префект константинопольский и сообщил об этом царю, который на следующее утро, призвав трех военачальников, сказал им:
– Каким чародейством вы наслали на нас такой страшный сон и кто этот грозный и гневный муж, который требует вашего освобождения и смеет угрожать мне войной и гибелью?
Военачальники с изумлением смотрели друг на друга; не зная, что отвечать царю, они только могли уверять царя в своей невинности; вдруг, подняв глаза, они увидели рядом с царем святителя Николая и стали громко просить его о заступничестве. На вопрос царя, кто этот Николай, о котором они упоминают, они рассказали ему все, что видели в Мирах. Тогда царь, изумленный чудесным заступничеством святого Николая, тотчас освободил их, говоря:
– Не я вам даю жизнь, но Николай, великий служитель Господа, Которого вы призываете на помощь. Ступайте к нему, благодарите его и скажите, чтобы он на меня не гневался, ибо я исполнил его волю.
Царь дал им богатые дары для Мирликийской церкви. Прибыв в Миры, они поблагодарили святителя, спасшего их от смерти и бесчестия.
Много и других чудес совершил святитель благодатью Божией. Так, он спас от бури мореплавателей и потом, усмотрев в них грешные наклонности, привел их своими словами на путь раскаяния и исправления. Все эти чудеса подробно рассказаны в более пространном описании жития его. Удивительно было влияние слов его и даже внешнего его вида, освещающего Божественной благодатью сердца людей не только верных, но и неверных, которых он обращал к Богу и укреплял в вере. Достигнув глубокой старости, он скончался мирно после недолгой болезни; тело его погребено было в соборной церкви города Миры в 342 году по Рождестве Христове. Нетленные мощи его источали благовонное миро, от которого многие верующие получали исцеление.
Слух о святой жизни святителя Николая, о чудесах, им совершенных, распространился очень скоро по кончине его, и тогда же во многих странах стали воздвигать храмы во имя его и чтить его память. У нас в России имя святого Николая ознаменовалось многими чудесными явлениями благодати Божией, и Россия, с верой призывая на помощь великого святителя и чудотворца, чтит его как своего небесного заступника и покровителя.
«Правило веры и образ кротости, – поет ему Святая Церковь, – воздержания учителя яви тя стаду твоему, яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим.
В Мирех, святе, священнодействитель, показался еси: Христово бо, преподобие, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати».
Житие святого Амвросия, епископа Медиоланского
7 декабря

Святой Амвросий Медиоланский родился в 340 году в Галлии (нынешней Франции), где отец его был правителем. Он обучался наукам в Риме и там, по смерти отца, жил он с матерью, сестрой и братом; там же поступил в гражданскую службу и скоро обратил на себя внимание Проба, главного правителя Италии и епарха римского. Проб, который был христианином, полюбил молодого Амвросия и поручил ему управление двумя областями – Лигурийской и Эмилианской. Отправляя его туда, он советовал ему править с кротостью и справедливостью. «Управляй, – сказал он ему, – не как судия, а как епископ». Эти слова оказались пророческими. Амвросий вскоре принужден был ехать в Медиолан, или Милан, главный город его округа, где по случаю избрания епископа возникло несогласие между православными и арианами. Он вошел в церковь и начал увещевать враждовавших. Вдруг в толпе детский голос закричал: «Амвросий епископ! Амвросий епископ!» Слова эти показались внушением свыше, и весь собранный народ единодушно воскликнул: «Пусть будет Амвросий епископом!» Амвросий в это время не был еще крещен, а только готовился к Святому крещению. Он объяснил это присутствовавшим, но они продолжали настаивать на своем решении и послали к императору Валентиниану прошение, чтобы он утвердил их выбор. Между тем Амвросий всеми средствами старался уклониться от епископства. Это высокое звание внушало ему благоговейный страх. Два раза даже тайно удалялся он из Милана; но народ был тверд в своем избрании. Потому, когда пришло соизволение императора, Амвросий принял крещение и не мог уже долее отказываться. В течение недели прошел он все церковные степени и был поставлен в епископы, к великой радости всего народа.
Он вполне оправдал оказанное ему доверие и в скором времени приобрел любовь императора и народа. Однажды он указывал царю на некоторые несправедливости, происходившие в судах. «Исправляй погрешности наши, как тому научает Божественный закон, – отвечал император, – и врачуй неправды душ наших».
Наследник Валентиниана, Грациан, оказывал Амвросию такое же доверие и, по совету его, издал несколько указов, которые способствовали утверждению христианской веры во всей империи; но с матерью его, Юстиной, у Амвросия возникли несогласия. Амвросий был всегда твердым защитником православия против ересей и строгим хранителем чистоты христианского учения; Юстина же была арианкой и занималась распространением арианской ереси. В городе Сирмии умер епископ, и Амвросий помешал определить на его место арианина, покровительствуемого императрицей. С этих пор возненавидела его Юстина. Вскоре, однако же, императрица прибегла к его помощи. Максим, правитель Галлии, восстал против царя, умертвил Грациана, провозгласил себя императором и готовился идти на Италию, где между тем возвели на престол молодого Валентиниана II, другого сына Юстины. В страхе императрица просила Амвросия быть защитником малолетнего ее сына. Амвросий отправился к Максиму и отклонил его от намерения идти с войском на Италию. Максим говорил впоследствии, что епископ увлек его своим красноречием и заставил отказаться от выгодного предприятия.
Такая важная услуга не смягчила вражды Юстины, и вскоре еще более усилилось ее недоброжелательство к Амвросию. Юстина от имени сына требовала, чтобы епископ отдал одну миланскую церковь арианам. Амвросий решительно отказал. «Я готов отдать царю все, что принадлежит мне, – отвечал он, – и положить за него самую жизнь; но не могу дать того, что принадлежит Богу». Императрица послала войско, но народ, узнав об этом, поспешил в собор, где Амвросий совершал богослужение, и решился твердо защищать любимого епископа. Воины ворвались в храм, началось всеобщее смятение, но, видя Амвросия, спокойно и благоговейно продолжавшего богослужение, воины упали к ногам его и объявили, что они пришли молиться, а не сражаться. Сопротивление продолжалось три дня; наконец войско было отведено. После этого вражда Юстины усилилась до того, что она несколько раз покушалась на жизнь Амвросия. Но снова пришлось ей просить у него помощи: Максим пошел на Италию, но на сей раз посольство Амвросия осталось безуспешно; оружие решило дело, и Феодосий Великий, победив Максима, утвердил на престол юного Валентиниана, а после смерти последнего стал править один.
Император Феодосий глубоко уважал святителя. При высоких достоинствах своих Феодосий иногда предавался необузданному гневу. Однажды в Фессалонике возмутившийся народ умертвил одного военачальника, присланного туда царем. Это так раздражило Феодосия, что в гневе своем он предал смерти множество народа, собравшегося для празднества в цирке. Погибло около 7000 человек всякого возраста, пола и звания. Амвросий не мог равнодушно снести такого поступка. Он написал царю письмо, в котором выражал негодование свое и всего духовенства, прибавляя, что счел бы себя сообщником злодеяния, если бы не выразил своих чувств и мыслей. Кончая письмо свое, он увещевал царя покаяться и обещал ему свои молитвы. Через некоторое время после этого Феодосий прибыл в Милан, пошел в собор, чтобы причаститься Святых Таин. Амвросий безбоязненно встретил его у входа храма и сказал, что нельзя ему быть в общении с прочими христианами, не принеся сперва покаяния.
– Можешь ли ты принять тело Христово, – говорил епископ, – когда ты пролил кровь стольких невинных? Можешь ли пить кровь Христа устами, которые изрекли страшный приговор?
– Но и Давид согрешил, – отвечал царь, – однако же милости Божией не лишился.
– Если ты подражал Давиду согрешившему, подражай ему и кающемуся, – сказал Амвросий.
Царь возвратился во дворец свой. Он исполнил наложенное на него наказание и, по настоянию Амвросия, издал указ, запрещавший исполнять смертный приговор в течение тридцати дней после осуждения. После этого Феодосий был допущен в храм Божий. Он пришел в простой одежде и долго стоял вместе с прочими кающимися, молясь и проливая слезы покаяния; наконец епископ допустил его к причастию тела и крови Христовых.
До самой смерти своей Феодосий оказывал величайшее уважение Амвросию, часто советовался с ним и, умирая, поручил ему наставлять и сыновей своих Аркадия и Гонория, между которыми разделил свою империю.
Через два года после кончины великого императора умер и Амвросий (в 397 году), предузнав заранее близкую кончину свою. Он сказал приближенным своим: «Только до Пасхи буду с вами».
Когда он заболел, весть о том распространила горе и смятение не только между знавшими его, но и по всей Италии. Один из начальников страны чрез наиболее любимых святым Амвросием людей умолял его, чтобы он испросил себе у Бога исцеление.
– Я не так жил между вами, – отвечал Амвросий, – чтобы стыдился жизни, но не боюсь умереть, ибо мы имеем доброго Господа.
Предсказание сбылось. Амвросий радостно и спокойно предал душу свою Богу в самую ночь Светлого Праздника пятидесяти семи лет от роду.
С непоколебимой твердостью духа Амвросий умел соединить кротость и горячую любовь к ближним. Он сам плакал с грешниками, приходившими к нему исповедовать грехи свои, и все несчастные находили в нем помощника и утешителя. Особенное сострадание возбуждала в нем участь несчастных, продаваемых варварами в неволю; на выкуп их он щедро раздавал и собственные доходы, и доходы Церкви, и даже украшения церковные. «Церковь имеет золото, – говорил он, – не для того, чтобы сберегать, но чтобы раздавать его для счастья и блага людей. Мы должны выкупать их души от вечного плена. Кровь Христа, влитая в золотые сосуды, освящает их не для одного богослужения, но и для искупления людей».
Предание сохранило много рассказов о чудесах, совершенных святым епископом: о чудных видениях, об открытии им мощей святых мучеников Протасия и Гервасия, о месте погребения которых он узнал во сне. Рассказывают тоже, что однажды один арианин, вошедший в храм, увидел ангела, который говорил Амвросию на ухо те слова, которые он передавал потом народу; этот арианин тут же перешел в православие. Его речи так были убедительны и так сильно действовали на сердца слушателей, что в Милане сохранилось предание, что однажды, когда Амвросий был еще младенцем, рой пчел налетел на него и сложил мед в открытые уста спящего младенца.
Амвросий придал церковному служению особенное благолепие и торжественность; он сам сложил много церковных песнопений, между прочим торжественную песнь, которая поется на благодарственных молебнах: «Тебе, Бога, хвалим, Тебе, Господа, исповедуем». Долго после него Церковь Миланская хранила особенное богослужение, введенное им и известное под его именем.
Святой Амвросий обратил к истинной вере маркоманнов. Фритигильда, супруга царя, услышав о мудрости и святой жизни Амвросия, просила у него наставления. Он письменно изложил ей учение христианское, и, она, поняв истину веры, просветила и супруга своего, и народ. Между самыми близкими друзьями Амвросия был преподобный Августин, который от него принял Святое крещение.
Житие преподобного Нила Столбенского
в тот же день
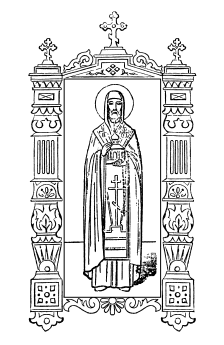
Преподобный Нил родился в пределах Великого Новгорода в конце XV века; с ранних лет возлюбил он Господа и стал служить Ему. Постригшись в обители Крипецкой, он ревностно исполнял все обязанности инока, хранил глубокое смирение, строгий пост, любил уединение и безмолвие и постоянно молился.
Ему пришло желание послужить Богу в пустыне. Испросив на то благословение от игумена, он удалился к реке Черехме в Ржевском уезде и там в глухом месте, построив себе келью, стал жить в совершенном одиночестве, питался полевыми плодами и постоянно возносился мыслью к Богу; но, услышав о его благочестивой жизни, многие стали приходить к нему за советом и поучением. Блаженный Нил всех принимал с любовью и молился с приходившими к нему; но, опасаясь по слабости человеческой возгордиться от такого уважения и слишком возлюбить славу земную, он решился вести жизнь еще более уединенную. Он пламенно молил Бога открыть ему в этом деле волю Свою, не смея следовать внушениям собственной воли.
Однажды после долгой молитвы он заснул и услышал во сне голос, говоривший ему: «Нил, иди на остров Столбенский на великом озере Селигере». Обрадованный Нил поблагодарил Господа и стал расспрашивать об острове. Ему сказали, что в Тверской губернии, недалеко от Осташкова, есть на озере Селигере пустынный остров, на котором еще никто не жил и который весь покрыт лесами. Нил оставил келью, в которой прожил тринадцать лет, и отправился на остров. Там он выкопал себе землянку на горе, провел в ней зиму и на следующий год поставил хижину и часовню. Остров был необитаем и покрыт непроходимыми лесами. Там Нил жил долгое время один, обрабатывал землю вокруг своей хижины, собирал плоды лесные и беспрестанно молился. Когда на озере поднимались бури, Нил с горы видел рыбачьи лодки, борющиеся с непогодой, и воссылал к Богу теплые молитвы о спасении несчастных. Иногда летом рыбаки приставали к острову и, узнав отшельника, стали приносить ему рыбу. Вскоре слух о нем распространился по окрестности; стали приходить к нему и просить его молитв; но с наступлением осенних бурь для отшельника начиналось совершенное одиночество, продолжавшееся всю зиму.
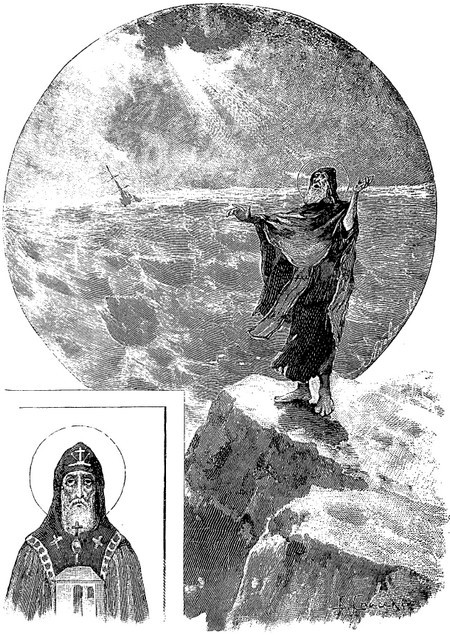
Окрестные жители вздумали однажды вырубить на острове лес. Преподобный, прожив столько лет в этом лесу, стал умолять их оставить хотя бы деревья, осенявшие его гору; но они, не слушая его, вырубили все, оставив одну только сосну около уединенной хижины; Нил и после этого продолжал жить на опустошенном острове. Однажды пристали к острову разбойники и, полагая, что старец в келье своей скрывает какое-нибудь сокровище, стали расспрашивать его о том. «Все мое сокровище в углу моей кельи», – кротко отвечал Нил. Они бросились в указанный угол, в котором сиял образ Пресвятой Богородицы с Божественным Младенцем, и вдруг, пораженные необычайным светом, ослепли и упали ниц.
В ужасе они прибегли к преподобному Нилу, каясь в преступном помысле. Нил стал молиться за них Богу, чтобы Он возвратил им зрение и просветил души их. Молитва его была услышана; разбойники прозрели и с тех пор жили благочестиво.
Долгое время прожил так на пустынном острове святой отшельник. Он сделал себе в пещере гроб и, все более и более устремляя мысли свои к Богу и будущей жизни, забывал в постоянной молитве и труды уединенного жития, и бремя наступающей старости. Прожив двадцать лет на Столбенском острове, он почувствовал приближение смерти и стал молить Бога, чтобы Он даровал ему счастье – до кончины причаститься Святых Таин. Через несколько дней на остров прибыл Сергий, игумен Никольской обители, причастил старца тела и крови Христовых и долго беседовал с ним. Нил сказал ему, что через сорок лет после кончины его воздвигнется на острове церковь.
На другой день игумен с братией вновь приехал на остров, чтобы посетить Нила; но, войдя в келью, нашел его уже мертвым. Радостное спокойствие выражалось на лице его. Игумен отпел и похоронил тело его.
После кончины Нила любители пустынножительства стали посещать уединенный остров и проживали в нем некоторое время. Некоторые чудесные исцеления, случившиеся при гробнице отшельника, привлекли внимание богомольцев, и наконец два монаха, жившие по обещанию на острове, решились основать там деревянную церковь в честь Богоявления Господня. Так исполнилось пророчество святого Нила.
При царе Алексее Михайловиче приступили к постройке каменного храма и, когда начали копать рвы, нашли гробницу преподобного. Гроб совершенно истлел, но тело угодника сохранилось нетленно, хотя пробыло в земле сто восемнадцать лет. В 1671 году перенесли его в новый храм. Много чудесных исцелений совершилось и совершается доныне при гробе святого угодника, привлекающего на пустынный остров великое число богомольцев. Память обретения мощей его празднуется 27 мая.
Память преподобного Патапия
8 декабря
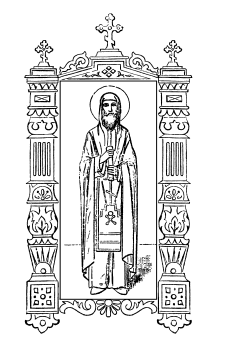
В стране египетской, около реки Нил, есть город, называемый Фивы. Там родился блаженный Патапий от родителей-христиан и был воспитан в благочестии. Достигнув совершеннолетия, он оставил мирскую суету, сделался монахом и в пустыне подвизался в непрестанных трудах и молитвах. Но скоро имя его прославилось, многие стали посещать его, просить его наставлений, и тогда Патапий, видя, что не может жить в уединении и безмолвии, как он того желал, переселился в Константинополь. Там стал он жить в тесной келье близ Влахерны, молясь день и ночь, но слава его не могла укрыться от людей. Бог сподобил угодника Своего чудотворной силы, и все больные, с верой просившие его помощи, получали исцеление его молитвами.
Преподобный скончался в глубокой старости.

Девятого декабря празднуется зачатие святой Анны, которая зачала Пресвятую Богородицу.

В тот же день совершается память святой пророчицы Анны, матери пророка Самуила.
Страдания святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа
10 декабря
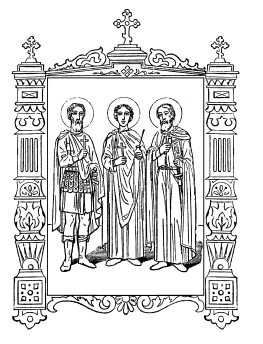
Жестокий гонитель христиан император Максимин однажды послал в Александрию одного из заслуженных воинов своих, Мину, с поручением усмирить волнения, возникшие в городе, и стараться отвратить христиан от веры их. Не знал царь, что Мина сам верует во Христа. Мина прибыл в Александрию и очень скоро мудрыми распоряжениями своими усмирил волнения и привел все дела в порядок. Что же касается веры Христовой, то он не только не преследовал ее, но явно и громогласно учил, что она единая есть вера истинная и спасающая. Слова свои он доказывал делами, будучи крайне милосерден и добр. Господь даровал ему чудотворную целебную силу; все больные, получившие исцеление его молитвами, славили Бога, и вера во Христа распространялась в Александрии все более и более.
Эти успехи веры, ненавистной язычникам, сильно раздражали их, и они поспешили донести Максимину о действиях Мины. Разгневанный царь собрал совет свой и на совещании со своими вельможами решился послать в Александрию городского епарха Ермогена, мужа, всеми уважаемого. Он дал ему строжайшие приказания против христиан, особенно же против Мины, и велел ему употребить все средства, чтобы заставить христиан возвратиться к идолопоклонству.
Ермоген был язычником, не знал ничего о вере истинной, но по природе был добр и милостив; и вот Господу Богу угодно было открыть ему путь ко спасению и жизни вечной. Во время плавания на корабле он однажды увидел во сне трех мужей пресветлых, которые сказали ему: «Знай, Ермоген, что и малое добро не презрено Богом; потому и твои добрые дела Господь приял, и путь твой, который предпринят для пагубы многим, сделается для тебя путем славы и чести бессмертной, ибо этим путем ты дойдешь до Царя Вечного; мы пошлем тебе такого человека, который приведет тебя к благословенному Царю, и ты от него получишь такую славу, которую тебе нынешний твой царь дать не может».
Проснувшись, Ермоген долго думал о сновидении своем и заключил, что ему, вероятно, предстоят великие почести от царя. Прибыв через несколько дней в Александрию, он призвал к себе Мину. Мина, как только вошел к нему в комнату, воскликнул громогласно: «Слава единому великому Богу, волею Которого ты прибыл сюда». Сколько ни желал Ермоген пощадить Мину, но он принужден был велеть заключить его в темницу за призывание имени Божия.
На следующий день привели Мину к допросу; он был спокоен, как истинный, неустрашимый воин Христов. На упрек Ермогена, что он не почитает богов, он отвечал твердым исповеданием единого истинного Бога. Он говорил: «Всякий должен с пламенным желанием искать Бога истинного; я сам в молодости своей, когда жил в Афинах, хранил отеческие законы, но, пламенно желая узнать истину, изучил прилежно все эллинские книги, потом стал также читать и книги христианские и, читая их, убедился, что в них сила и правда, а в эллинских – заблуждение и лукавство. Потом увидел я на деле силу Бога истинного через чудеса, творимые Его именем, и, уверовав, я отверг прежние заблуждения, принял крещение и стал служить Христу».
Много еще говорил Мина об истине и силе христианской веры. Народ внимательно слушал его, и многие говорили Ермогену: «Он говорил правду; мы сами видели чудеса и исцеления от имени Христа, надо почитать Того Бога, Которого исповедует Мина!» Ермоген в недоумении, что ему делать, велел отвести христианина в темницу, но на другой день, призвав его опять, начал грозить ему мучениями, если он не поклонится богам; но Мина отвечал ему: «Какие хочешь возлагай на меня муки, я рад страдать за Христа моего; к тому же уповаю несомненно, что ты сам, отложив временные блага, будешь одним из чад Христовых». Тогда Ермоген, исполняя повеление царя, велел предать Мину истязаниям; отрезали ему ноги – мученик хвалил Бога; потом лишили его языка, глаз – мученик все терпел радостно и спокойно. Повергли его в темницу. Там ночью при чудном свете явился ему Сам Христос и исцелил его, обещав, что и Ермоген скоро придет к познанию истины и достигнет нетленного венца.
Когда поутру воины вошли в темницу, то едва поверили глазам своим, увидев Мину здравого. Узнав, как он исцелился, они воскликнули: «Велик Бог христианский!» – и стали со вниманием и верой слушать поучения его. Пришли другие воины от судьи, и те тоже остались при Мине, побежденные силой Христовой. Молва о чудесном событии разнеслась по городу, и весь народ поспешил к темнице, славя и величая Бога истинного. Тогда Мина решился сам идти на суд к Ермогену, который с невыразимым изумлением увидел здравым того, которого еще накануне видел изувеченным и едва живым. Мина стал говорить судье о Боге, призывая его к познанию истины и от имени Господа обещая ему спасение. Чудное видение в то же время представилось Ермогену: он увидел двух светлых ангелов, венчающих мученика нетленным венцом, и, припав к ногам Мины, воскликнул:
– Молись обо мне, истинный служитель Божий, да и меня милостиво примет Господь.
– Не сомневайся в милости Божией, – отвечал святой мученик. – Он благоутробен и милосерд и не отринет приходящего к Нему. Он впишет имя твое в Книге жизни, и ты прославишь Его святым мученичеством.
Весь день этот был для Александрии днем радости и торжества; народ громогласно славил Господа и благодарил Его. Ермоген же всю ночь слушал наставления Мины и готовился к Святому крещению, которое принял вместе с великим множеством народа. Он раздал имущество свое бедным, а сам с Миной стал проповедовать веру истинную и силой Божией творил чудеса.
Все это дошло до царя, который сам прибыл в Александрию с великой силой воинской. Он призвал к себе христиан и жестоко укорял их за то, что оставили веру отцов; но Мина и Ермоген не устрашились угроз его и смело исповедовали пред царем веру свою в Бога истинного, рассказывая о чудесах, совершенных силой Господней. Но царь не уверовал и велел предать их страшным истязаниям. Снова явилась сила Божия в чудных исцелениях. В глазах царя изувеченные христиане восставали здравыми и невредимыми; он все приписывал волхвованию. Один языческий ученый и писатель по имени Евграф, видя эти чудеса, уверовал и стал громогласно славить имя Господне; царь своей рукой умертвил его. Мина и Ермоген по приказанию царя были усечены мечом, и тела их в железном ковчеге брошены в море. Но ковчег не потонул, а доплыл до Византии, где епископ, извещенный чудесным образом о прибытии святых мощей, вынул из моря тела мучеников и честно похоронил их близ стен городских.
Память преподобного Даниила Столпника
11 декабря
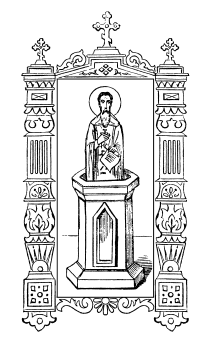
Преподобный Даниил родился в Месопотамии у родителей, которые, долго не имея детей, усердно молили Бога даровать им ребенка и обещали посвятить его на службу Божию. Родился у них сын, и они, верные обещанию своему, пяти лет привели его в монастырь, но настоятель монастыря не согласился его принять; отроку надо было полной волей своей отдаться Богу; и действительно, когда ему минуло двенадцать лет, он сам ушел из родительского дома и поступил в монастырь. Родители обрадовались этому и благословили его на службу Божию. В монастыре юноша удивлял самых строгих подвижников ревностью своей к молитве и трудам.
Через несколько лет он пожелал поклониться Святым местам, где жил и страдал Спаситель. Настоятель удержал его, но потом отправил его в Антиохию по какому-то делу. Даниил был рад этому: ему представлялась возможность посетить преподобного Симеона Столпника, чего ему давно хотелось. Он взошел на столп и принял благословение от святого подвижника, который в духе пророческом сказал ему:
– Мужайся, чадо, и да укрепится сердце твое. Много трудов подымешь Христа ради, но Христос будет тебе во всем помощником, укрепит тебя и утешит душу твою.
Даниил возвратился в обитель свою. Вскоре умер настоятель, и братья хотели избрать его, но он уклонился, указав им вместо себя другого достойного мужа, а сам оставил обитель, желая исполнить давнишнее желание свое и посетить Иерусалим. Но этому не суждено было исполниться: междоусобные брани и смуты затрудняли путешествие к Святым местам; однако Даниил не послушался увещания преподобного Симеона Столпника, которого вторично посетил и который отговаривал его, и пошел в путь. По пути встретился ему почтенный старец.
– Куда идешь? – спросил он у Даниила.
– Иду к Святым местам, если Бог дозволит, – отвечал Даниил.
– Хорошо сделал, что прибавил: «если Бог дозволит». Путь этот неугоден Богу. Не слышал ли ты, какие смуты в Палестине?
– Слышал, – отвечал Даниил, – но уповаю на Бога. Он будет мне помощником и сохранит меня от беды; если же что со мной и случилось бы, то не боюсь, ибо живем ли, умираем ли – все для Господа.
– «Не даждь во смятение ноги твоея, ниже воздремлет храняй тя ангел», – сказал старец словами псалмопевца (Пс. 120:3).
Даниил стал уверять, что готов умереть на сем пути ради Христа, но старец возразил, что не следует добровольно искать опасности. Он убедил наконец Даниила оставить предпринимаемый путь и идти в Византию. «Разве только в Иерусалиме можно обрести Бога, – говорил он, – а в Византии нет? Бог не объемлется местом, сын возлюбленный».
И Даниил оставил намерение свое, пытался угодить Богу иными трудами. Вся жизнь его была посвящена Господу. Недалеко от Византии создал он себе столп и проводил день и ночь в постоянной молитве. Много пришлось ему вытерпеть в жизни своей гонений, клевет; но все переносил он спокойно, терпеливо, твердо уповая на Бога, Который не оставлял его и сподобил его высокого дара чудотворения. Даниил далеко прославился мудростью и благочестием; толпы посетителей стекались к столпу его, чтобы получить от него наставление; ученики селились вокруг него; цари и сановники просили его совета и благословения. Но подвижник продолжал хранить глубочайшее смирение, почитая себя всегда недостойным служителем Божиим. Святой подвизался таким образом тридцать три года и в глубокой старости предал душу Богу.

В тот же день совершается память преподобного Луки Столпника, подвизавшегося сорок пять лет близ Халкидона, и преподобного Никона Сухого, подвижника Печерского.
Память святого Спиридона, епископа Тримифунтского
12 декабря
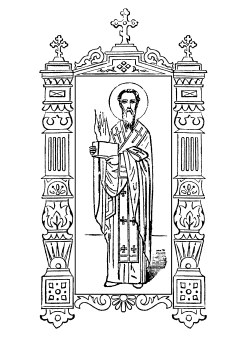
Святой Спиридон был одним из великих святителей и чудотворцев IV века. Он родился на Кипрском острове от родителей простого звания и сам, как говорит писатель его жизни, был всегда прост нравом, смирен сердцем и благ житием. С детства он был пастухом; возмужав, женился и, когда овдовел, стал употреблять все имущество свое на помощь ближним, которых любил искренно, как повелел Господь. Он кормил нищих и убогих, принимал радушно странников. Господь помог ему в добрых делах его, даровав ему силу чудесным образом исцелять больных. В царствование Константина Спиридон был поставлен епископом города Тримифунта на Кипрском острове.
Вскоре Спиридон прославился чудесами; больные беспрестанно приходили к нему за помощью и, исцеленные, славили его повсюду; цари оказывали ему величайший почет; но все это не подействовало на смиренное сердце святителя. Он знал, что слава земная ничтожна, и угодить Богу было всегда его единственной заботой. И в сане епископа он сохранил простые обычаи свои: избегал всякой роскоши, продолжал заниматься земледелием и сам вместе с жителями жал ниву свою; во всякое время был он доступен бедным, употребляя на помощь им все, что имел, давал им советы и поучал их простыми словами, полными любви и божественной мудрости. Все несчастные шли к святому епископу с полным доверием, зная, что они непременно найдут у него сочувствие и помощь.
Во время святительства Спиридона случилась однажды на острове страшная засуха, от которой погибли все плоды и посевы и наступил сильный голод.
Жители прибегли к молитвам епископа, и на следующий год был удивительный урожай и изобилие всего. Но через некоторое время голод опять привел в отчаяние бедных жителей острова; некоторые из богатых, напротив, радовались, потому что они во время урожая собрали огромные запасы и теперь могли надеяться продать их по выгодной цене. Один богатый купец закупил в другой стране большое количество ржи, но, когда корабли его прибыли, он велел ссыпать все в амбары свои, чтобы продавать дороже, когда голод усилится. Это время скоро наступило; купец получал огромную выгоду, но не хотел ничем помочь бедным согражданам своим. Один нищий пришел к нему и просил немного ржи, чтобы не умереть голодной смертью с семейством; богатый купец отказал ему немилосердно. Несчастный пришел к святому Спиридону и со слезами рассказал ему о крайней нищете своей. «Не плачь, – сказал ему святитель, имевший дар пророчества, – ибо так говорит Дух Святой: завтра дом твой наполнится житом; богатый же будет умолять тебя и предлагать тебе пшеницу даром». В туже ночь буря с проливным дождем разрушила амбары богатого купца, и воды, разлившись, разнесли его огромные запасы. Купец в отчаянии умолял жителей города помочь ему спасти хоть часть имущества его и, встретив того нищего, которому он отказал в помощи, просил его взять все, что ему нужно, ибо он понял, что бедствие послано ему Господом в наказание за жестокосердие.
Просвещенный Духом Святым, Спиридон узнавал тайные помышления и прегрешения людей. Такая прозорливость помогала ему поучать полезными советами и назиданиями приходивших к нему, причем он продолжал хранить чувства любви и милосердия к ближним.
Святой Спиридон принимал участие в Первом Вселенском соборе, созванном в Никее для обсуждения ложного учения Ария. Некоторые епископы, зная, что Спиридон не учился наукам, старались отклонить его от прений с приверженцами Ария, ибо боялись, что он не сумеет защищать и объяснять истины, но Спиридон имел то, чего не может дать одна земная мудрость: он имел твердую живую веру, в нем действовал Дух Святой, наставляющий «на всякую правду», и потому его простые слова так сильно подействовали на одного из приверженцев Ария, что он уразумел истину и отрекся от заблуждений своих, сознавая, что в словах, сказанных Спиридоном, он чувствовал непреодолимую силу, с которой бороться не мог.
Однажды император Констанций, сын Константина Великого, будучи болен, увидел во сне, что Спиридон может исцелить его; он призвал его, и действительно Господь исцелил царя молитвами святого епископа. Константин захотел щедро наградить его и предлагал ему много денег, но святитель отказался от даров и говорил царю: «Что я сделал для тебя, то сделал я по любви; по любви к тебе я переплыл море и предпринял трудный и дальний путь; а ты за любовь мою хочешь платить деньгами, которые суть источник всякого зла и вражды». Но царь настаивал, и тогда Спиридон, приняв от него деньги, тотчас же раздал их бедным. Он много говорил царю о его обязанностях: убеждал его, чтобы он, помня благость и милость Божию, был добр и милосерден к подданным своим, вникал в их нужды и исполнял их справедливые прошения.
Спиридон, усмотрев однажды в ученике своем желание земного богатства, сказал ему: «Что ты все думаешь о суетном, желая земного богатства, сел и виноградников? Все это не имеет истинной цены и обманывает человека, привлекая его мысли и желания. Можем ли мы думать об этом, когда знаем, что у нас на небесах богатство неотъемлемое, дом нерукотворенный? Того богатства ищи, которого у тебя никто не отнимет, которое не перейдет от тебя к другому, но будет вечно принадлежать тебе, если ты его однажды приобретешь».
Прославленный многими чудесами, знамениями милости Господней, святой Спиридон достиг старости. В то время, как однажды жал свое поле, он почувствовал себя нездоровым и сказал бывшим с ним, что пришло ему время отойти к Господу. Он дал еще наставления тем, которые были при нем, убеждая их в особенности любить Бога и ближнего, и через несколько дней после этого предал Богу чистую свою душу. Его похоронили в Тримифунте. Много чудес совершалось при гробнице его, к которой с благоговением приходили верующие.
Страдание святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
13 декабря
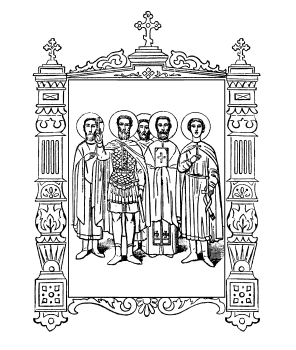
Во время страшного гонения при Диоклетиане и Максимиане начались смуты и волнения в Армении и Каппадокии; цари послали туда двух сановников, Лисия и Агриколая, с повелением судить христиан как можно строже, ибо в то время все гражданские смуты приписывались христианам, которых язычники ненавидели. Настало страшное гонение; бесчисленное количество христиан было замучено за веру. Но гонение только возбуждало в них большую ревность; они сами объявляли о себе, сами отдавались мучителям и считали смерть за имя Христово величайшим счастьем.
Святой пресвитер Авксентий и с ним множество христиан в городе Саталионе были схвачены и заключены в темницу в ожидании суда.
Вдруг в день, назначенный для суда, один из самых знатных и богатых сановников города, Евстратий, пришел в темницу и сказал узникам:
– Прошу вас Христа ради, помолитесь обо мне, ибо и я хочу ныне быть участником вашего подвига.
Все, став на колени, вместе помолились, и потом узники отправились на суд к Лисию. Повелели, чтобы христиане, уже бывшие на допросе, подходили один за другим; вдруг Евстратий, возвысив голос, стал славить подвиг христиан и исповедовать свою веру во Христа. Лисий тотчас же велел снять с него знаки воинского звания и подвергнуть его истязаниям. С радостью вытерпел Евстратий самые ужасные мучения, хваля Бога.
– Ты мне оказываешь величайшее благодеяние, – говорил он Лисию, – что даруешь мне счастье страдать за веру мою; ныне знаю, что я – церковь Божия и что Дух Святой живет во мне. Отступите от меня все, делающие беззаконие, яко услышал Господь глас плача моего, Господь молитву мою принял. Душа моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его; все кости мои рекут: «Господи, Господи! Кто подобен Тебе, избавляющему нищего из руки сильных и нищих и убогих от обижающих их». Делай со мною, что хочешь, служитель ложных богов, искуси меня, как злато в горниле.
Разгневанный судья велел мучить Евстратия, но Господь сохранял служителя Своего и после ужасных истязаний явил его здравым и невредимым. Видя это, многие из народа стали славить Бога христиан; а один из товарищей Евстратия, Евгений, воскликнул громогласно:
– Лисий, и я – христианин и проклинаю ложных богов твоих!
Лисий велел взять Евгения и вместе с Евстратием отвести в темницу.
На следующий день Лисию предстоял дальний путь в город Никополь. Он велел за собой вести и узников. Пришли они по пути в отечественный город Евстратия и Евгения, граждане вышли из домов своих, чтобы видеть Евстратия, которого очень любили и уважали, но не смели подойти к нему, боясь гнева начальника. Но один человек по имени Мардарий явил изумительную ревность к вере. Он был человек небогатый; выстроил он себе новый дом и сам крыл его, как вдруг увидел узников и между ними Евстратия. Поспешно слез он с крыши и сказал жене своей:
– Видишь ли этого знатного мужа? Он не поберег ни сана, ни богатства своего, а, оставив все, сделался жертвой Богу. Блажен ты, Евстратий; и в сей жизни был ты славен, и в будущей сподобишься неизреченной радости.
– Что мешает и тебе идти тем же путем? – возразила жена Мардария, христианка.
Тот же помысел был на уме и у Мардария. Одевшись наскоро, он обнял детей своих и, став на колени, воскликнул: «Владыко, Боже Отче Вседержитель и Господь Иисус Христос и Дух Святой, единое Божество и единая сила, помилуй меня грешного и охрани вдовицу и сирот моих; я же, Владыко, с великой радостью и усердием иду к Тебе!»
Потом поцеловал он детей и жену, попросил ее не печалиться о нем, зашел еще проститься с приятелем и присоединился кузникам-христианам, восклицая: «И я – христианин!» Всех узников отвели в городскую темницу, а с ними и Мардария, и возвестили о нем Лисию. Лисий страшно разгневался и тут же осудил на смерть сперва пресвитера Авксентия, который был усечен мечом, а потом Мардария и Евгения. Мардарий на все вопросы отвечал только: «Я – христианин». Он был повешен стремглав и опаляем огнем. Во время этого ужасного истязания он твердил только: «Господи, благодарю Тебя, что сподобил меня сих благ; прими душу мою в мире». Евгений был тоже жестоко замучен.
Но постоянно являлись новые исповедники имени Христова. После казни христиан Лисий отправился осмотреть войска, которые находились в городе. Между ними заметил он одного воина по имени Орест, который поразил его красотой, статностью и ловкостью своей в воинских упражнениях. Он вызвал его вперед и велел ему метать копьем в цель. Воин взял копье и готовился исполнить повеление Лисия; при этом движении выпал крест, висевший у него на груди.
– Что это? – спросил Лисий, схватив рукой крест. – Разве и ты из тех, которые поклоняются Распятому?
– Я раб распятого Владыки и Бога моего, – отвечал молодой воин, – и крест Его ношу против всякого зла.
Лисий велел немедленно схватить воина и присоединить его к прочим христианам. В городе Никополе опять множество воинов явилось к нему, называя себя христианами; их связали и заключили в темницу. Но Лисий был в великом недоумении; он страшился, как бы казнь такого множества людей не произвела волнения в народе; страшился еще и проявления силы Христовой, ибо случалось часто, что чудеса, являемые Богом при допросах и казни мучеников, увеличивали число христиан. Наконец он решился Евстратия и Ореста отправить к Агриколаю в Армению, в город Севастию.
Агриколай был крайне жесток к христианам; но когда увидел и услышал Евстратия, то был подвигнут на милосердие: так мудро и убедительно говорил ему Евстратий о Господе, о неизреченной благости, которая побудила Сына Божия сойти на землю и страдать за людей Своих. Жестокий судья печалился и не спал всю ночь. Желая спасти Евстратия, он умолял его притворно поклониться богам, обещал ему дары и почести, но Евстратий остался тверд. Он присутствовал при казни молодого воина Ореста, который был замучен на одре, раскаленном в огне; потом в темнице сам Евстратий был утешен посещением святого епископа Севастийского Власия, от которого принял Святое причастие. При этом внезапный свет осиял темницу и услышан был голос с небес: «Евстратий, хорошо ты подвизался; приди на небеса принять уготованный тебе венец!»
На следующий день святой мученик радостно выслушал смертный приговор; сколько ни уговаривал его Агриколай спасти жизнь свою притворным отречением от веры, Евстратий оставался тверд и непоколебим, и был осужден на сожжение. Пока всё готовили к казни, он произнес молитву, которая и теперь еще читается во время полунощницы в субботу:
«Величая, величаю Тя, Господи, яко призрел еси на смирение мое, и неси мене затворил в руках вражиих, но спасл еси от нужд душу мою. И ныне, Владыко, да покрыет мя рука Твоя, и да приидет на мя милость Твоя, яко смятеся душа моя, и болезненна есть во исхождении своем от окаяннаго моего и сквернаго телесе сего, да не когда лукавый сопостата совет срящет, и препнет ю во тьме за неведомые и ведомые в житии сем бывшие ми грехи. Милостив буди ми, Владыко, и да не узрит душа моя мрачного взора лукавых демонов; но да приимут ю ангели твои светлии и пресветлии. Даждь славу имени Твоему святому и Твоею силою возведи мя на Божественное Твое судище; внегда судитися ми, да не приимет мя рука князя мира сего, еже исторгнута мя грешника во глубину адову: но предстани ми, и буди ми Спас и заступник, телесная бо сия мучения веселия суть рабом Твоим. Помилуй, Господи, осквернившуюся страстьми жития сего душу мою и чисту ю покаянием и исповеданием приими; яко благословен еси во веки веков, аминь».
Затем, перекрестившись и воскликнув: «Господи Иисусе Христе, в руце Твои предаю дух мой», святой мученик вошел в огненную пещь и в мире предал дух. Святой епископ Власий взял тело его, оставшееся невредимым в огне, равно и тело святого Ореста и других мучеников, и похоронил их честно. Впоследствии близ Константинополя в ограде монастыря Олимп была создана церковь во имя святых пяточисленных мучеников, и память их совершалась ежегодно торжественно. Во имя святых мучеников делали приношения на содержание иноков, которые не имели никакого имущества; и святые мученики постоянно и иногда чудесным образом оказывали покровительство надеющимся на них братьям.
В тот же день совершается память святой девицы Лукии, прославившей Бога в сицилийском городе Сиракузах.
Память святых мучеников Фирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Ариана, Каллиника и прочих с ними
14 декабря
Фирс и Левкий были родом из Кесарии и пострадали при Декии. Мужественное терпение их при страшных истязаниях и чудеса, явленные Господом, убедили и идольского жреца Каллиника в истине христианской веры. Он безбоязненно исповедал Христа пред игемоном и был усечен мечом.
Много лет спустя, уже при Диоклетиане, были замучены в стране Фиваидской христиане – Аскалон и Леонид; но ревность к вере возбуждалась все сильнее и сильнее, несмотря на ужасное гонение. Язычники внезапно обращались к вере Христовой и шли радостно на мучения. Мученическая смерть Аполлония и Филимона и бывшие при этом чудеса обратили ко Христу самого игемона Ариана, который в свою очередь запечатлел веру свою святым мученичеством.
Преподобный Трифон Кольский
15 декабря
Дорога для нас намять тех святых тружеников, которые при помощи Божией просветили край наш светом истинной веры. Из таковых был преподобный Трифон Кольский, или Печенгский, подвизавшийся в XVI веке на Крайнем Севере России.
Сын священника Новгородского края, молодой Митрофан (таково было имя Трифона до монашества) горел любовью к Богу и желал посвятить всю жизнь служению Богу. Он помышлял в особенности о пустынножительстве; но однажды, молясь в пустынном месте, он услышал голос, говоривший ему: «Не здесь твое место, тебя ждет земля необитаемая, жаждущая». Он понял, что ему надо служить Богу благовествованием, и отправился на север, на реку Печенгу, к диким лопарям.
Край этот издавна принадлежал к владениям новгородским и с конца XV века перешел под державу великого князя всея Руси, но до тех пор почти ничего не было сделано для распространения там веры христианской. Русские только наезжали туда для рыбных и звериных промыслов и построили часовню в Коле; но туземцы, кочевавшие по реке Печенге и в северных тундрах, не имели понятия о Боге истинном. Они поклонялись камням, обожали разных зверей и гадов и были совершенно под властью своих жрецов кебунов. Митрофан начал с ними торговлю и, сблизившись с ними, стал говорить им о Боге истинном, Творце вселенной и Отце всех верующих. Многие уверовали, но тогда кебуны со злобой восстали против проповедника, боясь потерять все выгоды свои и власть свою над народом. Они бранили, били его, часто грозили ему смертью, даже пытались умертвить его, но Господь хранил верного служителя Своего. Митрофан с кротостью переносил оскорбления, по временам удалялся в горы или посещал дальние кочевья лопарей, оглашая их словом спасения, потом опять возвращался. Многие полюбили его, и, когда одни под влиянием кебунов грозили ему смертью, другие защищали его, говоря: «Он ни в чем не виноват перед нами; он желает нам добра, за что же убивать его?»
Так прошло лет пять; Митрофан хорошо ознакомился с наречием дикарей, и благовествование его шло все успешнее. Бог послал ему и ревностного помощника. Он встретился с иноком Феодоритом, который уже провел пятнадцать лет в обители Соловецкой, изучил язык лопарей и для успешной проповеди между ними перевел несколько молитв. Теперь ревностные благовестники стали трудиться вместе. Большое число лопарей уверовало, и тогда Митрофан отправился в Новгород, чтобы испросить у владыки Макария грамоту и благословение на сооружение церкви. Получив желаемое, он привел плотников и сам трудился с ними; потом отправился в Колу за иеромонахом, который освятил храм Благовещения, окрестил уверовавших и постриг Митрофана в монашество под именем Трифон.
Теперь Трифон стал устраивать близ реки Печенги монастырь Святой Троицы и в то же время ревностно продолжал святое дело благовествования. Не щадя трудов своих, он посещал уединенные хижины лопарей, разбросанные то по горам, то по низменным, болотистым местам, ходил несколько раз в Новгород испрашивать помощи для бедных жителей Севера, где часто случались неурожаи, ходил в Москву просить покровительства царя новопросвещенным чадам своим. Там он нашел бывшего товарища своего Феодорита, который, пользуясь в то время милостью царя Иоанна Грозного, обратил его внимание на труды Трифона. Царь шел с сыновьями в церковь, когда благовестник подал ему прошение свое. Добрый молодой царевич Феодор, услышав о деятельности Трифона, снял с себя верхнюю богатую одежду и послал ее Трифону, сказав: «Царевич, посылая одежду, желает, чтобы милостыня его предупредила царскую, пусть преподобный употребит ее на церковную одежду». И царь Иоанн дал Трифону церковной утвари и грамотой утвердил за Печенгской обителью Святой Троицы, «что у холодного моря, у Мурманской границы», землю, угодья и рыбные ловли.

С радостью встретили возвратившегося Трифона. Дары царя обеспечивали существование обители и давали средства на сооружение церкви во имя Бориса и Глеба на устьях реки Пази.
Уже состарившись, Трифон не переставал трудиться на пользу любимых чад своих. Раз, купив в Коле ручные жернова, он нес их на себе в обитель. Ученики просили его не утруждать себя этой тяжестью. «Братия, – сказал старец, – тяжелое бремя лежит на потомках Адама с рождения до самой смерти. Лучше повесить себе камень на шею, нежели соблазнять братию праздностью». И так он донес на себе жернова от Колы до обители своей, около ста шестидесяти верст.
В последние годы жизни преподобный часто удалялся в пустыньку для уединенной молитвы. При построенном им там храме Успения он и завещал себя похоронить. Он почил в глубокой старости, около 1583 года, прожив шестьдесят лет в трудах благовествования на суровом Севере.
Через несколько лет после кончины его Феодор Иоаннович, будучи уже царем, вел войну с ливонскими немцами. Осажденные немцы направили пушки свои на царский шатер, где царь в то время спал. Внезапно пробужденный, он увидел около себя старца в иноческой одежде, который сказал ему:
– Встань, государь, и выйди из шатра, иначе будешь убит.
– Кто ты? – спросил удивленный царь.
– Я – тот Трифон, которому ты подал свою одежду, чтобы твоя милостыня предварила другие. Господь Бог послал меня к тебе.
Царь едва успел выйти из шатра своего, как ядро ударило в кровать, с которой он только что встал.
Он послал в обитель Печенгскую найти Трифона, но ему сказали, что его уже нет в живых. Он оказал милости обители.

В тот же день совершается память святого Елевферия, который родился в Риме от знатных родителей и на двадцатом году от роду был поставлен епископом в Иллирии. Он мудро наставлял паству свою и был замучен за веру при императоре Адриане. Мать его Анфия была тоже усечена мечом.

В тот же день память святого Стефана, архиепископа Сурожского, исповедника за иконопочитание при Льве Исаврянине.
Память святого пророка Аггея
16 декабря
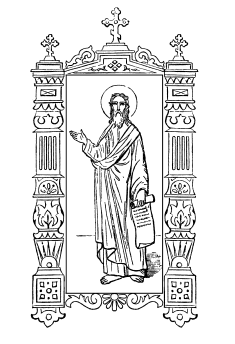
Святой пророк Аггей родился в Вавилоне во время плена и пророчествовал по возвращении из плена. Тогда иудеи начали восстанавливать храм Иерусалимский, но, по причине сильного сопротивления от самарян и от персидских правителей, они оставили начатое дело на целые четырнадцать лет. От этого они впали в уныние и начали думать, что еще не пришло время восстановления храма Господня. Тогда и Господь в милости Своей устами пророка Аггея ободрял их и обещал, что второй храм будет славнее первого, потому что в нем явится Царь мира, Спаситель всех языков.

В тот же день воспоминается блаженная царица Феофания, супруга императора Льва Премудрого.
Она была очень благочестива, постоянно поучалась в законе Господнем и усердно исполняла его. Все ее усердие было в том, говорит составитель ее жития, чтобы заступаться за обиженных, помогать вдовицам и сиротам, утешать скорбящих, отирать слезы плачущих, она была матерью всем неимущим помощи и убежища.
Память святого пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
17 декабря

Давно уже иудейские пророки, вдохновенные Богом, предсказывали пленение Иерусалима, убеждая народ иудейский покаяться в грехах своих и обратиться к Богу с молитвой о помиловании и прощении. Пророчества их наконец сбылись. Навуходоносор, царь халдейский, взял Иерусалим, разрушил храм, построенный Соломоном, увез из него в Вавилон все дорогие сосуды и увел в плен множество иудеев. Между этими пленными были люди, свято хранившие в сердцах своих любовь к Богу и к закону Его, и Господь Своей милостью и силой охранял их среди бед и искушений.
Царь Навуходоносор из взятых в плен иудеев избрал разумнейших и красивейших отроков, которых назначил себе в услужение, и велел обучать их наукам. Многим искушениям подверглись эти отроки, воспитываясь при дворе царском: обычаи и законы халдейские не были схожи с законами иудейскими; но четыре отрока – Даниил, Анания, Азария и Мисаил, которых по-халдейски назвали: Валтасар, Седрах, Мисах и Авденаго, – показали твердость не по летам и продолжали свято исполнять закон Моисеев. Среди роскоши и богатства они не забыли Бога и закона своего, молились усердно и питались только хлебом и овощами, отказываясь, дабы не нарушить закона своего, от пищи, которую царь велел им подавать со своего стола. Бог не оставил Своей милостью юношей, столь твердо хранивших заповеди Его, и даровал им мудрость и успехи в науках. Царь призывал их, беседовал с ними и нашел, что они превосходят мудростью и рассудительностью всех ученых мужей в государстве.
Молодой Даниил однажды спас от казни женщину по имени Сусанна, которая была оклеветана двумя стариками. Несчастную уже вели на казнь, когда молодой Даниил подал судьям мысль допросить обвинителей ее поодиночке. Они, не ожидая такого допроса, сбились в своих показаниях, и этим обнаружилась невинность Сусанны.
Однажды царь Навуходоносор увидел сон, который очень смутил его. Проснувшись, он тотчас забыл о подробностях этого сновидения, но тяжелое впечатление, им оставленное, продолжало беспокоить его. Он призвал к себе халдейских ученых мужей и снотолкователей, требуя, чтобы они рассказали виденный им сон и объяснили его значение. Никто, конечно, не мог этого исполнить, царь разгневался и осудил на смерть всех мудрецов вавилонских. Даниил с тремя своими товарищами просил царя дать ему несколько дней срока и, твердо надеясь на Бога, молил Его открыть ему тайну. Бог услышал молитву Даниила и трех его друзей и во сне открыл Даниилу все, что нужно было ему знать: как самый сон царя, им забытый, так и значение этого сна. Сон предзнаменовал падение Вавилона и таинственно предвещал, за падением многих государств, начало царства вечного, имевшего открыться по пришествии на землю Иисуса Христа, – царства Христовой истины и благодати. Даниил объяснил сновидение царю Навуходоносору, и царь, удивленный его мудростью, вверил ему одну из важнейших должностей в государстве и в особенности начальство над всеми мудрецами вавилонскими. По его ходатайству он поручил и его друзьям правительственные должности.
Через некоторое время царь приказал отлить из золота огромного кумира, который поставил на равнине Дейра, чтобы все поклонялись ему. Пышный праздник был устроен в честь истукана, и следующее приказание громко провозглашено: «Вам говорят, народы, племена и языки! Когда услышите звуки труб, свирелей и гуслей, псалтири и всякого рода музыкальных инструментов, упав, поклонитесь золотому кумиру, которого поставил Навуходоносор царь! А кто не поклонится, тот будет брошен в раскаленную печь!» Товарищи Даниила находились при этом торжестве, но, когда при громе музыки народ преклонился пред золотым кумиром, они одни оставались неподвижны, помня, что Господь запрещает поклоняться идолам. Царю донесли об их непослушании, и он, призвав отроков, спросил их:
– Правда ли, что вы не хотите служить богу моему и не кланяетесь изображению, которое я поставил? Сейчас же поклонитесь, а не то будете брошены в печь огненную, и никакой бог не избавит вас от руки моей!
Они отвечали:
– У нас есть на небесах Бог, Который силен изъять нас из печи огненной и спасти от руки твоей. Но если Ему и не угодно будет избавить нас, мы все-таки не будем служить богам твоим и кумиру твоему не поклонимся.
Царь рассердился, велел разжечь печь и бросить в нее крепко связанных отроков. Огонь в печи так был силен, что воины, исполнявшие приказание царя, были охвачены нестерпимым жаром и лишились жизни, но отроков хранил Бог. Он послал к ним на помощь ангела Своего. Посреди огня отроки оставались невредимы и пели Господу песнь хвалы и благодарения. Царь, смотревший на это, вдруг спросил у служителей своих:
– Не трех ли мужей вы бросили в печь? Откуда же их четыре? Они свободно ходят среди огня, и один из них светел и прекрасен, как Сын Божий.
Изумленный царь подошел к печи и закричал:
– Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога вышнего, выходите из пламени!
Они тотчас же вышли из печи и подошли к царю, который с удивлением увидел, что ни платье, ни волосы их не были опалены, даже не было слышно запаха дыма; только узы, которыми они были связаны, распались. Тут царь познал силу Божию и воскликнул: «Благословен Бог Седраха,
Мисаха и Авденаго, Который послал ангела Своего и избавил отроков, уповающих на Него! Если кто из подданных моих осмелится хулить Бога, Которому поклоняются иудеи, то будет предан смерти, ибо нет иного Бога, могущего сотворить подобное чудо!» Три отрока, так чудесно спасенные, были с этих пор в великом почете у царя и народа.
Но чудо это не смирило царя. Он возгордился славой и величием своим, и Бог, Которому противны гордость и высокомерие, опять предвозвестил во сне ему Свою волю. Однажды Навуходоносор увидел во сне, что на средине земли стоит огромное дерево, что дерево это, все возрастая и укрепляясь, достигло наконец самого неба, между тем как ветви его осеняли всю землю; прекрасны были листья его и обильны плоды; под тенью его обитали все звери земные, а в ветвях гнездились всякого рода птицы. Но вдруг с небес раздался голос, говоривший: «Срубите дерево, и отсеките ветви его, и отрясите листья, и распылите плоды его, пусть сравняется оно с землей; только пень оставьте, выньте из него сердце человеческое, вложите сердце звериное, и пусть семь лет пройдут над ним, и пусть узнают, что Всевышний управляет царством и дает оное, кому хочет». Устрашенный царь вновь созвал мудрецов и рассказал им сон, требуя объяснения. Никто из них не мог объяснить сна, но Даниил сказал царю, что этим сном Господь предвещает ему за гордость лишение царского сана и удаление от общества человеческого до тех пор, пока он не признает, что Бог один всемогущ, что один Он дарует царям силу и славу. «И потому, царь, – прибавил он, – раскайся в грехах твоих, искупи их милостями и щедротами, загладь гордость смирением, и, может быть, Бог, видя твое раскаяние, отменит назначенную казнь».
Царь не послушался совета Даниила и вскоре забыл сон и его значение. Глядя на пышный Вавилон, он гордился своим величием и своей славой. «Не я ли, – говорил он, – вознес город сей? Не я ли сделал его крепостью державы моей во славу мою».
Но едва царь успел произнести эти слова, как исполнился над ним суд Божий; он лишился разума и стал, как дикий зверь, скитаться по полям и лесам. Это продолжалось целых семь лет, после чего Господь Бог смилостивился над ним и возвратил ему разум. Он раскаялся и, в глубоком смирении познав всемогущество Божие, вновь принял престол свой и царствовал еще несколько лет, славя и хваля Бога вышнего.
Валтасар, сын Навуходоносора, однажды устроил во дворце своем великолепный пир, на который были созваны все вельможи государства и жены царские. Все шумно веселились, пили вино из священных сосудов, взятых в храме Иерусалимском, и величали богов вавилонских, идолов золотых, серебряных и медных, и никто не вспоминал о Боге вечном. Вдруг царь побледнел, лицо его изменилось, он весь задрожал и в ужасе смотрел на противоположную стену, на которой таинственная рука чертила неведомые слова. Всех присутствовавших объял ужас, и общее смятение последовало за шумным весельем. Царь тотчас же велел созвать ученых мужей, но написанных слов никто из них не мог ему ни изъяснить, ни прочитать.
Наконец царица напомнила Валтасару, что в государстве его есть человек, исполненный Духа Божия, который во дни отца его славился мудростью и ученостью, и царь призвал Даниила. Он потребовал у него объяснения таинственных слов, обещая ему за то почести и богатые дары.
– Дары твои да останутся при тебе, государь, – сказал Даниил, – мне их не надо, но писанное я прочту и объясню тебе. Государь! Всевышний Бог дал отцу твоему Навуходоносору царство, и силу, и величие. Все трепетали перед его могуществом; кого хотел, возвышал он; кого хотел – унижал; но когда сердце его возмечтало и дух его возгордился, то Господь свергнул его с престола и отнял у него силу и славу, доколе он не познал, что Бог всевышний владеет царством человеческим. Ты, Валтасар, хотя знал все это, не покорил сердца твоего Богу; ты восстал на Владыку небес; ты похитил священные сосуды из храма Всевышнего, и вельможи и жены твои пили из них вино и величали богов серебряных, золотых и каменных, которые не имеют ни чувства, ни смысла; а Бога, в руке Которого жизнь твоя и все пути твои, ты не прославил. За то послал Он руку, которая начертила слова сии.
Вслед за тем Даниил объяснил, что слова эти – мани, фекел, фарес–значат: «измерил», «взвесил», «разделил», то есть что Господь измерил царство его, взвесил его дела и нашел их недостаточными и наконец разделил царство его между иноплеменниками. Пророчество сбылось в ту же ночь. Мидяне и персы напали на Вавилон, убили царя и разделили государство его.
При Дарии, царе мидийском, Даниил был в великом почете; царь поручил ему управление третьей частью своего государства. Это возбудило зависть вельмож, и они прибегли к хитрости, чтобы погубить его. Зная, как свято Даниил хранит веру отцов своих, они уговорили царя издать следующее повеление: «Кто в течение тридцати дней обратится с просьбой не к царю, а к иному человеку или к Богу, тот будет ввержен в ров львиный». Даниил, по обыкновению своему, продолжал три раза в день молиться перед окном своей комнаты, обращенным к Иерусалиму. Вельможи не замедлили донести о том царю, требуя исполнения приговора. Царь жалел о своем повелении, ибо любил Даниила; но нечего было делать. Даниила бросили в ров львиный и вход в ров запечатали печатью. Царь был так печален, что не принимал пищи и всю ночь не мог заснуть. На рассвете он поспешил ко рву и, подойдя, громко закричал: «Даниил, раб Бога живого! Бог, Которому ты служишь, избавил ли тебя от уст львиных?» Даниил отвечал: «Бог мой послал ангела Своего и заградил уста львов, они мне не сделали никакого вреда, ибо я был прав перед Ним, и перед тобою, царь, я не виноват». Обрадованный царь велел вывести Даниила из рва и бросить туда врагов его, которых львы тотчас же растерзали. Потом Дарий издал следующий закон: «Даю заповедь всему государству моему, дабы все боялись и чтили Бога Даниилова, ибо Он есть Бог живой и вечный… Он возвышает и избавляет, и творит чудеса на небеси и на земли».
Еще раз Даниил столь же чудно был избавлен от смерти. При преемнике Дария, Кире, царе персидском, Даниил обличил в обмане жрецов одного из мнимых богов языческих – Вила, за что они и были казнены, идол был разбит и капище его разорено. Вслед за тем пророк еще умертвил одного великого змия, также боготворимого язычниками. Народ взволновался и неотступно требовал казни Данииловой. Кир вынужден был выдать пророка, которого и бросили опять в львиный ров. В этом рве находилось семь голодных львов, но они не дотронулись до пророка. Бог хранил служителя Своего и чудесным образом посылал ему пищу.
В Иудее жил в то время пророк Аввакум. Однажды он, приготовив обед, нес его жнецам, работавшим в его поле; вдруг явился ангел и сказал ему: «Отнеси этот обед к Даниилу в Вавилон, в ров львиный». – «Господи, – отвечал Аввакум, – я никогда не бывал в Вавилоне и не знаю, где этот ров». Тогда ангел схватил Аввакума, понес его по воздуху и поставил около рва. Аввакум сказал громким голосом: «Даниил, Даниил! Возьми обед, который посылает тебе Господь!» Даниил в радости воскликнул: «Вспомнил Ты меня, Господи, и не оставил любящих Тебя!» После сего ангел, взяв опять Аввакума, возвратил его в Иудею. По истечении шести дней царь пришел ко рву и, увидев Даниила живым, воскликнул: «Велик Ты, Господь Бог Даниила, и нет Бога, кроме Тебя!» – и, повелев Даниилу выйти, он приказал бросить в ров обвинителей его.
Даниил прожил до глубокой старости и сподобился чудных откровений от Господа. В пророческих видениях были открыты ему судьбы народов и царств, время пришествия Спасителя и участь, которая постигнет Иерусалим. Это было возвещено ему через архангела Гавриила, который явился ему в то время, как Даниил с сокрушением сердечным молил Господа умилосердиться над народом израильским. «О, Боже великий и страшный, – восклицал он, – хранящий завет Твой и милость Твою любящим Тебя и исполняющим заповеди Твои! Мы согрешили, творили беззакония, уклонялись от закона Твоего и не слушались тех, которые говорили нам от имени Твоего. Твоя, Господь, правда, а на нас стыд за то, что мы не послушались Тебя, но у Господа милость и прощение… Господи, милостью Твоей да отвратится гнев Твой от града Иерусалима, услыши молитву раба Твоего и прошение его и яви лице Твое на опустевшее святилище Твое. Приклони, Господи, ухо Твое и услыши, отверзи очи Твои и воззри на опустение града Твоего, в котором призывается Твое имя; ибо, не на праведность нашу надеясь, мы повергнем пред Тобою моление наше, но на Твое великое милосердие. Услыши, Господи! Очисти, Господи! Внемли, Господи! И сотвори ради имени Твоего, Господи!»
Еще молился Даниил, когда предстал пред ним архангел и возвестил о возобновлении храма и времени пришествия и самой смерти Мессии. Вдохновенный Богом, Даниил в пророчествах своих говорит также о Втором пришествии и о Страшном суде Господнем.
Рассказывают, что один из наследников Кира осудил на смерть Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила, но что их отсеченные головы вновь пристали к телам и что ангел отнес тела их на гору Гевал.
Страдание святого мученика Себастиана и дружины его
18 декабря
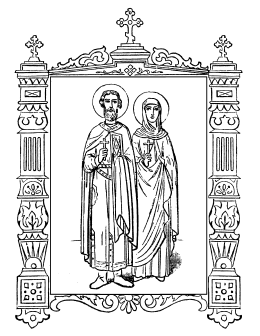
Севастиан был начальником дворцовой стражи при императорах Диоклетиане и Максимиане. Цари любили его за храбрость на войне и мудрость в совете и всегда держали при себе, оказывая ему полное доверие. Но они не знали, что Севастиан христианин. Не из страха преследований Севастиан скрывал веру свою: не пришло еще ему время открыто исповедать Христа; а до тех пор он не пропускал случая помогать своим единоверцам и с твердостью ожидал того времени, когда самого его Господь призовет на священный подвиг.
Время это наступило. Два брата, Маркеллин и Марк, за исповедание христианской веры были в Риме приведены к епарху (правителю города), который потребовал, чтобы они отреклись от Христа. Ужаснейшие истязания не поколебали твердости двух братьев; их осудили на смерть. Уже они склонили головы под секиру палача, готовые радостно умереть за имя Христово, как вдруг епарх, смягчившись просьбами родственников их, согласился отложить на месяц казнь. Мученики были отданы под присмотр одному язычнику по имени Никострат, который должен был через месяц опять представить их к епарху, если в продолжение этого времени они не отрекутся от веры своей.
Началась для братьев новая борьба, труднее первой. Родственники их, язычники, всячески старались отговорить их от святого подвига. Чего не могли сделать ни страх смерти, ни ужаснейшие мучения, то сделали моления престарелых родителей, рыдания жен и детей, увещания сродников и друзей. Сердца твердых мучеников поколебались; дух потерял прежнюю бодрость, они плакали вместе с семейством и почти были готовы купить отступничеством от Христа право на жизнь и ее блага.
Севастиан находился в доме Никострата с многочисленными сродниками и друзьями Маркеллина и Марка. Заметив, что мученики готовы уступить мольбам и слезам своих близких, он встал и, обратившись к ним, воскликнул:
– О крепкие воины Христовы! Неужели вы, так великодушно претерпевшие мучения, сложите с себя теперь, ради ласк и слез, заслуженный венец? Будьте достойными воинами Христа! Вооружитесь верой, поднимите славное знамя ваше и не выдайте его ради детских рыданий! Те самые, которые теперь плачут, возрадовались бы за вас, если бы знали то, что знаете вы. Они думают, что нет жизни, кроме той, которой вы лишаетесь за Христа. Если бы они знали, что за этой жизнью есть жизнь вечная, то сами бы пожелали разделить ваш подвиг и презрели бы временную жизнь. И стоит ли наша временная жизнь, чтобы так дорожить ею? Не обманывает ли она нас ежечасно? Не полна ли она горя, суеты и лжи? Не научает ли она нас всему дурному? Как брат убивает брата, разбойник грабит путника, гордый обижает смиренного, виноватый преследует невинного – что всему причиной, как не любовь к жизни сей и благам ее? И сия-то жизнь прельщает вас! – продолжал Севастиан, обратившись к друзьям и сродникам Маркеллина и Марка. – Ради нее вы хотите отвратить возлюбленных ваших от пути к жизни вечной! Жизнь временная научает вас, родителей, безумными рыданиями отвлекать сыновей ваших от службы Царю Небесному! Она научает вас, о жены, ласками и слезами расслаблять твердые души мучеников. Вы им желаете не жизни, а смерти, рабства, а не свободы. Если бы они и склонились на мольбы ваши, то, пожив немного времени, не принуждены ли будут с вами расстаться? Но расстанутся тогда, чтобы воспринять уже вечные муки в геенне огненной, где вечный плач и страдания бесконечные. Дайте же им избегнуть вечной муки, и пусть пример их научит и вас. Пусть приготовят они и вам обители в райских селениях, где сияет вечный день, где свет незаходимый и радость бесконечная, где нет ни слез, ни вздохов, ни печали, где ангелы вечно славословят Царя Небесного! О родители! О друзья! О честные жены святых мужей! Не желайте лишить их сей вечной радостной жизни! Не призывайте их от радости к рыданию, от света к тьме! А вы, святые мужи, не давайте прельщать себя хитрому врагу, который действует на вас чрез домашних ваших! Помните слова: «Враги человеку домашние его» (Мф. 10:36), ибо те не друзья ваши, которые желают вас отлучить от Бога. Не выпускайте из рук награды вашей, ибо вы стоите уже у дверей небесного чертога, уже сплетается для вас венец, уже Христос вас ожидает! Вспомните слова: «Иже любит отца, или матерь, или сына, или дщерь паче Мене, несть Мене достоин» (Мф. 10:37). Не будьте так неразумны, чтобы начатое духом кончить плотию! О, да сподобит и меня Господь Бог положить жизнь мою за имя Его!
Когда Севастиан кончил эту речь, необычайный свет осенил его, и лицо его озарилось небесным сиянием. Некоторые из присутствовавших увидели над ним семь ангелов, облачавших его в блестящее одеяние, и послышался голос, говоривший: «Ты всегда со Мной будешь!» Изумление и благоговейный трепет наполнили все сердца. Тут находилась среди прочих жена Никострата, Зоя, которая за шесть лет пред тем сделалась немой. Она уразумела слова Севастиана и, увидев вокруг него небесное сияние, упала к его ногам. Он, подняв глаза к небу, воскликнул: «Если я воистину раб Христов и истинно все то, что я сказал вам и чему уверовала жена сия, то да повелит Господь разрешиться узам, связывающим язык ее». Сказав это, он крестным знамением осенил уста Зои, и она вдруг воскликнула: «Блажен ты, благословенно слово уст твоих и блаженны уверовавшие тобою во Христа Спасителя, Бога Живого, ибо я видела, что ангел Божий держал пред тобой открытую книгу во все время, как ты говорил. Как заря появлением своим отгоняет ночную темноту, так свет слов твоих рассеял в душе моей мрак заблуждения, и уста мои отверзлись на славословие Господу».
Все свидетели этого чуда уверовали во Христа. Маркеллин же и Марк, исполнившись новой силы и ревности к Богу, готовились мужественно стоять за имя Его. «Презрим тело, – воскликнули они, – да спасем душу! Убоимся ли временной смерти, когда пред нами жизнь вечная? Пусть боятся те, которые не знают о будущей жизни!» Подобные чувства одушевляли и прочих; все отрекались от прежних заблуждений, каялись в грехах и, пламенно возлюбив Бога, готовились положить за Него жизнь свою.
Севастиан, Маркеллин и Марк научили вновь уверовавших закону Господню. Под покровительством Никострата они ходили по темницам и туда приносили свет и утешение христианской веры. В этом святом деле помогал им святой Поликарп пресвитер. «Блаженны вы, – говорил он новым христианам, – ибо уверовали словам Христа, сказавшего: „Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы; возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь и смирен сердцем“ (Мф. 11:28–29)». Господь благословлял дела верных Его служителей, и число верующих множилось ежедневно; многие принимали Святое крещение и чудесно исцелялись от недугов своих, что еще более возбуждало в них чувства любви и благодарности к Богу. Транквиллин, отец Маркеллина и Марка, был уже стар и очень болен. Перед тем как совершить над ним таинство крещения, Поликарп спросил у него:
– Веруешь ли несомненно, что единородный Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, может возвратить тебе здравие и простить тебе грехи твои?
Транквиллин отвечал:
– Верую, что Христос, Сын Божий и Бог, все может сделать, но прошу только одного от благости Его – чтобы он простил мне прегрешения мои; о болезни же своей я не думаю.
Все бывшие тут прослезились, услышав этот ответ, и молили Господа, да явит Он милость Свою Транквиллину. Молитва эта была услышана. Едва началось таинство крещения, как старец исцелился совершенно от недуга своего.
Приближалось окончание срока, данного Маркеллину и Марку. Епарх римский Агрестий призвал к себе отца их и велел было представить юношей для новых истязаний; но сам он уверовал во Христа, убежденный словами христиан и чудесным исцелением, которым Господь явил ему силу Свою. Он принял крещение вместе с сыном своим Тивуртием и со всеми домашними. Покаявшись искренно во всех грехах, он сокрушил идолов своих, раздал бедным большую часть имения, освободил рабов своих и начал новую жизнь, сообразную с законом Христовым. Он безбоязненно давал у себя прибежище гонимым христианам, подвергаясь за то мучениям и, наконец, смерти.
Быстрые успехи христианской веры во дворце и даже в самом семействе царском ожесточали язычников, и преследования день ото дня становились строже. По приказанию императоров на всех торжищах, при колодезях и источниках были воздвигнуты изображения языческих богов, и никто не мог купить хлеба или почерпнуть воды, не поклонившись сперва идолам. Это распоряжение было сделано с тем намерением, чтобы легче было узнавать христиан. Их ежедневно предавали мучениям. Зоя была схвачена в то время, как она молилась у гробницы апостола Петра; она скончалась мученической смертью. За ней та же участь постигла почти всех друзей Севастиана: кто погиб от огня, кто от меча, кто был растерзан зверями. Маркеллин и Марк были пригвождены к дереву.
Наконец до императора Диоклетиана дошел слух и о Севастиане.
– Как, – сказал ему Диоклетиан, – и ты, который из первых во дворце моем, замышляешь против меня зло и сделался врагом моих богов?
– Я всегда молю Бога о здравии твоем, – отвечал Севастиан, – равно как о благоденствии и мире Римской державы, но не поклонюсь богам твоим, ибо верую в Царя Небесного.
Диоклетиан повелел вывести его за город и, привязав к дереву, стрелять в него из лука до смерти. Повеление было исполнено. Ночью одна христианка по имени Ирина пришла за телом мученика; но, к удивлению своему, она увидела, что Севастиан еще жив. Она отвязала его, привела к себе в дом, и через несколько дней он исцелился от ран своих. Приходившие к нему христиане уговорили его скрыться, но он однажды, помолившись, вышел из дома и встал на открытом месте, мимо которого должны идти императоры. Когда они поравнялись с ним, он воскликнул громким голосом:
– Несправедливо говорят вам жрецы ваши, будто христиане – враги Римской державы и желают ей гибели. Их молитвами держится город сей, ибо они непрестанно молят Бога о благоденствии государства и о здравии вашем.
Диоклетиан, взглянув на него и тотчас узнав Севастиана, изумился, ибо почитал его умершим.
– Ты ли, Севастиан, – спросил он, – которого мы повелели умертвить стрелами?
– Господь избавил меня от смерти, – отвечал Севастиан, – чтобы я свидетельствовал перед вами, что вы воздвигаете неправильные гонения на христиан.
Тогда Диоклетиан приказал воинам взять Севастиана и вести его на ипподром, где его убили палицами; тело его бросили в ров; но христианка по имени Лукина, узнав во сне от явившегося ей святого мученика, где находится его тело, взяла его и похоронила в одной из римских катакомб.
Память святого мученика Вонифатия
19 декабря

Святой мученик Вонифатий был рабом у богатой и знатной римлянки Аглаиды. Будучи христианами по имени, Вонифатий и госпожа его жили беззаконно, постоянно нарушая заповеди Христовы и предаваясь страстям своим. Вот однажды пришло Аглаиде желание иметь у себя святые мощи пострадавшего за веру. «Если я получу желаемое, – говорила она, – то выстрою церковь во имя святого, он будет мне ходатаем и молитвенником пред Богом». Призвала она раба своего Вонифатия и велела ему идти в восточные страны, где тогда было жестокое гонение на христиан. Дала она ему много денег на путевые издержки и на приобретение мощей, ибо язычники, зная, как христиане дорожат останками святых мучеников, продавали их за деньги.
Вонифатий, выслушав приказание госпожи своей, сказал ей шутя: «А что, госпожа, если я не найду мощей и меня самого замучают, примешь ли ты с честью тело мое?»
Аглаида побранила служителя своего за то, что шутит, когда надо бы благоговеть пред святым делом: раскаяние в греховной жизни пробуждалось в ней. Господу в милости Его угодно было призвать к Себе и Вонифатия и предпринятый путь сделать для него путем спасения. Идя, Вонифатий стал размышлять о подвигах святых мучеников, о благочестивой жизни истинных христиан, а там взглянул внимательно и в свою совесть. И что она представила ему? Жизнь греховную и нечестивую, всю преданную самоугождению, противную закону Христову. Вонифатий содрогнулся; страх Господень пробудился в его душе; с сокрушением сердечным каялся он в грехах пред Богом и молил милосердного Владыку о помощи, чтобы исправить жизнь свою. Он постился и молился во все время пути. В таком состоянии духа прибыл он в киликийский город Таре. Это было во время гонения Диоклетиана. Ежедневно толпы христиан призывались к суду и предавались истязаниям и казни. В то самое время, как Вонифатий со спутниками своими въезжал в город, народ толпился на одной из площадей и смотрел на казнь христиан. Вонифатий велел спутникам отпрячь и накормить лошадей, а сам, не дав себе времени отдохнуть, поспешил на площадь. Тут множество христиан терпели истязания самые жестокие, самые разнообразные; но все они, одушевленные пламенной верой, являли изумительное терпение; святой радостью сияли лица их. Вонифатий смотрел на их подвиг, и сердце разгоралось в нем. Вдруг бросился он к ним и стал обнимать их, восклицая громогласно: «Велик Бог христиан, дающий крепость рабам Своим!» Он лобызал ноги святых мучеников, ублажал их, просил их помолиться о нем. Увидев это, судья призвал Вонифатия и спросил, кто он такой.
– Христианин, – отвечал Вонифатий.
Судья повторил вопрос свой. Вонифатий повторил то же. Тогда судья стал угрожать ему истязаниями, если он не согласится отречься от веры. Вонифатий объявил, что готов страдать за имя Христово. Начали мучить его; он же радовался и благодарил Бога, что сподобил его чести со святыми мучениками. Его предали жестоким мучениям и на ночь заключили в темницу.
На следующий день снова начались допросы, увещания и мучения; но Господь помогал служителю Своему и облегчал для него жестокость истязаний. Вонифатий непрестанно хвалил имя Господне. Наконец судья велел отсечь ему голову мечом, и Вонифатий с молитвой предал душу Богу.
Между тем спутники ждали его в гостинице и удивлялись, почему он не идет к ним. Зная его нетрезвую жизнь, они не очень сначала беспокоились и подумали, что он, наверно, где-нибудь пьянствует и веселится. Прошла ночь; на следующий день, видя, что он не возвращается, стали они искать его по городу, но тщетно; на третий день опять пошли искать его и спрашивали у встречных, не видал ли кто его, и описывали его наружность. Никто не мог дать о нем известия. Наконец, случайно обратились они с вопросами к брату писца, который присутствовал при допросах мучеников, и он сказал им:
– Вчера какой-то иностранец много пострадал за Христа и был усечен мечом, уж не его ли вы ищете?
Они описали, каков он с виду.
– Как будто похож на того, который был вчера казнен, – отвечал брат писца.
– Не может быть, – отвечали они, – ты, видно, не знаешь того, кого мы ищем; разве пьяница и грешник пойдет страдать за Христа?
– Лучше пойдите сами посмотреть, так ли, – отвечал тот. – Тела казненных еще лежат на месте казни; быть может, и найдете вашего спутника.
Они пошли и с изумлением узнали тело Вонифатия между телами мучеников; стыдно им стало, что они так поносили того, кто сподобился славной смерти за Христа. За пятьсот золотых монет купили они у мучителей истерзанное тело товарища своего и, обвив его плащаницей, помазав ароматами2, увезли с собой обратно в Рим. Когда они приближались к городу, Аглаида в видении услышала от ангела: «Прими того, который был раб твой, а ныне нам брат и сослужитель, который будет хранителем души твоей и молитвенником о тебе». Ужаснулась Аглаида и вышла навстречу к возвращавшимся служителям своим. Узнав обо всем случившемся, она с великой честью приняла тело мученика, создала во имя его великолепную церковь в окрестностях Рима и, покаявшись в прежних грехах своих, раздала имение бедным и стала жить при церкви в смирении, воздержании и великом благочестии. Так провела она пятнадцать лет и мирно отошла ко Господу.
Житие святого мученика Игнатия Богоносца
20 декабря
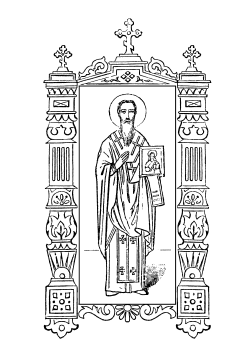
Апостолы Христовы однажды спорили между собой, кто из них больший. Иисус Христос, услышав, о чем идет речь, позвал ребенка и, обняв его, поставил посреди них и сказал: «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное; кто умалится, как дитя сие, тот и больше в Царстве Небесном. И кто приимет таковое дитя во имя Мое, тот Меня примет» (Мф. 18:2–5).
На этом ребенке, которого обнял Иисус Христос, пребывало благословение Божие. Предание говорит, что он тот самый, который под именем Игнатия Богоносца был впоследствии учеником Иоанна Богослова, потом епископом Антиохийской Церкви, и, наконец, удостоился принять за имя Христа мученический венец.
Святой Игнатий, возведенный «советом всех апостолов святых» в епископы Антиохии, мудро правил паствой своей, не щадя трудов и стараний и изъявляя во всем ревность апостольскую; он безбоязненно и усердно проповедовал слово Божие и многих привел к познанию Христа. Он первый, вследствие видения, ввел в Церкви Антиохийской пение на два лика Божественных песней, что было потом принято и другими христианскими Церквами. Паства называла Богоносцем епископа своего, знаменуя этим именем ревность и любовь его к Богу.
По случаю побед императора Траяна были в Антиохии торжество и веселье. Христиане не могли принимать участия в торжестве, которое сопровождалось языческими обрядами. На них донесли императору, обвиняя в особенности их епископа, как врага языческих богов. Траян, прибыв в Антиохию, призвал его.
– Ты ли, – спросил он у него, – называешься Богоносцем и, противясь нашим повелениям, стараешься всю Антиохию вести вслед твоего Христа?
– Я, – твердо отвечал епископ.
– Да что это за название – Богоносец? – спросил царь.
– Богоносец – тот, – отвечал Игнатий, – кто носит Христа Бога в душе своей.
– Так ты носишь своего Христа в себе самом? – опять спросил святого Траян.
– Поистине ношу, – сказал святой Богоносец, – ибо в слове Божием написано: «Вселюся в них и похожду» (2Кор. 6:16).
Траян долго старался склонить Игнатия к отречению от Христа, осмеивая его веру и обещая за отречение почести и богатства; но на все его увещания Богоносец отвечал, что ему лучше страдать за Христа, умершего на кресте, нежели, отрекшись от Него, жить в величии и славе. Судьи, думая обличить его собственными его словами, сказали ему:
– Ты сам говоришь, что Бог твой умер; может ли мертвый спасти и даровать жизнь? Наших богов мы считаем бессмертными.
– Господь мой и Бог мой для нас сделался человеком, – отвечал Игнатий, – и для нашего спасения, по собственному благоизволению, принял крест, смерть и погребение, потом воскрес в третий день, низложив силу вражью, и взошел опять на небеса, откуда сходил восстановить нас от падения и вновь ввести в рай, из которого мы так злополучно были извержены, и даровал нам больше благ, нежели мы имели прежде. А который же из ваших богов сотворил подобное?
Далее святой Игнатий стал раскрывать исходя из самой языческой мифологии о богах всю нелепость язычества. Тогда Траян осудил его на смерть. Епископа отвели в темницу с тем, чтобы потом предать его на съедение зверям. Но, рассуждая, что часто твердость мучеников среди тяжких страданий приводила язычников к вере во Христа, решили послать Игнатия на казнь в Рим, где народ, не зная, что он умирает за веру, увидит в нем обыкновенного преступника, осужденного на смерть за свои преступления.
Так и было сделано. Траян отправился в поход, а Игнатия, связанного узами, повели в Рим на казнь, но ни утомление от дальнего пути, ни близость смерти не могли победить в нем твердости духа. Он шел радостно на казнь за имя возлюбленного Христа, утешая и увещевая христиан, которые с плачем сходились к нему из городов, через которые он шел: из Селевкии, из Смирны, из всех городов Малой Азии. Он в Смирне провел некоторое время со святым Поликарпом, тоже учеником святого Иоанна Богослова, и оттуда написал послание к Церквам Ефесской, Магнезийской, Траллийской и Римской. Эти письма, дошедшие до нас, заключают в себе истинно христианское учение; в них выражается пламенная любовь к Богу и к ближним. Полный искреннего смирения, Игнатий пишет христианам ефесским: «Я не повелеваю вам, как будто имеющий на то власть, ибо хотя я и связан за Христа, но я еще не совершен во Христе. Я теперь только что начинаю быть учеником Его, а говорю вам, как учитель. Поддержите меня вашей верой, вашим терпением. Любовь моя к вам побуждает меня писать вам и умолять вас следовать пути Господню».
Он убеждает христиан хранить между собою единодушие и любовь, повиноваться пастырям своим, предохранять себя от лжеучителей, которых было много в это время.
«Беспрестанно и усердно молитесь за всех, – пишет он, – ибо и они могут обратиться; и ваша святая жизнь да послужит им наставлением… Не пренебрегайте собраниями молитвенными; ими ослабевает власть диавола, и сила его разрушается единодушием вашей веры».
Видя, какое участие христиане принимают в его судьбе и как они огорчены смертным приговором его, Игнатий стал опасаться, как бы римские христиане не попытались спасти его, и потому он из Смирны написал им письмо, в котором, стараясь убедить их, что он умирает охотно, умоляет их ничем не препятствовать его казни.
«Исполняя молитву мою, – пишет он между прочим, – Господь дарует мне увидеть вас, чего я давно желаю. Узник за Иисуса Христа, я надеюсь приветствовать вас, если угодно будет Богу, чтобы исполнилось до конца намерение мое. Начало доброе положено; да подаст мне милость Божия восприять и до конца жребий мой; но боюсь любви вашей, боюсь, как бы она не обидела меня… Мне удобно прейти к Богу; не мешайте мне любовью вашей. Теперь представляется мне возможность прейти к Богу; и если вы не помешаете тому, то лучшего дела сделать не можете: я тогда соединюсь с Господом; если же пожалеете о теле моем, то вновь предстоит мне труд. Лучше дайте мне быть жертвой Богу, когда жертвенник уже готов, и воспойте хвалу Господу… О том только молитесь, да даст мне Господь силы внутренние и внешние, да не только назовусь христианином, но и окажусь таковым на деле… Я пишу ко всем Церквам и всем говорю, что добровольно умираю за Христа, если только не воспрепятствуете мне. Умоляю вас, не удерживайте меня безвременной любовью; оставьте меня быть снедью зверей; через то я достигну Бога. Я – пшеница Божия; да измолот буду зубами зверей, чтобы мне быть чистым хлебом для Бога… Я ныне раб, но, если пострадаю, буду свободным человеком Иисуса Христа и воскресну в Нем свободным… Ныне начинаю быть Христовым учеником – ныне, когда не желаю ничего ни из видимого, ни из невидимого, а чтобы только достигнуть мне Христа. Огнь, крест, собрание зверей, рассечение, раздирание, сокрушение костей, раздробление членов, сотрение всего тела и все диавольские мучения пусть придут на меня – только бы мне получить Иисуса Христа… Господа желаю, Сына истинного Бога и Отца; Того ищу, Кто за нас умер и воскрес… Простите мне, братья, и не мешайте мне получить жизнь, ибо Иисус есть жизнь вечная; не желайте мне смерти, ибо жизнь без Христа есть смерть… Дайте мне увидеть чистый свет, дайте мне быть подражателем страданий Христа Бога моего… Кто здесь имеет Христа, тот должен знать, чего я хочу, и тот да помилосердует обо мне, зная сам, чем я одержим. Князь мира сего хочет меня растерзать и мою душу и желание мое к Богу растлить. Не помогайте ему, но со мной будьте Божиими… Не слушайте и меня, если бы я, увидевшись с вами, стал просить об ином (об избавлении моем от смерти); поверьте и повинуйтесь тому, что я теперь пишу к вам. Теперь пишу я, полный жизни, объятый желанием любви умереть за Христа, моя любовь пригвождена ко кресту, и нет во мне огня любви к миру, но вода живая течет во мне и говорит внутри меня: иди к Отцу. Не услаждаюсь я пищей тленной и радостями жизни сей, хлеба Божия хочу, хлеба небесного, хлеба жизни, который есть тело Христа, Сына Божия, рожденного после от семени Давидова и Авраамова; желаю пития Божия – крови Того, Кто есть любовь не гибнущая и жизнь вечная… Кратким письмом умоляю вас, не мешайте мне и верьте, что люблю Иисуса, Который за меня предан был… Сам Бог и Отец, и Господь Иисус Христос да явит вам, что я говорю правду. Вы же молитесь со мной, чтобы я получил желаемое Духом Святым. Не по плоти вам пишу, но по Божию изволению; если пострадаю, возлюбите меня; если же отвержен буду, то возненавидьте меня. Поминайте в молитвах ваших Церковь Сирскую, которая имеет, кроме меня, другого Пастыря, сказавшего: „Аз есмь Пастырь добрый». Тот попечется о ней».
Вскоре после этого письма Игнатий оставил Смирну и отправился в Рим. С дороги он еще написал три послания и между прочим одно к Поликарпу, которому дает наставление об обязанностях епископа.
В виду Путиола он хотел сойти на берег, чтобы следовать по пути, которым шел святой апостол Павел, но сильный ветер помешал кораблю пристать, и через некоторое время вышли на берег в Остии и оттуда продолжали путь в Рим. Спутники скорбели о нем; и римские христиане сильно желали спасти его; но он повторил просьбу свою и был предан в руки епарха. Епарх, узнав о воле императора, велел приготовить зверей, и в праздничный день перед многочисленным народом святой был приведен на казнь. Его сопровождали христиане, и вместе с ними он помолился, да прекратит Господь гонение, даст мир Церкви Своей и внушит всем верующим взаимную любовь.
Слыша, что он беспрестанно повторял имя Иисуса Христа, язычники, которые вели его, спросили, почему он так часто повторяет это имя. Святой Игнатий отвечал, что в его сердце написано имя Иисуса Христа и потому уста исповедуют Того, Кого он в сердце всегда носит.
Бог даровал святому Игнатию силу безбоязненно встретить ужасную смерть. Обратившись к народу перед казнью, он громко сказал: «Знайте, граждане римские, что не за злодеяние и преступление осужден я на смерть, но за единого Бога моего, Которого любовью я одержим и Которого ненасытно желаю. Я – пшеница Его и зубами звериными измалываюсь, чтобы мне быть для Него чистым хлебом». Едва он успел выговорить эти слова, как львы, устремившись на него, растерзали его. Христиане собрали его кости и впоследствии перенесли их в Антиохию. Долго они о нем плакали и скорбели, и некоторым из них святой являлся, утешая их в печали; другие видели его молящимся о городе.
Когда Траян узнал, как мужественно и радостно Игнатий шел на смерть за Бога своего, то пожалел, что осудил его на казнь, и, убедившись, что христиане – люди честные и добрые, во всем кротко покорные законам его, кроме тех случаев, когда законы противны их вере, он приказал оставить их в покое и прекратить всякое на них гонение.

21 декабря Святая Церковь воспоминает святую мученицу Иулианию Никомидийскую, восемнадцати лет от роду замученную за веру при Диоклетиане, и святого Петра, митрополита Киевского и всея Руси.
Житие великомученицы Анастасии Узорешительницы
22 декабря
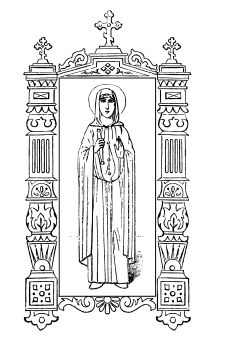
Анастасия была дочерью знатного и богатого римлянина. Отец ее был язычником, но мать исповедовала христианскую веру. В то время, то есть в III столетии, знатные римляне, уважая науку, воспитывали детей своих со всевозможным старанием. Воспитание Анастасии было поручено человеку, известному умом и ученостью, по имени Хрисогон, и успех вполне оправдал выбор родителей. Когда окончилось воспитание молодой Анастасии, все в Риме дивились как необыкновенной красоте, так и уму и познаниям ее. Но другое неоцененное сокровище передал ей Хрисогон. Он был христианином; от него и от матери своей Анастасия получила познание истинного Бога; и пламенная вера, вселившаяся с ранних лет в сердце ее, дала ей возможность перенести с терпением предстоявшие ей тяжкие испытания.
Рано познакомилась Анастасия с печалями. Она в молодости лишилась матери, а отец выдал ее против воли замуж за богатого и знатного римлянина, язычника, человека нрава жестокого и крутого. Много слез пролила бедная Анастасия; единственное утешение находила она в молитве и в исполнении обязанностей христианских. Часто, одетая в бедное платье, в сопровождении верной служанки, она посещала темницы, наполненные в то время христианами, и всячески старалась облегчить участь страждущих за Христа. Но об этих посещениях узнал ее муж и отнял у нее это последнее утешение. Он негодовал на то, что она много раздает бедным, и, боясь, чтобы она не истратила на благодеяния все богатое наследство отца, которое он желал присвоить себе, он стал обращаться с ней жестоко. После разных оскорблений он наконец запер ее, лишив таким образом всякой возможности помогать несчастным. Доведенная почти до отчаяния, Анастасия тайно писала к бывшему своему учителю Хрисогону, заключенному в темницу за веру Христову, и, описывая ему свои страдания, просила его молитв. Хрисогон в ответном письме к ней убеждал ее терпеливо переносить испытания и возлагать надежду на Бога.
«К тебе, волнующейся посреди бурь и смущения мира, – писал он ей, – скоро придет, хотя по морю, Иисус Христос и одним словом Своим утешит восстающую против тебя бурю. Посему, находясь как бы посреди моря, терпеливо жди Христа, собирающегося прийти к тебе. И сама в себе взывай с пророком: „Что унываешь, душа моя, что смущаешься? Уповай на Господа, ибо я буду еще славословить Его, Спасителя моего и Бога моего!“ (Пс. 41:6). Надейся от Бога двойного дара; Он возвратит тебе и временное наследство, и уготовит вечное. Не смущайся, видя, что люди благочестивые терпят скорби, ибо Господь Бог не оставляет тебя, но испытывает… Твердо и бдительно храни себя от всякого греха и в Боге едином ищи утешения, свято исполняй Его закон».
Между тем положение Анастасии становилось все хуже. Муж день ото дня обращался с ней суровее. Не надеясь остаться живой, она вновь писала Хрисогону: «Конец мой близок, помолись обо мне, чтобы душу мою принял Господь, ибо за любовь к Нему страдаю». В ответе своем старец вновь утешает ее надеждой на милость Бога, Который может по воле Своей положить конец ее страданиям.
«Всегда свету предшествует тьма, и по болезни возвращается здоровье, и по смерти обещана жизнь. К одному концу ведет и скорбь, ведет и радость мира сего, чтобы в скорби не отчаиваться и в радости не возноситься. По одному морю мы плывем ладьями наших тел, один кормчий управляет нашими душами. Иной корабль крепок и безвредно переносит волнения бури; другой плох и при тишине близок к потоплению: ибо близко время к погибели тех, которые не помышляют прийти к тихому пристанищу. Ко кресту Христову привяжись всей мыслью, о непорочная служительница Христа! Уготовься к делу Господню, в котором по своему желанию послужишь и с торжеством мученичества придешь ко Христу».
Вскоре после этого муж Анастасии был куда-то послан императором и умер в дороге. Анастасия, среди тяжких испытаний еще более привязавшаяся к закону Господню, посвятила всю свою жизнь служению Богу и ближним. Она смотрела на богатство свое только как на средство, вверенное ей Богом для блага других, и неутомимыми попечениями своими о бедных узниках удостоилась прозвания узорешительницы. Она беспрестанно посещала темницы, носила заключенным пищу, питье и одежду, утешала их словами веры, любви и сочувствия, лечила их болезни, перевязывала их раны и считала для себя таким счастьем служить страждущим за Христа, что как будто служила прямо Самому Господу, говоря с Давидом: «Мне же зело честни быша друзи Твои, Боже» (Пс. 138:17).
В это время было тяжкое гонение на христиан. Диоклетиан, призвав к себе в Аквилею старца Хрисогона, о котором ему сказали, что он в Риме утверждает христиан в вере, увещевал его поклониться богам, обещая ему за то великое богатство и звание епарха римского. «Я познал единого Бога, – отвечал Хрисогон, – и Он для меня слаще всякого света, вожделеннее всякой жизни, выше всех сокровищ. В Него я верую сердцем, Его исповедую устами, Его почитаю душой, пред Ним преклоняю колена; твоих же богов считаю ложными и не могу им поклоняться».
После таких слов Диоклетиан убедился, что нельзя склонить Хрисогона к отречению, и велел его казнить. Некоторое время обезглавленное тело Хрисогона лежало на берегу морском. Наконец один христианский пресвитер по имени Зоил и три близ живущие сестры – Агапия, Хиония и Ирина честно похоронили святого мужа. На тридцатый день после этого Зоилу в видении явился Хрисогон и объявил ему, что в течение девяти дней он скончается и три сестры преданы будут мучениям. То же самое видение имела Анастасия. Она тотчас же пошла к пресвитеру и, найдя трех девиц, пробыла с ними целую ночь, утверждая их в вере и терпении. Через несколько дней они действительно призваны были к Диоклетиану и скончались мученической смертью. Около того же времени преставился к Господу и пресвитер Зоил.
Анастасия, предав тела их земле, продолжала творить дела милосердия. Не щадя трудов, она ходила из города в город, из страны в страну, подавая помощь и утешение везде, где имели в том нужду. В Македонии другая молодая вдова по имени Феодотия делила труды ее, но вскоре Феодотия была схвачена притеснителями христиан. Вслед за ней та же участь постигла и Анастасию.
Однажды Анастасия, придя в темницу, не нашла в ней тех узников, которым служила накануне. Царь, узнав, что все темницы так полны, что некуда помещать вновь взятых христиан, велел казнить всех заключенных. Видя слезы Анастасии, темничные стражи поняли, что она христианка, и привели ее к иллирийскому игемону, или правителю.
– Разве ты христианка? – спросил ее правитель.
– Христианка, – отвечала Анастасия. – Что тебе кажется мерзким, то мне любезно, и имя христианское, которое вы считаете позором и бесчестием, для меня – честь и слава.
Правитель, узнав, кто она, долго не мог понять, как она решилась покинуть блеск и роскошь, окружавшие ее в Риме, чтобы служить бедным узникам. Он уговаривал ее отречься от Христа, но, убедившись, что слова его бесполезны, и не смея между тем осудить на смерть женщину такого высокого рода, донес о ней царю. Диоклетиан, призвав Анастасию, старался отвратить ее от того, что считал безумием, но, найдя ее непреклонной, передал ее одному из начальников капитолийских, дабы он уговорил или принудил ее отречься от Христа.
Бесполезны остались все усилия. Ульпиан (так звали начальника) описывал ей все радости мира, всю прелесть богатства, а потом показывал ужасные орудия мучений и грозил позорной смертью; но она ни минуты не колебалась и отвечала, что давно избрала Христа, что возлюбила Его более всех радостей мира и что умереть за Христа значит получить жизнь вечную. Видя, что все усилия остаются тщетными, Ульпиан предал ее на мучения. Вдруг внезапная смерть постигла его, и освобожденная Анастасия пошла отыскивать Феодотию, взятую гонителями еще прежде нее, но тоже освободившуюся от руки их. Обе святые женщины принялись за человеколюбивые труды свои, но скоро были взяты опять, и Феодотия с тремя детьми претерпела мученическую кончину в огненной печи.
Анастасия в то время содержалась в узах у иллирийского правителя. Он был очень корыстолюбив и предлагал ей откупиться от мучений, если она передаст ему имение свое; но Анастасия не согласилась на это, говоря, что имущество ее принадлежит бедным. «Ты богат, – говорила она ему, – и не нуждаешься в имении моем. Вот если я увижу тебя алчущего, или жаждущего, или больного, или в темнице, тогда сделаю и для тебя то, что повелел мне Христос: напитаю тебя, напою, посещу, сделаю все возможное, чтобы облегчить твою участь».
Не успев в намерении своем, правитель решился уморить Анастасию голодом; два раза по тридцать дней не давали ей ни пищи, ни питья; но Анастасия, укрепляемая милостью Божией, оставалась здоровой. Каждую ночь являлась ей уже из другой жизни святая мученица Феодотия, и беседы с ней исполняли радостью сердце Анастасии. Не успев уморить ее голодом, правитель осудил Анастасию на потопление в море. Ее посадили в лодку вместе со ста двадцатью осужденными, между которыми был один старик христианин по имени Евтихиан. Когда лодка отплыла довольно далеко от берега, воины, находившиеся в ней, провернули в ней несколько дыр и пересели на другую. Но, к удивлению всех, лодка, преданная гибели, благополучно держалась на воде; видели, что женщина, в которой некоторые узнали святую Феодотию, держала руль и направляла лодку к берегу. Спасенные столь чудным образом уверовали в истинного Бога и, упав к ногам Анастасии и Евтихиана, просили и сподобились Святого крещения.
Правитель же, когда узнал о чудесном их спасении, вторично осудил их на смерть и предал различным мучениям. Анастасию, растянув, привязали к четырем столбам и сожгли. Одна христианка похоронила ее тело, оставшееся невредимым в огне; мощи ее были потом привезены в Константинополь.

23 декабря совершается память десяти мучеников, пострадавших на Крите при императоре Декии: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста, и память святого Нифонта епископа. Этот угодник Божий в молодости вел жизнь очень распутную, живя как бы без Бога в мире; но потом, покаявшись, стал усердно молить Бога о помощи, чтобы исправиться. Господь принял его покаяние, чудесными видениями наставлял его на добро и помогал ему. Нифонт сделался иноком, угодил Господу верой и добродетельной жизнью и сподобился дара чудотворения и прозорливости. Уже в старости был он посвящен в епископы на острове Кипр, где и скончался в первой половине IV века.
Память святой мученицы Евгении
24 декабря
Евгения была дочерью правителя Египта и славилась в Александрии красотой и мудростью; но, уверовав во Христа, оставила все земные блага и в мужском одеянии вступила в монастырь, где вела самую строгую жизнь. Много пришлось ей претерпеть гонений, клеветы, но все переносила она спокойно и имела радость видеть все семейство свое обратившимся ко Христу. Святая Евгения была замучена в Риме в царствование Валериана и Галлиена.
Рождество господа нашего Иисуса Христа
25 декабря
Последние столетия перед Рождеством Христовым Иудея находилась почти постоянно под тяжким игом иноплеменников. Из-под владычества персов она переходила под власть Александра Великого и по его смерти под владычество попеременно египтян и сириян и, наконец, после кратковременной независимости – под власть римлян, которые обложили иудеев данью и поставили над ними царем Ирода. Страдая под чуждым игом, народ иудейский утешался надеждой на скорое пришествие Спасителя, или Мессии, обещанного всеми пророками. Пророчества ясно определяли и время, и место рождения Спасителя. Даниил предночь загоняли скотину. Тут Мария родила Сына и, спеленав Его, положила в ясли, у которых были привязаны осел и вол, согревавшие своим дыханием Божественного Младенца.
Первую песнь об этом великом событии принесли ангелы смиренным пастухам. В ту самую ночь пастухи, которые недалеко от Вифлеема стерегли в поле стада свои, вдруг увидели на небе дивный свет, и ангел Божий явился им во славе небесной. Бедные пастухи устрашились чудного видения, но ангел сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет радостью всем людям. Ныне в городе Давидовом родился вам Спаситель, Который есть Христос Господь. Вот как Его узнаете: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Едва ангел произнес эти слова, как вдруг появилось множество сил небесных, которые хвалили Господа и восклицали: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, к человекам благоволение!» Когда исчезло чудное явление, изумленные и обрадованные пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Придя в Вифлеем, они нашли Младенца, лежащего в яслях, поклонились Ему и потом рассказали всем, что слышали.
В это время пришли в Иерусалим волхвы, или мудрецы, с Востока. Известно, что некогда в Халдее пророк Даниил поставлен был от Навуходоносора начальником над языческими мудрецами (Дан. 5:11). Надобно полагать, что, по преданию, в особенности от этого пророка, с точностью предсказывающего время пришествия Мессии, мудрецы Востока ожидали Его рождения, и по звезде, явившейся тогда на востоке, не без особенного, конечно, вразумления свыше, узнали о Его рождении. Следуя восточному обычаю подносить царям богатые дары, они взяли с собой золото, ладан и смирну и, придя в Иерусалим, спрашивали: «Где новорожденный Царь Иудейский? Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Царь Ирод, узнав об этом, смутился и, собрав первосвященников и ученых книжников, спросил сказывал, что Он явится чрез 490 лет после восстановления храма Иерусалимского; Михей пророк обозначал место Его рождения: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше славных городов Иудиных, ибо из тебя изыдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля» (Мих. 5:2, Мф. 2:6).
По мере приближения указанного времени все надежды иудеев устремились к пришествию Мессии, от Которого они ожидали себе величия и славы. Чудесные знамения, бывшие при рождении Иоанна Предтечи, быстро разнеслись по нагорной стране иудейской. Пророческие слова Захарии, внушенные ему Духом Святым, ясно указывали на приближающееся явление Спасителя: «И ты, младенец, пророком Всевышнего наречешься; ибо предъидешь перед лицем Господним – уготовать пути Ему» (Лк. 1:76). Но еще не знали о благовествовании, посланном Деве Марии. Мария, приняв с верой слова архангела, предвозвестившего ей, что Она родит Сына, Который наречется, как и есть, Сыном Божиим, смиренно хранила весть эту в сердце Своем. Иосиф, обручник Ее, узнал о том от ангела, явившегося ему во сне.
Иосиф, хотя происходил из царского рода Давидова, жил в труде и бедности. Он от первой жены своей, Соломонии, имел четырех сыновей, которые впоследствии назывались братьями Господа. Все они жили трудами рук своих, Иосиф был плотником.
Когда приблизилось время родить Марии, особенный случай призвал ее с Иосифом в Вифлеем. Император Римский Август повелел сделать народную перепись во всей своей обширной империи; каждый шел записываться в то место, откуда был родом, и Иосиф должен был идти в Вифлеем, родной город Давидов. Вифлеем был незначительным городом в окрестностях Иерусалима, и по случаю переписи в нем стало тесно от великого стечения народа. Иосиф и Мария не могли найти места в гостинице и принуждены были приютиться в вертепе, или пещере, куда на у них: «Где должен родиться Христос?» Они отвечали: «В Вифлееме иудейском, как сказано в пророчествах». Тогда, замышляя злое, царь призвал волхвов и сказал им: «Подите и тщательно разведайте о Младенце, и если найдете Его, то известите меня, чтобы и я мог поклониться Ему». Волхвы тотчас же отправились, и звезда, которую они видели на востоке, показывала им путь. Она остановилась над самым тем местом, где был Младенец. Войдя, они поклонились Ему и с благоговением поднесли Ему драгоценные дары.
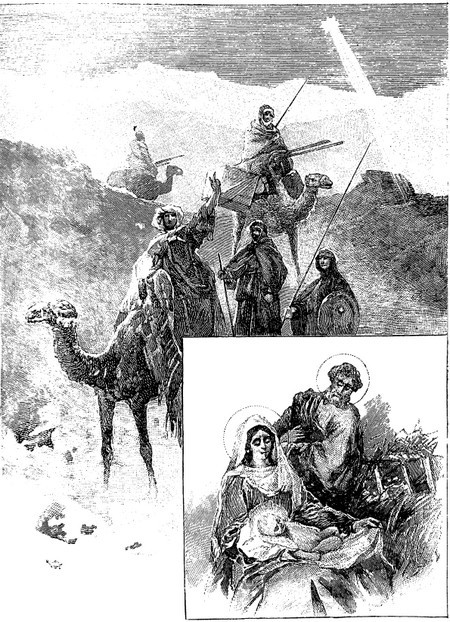
Так исполнились пророчества, за столько веков предвещавшие Избавителя. Не в величии и славе земной родился Спаситель, но в смирении и бедности. Большинство иудеев ожидали найти в Нем освободителя от чуждого ига и славного, могущественного царя; они не поняли, что Он будет победителем смерти и освободителем от греха, что Он дарует духовную свободу, не мирское и плотское благоденствие, а правду, мир и радость благодатную для жизни настоящей, и жизнь вечную и блаженство небесное; они в Нем не узнали обещанного Мессию.
Волхвы, поклонившись Иисусу Христу, пошли иным путем в отечество свое, потому что получили от Бога во сне повеление не возвращаться к Ироду. Иосифу тоже во сне явился ангел и сказал ему: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его, беги в Египет и оставайся там, пока не скажу тебе; Ирод будет искать Младенца, чтобы погубить Его». Иосиф исполнил сказанное и в ту же ночь отправился в Египет, где жил до самой смерти Ирода.
Предание говорит, что в пути на них напали разбойники и что один из них, увидев Иисуса, удивился красоте Его и удержал своих товарищей, говоря: «Не делайте им зла; если бы Бог принял на Себя образ человеческий, Он не был бы прекраснее этого Младенца». Тогда Пресвятая Дева сказала разбойнику: «Этот Младенец воздаст тебе воздаяние благое за то, что ныне охранил Его». И это был тот самый разбойник, который потом, будучи распят одесную Христа, покаялся и уверовал в Него. Вообще предание о путешествии Божественного Младенца и Пречистой Его Матери живо сохранилось в стране той. До сих пор показывают место, где Они отдыхали под смоковным деревом. Вблизи этого дерева течет чудесно явившийся для святых путников источник воды, из которого они пили и в котором Пречистая Дева купала Божественного Младенца. Явление Младенца Господа в Египте ознаменовалось еще великим чудом: идолы Египта внезапно сокрушились и пали.
Ирод ждал волхвов, но, видя, что они не возвращаются, и опасаясь за свой престол, решился погубить Младенца. Не зная, как Его найти, он повелел избить в Вифлееме и в окрестностях всех младенцев мужского пола моложе двух лет. Это ужасное злодеяние было совершено и наполнило всю страну плачем и рыданиями, но не достигло цели своей, ибо, как мы видели, Иисуса Христа уже не было тогда в Вифлееме. Избиение младенцев Вифлеемских воспоминается Церковью 29 декабря.
В день же Рождества Христова Церковь поет:
«Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума: в нем бо звездам служащий звездою учахуся, Тебе кланятися, Солнцу правды и Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе!
Дева днесь Пресущественнаго рождает, и земля вертеп Непреступному приносит, ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют; нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог!»
Собор пресвятой Богородицы
26 декабря
Церковь в этот день прославляет Пресвятую Богородицу, совершая торжественно Божественную службу в честь Той, Которая сподобилась быть Матерью Господа нашего Иисуса Христа. Этот праздник называется Собором Пресвятой Богородицы. Под именем Собора разумеется богослужение, совершаемое собором священнослужителей.

В тот же день совершается память обручника Пресвятой Девы, святого Иосифа. О жизни его сохранилось мало известий.
Страдание первомученика архидиакона Стефана
27 декабря

По вознесении Иисуса Христа на небо и по сошествии Духа Святого на апостолов слово Господне быстро распространялось, и число верующих возрастало ежедневно. Начальники иудейские и члены синагоги с ожесточением и гневом видели успехи нового учения. Предав Иисуса Христа позорной смерти на кресте, они надеялись, что с Ним погибнет и слово Его, мало опасаясь бедных и неученых рыбаков, которые во время Его жизни следовали за Ним. Но теперь они увидели, что эти смиренные рыбаки бесстрашно и громогласно проповедуют воскресение Иисуса Христа, восшедшего на небо и сидящего во славе одесную Бога; что они творят чудеса, одним прикосновением исцеляют больных и дают зрение слепым; что на всех языках различных племен они распространяют учение Христа и что слова их, исполненные необычайной силы, увлекают за ними множество людей, готовых с радостью покинуть свои семейства и дома, чтобы сделаться последователями Христа. Видя все это, начальники иудейские начали сильно тревожиться и принимать строгие меры против апостолов: они наказывали их, сажали в темницы, запрещали им проповедовать, возбуждали против них народ, называя их разорителями закона Моисеева. Но при всех этих гонениях учение Христово распространялось, и самые житейские потребности вновь возникшего христианского общества обеспечивались; ибо, как говорит святой апостол Лука, апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них. Не было между ними никого бедного, ибо все владельцы поместий или домов, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов; и каждому давалось, кто в чем нуждался (Деян. 4:33–35).
Между теми, которые получали пособие – людьми разных племен, – стали возникать несогласия; эллинские евреи жаловались, что их вдовицам дается мало вспоможения. Это дошло до апостолов. Занятые проповеданием слова Божия, они рассудили не принимать на себя, с ущербом для проповеди, забот о хозяйственных делах христианского общества и потому решили избрать из числа учеников семь человек, которым и поручили заботы о раздаче пособий. Первый избранный был Стефан, человек, исполненный веры и Духа Святого. Этих семь избранных назвали диаконами. Апостолы помолились и рукоположили их, и они стали деятельно и ревностно исполнять свои обязанности.
Число верующих все более увеличивалось в Иерусалиме. Даже многие из священников еврейских обратились ко Христу. Это сильно раздражало прочих членов синагоги; они вступили в спор со Стефаном, но не могли противодействовать силе и мудрости духовной, которыми были исполнены его слова, тем более, что Стефан творил чудеса. Тогда они прибегли к другому средству: возбудили против него народ и старейших книжников и обвинили его перед синедрионом в том, что он будто бы хулил Бога и закон Моисеев. Нашлись свидетели, которые подтвердили их слова.
Стефан, призванный в синедрион, обратил обвинение против своих обвинителей, доказав, что именно они, беспрестанно похваляющиеся соблюдением закона, постоянно нарушают его. Он напомнил о всех благодеяниях Господа народу еврейскому: как Он вывел его из тяжкого плена египетского, чудесно охранял его среди пустыни, даровал ему закон, устроил для него скинию свидения, а потом храм, посылал к нему пророков и проповедников, возвещавших ему о Христе, и как сей избранный народ нарушал закон Божий, убивал посланных к нему и наконец довершил меру своих преступлений, распяв Христа. «Люди жестоковыйные! – воскликнул Стефан. – Вы всегда упорствовали против Святого Духа, как отцы ваши, так и вы! Они убивали предвозвещавших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы!» (Деян. 7:51–52).
Эти слова в высшей степени возбудили ярость слушавших; они скрежетали зубами, и сердца их кипели злобой. Стефан же, исполнившись Духа Святого, вдруг прервал речь свою и, воззрев на небо к открывшемуся его очам Божественному видению, радостно воскликнул: «Вижу отверстые небеса и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Тогда все единодушно устремились на него и, вытащив за город, в долину Иосафата, около потока Кедрского, стали бросать в него каменьями. Он же молился и говорил: «Господи Иисусе Христе, приими дух мой!» Потом, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не поставь им сего во грех!» – и с этими словами скончался (Деян. 7:56–60).
Ни кротость Стефана во время мучений, ни последняя трогательная молитва за врагов не укротили убийц. Они дышали злобой и гневом. Всех более ожесточался один молодой человек по имени Савл, жестокий гонитель Церкви Христовой, тот самый, который впоследствии, просвещенный Духом Божиим, сделался самым твердым и ревностным проповедником истинной веры и славным апостолом Павлом. Предание говорит, что Пречистая Дева, сопровождаемая Иоанном Богословом, смотрела с горы на избиение Стефана и молилась о нем. Тело первомученика было брошено на съедение зверям и птицам, но Гамалиил, один знаменитый законоучитель еврейский, уважавший святого мученика, взял честное тело его и похоронил его в селении своем. Верующие много плакали о Стефане, но Церковь христианская утверждалась и укреплялась среди гонений; мужество, с которым переносили их, убеждало беспристрастных в истине христианской веры. Уверовавшие, принужденные бежать из Иерусалима, где Савл жестоко гнал Церковь, распространяли далее святое учение, и везде число христиан быстро умножалось.
В 415 году мощи первомученика Стефана были открыты вследствие чудного видения, бывшего одному священнику, и положены в Сионском храме в Иерусалиме. По прошествии нескольких лет царица Евдокия, супруга Феодосия Младшего, соорудила церковь во имя святого Стефана на том месте, где был убит первомученик.

В тот же день память святых Феодора и Феофана Начертанных, пострадавших от иконоборцев в X веке.

28 декабря творится память 20 000 христиан, сожженных в храме в Никомидии во время богослужения. Это было в 302 году в царствование Диоклетиана и Максимиана; этим страшным событием положено начало самого ужасного гонения на христиан, которое продолжалось десять лет и кончилось лишь с воцарением императора Константина. Некоторые историки полагают, что это случилось в ночь на Пасху, другие же – на Рождество Христово.

29 декабря совершается память младенцев, убиенных в Вифлееме Иродом, и преподобного Маркелла, который соорудил в Вифании обитель, известную под именем обители неусыпающих; в ней и день и ночь иноки, разделенные на чреды, немолчно воспевали славу Божию.
Житие святой мученицы Анисии
30 декабря
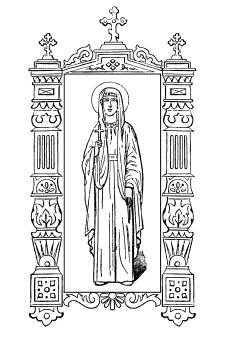
Святая Анисия была родом из города Солуни в Греции. Она была одарена всеми земными благами. Родители ее были добры, благочестивы и очень богаты; они воспитывали ее с возможным старанием, и она с самого детства возлюбила Бога более всего в мире, с радостью изучала закон Его, усердно старалась исполнять Его волю. Разум и красота ее были необыкновенны: она быстро успевала во всех науках, и родители не могли нарадоваться на дочь свою. Но еще в ранней молодости Анисия испытала тяжкое горе: она лишилась добрых родителей своих. По смерти их она осталась единственной наследницей огромного состояния. Досталось ей несметное количество всякого богатства: сел, денег, утвари золотой и серебряной, многоцветных одежд, украшенных золотом и жемчугом. Но это богатство не столько радовало Анисию, сколько устрашало ее. Она знала, что в богатстве много искушений, что оно часто возбуждает в человеке гордость и тщеславие, что легко удаляет от Бога. Боясь всех этих искушений, Анисия беспрестанно молила Господа о помощи, просила Его наставить ее, дабы она употребила дарованное богатство на пользу, а не на пагубу души своей, и наконец решилась раздать все бедным. Продавая имущество свое, она не сама назначила всему цену, а сказала купцу: «Помни, что продается достояние нищих и убогих, и потому дай за это цену, какую следует, ибо Господь любит справедливость и воздает по справедливости».
Продав имущество свое, Анисия стала раздавать деньги бедным, она посещала больницы и тюрьмы, принося несчастным щедрое вспомоществование. Но не одними деньгами помогала Анисия; она ходила за больными, давала им лекарства, перевязывала раны их, служила им с усердием и любовью. Раздав богатство свое, она сама стала жить в крайней нищете, проводя дни в работе, а ночи в молитве. В этой добровольной нищете среди лишений всякого рода, вероятно, она чувствовала более радости душевной, нежели многие богатые в пышных чертогах своих, ибо не богатство составляет счастье человека, но спокойная совесть и внутренний мир.
В это время было ужасное гонение на христиан, так что убивший христианина не считался даже по закону виновным в убийстве. Однажды Анисия, идя в церковь, заметила на улице необычайное волнение; в этот день язычники совершали какой-то идольский праздник. Один воин, увидев Анисию, закричал ей, чтобы она остановилась, ибо хотел принудить ее принести жертву идолу. Испуганная девица перекрестилась; воин опять закричал ей:
– Кто ты и куда идешь?
– Я раба Христова и иду в церковь, – кротко отвечала Анисия.
– Не пущу тебя, – сказал воин, – принеси жертву богам нашим.
И затем он схватил ее, чтобы вести в храм. Анисия сопротивлялась; тогда он вынул меч свой и, ударив ее, убил. Сами язычники укоряли его за жестокосердие, видя убиенную невинную юную девицу. Христиане с благоговением похоронили тело ее.

В тот же день воспоминается преподобный Зотик, пресвитер, питатель сирот. При императоре Константине завел он в Константинополе больницы и странноприимницы, которым посвящал и время, и богатство свое; умер мученической смертью при императоре Констанции.
Память преподобной Мелании Римлянки
31 декабря

В IV веке несколько святых мужей, гонимых на Востоке от ариан, искали убежища в Риме; чрез них римское общество христиан узнало о подвигах святых отшельников и вообще о трудах иноческой жизни, которая еще в ту пору была мало известна на Западе. Эти рассказы возбудили великую ревность и великое усердие к службе Божией, особенно между женщинами. Жены высшего римского общества отказывались от светских удовольствий, от роскошной жизни и употребляли все на помощь бедным, на выкуп пленных, на построение и украшение церквей. Между этими святыми женами особенно известна Мелания, вдова префекта, или губернатора римского, которая с двадцатилетнего возраста посвятила себя служению Богу, изучала Священное Писание под руководством блаженного Иеронима, помогала бедным и страждущим. Желание поклониться Святым местам и изучить иноческую жизнь привело ее на Восток. Там она посещала святых отшельников, строила монастыри, больницы, странноприимные дома; сама служила бедным в величайшем смирении. Огромные сокровища употребила она на эти богоугодные дела. Живя в Иерусалиме, она постоянно в письмах убеждала родных и друзей своих в Риме к тому же роду жизни, описывая радостное состояние души, полностью предавшей себя Господу. Но и в Риме общество христианских жен продолжало сиять добродетелями, которые составляли резкую противоположность порокам и суетности языческого общества. Они выстроили первые в Риме больницы, сами ходили за страдающими, посылали щедрые пособия даже в дальние края; выкупали несчастных, томившихся в плену у варваров; Италия, Испания, Африка благословляли имена Павлы, Фабиолы, Мелании и других христианок, которые употребляли несметные богатства свои на помощь ближним.
Престарелой Мелании захотелось еще перед кончиной посетить Рим и увидеться с семьей и друзьями. Она прибыла в Рим тогда, когда Вечному городу со всех сторон угрожали варвары, делавшие беспрестанные набеги на Италию; целые семьи увозились в плен, огромные богатства переходили в руки варваров, дворцы и малые хижины предавались пламени. Престарелая Мелания твердила друзьям своим: «Спешите отдавать Богу богатства ваши; не щадите бренных сокровищ мира». В семействе своем она особенно радовалась усердию и благочестию внучки своей, тоже Мелании. Эта молодая женщина была замужем за одним из самых богатых и знатных граждан Рима, Пинианом; сама она обладала огромными поместьями в Италии, Сицилии и Африке; но сердце ее не было привязано к благам земным, а горело чистой любовью к Господу и ближним.
У нее родилось двое детей, которые оба умерли малолетними; она и муж ее увидели в этом указание, что они должны употребить и время, и средства свои на дела, угодные Богу, и действительно они так и стали поступать; все имущество свое считали они достоянием Бога и бедных; при огромном богатстве не позволяли себе никакого самоугождения, а все раздавали нуждающимся. Пожелали и они посетить Восток и отправились в путь с бабкой своей. Некоторое время пожили они в Африке, где имели друзей и родных; по всему пути раздавали богатые милостыни, строили церкви, монастыри и выкупали пленных. На Востоке посетили они святых отшельников и, наконец, поселились в Иерусалиме.
Вскоре по прибытии туда престарелая Мелания предала душу Богу, а внучка ее продолжала труды ее. В тесной келье на горе Масличной проводила она время в молитве и изучении Священного Писания; блаженный Иероним, живший тогда тоже в Иерусалиме, где занимался переводом Библии, помогал ей советами своими. Вместе с тем благочестивая Мелания деятельно занималась делами благотворительными, помогая бедным и больным. Пиниан делил труды ее. Они выстроили больницы, странноприимные дома и скончались в нищете, славя Бога. 31 декабря Святая Церковь чтит память младшей Мелании.
* * *
Здесь и далее даты приводятся по старому стилю. (Примеч. ред.)
Ароматы – благовонные вещества, которыми христиане мазали тела усопших.
