Часть 4. Мои воспоминания
1. Заря моей жизни1
В забытой тетради забытое слово! Я все прожитое в нем вижу опять; Но странно, неловко и мило мне снова Во образе прежнем себя узнавать... Так путник приходит чрез многие годы Под кровли отеческой милые своды.
А. Н. Майков
Молись, дитя! Тебе внимает Творец бесчисленных миров, И капли слез твоих считает, И отвечать тебе готов!..
И. С. Никитин
Когда я обращаю свой взор в далекое, далекое прошлое и вспоминаю пору раннего детства, мне всегда кажется, что я настежь открыл окно ранним теплым солнечным утром. Воспоминания о детстве ослепительно ярки, и распахнувшийся в памяти мир чист, сверкающ, заманчив, словно омытый летним дождем сад.
«...Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений».2
Я вспоминаю эти слова Льва Толстого сейчас, когда мысленно возвращаюсь к истокам своих дней.
Родился я в 1885 году, 9 ноября (ст. ст.), в г. Вятке в исконно русской, православной семье. Мои прадеды и деды по отцовской линии были русскими воинами в различных чинах и званиях. Они верой и честью не за страх, а за совесть служили любимому Отечеству, были боевыми участниками войн против иноземных захватчиков, не раз нападавших на Русь, а также освободительных войн за избавление братьев-славян от турецкого ига.
Мой отец и его братья были первыми в нашей родословной, получившими среднее и высшее военное образование. Я вспоминаю своего отца, Александра Александровича, в должности чиновника Котельнического батальона, квартировавшего то в Вятке, то в Казани. Впоследствии Котельнический батальон в связи со столетием своего существования был преобразован в Свияжский полк, где отец, и мой единственный брат, Иларий, о котором речь будет дальше, прослужили до 1917 года.
Отец принимал участие в русско-турецкой войне, происходившей в 70-х годах минувшего столетия, а также во всех последующих войнах. В боях он неоднократно был ранен и контужен, имел орденские боевые знаки отличия. Скончался отец в 1921 году в г. Вятке в чине статского советника в отставке. Брат мой Иларий по окончании реального училища обучался в московском Алексеевском военном училище. После окончания военного училища и производства в офицеры служил в Свияжском полку (как я уже упоминал об этом выше), где, помимо военных качеств, проявил себя моралистом по призванию.
Несмотря на офицерское звание, он читал солдатам лекции о пользе и значении нравственности и нравственной морали, выражающейся в уважении к человеческому достоинству, в личной каждого человека устойчивости. Он убежденно доказывал в своих лекциях вред пьянства, предостерегал неустойчивых в нравственности людей от пагубных последствий разврата, разнузданности, а также говорил о вреде курения и наркотических злоупотреблений. Проводились эти лекции с одобрения начальников не только в полковых ротах, но и в учебных заведениях, а также на фабриках и заводах. У него было много последователей и друзей как среди солдат, так и среди рабочих, ценивших в нем заботливое отношение к человеку. Некоторые из них еще и ныне здравствуют и с особенной любовью вспоминают его дорогое имя в письмах ко мне.
Таков облик моего брата и близкого друга Илария, с которым мы с детских лет жили дружно и ласково.
Всем этим мы обязаны нашей незабвенной матери. Она научила нас уважать и любить людей, быть полезными для общества и Родины на том поприще, которое мы, вступая в самостоятельную жизнь, изберем по призванию.
О самом себе знаю некоторые подробности как по рассказам родных, так и по личным воспоминаниям. Родился я хилым, болезненным ребенком. Еще с младенческого возраста я неоднократно бывал при смерти. Однажды в столь критический момент для меня был приготовлен гробик, но волею Божиею я выжил.
Мои первые воспоминания связаны с посещениями кафедрального собора. Помню, меня, тогда еще совсем маленького, водили в церковь бабушка или мама.
Мы шли по тихим, тенистым улицам. Над нами голубело небо, и над городом протяжно, гулко плыл колокольный благовест. Под каменными сводами собора в мерцании свечей и разноцветных лампад мою впечатлительную детскую натуру восторгали богослужебные обряды, умилительное пение архиерейского хора и служение самого архиерея.
Неудивительно, что, будучи мальчиком, я часто в нашей детской комнате изображал священнослужителей и совершал «службы», устраивая себе подобие архиерейской мантии, митры и облачения.
Меня и брата с детских лет приучали молиться утром и на сон грядущий.
Стоя в детской комнате на коленях перед образом, озаренным светом лампады, я молился вслух так:
– Боженька, сделай меня архиереем... Боженька, дай здоровье маме, папе, брату Ларичке, крестной бабушке и... моей собачке Ландышке...
Такова была моя наивная детская молитва.
Однажды, когда я был уже шустрым мальчуганом, бабушка повела меня на архиерейское богослужение в Вятский мужской монастырь.
Какой-то неземной восторг охватил мою душу, еще не искушенную житейской мудростью, когда я вместе с бабушкой в конце литургии подошел к благословляющему архиерею поцеловать святой крест.
Владыка Варсонофий, указывая на меня, спросил:
– Кто это?
– Мой внук, – ответила бабушка.
– Он будет архиереем! – предрек Владыка.
– Куда ему, такому озорнику! – незлобиво возразила она.
– А я тебе говорю, – повторил епископ Варсонофий, – он будет архиереем.
Этот знаменательный диалог вспомнился мне с особенной яркостью в связи с тем, что в этом, 1961-м, году, исполнилось сорок пять лет моего архиерейского служения. Но тогда, на заре моей жизни, в годы безмятежного детства, мальчишеской резвости, это архиерейское утверждение прозвучало странно, особенно если вспомнить о следующем случае.
Будучи еще совсем глупыми малышами, я и мой брат Ларя нашли в детской комнате спички. На беду в это время никого из взрослых поблизости не было. Мы начали поджигать бумагу, затем деревянные игрушки. Все, что попадало нам на глаза, мы предавали огню, бросая горевшие предметы за сундук, стоявший у стены. Сами мы сидели на этом же сундуке, восхищаясь огнем, и особенно весело смеялись, когда пламя подымалось выше нас. Когда дым начал расходиться по всем комнатам, денщик отца, находившийся на кухне, прибежал в детскую комнату, вытащил нас из огня и дыма с некоторыми ожогами, после чего принялся тушить пожар. Вернувшиеся к этому времени отец и мать побранили нас, но не били и в наказание поставили в угол на колени. Это наказание считалось в нашей семье позорным и поэтому действовало исправляющим образом.
В детстве мне почему-то казалось, что отец любит моего старшего брата Илария больше, нежели меня. По-видимому, в этом была известная доля истины, вследствие того что перед моим рождением ему очень хотелось иметь дочь.
Отличие наших детских торжеств (дни именин, рождения, пасхальных и рождественских праздников) ознаменовывалось тем, что моему брату Иларию отец дарил обычно более ценные подарки, как, например, детский велосипед, футляр с красками или разные складные деревянные или металлические наборы, а мне обычно – серебряный пятачок. Огорчение мое видели братик и мамочка, а потому особенно меня ласкали и утешали в этот день. Разница в нашем возрасте была всего один год.
Один раз отец подарил мне красивую коробку, в которой лежали шоколадные шары и кегли. Я был в восторге, а папу обнял с детской радостью и горячо благодарил; затем с братом весело играл в эту шоколадную игрушку.
Что же касается матери, то ее отношение к нам, детям, было всегда одинаковое – ласковое, сердечное, ровное. Под ее несомненным влиянием Иларий стал моралистом, просветителем народных масс, а я вырос глубоко верующим человеколюбцем.
Умело, вдумчиво и сердечно прививали нам, детям, религиозные навыки обе бабушки (по материнской и отцовской линии).
Одна из них, моя крестная, была женой протоиерея Евлампия, отца моей мамы. Другая – жена моего дедушки (со стороны отца) – была родом из солнечной Молдавии. Дедушка во время русско-турецкой войны сражался в рядах воинов под командованием прославленного российского полководца А. В. Суворова, принимая участие в штурме и взятии Измаила. По окончании войны дедушка женился на местной жительнице – красавице молдаванке и привез ее в Вятку.
Эта статная, величавая старуха вспомнилась мне с особенной яркостью летом 1956 года, когда я по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия и Высокопреосвященнейшего Бориса, митрополита Одесского и Херсонского, совершал поездку и богослужения в городах и селах Молдавии.
Подобно бабушкам, мама прививала нам с детства веру в Бога и любовь к ближним. Она воздействовала на нас, шалунов, лаской и добрым словом. На этой почве христианского смирения, послушания и добра взросли в дальнейшем семена, разросшиеся в душе брата Илария в образец моральной чистоты, а во мне – в беззаветного служения Господу Богу и людям.
Детство мое проходило в скромной русской христианской семье с крепкими моральными устоями, с переходящими из поколения в поколение благонравными обычаями. Память не оставила ни одного случая детской ссоры или грубых споров среди родных. Бывало, если мы расшалимся и ведем себя шумно, мама, как и отец, никогда не бившая нас, произносила с кроткой улыбкой:
– Ох, детки, как вы мне надоели со своим шумом! Лучше бы вас не было!
Тогда мы оба ложились на разные диваны, сложив на груди руки, закрывали глаза и объявляли маме: – Я уже умер! Мама, напуская на себя серьезный вид, отвечала обычно:
– Ну вот и хорошо! – но мы уже после этого долго не шалили.
Как я уже писал, меня в детстве удручало некоторое неприязненное отношение отца ко мне. Дошло даже до того, что я не вытерпел и однажды спросил у мамы, которую считал другом в материнском облике, в чем причина столь обидного отношения ко мне отца.
Она ответила, ласково поглаживая мою голову:
– Иногда, к прискорбию, бывают случаи неприязни отца или матери к тому или иному ребенку. Но это явление скоропроходящее.
Мать была права. Много лет спустя, когда я в двадцатидвухлетнем возрасте принял монашество и в сане иеромонаха добровольно отправился из Казани, где по окончании реального училища получал духовное образование, на Камчатку, отец изменил в лучшую сторону свое отношение ко мне. Он стал неузнаваемо ласков, добр. Его письма ко мне на Камчатку всегда были проникнуты глубокой любовью, сердечным участием ко мне и вниманием.
Точно так же хорошо относился ко мне отец и позднее, когда я приезжал в командировки в тогдашний Петербург с Камчатки. В те недолгие дни моего пребывания в родной семье меня всегда умиляла отцовская привязанность ко мне. Он ни на минуту не отходил от меня и искренне горевал, если я отлучался по делам на несколько часов. В таких случаях отец стоял задумчиво у окна, с нетерпением ожидая моего возвращения.
В чем была причина столь резкой перемены в отношении ко мне отца, я и до сих пор затрудняюсь точно решить. То ли повлияло на него мое пострижение в монахи, на каковом, весьма трогательном и многозначительном обряде, присутствовали мои родители; то ли внезапное решение посвятить себя полной лишений и всяких трудностей исполненной священнослужительской деятельности на далекой, мало тогда освоенной и обжитой, а мне почти не известной Камчатке, – не знаю, но во всяком случае я уверен, что эти знаменательные в моей жизни события произвели полный переворот в душе моего отца. Он, как военный, не отличался особой религиозностью и только, подобно «пасхальному христианину», заходил в церковь 2–3 раза в год.
Закончу воспоминания детских лет описанием нескольких моментов, характеризующих основы формирования моего характера. Я любил молиться за покойников. Достаточно для меня было увидеть стоящий где-либо в церкви гроб с усопшим, как я спешил окольными путями узнать имя отпеваемого и бежал затем в монастырскую книжно-иконную лавку. Между прочим, продавцы в ней, монахи, были моими друзьями. Они доверяли мне некоторые товары в долг. Я же со своей стороны добросовестно и своевременно уплачивал его. В этой лавке я брал или небольшую иконку с именем святого, соответствующим имени покойника, или маленькое Евангелие, на оборотной стороне которого писал к Богу письмо. Я с детской наивностью просил Всевышнего простить грехи покойного и меня, Колю, не забыть в Своей милости.
Кроме того, я любил молиться за умерших моих близких, знакомых и незнакомых покойников.
Еще будучи совсем маленьким мальчиком, я завидовал подросткам, которые прислуживали в алтаре. Однажды мне все-таки удалось пробраться во время богослужения в церковный алтарь. Там я завладел кадилом и с благоговением подал его священнику. Это был один из счастливейших дней моего детства.
Любил я старух нищих. Охотно, с большим усердием помогал и с сердечным участием слушал их рассказы о горестном житье-бытье. Одна слепая старуха из чувства благодарности за то, что я часто бывал ее поводырем, говаривала:
– Даст Бог тебе, Миколенька, сто лет жить и сто рублей нажить!
При наступлении лета мама с нами, детьми, переселялась за город, в деревню, и жили общей жизнью мы с крестьянами; мама вместе с ними разделяла работу и дома и в поле. Тогда я и брат увидели и узнали бедную, горемычную жизнь и тяжелый труд крестьян.
Впоследствии, осмысленно вступив на жизненный путь, я понял, что правильное семейное воспитание в духе человеколюбия, а также героический дух предков – защитников Родины выковали в сердце моем энергию и неугасимое стремление облегчать участь страдающих от житейских невзгод людей. Они облегчали мой путь священнослужения во многих уголках нашей необъятной Отчизны, а также за ее пределами во всех частях земного шара.
Они укрепляют меня и ныне в постоянном любовном единении со всеми русскими людьми.
2. Юность
...Веселые годы, счастливые дни, Как вешние воды, промчались они...
В одной из народных песен есть эти волнующие слова. Они очень метко, правильно характеризуют эту поистине неповторимую, безвозвратно улетевшую, замечательную пору жизни.
Незаметно, беззаботно промелькнула пора моего детства. Но – увы! – и дети далеко не все растут счастливыми. Впоследствии, имея созданный мною приют для трехсот детей, от младенцев до юношеского возраста, я знал и вкусил их сиротство и горемычную нищенскую жизнь.
Скажу откровенно, что жутко, а порой и страшно и раскрывать книгу их мрачного прозябания уличного или трущобного ночлега, когда довелось мне с ними познакомиться и подбирать их в халупах на пути в мой приют Дом Милосердия и Трудолюбия.
...И вот уже оживают в моей памяти годы юности, годы учения в реальном училище. Еще в первых классах этого учебного заведения я проявил себя неизменно верующим, религиозно настроенным отроком.
Как в детские годы, так и в юности моей отец относился ко мне с некоторой неприязнью. В частности, она нашла свое проявление в таких случаях: когда я дома садился за приготовление уроков, у меня выработалась привычка, вызванная велением сердца, верующего в Бога, в учебник или тетрадь вкладывать бумажный образок с изображением прославляемого Церковью на завтрашний день святого. На оборотной стороне такого образка обычно было напечатано краткое описание жития святого. Я считал своим долгом внимательно, с большим интересом прочесть и запомнить знаменательные моменты благочестивой жизни угодника Божьего. Затем я ставил тот или иной образок в киот с иконами, перед которыми всегда горела неугасимая лампада. Нередко случалось, что отец входил в нашу детскую комнату, где я и брат готовили уроки. Зная о моей наклонности к созерцанию духовным взглядом житий святых, он брал из моих рук учебник или тетрадь, извлекал припрятанный образок и делал мне замечание:
– Коля, ты опять «подтасовал» себе святого и не учишь уроки. Однако после приготовления уроков отобранный образок отец
мне возвращал.
В годы обучения в реальном училище моими любимыми предметами были Закон Божий, география и естественная история, а математику я не любил. Почтенный наш законоучитель, протоиерей о. Николай Варушкин, прежде чем начать урок Закона Божия, возглашал, обращаясь к классу:
– Очередной богочтец!
На этот призыв законоучителя обычно выходил я, нередко тем самым выручая одноклассников, не знавших молитв. А после этого я сообщал о. Николаю, кого нет в классе, и, наконец, на вопрос: «Каких святых сегодня память?» – обстоятельно, внятно сообщал краткое жизнеописание чтимого в данный день святого. Иной раз по общей просьбе учеников, желая отвлечь внимание законоучителя (собиравшегося вызвать кого-либо из учеников, в том числе не знавших урока), я задавал какой-либо вопрос религиозного характера, хотя и несколько отвлеченный. Отец Николай, довольный интересно поставленным вопросом, откладывал в таких случаях в сторону журнал и говорил:
– Сегодня я спрашивать не буду. Займемся разъяснением заданного Анисимовым вопроса. Только прошу не мешать, не шуметь. Кто не хочет слушать, уходите из класса.
В таких случаях уходило обычно из класса до перемены не менее одной трети всего состава учащихся. Зато оставались все интересующиеся религиозными рассуждениями батюшки и в их числе даже караимы и евреи.
Наряду с глубоко развитыми во мне чувствами религиозности и отвлеченного от повседневной действительности умовоззрения я не чуждался дружеских взаимоотношений с одноклассниками, а также со сверстниками – соседями по жилому дому. Всякие игры, веселье, песни, танцы и музыку я любил. Единственное, что я не любил и не умел, – это лазать по деревьям, по крышам, ловить и убивать птиц, бороться и драться.
В старших классах реального училища я увлекался чтением произведений русских классиков. С захватывающим интересом и глубоким волнением я прочел романы национального русского гения Ф. М. Достоевского. Меня восторгало мастерство певца русской природы И. С. Тургенева. Я восхищался, читая незабываемые страницы Н. В. Гоголя. Из поэтов любил и часто перечитывал А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Г. Р. Державина и А. Н. Апухтина. Но, повторяю, властителем моего мышления был да и теперь остается Ф. М. Достоевский. Герои его бессмертных произведений всегда служили и служат для меня примером веры в Бога, любви к людям и Родине. Великие русские писатели с их возвышающим человеческую душу творчеством были и будут для подрастающего поколения, как и для меня в свое время, прекрасным вдохновляющим примером и источником разумного мировоззрения, благотворно влияющим на развитие ума и воли молодежи.
Но все же самым главным в моей юности было искание правды Божией, а также любовь к православию и нашей церковности. В этом я находил удовлетворение и забвение от первых жизненных невзгод. К разъяснению этих глубоко волнующих меня вопросов я не любил подходить с философской точки зрения, считая философское умствование лишенным сердечности и перегруженным холодной рассудочностью, часто приводящей к ошибкам или в тупик. Вот почему я не был никогда поклонником философского творчества великого писателя, но беспомощного мыслителя Л. Н. Толстого. Но всегда отдавал должное ему как гениальному создателю многих прекрасных произведений, исключая его личную запутанность в своеобразном религиозном умствовании, доведшем его до дерзновения отрицать Евангельское Христово учение своим бездоказательным толкованием, подчас кощунственным и оскорбительным для чувства верующих.
Я всегда с сыновней благодарностью и благоговением вспоминаю светлое для меня имя дорогой моей матери. Добрая, одаренная природным умом, мама с детских лет воспитывала во мне и брате Иларии веру в Бога и Его святых угодников. Ведь со стороны матери весь наш род был духовного звания. Мама научила нас уважать и любить людей независимо от их положения в обществе. Под любящим, заботливым материнским влиянием по мере возрастания нашего сердце каждого из нас, ее сыновей, утверждалось в религиозно-нравственном направлении и согласно с разумом устремлялось на избранный по призванию жизненный путь. Ведь в каждом человеке, если мозг и сердце, так сказать, солидаризируются, их сосуществование дает мир душевный и творческий покой в верном жизненном направлении.
В дни своей юности я редко бывал в театрах, но из опер наиболее сильное, волнующее впечатление произвели на меня следующие произведения знаменитых русских композиторов: «Иван Сусанин» (тогда эта опера называлась «Жизнь за царя»3), «Руслан и Людмила»,4 «Мазепа».5 Они чаровали не только мой слух национальной музыкой, но и радовали сердце величием духа русского народа.
Нравились мне пьесы А. Н. Островского из купеческого быта, так правдиво и остро выявившие специфические черты самодурства купеческой натуры и разных слоев тогдашнего русского общества. Приковала мое внимание модная в те годы пьеса М. Горького «На дне». Под ее влиянием во мне зародилась мысль ознакомиться с существовавшими тогда ночлежными домами для обездоленного люда, богадельнями для престарелых инвалидов, а равно и с бедственным положением заключенных в тюрьмах, куда я ходил в большие праздники (Пасха, Рождество Христово, Новый год, день святителя Николая). Узнал действительную жизнь «на дне» и от любви моей матери носил всевозможную помощь питанием и одеждой.
Во время революционных событий в 1905 году в Казанском университете я увидел суровую расправу полиции со студенческой молодежью. Тогда многих студентов посадили в тюрьму. Под впечатлением этих событий, коих я был свидетелем, я пошел к жившему вблизи университета богатому елабужскому коммерсанту Ивану Григорьевичу Стахееву. Добившись свидания с ним, я выпросил у него денег для передачи арестованным полицией студентам. Стахеев вручил мне завернутые в бумагу стопками золотые десятирублевки, и я снес их в тюрьму. При этом я страдал от того, что не имел своих денег для оказания помощи несчастным людям. В таких случаях меня утешала доброта матери.
Она через меня и брата Илария помогала обездоленным бедным людям. Наблюдаемая мною жизнь бедняков, их лишений впоследствии, когда я был в Харбине архипастырем, натолкнула меня на мысль создать для неимущих людей дом призрения, что я и осуществил в широком масштабе на культурной основе.
* * *
Нет ни стона, Тобой не услышанного, Нет слезы, не отертой Тобой.
В юношеском возрасте, обучаясь в Казани, я часто посещал Спасо-Преображенский монастырь, где познакомился с настоятелем этой обители архимандритом Андреем (впоследствии он стал моим духовным отцом – Аввой). Восемь лет я пребывал, можно сказать, у ног его с исключительной преданностью и благоговением.
Архимандрит Андрей был истинный аскет-монах, бессребреник, молитвенник и замечательный, одухотворенный проповедник. Его влияние на меня, как и на очень многих окружающих его людей, было огромно. Я взял его духовную жизнь для себя образцом и старался неуклонно следовать по его стопам, отдавая себя на служение Богу и ближним.
Незабываемое впечатление произвела на меня встреча с известным в те годы протоиереем Иоанном Сергиевым. Произошла она вот при каких обстоятельствах.
В перерывах между учением я находился в г. Вятке, в родной семье. Однажды летом такое пребывание мое среди близких, любимых людей было омрачено тяжелой болезнью мамочки. По определению консилиума врачей, она была обречена на неминуемую смерть. Они сообщили об этом отцу и прекратили посещения больной. Мама таяла на глазах: болезнь печени не поддавалась лечению, мама не могла уже даже говорить. В моем представлении тогда никак не увязывалась любовь сына с мыслью о возможности лишиться матери.
В это самое время пришло известие о том, что в Вятку едет протоиерей о. Иоанн Сергиев. Мне приходилось слышать о нем как о молитвеннике огромной силы веры. Мысль о том, чтобы постараться увидеть его и попросить помолиться о здравии и спасении жизни моей мамы, не покидала меня.
Не только в Вятке готовились к встрече о. Иоанна Сергиева, но и из окрестностей, из ближайших городов и деревень в огромном количестве собирался народ.
Я с присущей юношескому возрасту пытливостью смотрел на богомольцев и скорее сердцем, чем сознанием, почувствовал, что это идет вдохновленная молитвой православная Русь, с добрыми намерениями, как бы подтверждая своим духовным обликом слова песнопения: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!»6
При виде этого множества верующих людей я подумал: «Как же осуществить свое решение и пробраться к о. Иоанну с заботой о моей болящей мамочке?»
Я пробрался к Вятскому викарному Владыке Филарету и попросил его помочь мне в свидании с о. Иоанном Сергиевым. Архиерей посочувствовал моему горю. Он предложил перевезти маму в монастырский храм и положить там на случай, если о. Иоанн туда приедет. Однако она была уже настолько слаба, что ее нельзя было тронуть с постели. Мрачные мысли одолевали меня, когда я возвращался домой от Владыки Филарета.
Вдруг во мне созрело внезапное решение. Здесь, в участке, проживает недавно прибывший новый вятский полицеймейстер К. К. Коробицын. «А не обратиться ли к нему за содействием?» – подумал я и постучался в дверь.
Он принял меня довольно любезно и сказал, что о. Иоанн Сергиев родом из Архангельска, его земляк. И с этими словами вручил мне свою визитную карточку с надписью о том, чтобы меня беспрепятственно пропустили всюду, где будет находиться этот знаменитый в те годы протоиерей.
В день прибытия о. Иоанна в Вятку несметные толпы верующих людей затрудняли движение по городу. Прямо с вокзала гость направился в семью Поскребышевых. За несколько кварталов до их дома улицы были запружены народом. Даже с пропуском полицмейстера мне с трудом удалось пробиться к заветному дому в надежде увидеть о. Иоанна.
По предъявлении визитной карточки Коробицына мне открыли калитку, и я прошел на открытое парадное крыльцо во втором этаже. Там в небольшой зале перед иконой стоял в епитрахили о. Иоанн Сергиев и служил молебен.
Я был потрясен огромной силой духа и проникновенностью, с которой он произносил молитвы. Голос его при этом был преисполнен религиозного дерзновения.
Когда по окончания молебствия молящиеся начали подходить ко святому кресту, я был в числе последних. Волнуясь, сдерживая слезы, я сообщил о. Иоанну о смертельной болезни мамочки. Он спросил у меня ее имя, перекрестился и сказал:
– Дай Бог ей здоровья!
Затем велел мне отвезти ей освященной воды. Я выполнил его указание, но прежде чем уехать домой, наспех написал записку с именами членов нашей семьи и вручил ее старушке М. П. Медведевой для передачи на молитвенное поминовение о. Иоанну.
На следующий день я отправился в Дом Трудолюбия, где в церкви гость должен был совершить Божественную литургию. И вот снова улицы заполнены народом. Я пробрался с трудом через двор в переполненный молящимися храм.
Вскоре колокольный звон и гул голосов возвестили о прибытии о. Иоанна Сергиева. Верующие люди подняли его на руки и сквозь толпу пронесли через двор по той же лестнице, где проходил и я.
Он узнал меня, приветливо посмотрел на меня и сказал:
– Ты уже здесь! А как мама?
– Все в том же положении... безнадежном... – ответил я.
– Будем просить у Бога здоровья, и Он услышит, спасет... Описать восторгающую силу служения Божественной литургии,
совершаемой о. Иоанном, почти невозможно. Это от начала до конца неугасимое пламя дерзновенной молитвы. Резкое, громкое, настойчивое, требовательное обращение в молитвах к Богу потрясало молящихся. В алтарь беспрерывно несли телеграммы и записки с просьбой к отцу Иоанну помянуть перечисляемые имена у престола церковного.
На следующий день я вторично присутствовал на богослужении, совершаемом о. Иоанном в Иоанно-Предтеченском храме. Туда было привезено много больных и одержимых.
Под церковными сводами то и дело раздавались стоны, вопли и мольбы страждущих, чающих исцеления от недугов. А молитвенный голос о. Иоанна звучал так же, как и накануне: дерзновенно, уверенно, напоминая общение с Богом древних пророков.
Опасаясь, что мама может умереть в мое отсутствие, я ушел домой до окончания богослужения. В этот же день, но несколько позже я не вытерпел и на извозчичьих дрожках отправился на поиски места пребывания о. Иоанна. Но едва я успел завернуть за угол нашей улицы, как увидел, к удивлению своему, показавшийся мне бесконечным поезд экипажей. На первом из них сидела Матрена Петровна Медведева со священниками. Увидев меня, она замахала руками и закричала:
– Куда ехать-то? К вам о. Иоанн едет!
Я быстро вернулся домой и попросил отца и бабушку встречать гостя. А дворнику сказал, что, ввиду тесноты нашего дворика, в ворота пропустить только один экипаж о. Иоанна. Сам же я быстро приготовил столик, воду для освящения и церковные свечи, каковые у меня были в запасе.
Между тем маму на кровати внесли в зал.
К моменту начала молебна толпы верующих заполнили не только зал и прилегающие к нему комнаты, но и двор, а также улицу. Но вот вошел о. Иоанн и спросил:
– Где ваша больная?
Получив ответ, он благословил нашу семью и обратился ко мне:
– Ну вот, видишь, я приехал к твоей маме. Будем молиться, и Господь Бог вернет ей здоровье!
С этими словами он подошел к маме, лежавшей в бессознательном состоянии, обласкал ее, как малого ребенка, приговаривая:
– Бедная ты моя, больная Антонина...
Отец Иоанн положил ей на голову крест, бывший на нем, прочитал молитву и пригласил всех нас молиться о болящей, а у отца осведомился, чем мама больна. Затем, встав на колени перед столиком с Евангелием и крестом, о. Иоанн громогласно, дерзновенно просил Бога исцелить мать.
– Ради ее детей, Господи, – возглашал он, – яви Твою Божественную милость, пощади рабу Твою Антонину, верни ей жизненные силы и здоровье, прости ей все грехи и немощи! Ты, Господи, обещал просящим исполнить и дать просимое. Услыши же нас, Тебя молящих, и даруй здоровье болящей рабе Твоей Антонине!
Отец Иоанн произносил эти слова, обращенные к Богу, в совершенной уверенности в милости Всевышнего.
По окончании молебна он снова подошел к матери, благословил ее и сказал твердо, повелительным голосом:
– Сейчас же позвать священника, он причастит болящую, и она с Божьей помощью будет здорова!
На прощание о. Иоанн расспросил отца о нашей семейной жизни и, благословив нас, уехал.
Когда он выезжал со двора, множество верующих, столпившихся на улице, окружили экипаж. Многие хватали руками колеса, иные пытались коснуться хотя бы края его рясы, некоторые бросали письма, пакеты с деньгами, записки о поминовении.
Когда мы, домашние, проводив о. Иоанна, вернулись к маме, она лежала как преображенная. Кто-то из нас спросил у нее, осознает ли она, что сейчас происходило. Мама чуть слышно прошептала: «Оставьте меня одну!..»
Мы выполнили ее просьбу, к тому же пришел вызванный мною священник. Перед началом исповеди мы простились с мамой и вышли, а когда после ее исповеди вернулись к причастию, увидели с радостью, что больная сидит на кровати, а после приобщения святых таин спокойно встала на ноги.
На следующий день она уже не ложилась в постель и быстро начала поправляться. После этого знаменательного для всей нашей семьи события мама прожила еще около тридцати четырех лет.
Во мне же, юноше, случай плодотворной силы веры и молитвы ускорил процесс моего духовного роста, укрепил мое стремление посвятить свою жизнь Богу и служению на помощь и пользу страждущим.

Указ архиепископа Евсевия от 23 июля 1907 г. о назначении иеромонаха Нестора заведующим Корякской миссией РГИАДВ. Ф. 244. Оп. З.Д. 323.Л. 17
Мне кажется, что сила веры в Бога и в Его чудесную помощь, дающая действительный, а не мнимый результат услышания сильного внутреннего, глубокого душевного и дерзновенно-настойчивого молитвенного прошения немощного человека у Всемогущего Господа Бога-Творца, здесь явно обнаружилась. Это явление, каковых среди верующих множество, человечеством всегда определялось словом «чудо», чудесная помощь свыше от Бога.
Здесь могут в этом вопросе рассуждать два человека: верующий и неверующий. Но в моем понимании (счастливца, верующего, знавшего весь процесс предсмертной тяжкой болезни в данном случае моей родной, умиравшей на глазах дорогой, любимой матери) все сие едва ли подлежит обсуждению и рассуждению, т. е. суждению или суду человека, когда даже врачи оставили ее, а один доктор – А. Ю. Л. в утешение нас, плачущих, сказал слова, смысл которых таков: «Мы сделали все, пусть больше сделает Всемогущий, так как врач лечит, а Господь излечивает», что в конечном итоге и произошло. Слава и благодарение Господу Богу за все и за услышанные мольбы верующих в Него!
3. Три креста
Жизнь не праздник, Жизнь есть подвиг.
Митрополит Филарет
Бессильны мы пред Тем, Кто нашу Из слез, нужды, томлений и скорбей Готовит жизненную чашу: Не прекословь; но пей!
По окончании реального училища я поступил на калмыцко-монгольский миссионерский отдел при Казанской духовной академии, где прошел два курса.
Совершенно неожиданно для себя я отправился на Камчатку православным просветителем в сане иеромонаха. Так в 1907 году началась моя самостоятельная жизнь и пастырское служение. Произошло это при следующих обстоятельствах.
В Прощеное воскресенье, т. е. накануне начала Великого поста, после Божественной литургии в Спасо-Преображенском монастыре за чаепитием в покоях отца архимандрита Андрея по его поручению я должен был прочитать вслух письма, только что принесенные почтальоном.
По окончании их чтения о. Андрей спросил меня:
– Ну как, Колюшка, по-твоему, есть что-нибудь интересное?
– Нет, – пожал я плечами, – какой же интерес в том, что Владыка Владивостокский и Камчатский просит вас послать, если есть желающие, учителей или священников-монахов на какую-то далекую, неведомую Камчатку для просвещения тамошних диких племен.
– Так это тебе надо ехать туда! – произнес батюшка.
– Зачем же мне от вас уезжать на какую-то Камчатку? – довольно обиженно ответил я.
Мне казалось, что для поездки на край света я не смогу расстаться с о. Андреем, которого любил, к которому привык. А батюшка, собираясь уезжать в Елабугу на похороны своего духовного сына и благодетеля Спасо-Преображенской обители И. Г. Стахеева (о доброте которого я упоминал, рассказывая о событиях 1905 года в Казани), благословил меня и, садясь в сани, повторил:
– Ты, Колюшка, до моего возвращения из Елабуги подумай о Камчатке. Молись Богу, подготавливайся на миссионерское служение.
Признаюсь, не желал я тогда этого и сердце мое не лежало к этому неожиданному предложению. С каким-то огорчением я замкнулся в самом себе, не допуская даже мысли о возможности моего отъезда на Камчатку.
В таком томлении неопределенном прошла первая неделя Великого поста. Я против обыкновения на этот раз даже не говел, находясь в состоянии огорчения и неудовлетворенности. В то же время меня терзала совесть за то, что я небрежно, непослушно отнесся к поручению моего любимого духовного отца в вопросе о Камчатке.
Мама, узнав обо всем этом от меня, успокаивала и высказывала предположение о том, что о. Андрей, вероятно, просто пошутил. Я попросил маму пойти со мной ко всенощной, но не в Спасский монастырь, куда обычно ходили, а в Богоявленскую церковь, так как там пел лучший в Казани хор, великолепно исполнявший «Покаяния отверзи ми двери...».7
Я попросил мамочку помолиться обо мне, дабы Господь указал мне путь в жизни.
Богоявленский храм находился далеко, и мы к началу всенощной опоздали: половина службы уже прошла. И здесь, в этой церкви, в этот вечер окончательно решилась моя судьба.
В момент, когда мы пробирались через множество молящихся поближе к амвону, до нашего слуха донеслись заключительные слова проповеди старичка-священника, в которой он призывно обращался к прихожанам:
– Сегодня на всенощной и завтра во время литургии мы, согласно прочитанному вам сейчас синодальному воззванию, совершим сбор средств на наши духовные православные миссии. После недавно минувшей русско-японской войны наш миссионер архиепископ Николай Японский весьма нуждается в моральной и материальной помощи на развитие миссионерской деятельности. А о таких далеких, забытых окраинах, как наша Камчатка, и говорить не приходится. Там живут темные, отсталые язычники-идолопоклонники – камчадалы, чукчи, коряки и другие народности, а проповедников православия нет в тех краях. Помолимся же, братие и сестры, Богу, чтобы Он послал на эту ниву делателей, ибо там жатвы много, а делателей нет.
Меня поразило совпадение слов проповеди священника с моими мыслями и переживаниями в тот момент, когда я всецело колебался и размышлял о своей судьбе в связи с разговорами о Камчатке. Я в этот момент совершенно спокойно и радостно осознал, по какому пути мне идти.
И моя мама, чуткая сердцем, поняла мои мысли и настроение. С ласковой, но скорбной улыбкой взглянула она мне в глаза и без слов дала понять, что неожиданное упоминание Камчатки явилось как бы разрешением всех сомнений по поводу моей поездки на эту далекую окраину государства Российского. В это время по храму проходил с тарелкой церковный староста. Он собирал доброхотные пожертвования на православные российские духовные миссии. Мама внесла свою посильную лепту, посмотрела на меня понимающим взглядом: у ее сына нет денег. Но ей было ясно, что он отдает на просвещение камчадалов самого себя.
И действительно, я так и решил тогда же.
– Совершилось! – подумал я, выходя с мамой из храма.
Промысл Божий предрешает пути человека, если человек верующий следит за порядком своего жизненного пути. От Господа стопы человека исправляются воистину. Вот как от мира ясно и очевидно Господь меня призывал на великое апостольское служение. И упрямое противодействие послушанию духовного отца было побораемо предначертанной волей Всевышнего, сказавшейся в кратких словах неведомого мне старца священника, призывавшего на делание пастырское в неведомой дотоле отдаленнейшей Камчатке.
Повинуясь уже покорно и смиренно голосу Божию, я спокойно и радостно воспринял сие предуказание, которое так же смиренно, с верой, но с материнской тоской восприняла и моя любимая мама.
На улице мы обнялись и заплакали от недостатка слов для выражения наших чувств в связи с совершившимся во мне душевным переворотом.
Дома я сказал отцу, что решил ехать на Камчатку с пострижением в монашество. Отец долго сидел задумчивый и молчаливый. Потом сказал, обращаясь ко мне и брату Иларию:
– Дети! Я и мама уже стареем, отживаем свою жизнь, а вы только вступаете на самостоятельный жизненный путь. Я полагаю, что в нынешнем вашем возрасте каждый изберет дорогу труда по призванию. Мы, родители, не будем вмешиваться в ваш выбор житейского пути по призванию, лишь бы проложен он был честно, прямо, по велению сердца. Если бы кто-нибудь из вас, мои дети, захотел бы заняться самой скромной, невзыскательной работой – ну, например, стать дворником, я скрепя сердце согласился бы и с этим, но при условии, чтобы избравший этот путь стал честным тружеником по призванию и милосердию. Если ты, Коля, чувствуешь в себе призвание к монашеству и миссионерству, значит, это перст Божий.
Я еще раз серьезно подтвердил свое решение.
Отец умолк. Молчали мы – дети и мать. Тогда отец взял географический атлас Ильина и отыскал Камчатку. Все мы удивлялись ее отдаленности от жизненных центров страны, увидев море, небольшой полуостров в виде маленького мизинца.
После этой сердечной, глубоко задушевной беседы прошло несколько дней. Родители благословили меня и со слезами на глазах проводили на новый жизненный путь.
Я навсегда покинул родительский дом, удалившись в монастырь, приготовляясь к пострижению в монашество. С особенной трогательностью, со слезами участия провожала меня, напутствуя материнским благословением и добрым словом, дорогая моя мама.
Вскоре из Елабуги возвратился архимандрит Андрей. Я подробно рассказал ему, как своему духовному отцу, о совершившемся. Вместе с ним мы отправили телеграмму архиепископу Владивостокскому и Камчатскому Евсевию с просьбой о принятии меня миссионером на Камчатку с пострижением в монашество в г. Казани.
Владыка Евсевий немедленно по телеграфу ответил, что он радостно ожидает моего прибытия в сане иеромонаха. Одновременно он обратился с просьбой к архиепископу Димитрию Казанскому о моем пострижении и посвящении в сан иеродиакона, а затем иеромонаха с благословением на камчатскую поездку.
Я обратился за благословением к протоиерею о. Иоанну Сергееву, еще в детстве отметившему меня своей отзывчивостью и участливым отношением к больной маме. Вскоре на мое имя прибыл от него ответ. На фотографической карточке с изображением о. Иоанна им была сделана надпись:
«Раба Божия Николая Анисимова благословляю на великий подвиг миссионерства, если он находит себя способным и чувствует в себе призвание к нему. Да явится в нем благодать Божия, немощная врачующая. Целую его братски.
18 марта 1907 года. Протоиерей Иоанн Сергиев».
17 апреля 1907 года я принял монашеский постриг от руки моего Аввы, отца архимандрита Андрея. Это произошло в Великий Вторник на Страстной седмице. Отец, мать и брат Иларий присутствовали в церкви на моем пострижении. После пострига мой духовный отец архимандрит Андрей сказал мне назидательное слово, как новоначальному иноку. Он благословил меня иконой Казанской Божией Матери. В низу этой иконы имелись изображения ликов двух святых: мученика Нестора Солунского и преподобного Нестора – русского летописца. Их память совершается 27 октября (ст. ст.), в один день.
6 мая 1907 года в Казанском кафедральном соборе бывший алтайский миссионер – епископ Иннокентий (Солодчин) возвел меня в сан иеродиакона. Личность епископа Иннокентия заслуживает всяческого уважения. Этот почтенный старец, глубокий подвижник и аскет, принял впоследствии схиму в Херсонесском монастыре. Владыка Иннокентий перед моим отъездом на Камчатку дал мне полезные наставления, как бывший алтайский миссионер. Между прочим он спросил меня:
– Вот сейчас ты понесешь три креста: монашество, пастырство и миссионерство. Какой из этих крестов легче и какой тяжелее?
После некоторого раздумья я ответил:
– Полагаю, что пастырство легче из них; за ним следуют миссионерство и монашество.
Но епископ Иннокентий возразил:
– Все три креста могут быть одинаково и тяжелы и легки, смотря по тому, как их нести. Если с верой, благоговением, давая себе постоянный строгий отчет в этом великом и святом служении, то любой из крестов и даже все три сразу будет легко нести с Божьей помощью.
Спустя два дня, 9 мая 1907 года, в день моего небесного покровителя от святой купели крещения святителя Николая, Мирликийского чудотворца, в том же Казанском кафедральном соборе я был посвящен в сан иеромонаха.
Напутствуемый архиепископом Казанским Димитрием (доктором церковной истории Самбикиным), я вскоре уехал на Камчатку. Накануне моего отъезда к месту священнослужения из Кронштадта прибыл нарочный посыльный. Он привез мне от отца протоиерея Иоанна Сергиева священническое облачение батюшки и устное напутствие от высокочтимого мною о. Иоанна следующего содержания:
«Передай Камчатскому миссионеру (я его монашеское имя не знаю) от меня облачение, Бог ему в помощь... А вот этот сосудик передай ему и скажи – все выпитое (больше половины) – это мной выпито за мою жизнь, а оставшееся он будет допивать в его жизни, но пусть переносит все невзгоды терпеливо, да благословит его и спасет Господь Бог».
Так добровольно по Божественному велению и по влечению христианского сердца моего, взял я на себя три креста: монашество, пастырство, миссионерство – и пошел с ними по тернистому пути, начертанному Господом, неся во славу Его свет Правды и Истины пребывающим в темноте и забвении народам далекой окраины государства Российского. Эти три креста я нес в сердце моем во все годы моей жизни.
Куда бы судьба ни забрасывала меня, с какими бы людьми ни сталкивала, я помнил о том, что я – сын моей великой Родины, добровольно несущий святое это бремя.
Я сознательно отрекся от мирских, суетных благ житейских, пренебрег служебной карьерой и отправился в далекую, необжитую, всеми забытую и неведомую еще мною Камчатку, движимый желанием помочь страждущим там в темноте, невежестве и лишениях людям.
4. Дорога в неизвестное
В груди заснула страсть земная, И буря мимо пронеслась, И к Божеству любовь святая С любовью к ближнему слилась.
И. В. Гете
Передо мной, двадцатидвухлетним молодым человеком, жизнь распахнула врата огромного ответственного труда пред Богом, Родиной и человеком. Первые мысли мои тогда были о тех необъятных просторах земли русской, которые раскинулись передо мной на пути в Камчатскую область.
До Перми меня провожала мама. Каждое материнское слово, исходящее из любящего сердца, сверкало для меня путеводной звездой и сохранилось на всю жизнь в памяти.
Будучи по природе своей женщиной доброй до чрезвычайности, любвеобильной к окружающим, мама передала своим детям эти замечательные чувства сердечного, участливого отношения к людям, за что я неумолчно благодарю, благословляю имя моей дорогой матери. Замечу, что она всегда подчеркивала и напоминала о том, что все без исключения люди – братья, а особенно сожаления и исправления заслуживают страждущие и немощные.
– Надо к ним умело подойти, – говорила она, – стараться не только быть ласковым, но и на деле оказывать помощь и моральную поддержку.
Когда мы прибыли в Пермь и наступила пора прощания с мамой, я, как это ни странно, не ощущал грусти разлуки. Да оно и понятно: часть ее замечательного сердца оставалась во мне; образ, любимые черты материнского лица сохранились в моей памяти навсегда.
Дальнейшая моя поездка до Владивостока продолжалась в экспрессе. За окнами вагона проносились виды: то бревенчатые избы, то нежные, непорочной белизны березки, то могучие стройные ели темно-зеленых оттенков, величественные кедры, сосны с бронзовыми стволами, то скалистые уступы и округлые вершины Уральских гор и, наконец, невзрачный на вид столб с надписью: «ЕВРОПА – АЗИЯ», при виде которого доселе отвлеченное географическое понятие стало зримым и как бы осязаемым...
И вот уже раскинулась величавая, дикая, красивая и замечательная русская сибирская земля. Необозримые равнины и болота уступили место могучей, безграничной тайге – сурово-величавой и грустно-задумчивой, бездейственнной, никем не обрабатываемой целине.
Десятидневное путешествие в вагоне второго класса сблизило пассажиров дальнего следования. Общие непринужденные разговоры, предположения и рассуждения о малоизвестной тогда Камчатке не умаляли тем не менее явно обнаруживаемого интереса ко мне, молодому монаху, едущему в далекий, необжитый край.
В этой общей вагонной «семье» только трое незнакомцев, занимавших отдельное купе, держались обособленно. Да и мы, признаться, не обращали на них внимания. Зато, как выяснилось впоследствии, они весьма заинтересовались мною.
Когда наш сибирский экспресс приближался к еще неведомому мне морю, все пассажиры принялись укладывать багаж, собираясь к высадке во Владивостоке.
И вот трое незнакомцев: молодая, изящно одетая, с хорошими манерами дама и двое элегантных мужчин, весьма обходительных в обращении, – постучали в мое купе. После обычных в таких случаях извинений они представились мне как баронесса Корф с братьями-баронами.
Один из них сообщил мне о том, что они случайно узнали в разговорах с пассажирами о моей сопряженной с трудностями поездке на Камчатку. Стесняясь навязываться со своим знакомством, они только теперь, перед решительным этапом в дальнем следовании, отважились оказать мне, молодому и неопытному, помощь.
Поэтому (и прежде всего) эта баронская семья попросила меня быть их другом-спутником, так как и они втроем едут на Камчатку. По их словам, они в Петропавловске-Камчатском имели собственный роскошный дом, да и пароход, на котором мне предстояло ехать к месту моего служения, единственный из совершающих рейсы между Владивостоком и Камчаткой, принадлежит им, а потому они просят оказать любезность и в будущем: жить в их камчатском доме на правах гостя и лучшего друга. Вещи же, находящиеся как при мне, так и в багаже, которых у меня, как они слышали, немного (в том числе и дары миссии от г. Казани), они охотно соглашаются сохранить в своих собственных пакгаузах, имеющихся, по их словам, во Владивостокском порту, а затем на своем пароходе доставить на Камчатку. Этим самым они хотят избавить меня от суетливых хлопот и к тому же предоставят бесплатно соответствующую моему сану священнослужителя лучшую на их пароходе каюту. Для скорейшего устройства связанных с этим дел они просят дать им мои багажные квитанции.
Я был весьма признателен им за любезное предложение, выразил свою радость в связи со знакомством с такими высокопоставленными и обходительными людьми, но сказал, что, к сожалению, не могу воспользоваться в данное время их добрым и заботливым расположением ко мне. Я объяснил им, что в разных чемоданах и ящиках есть посылки, церковное облачение и другие ценности, которые я должен передать Владивостокскому архиепископу Евсевию. Мне надо разобраться, вспомнить, где что лежит, и затем переупаковать багаж. На это занятие уйдет значительное количество времени. Я высказал свое огорчение по поводу того, что лишен возможности облегчить себя, освободившись от хлопот по переотправке багажа.
Тогда баронесса, стремясь выявить свое благорасположение ко мне, попросила вручить ей хотя бы находящийся при мне объемистый кожаный чемодан. Оставались лишь минуты до прихода поезда к владивостокскому вокзалу. Я опять поблагодарил ее за участливое отношение ко мне и объяснил, что и в этом чемодане мне надо произвести пересортировку и искренне выразил глубокое сожаление, что так поздно мы познакомились. Баронесса в сдержанной форме дала мне понять, что она весьма огорчена и обижена моим явным нежеланием воспользоваться их дружбой и любезностью. Но, не желая упустить улыбнувшееся мне так неожиданно счастье в связи с любезным предложением отправиться на пароходе и иметь пристанище в чуждой еще мне Камчатке, не желая потерять помощь и дружеское отношение добрых людей, я пообещал в самое ближайшее время, разобравшись во Владивостоке в багажных посылках, доставить с великой благодарностью весь мой багаж в указанный баронами их пакгауз.
Между тем поезд плавно подошел к владивостокскому вокзалу. В сутолоке на перроне я потерял баронессу и баронов Корф. Признаться, у меня возникло чувство неудовлетворения из-за того, что я лишился приветливых друзей, отказался от их забот и гостеприимства, чем, несомненно, огорчил, а может быть, и обидел столь приятных людей. Но делать было нечего. Упущенного не вернешь! И я принялся уже сам хлопотать о дальнейшей поездке на Камчатку.
Впоследствии, спустя несколько дней, я прочел во владивостокских газетах о том, что полиция задержала шайку аферистов: молодую женщину и двух мужчин, именовавших себя «баронами Корф». Эта тройка жуликов, дорожных грабителей большого масштаба, по словам газеты, обманывала доверчивых людей рассказами о собственных пароходе и доме на Камчатке и обирала их своими жульническими предприятиями. После этого я уже боялся всяких «баронов».
По прибытии во Владивосток я первым долгом отправился в архиерейский дом. Там я узнал, что Владыка Евсевий проживает на даче, находящейся в Седанке, в 16 верстах от Владивостока. В самом же городе он снимает квартиру в доме соборного ключаря, протоиерея о. Николая Чистякова, где архиепископ производит деловые приемы и останавливается в дни совершения богослужения в кафедральном соборе. К вечеру я поездом отправился на Седанку. От станции Седанка пришлось идти пешком по полотну железной дороги. С одной стороны рельсового пути меня чаровал своей суровой мощью океан с приютившейся в Амурском заливе огромной открытой бухтой. С другой стороны – болотце и лес на опушке напомнили мне родной русский север с перелесками, извилистой речкой и виднеющейся из темного леса вершиной храма. Места, овеянные задумчивым покоем, располагающим к религиозным размышлениям, о которых с такой сердечной проникновенностью писал поэт Тютчев:
...Изнуренный ношей крестной,
Всю тебя, Земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...8
Незаметно сгустились сумерки. Стало темно. Навстречу изредка попадались усталые китайцы-рабочие и рыбаки. В девятом часу вечера над зубчатой синевой леса вырисовался купол архиерейского дома.
Я взошел на нижнее крыльцо и увидел Владыку Евсевия. Он стоял в подряснике и благословлял детей из своего приюта. Вслед за ними подошел и я.
Благословив меня, архиепископ Евсевий радушно и ласково приветствовал меня. Он велел эконому отвести меня на ночлег и накормить, сказав при этом, что займется со мной в ближайшее время. Назавтра ему надо было ехать во Владивосток провожать своего гостя – бывшего епископа Благовещенского Владимира.
Первое мое впечатление об архиепископе Евсевии, сохранившееся навсегда, было самое отрадное. Его простота и ласковость даже в мимолетной, короткой беседе приятно поразили меня теплотой, ободрили, укрепили уверенность в успехе моей предстоящей деятельности.
Однако это отрадное настроение моментально исчезло после того, как я попал на попечение эконома Поликарпа. Своими расхолаживающими разговорами и нечуткостью он едва не довел меня до состояния отчаяния и разочарования с намерением возвратиться из Владивостока домой. Этот эконом уложил меня спать в чулане, набитом всякой рухлядью и кишевшем мышами и крысами. Его непристойные рассказы сразу оттолкнули меня от него.
Впоследствии я узнал, что он снял с себя духовный сан.
Наутро с первым же поездом я отправился во Владивосток, где буквально метался в самом мрачном настроении.
Я хотел есть и, желая утолить голод, вошел в какой-то ресторан, расположенный в саду на берегу моря, принадлежавший некоему В. М. Шуину, который оказался приветливым и общительным человеком. Он рассказал мне, между прочим, о том, что архиепископ Евсевий – его земляк (оба они родом из Тулы), причем обрисовал его с наилучшей стороны. Я узнал из его правдивого рассказа о том, что Владыку Евсевия любит весь Владивосток и вся обширная епархия. Под влиянием беседы с Шуиным ко мне вернулось мое прежнее бодрое настроение, и я устыдился своего мимолетного малодушия.
Окончательно же меня развлек вот какой случай, происшедший в саду ресторана. Я сидел за столиком у самого морского берега. Волны с рокотом набегали, разбрызгивая пену, и с шумом рассыпались по прибрежной гальке. По деревьям сада, между столиками бегали прирученные обезьянки и медвежонок. В ожидании обеда я сидел, рассматривая зверюшек.
Вдруг, совершенно неожиданно обезьянка прыгнула на мой стол. Не успел я прогнать ее, как она схватила из открытой перечницы горсть перца, хотела проглотить его, но обожглась. Несчастная обезьянка взвизгнула, прыгнула мне на голову и начала отчаянно трепать мои длинные волосы, обтирая ими свой рот. От неожиданности и боли я вскрикнул, встал и принялся звать на помощь. Подоспевший в это время Шуин с трудом оторвал от моей головы обезьянку вместе с клочками моих волос.

Улица Светланка а г. Владивостоке
После обеда с таким своеобразным приключением я поехал в архиерейский дом, принадлежавший соборному ключарю, отцу протоиерею Н. Чистякову. Он и его матушка – оба старенькие, добрые и приветливые – весьма радушно встретили меня.
Вечером, побывав в городе по делам, связанным с моим отъездом на Камчатку, я на китайском извозчичьем экипаже возвращался в архиерейские покои. Когда я проехал освещенную электричеством главную улицу Светланку и свернул на тонувшую во мраке Алеутскую улицу, произошел случай, подчеркнувший пошлость и мерзость извращенно-суетной жизни тогдашнего портового города, являвшегося в те далекие годы местом греховных соблазнов для неискушенных людей.
Когда мой экипаж поднимался в гору, навстречу мне шли две нарядные дамы и мужчина. Внезапно одна из дам воскликнула:
– Здравствуйте, батюшка! – и подбежала ко мне.
Лица ее под вуалью я не рассмотрел, но заметил, что на ней было изящное платье и элегантная большая шляпа. Полагая вначале, что это, вероятно, одна из спутниц по сибирскому экспрессу, я ответил:
– Здравствуйте!..
Не дав мне опомниться и собраться с мыслями, она вспрыгнула на подножку экипажа и без приглашения села рядом со мной. Считая это случайным недоразумением, я остановил извозчика. Однако незнакомка и не думала уходить.
– Душечка, – обратилась она ко мне, – поедем вместе... ко мне... поужинаем и до утра прекрасно проведем время!..
Признаться, я не знал, что предпринять, чтобы избавиться от назойливой незнакомки, и потому сбивчиво объяснил ей, что я – монах.
– О, тем лучше! – обрадовалась она.
В поисках выхода из создавшегося положения мне пришлось решиться на выдумку.
– Разве вы не знаете, – стараясь что-нибудь придумать, произнес я с расстановкой и после мгновенного раздумья выпалил: – Ведь нас при пострижении в монахи... оскопляют!
– Какой вы несчастненький! – всплеснув руками, смелая незнакомка спрыгнула с моего экипажа и крикнула мне вслед:
– Как мне вас жаль, несчастный, а еще такой молодой и красивый. Так пришлось мне пройти целый ряд испытаний и искушений
в портовом городе Владивостоке.
В ожидании отъезда на Камчатку и боясь Владивостока, я постоянно находился на Седанке при архиепископе Евсевии. У него получилось растяжение жил на ноге, и он лежал в постели.
Я неотлучно находился рядом, обедая и ужиная вместе с ним. В разговорах о Камчатке незаметно проходило время. У Владыки Евсевия появилась мысль оставить меня при себе во Владивостоке. Но я, стараясь не обидеть его, выразил свое несогласие, рассказав Владыке о проповеди священника в г. Казани с призывом делателей на ниву Христову в далекий, забытый Камчатский край. Попутно рассказал Владыке о моих перипетиях – внезапной сложной обстановке и с «баронами Корф», и с женщиной, влезшей в мой экипаж, о своей неожиданной находчивости и боязни Владивостока. Владыка от души посмеялся, одобрил мою смекалку и сказал, что в портовом городе небезопасно и что бывает еще хуже, чем было со мной.
День моего отъезда приближался. В те годы еще не существовало на Дальнем Востоке в камчатских рейсах пароходов Добровольного флота. Было в 1907 году всего лишь два старых, утлых парохода, принадлежавших какому-то странному «Обществу прапорщиков». Один из таких пароходов назывался «Индигирка».
Он совершал ежегодно один рейс вдоль восточного побережья Камчатки и Чукотского Носа. Другой пароход – «Амур» тоже раз в год отправлялся в Петропавловск, затем огибал по Охотскому морю западное побережье Камчатского полуострова и возвращался во Владивосток с заходом в Николаевск-на-Амуре.
Вот на этом-то «Амуре» я отправился в дальний путь, намереваясь добраться со своим сложным багажом до Гижиги (отдаленнейшего уголка Охотского моря). Пароход очень опаздывал с отплытием, поэтому капитан спешил с выходом в море, невзирая на угрозу осеннего тайфуна, надеясь как-нибудь избегнуть обледенения корпуса парохода в Охотском море.
«Амур» вышел из Владивостока 12 августа 1907 года. И тем не менее жесточайший тихоокеанский тайфун вынудил капитана судна отстаиваться за мысом Эгершельд. Я, впервые отправившийся в дальнее плавание, до того времени не видавший моря, очень страдал от морской болезни.
Старый маленький пароход «Амур» скрипел снастями и то взлетал, то будто проваливался и хрипел, пуская из гудка вместе с надрывными звуками клочья пара, точно изнемогал в борьбе с разбушевавшейся стихией. А гигантские волны шумно, с неудержимой силой бросались на палубу, как разъяренный зверь, и ломали, угрызая хищными зубами волн, закрепления спасательных лодок, сбрасывая их в морскую пучину, словно легкую игрушку.
И когда 14 августа мы приблизились к японскому острову Хоккайдо, он показался измучившимся от качки пассажирам «землей обетованной». Как только в порту города Хакодате спустили пароходный якорь, грозный тайфун быстро покинул пределы Японии и наступил штиль.
Все пассажиры вышли на палубу. Япония представилась нашему взору в ужасном виде: город Хакодате, расположенный на горе, от ее вершины до самого берега пылал в огне. Это было уже не море разбушевавшейся воды во время тайфуна, а море огня, неистового пламени, спалившего (как потом стало известно) одиннадцать тысяч домов. Огонь метался, рвался к задымленному небу, охватывал все больше строений, разбрасывая сверкающие искры и горящие головни. В огне пожарища сгорел православный японский храм. Причина пожара – тот же тайфун, слизавший огненным языком целый огромный город.
Наутро, пока «Амур» набирал уголь и пресную воду, пассажиры по ходатайству капитана парохода получили разрешение сойти на японский берег. Среди пассажиров кроме русских были скупщики камчатской пушнины – татары, евреи, осетины и др. В число пассажиров входили: учитель с женой и ребенком, направляющиеся в г. Петропавловск; следующий туда же новый помощник начальника Петропавловского уезда с большой семьей; почтовый чиновник и я. В трюме парохода находилось много рабочих – китайцев и корейцев.
Пассажиры первого и второго классов с разрешения японской полиции, желая отдохнуть после тайфуна, решили прокатиться по городу на конке. Пара кляч влачила по рельсам вагончик по пылающему городу. Японцы, ехавшие с нами (их было меньше, чем нас), с удивлением смотрели на русских. Русский уездный начальник стоял на площадке вагона и смотрел по сторонам. Вдруг вагон наш был остановлен, и русским пассажирам приказали выйти. Мы, недоумевая, подчинились и увидели, что нас окружили японские полицейские.
Они обыскали нас всех поголовно, но ничего предосудительного не нашли. Внимание полицейских привлек только начальник уезда. Он был в русской военной форме, да к тому же имел при себе фотоаппарат. Этого, оказывается, для японцев было вполне достаточно, и они его арестовали, а нас отпустили на пароход. Но, конечно, «Амур» без одного пассажира, да еще военного, продолжать свой рейс не мог, а потому простоял в Хакодате лишних трое суток. Вместе с семьей арестованного японцами уездного начальника за его участь волновались и все мы.
Только к концу третьих суток японские полицейские привезли на пароход задержанного ими нашего соотечественника.
На пароходе они составили акт о происшедшем с указанием причин задержки в Хакодате «Амура» и после этого предложили судовому капитану сниматься с якоря.
Между прочим, фотоаппарат у арестованного японцы отобрали. О том, что произошло с ним в течение трех суток в полиции, он никому ничего не рассказывал.
Но неприятной неожиданностью для всех пассажиров оказалось то, что трое каких-то знатных японцев появились среди нас с намерением следовать на Камчатку. Русские пассажиры были стеснены, а японцам отвели две лучшие каюты. За туристов их никак нельзя было принять: наступило суровое время тайфунов, штормов и холодов со снегом в Охотском море, да и пароходишко «Амур», не в пример курсирующим по всему Дальнему Востоку японским и иных наций судам, не был приспособлен для прогулок.
Впрочем, все вскоре разъяснилось.
Когда «Амур» проходил мимо Курильской гряды, «японцы-путешественники» из Хакодате бесконечно и беспрепятственно фотографировали острова, особенно Шумшу и Парамушир, как расположенные близ Камчатского мыса Лопатка, а также Авачинскую бухту. Вход в эту бухту, или Авачинские Ворота, представляет собой величественное, незабываемое зрелище. Чрезвычайно высокие отвесные гранитные скалы подавляют своей мощью, и пароход перед ними кажется ничтожной скорлупкой. Над скалами летают и сидят на угрюмых каменистых уступах морские птицы: гагары, чайки, утки, ары, гоголи и многие другие. Все они издают разноголосые звуки, создавая впечатление «птичьего базара».

Село Ключевское. Конец XIX в.
Перед моим взором в конце долгого путешествия возникли врезывающиеся в хмурое северное небо живописные горы, сопки и действующие вулканы. Из них наиболее запечатлелись в памяти угрюмые гиганты, окружающие Авачинскую бухту, огнедышащие вулканы – Авачинский, Корякский, Козельский, Вилюйский, Стрелочный и др.
Наш дряхлый пароходишко «Амур» как бы устало накренился, когда мы по шатким сходням покидали его борт.
Город был малолюден, неблагоустроен и имел захолустный вид. Полным контрастом его приземистым домишкам были могучие вулканы и покрытые снегом горы, обступившие Петропавловск с трех сторон.
С непередаваемым волнением я шел по камчатской земле, но при этом я не мог не обратить внимания на возмутительно наглое поведение трех японцев, прибывших с нами из Хакодате. Они открыто несли свои фотоаппараты и какие-то другие приборы. Во все время стоянки «Амура» в Петропавловске эти «путешественники» фотографировали бухту, горы и прилегающие к городу окрестности, а также занимались геодезией, набрасывая на бумагу планы, рисовали карту, топографировали и измеряли глубину бухты. Короче говоря, хозяйничали как у себя дома.
Возмущенный всем этим до предела, я не вытерпел и отправился к недавнему пленнику японцев, уже вступившему на пост помощника начальника уезда. Он отказался принять меня, но я буквально ворвался в его спальню, застав его лежащим в постели и читающим газету.
Открыто и резко я высказал свое возмущение по поводу его унизительного положения в Японии, следствием которого явилось прибытие на Камчатку трех обнаглевших «путешественников» из Хакодате. Я потребовал от него, как русский патриот, принятия срочных мер для немедленного ареста японских разведчиков.
Тогда этот типичный представитель царского правительства на далекой окраине Русского государства лениво привстал на локте, отложив газету в сторону, и безразлично ответил:
– А ну их! Наплевать на все! Пусть делают, что хотят... Не стану я вмешиваться. Хватит с меня...
С горестным чувством ушел я от предателя и изменника Родины. Мне стало ясно, какой позорной ценой он купил свое освобождение в Хакодате. А ведь таких «любителей легкой наживы» было много в те годы. В интересах личного благополучия они разбазаривали Россию, пренебрегая честью и достоинством русского сына Отечества.
5. Духовная православная миссия
Приидите ко Мне вси труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы.
Переходя к рассказу о жизни и церковно-просветительной работе в отдаленном от России Охотско-Камчатском и Чукотском крае или области, омываемой Охотским морем и Великим океаном, я должен пояснить, что собственно Камчатка – это только полуостров Камчатский с населением в подавляющем большинстве из тамошних аборигенов, обрусевших камчадалов, с частью русских, тунгусов и коряков. Но полуостров Камчатский – это только малая часть так называемой прежней Камчатской области, в которую входили, помимо Петропавловско-Камчатского уезда, еще Охотский, Гижигинский, Анадырский и Чукотский уезды и Алеутские, или Командорские, острова – Беринг и Медный. Вся Камчатская область тогда занимала площадь приблизительно 1 900 000 квадратных верст. Береговая полоса Охотского моря и Великого океана, окружавшая всю Камчатскую область, равнялась десяти тысячам верст.
Дикий северный угрюмый край – Камчатская область! Лютые морозы и снега, труднопроходимые просторы с немногочисленным населением и суровой природой. Такой предстала она полвека тому назад и передо мной, юным, еще ничего не видевшим, кроме семьи и школы.
ВСТУПЛЕНИЕ МОЕ В ИСПОЛНЕНИЕ ПОСЛАННИЧЕСТВА НА ПРОПОВЕДЬ К ЯЗЫЧНИКАМ-ШАМАНИСТАМ, ИДОЛОПОКЛОННИКАМ ТЕМНОЙ СИЛЕ ЗЛОГО АПАПЕЛЯ
Свое служение на Камчатке я начал в Гижиге, севернее Камчатского полуострова у берегов Охотского моря.
С большими трудностями добрался я с моря до места своего служения. Это небольшое, но, по камчатским масштабам, очень важное селение на реке Гижиге – центр моей первоначальной миссионерской деятельности.
С парохода я пересел на катер и миль двадцать проплыл в открытом море, а потом по реке Гижиге поднимался бечевой. Лодку тянули собаки. Затем я верхом на полудикой лошади добрался до Гижиги. Летом в Камчатской области местами передвижение возможно только на лодках или верхом на лошади. Зимой лошади отпускаются в тундру на подножный корм, а весной их приходится ловить арканами и снова приручать. Летом собак отпускают, и они пищу себе добывают сами, часто вместе с людьми уходят на лов рыбы.
На другой же день после моего прибытия в глухое Гижигинское селение пришел ко мне камчадал и радостно встретил меня со словами:
– Наконец у нас свой священник, батюска, я просу тебя, доделай моей бабе ребенка!
Недоумевая, я спросил, чего он хочет.
Но он в ответ мне возразил: «Какой же я батюшка, если не знаю своей обязанности?!» И уже в гневе повторил свою просьбу, а в заключение сказал:
– Такого батюску нам не надо!
На мое счастье услышала наш разговор старушка, жена камчатского казака Падерина, у которых я остановился, и пояснила:
– Не сердитесь, батюшка, этот камчадал по своему понятию просит вас о следующем: за время долгого отсутствия священника родившийся в его семье ребенок был окрещен повивальной бабкой с наречением ему имени, а ваш приезд обрадовал его, и по своеобразному понятию он просит вас закончить крещение младенца миропомазанием.
Конечно, для меня было очень трудно расшифровать его просьбу без пояснения доброй старухи.
Второй подобный случай меня уже научил понимать ясную только для них просьбу. Пришедший ко мне на другой день камчадал обратился ко мне:
– Батюшка, дай моей бабе сорок!
Я уже понял, что он просит дать в сороковой день матери младенца положенную молитву. Впоследствии я научился понимать их оригинальный разговор.
* * *
Вставай, взывай ночью, при начале каждой стражи; изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода...
Благо человеку, когда он несет иго в юности своей.
Печальны и унылы были мои первые впечатления в Гижиге, хотя я и силился внушить себе, что мое место прекрасно во всех отношениях.
Вокруг поселка расстилалась печальная безлесная равнина, местами с откосами к речке Гижиге. Селение расположено на одном из откосов, против которого верстах в трех поднимается высокая гора, называемая Бабушка, так как облака, часто окутывающие ее вершину, образуют подобие бабушкиного чепчика. На вершине горы в ясную погоду виден большой крест, который водрузил проездом митрополит Иннокентий в бытность свою Аляскинским и Камчатским епископом.
Над Гижигой почти постоянно висит, как будто прикованная, темная пелена густых мрачных облаков и слышно постоянное завывание ветра, сменяемого воем нескольких тысяч ездовых собак.
Жители поселка – русские камчадалы, подразделяемые на казаков и мещан, а в окрестности живут оседлые и кочующие коряки, тунгусы, чукчи и другие туземцы. Все они унылы и молчаливы, несут на лицах мрачный отпечаток какой-то болезненности и тоски. И это весьма понятно, так как вся жизнь их весьма однообразна, бессодержательна и тяжела.
Чтобы хоть на миг почувствовать жизнь камчатских туземцев, надо оторваться от привычного уклада жизни и представить себе холодные северные окраины Камчатской области, с гулом подземных толчков, с глубокими снегами и лютыми морозами. Представим себя окруженными собаками, которые заменяют там лошадей, прислушаемся к жуткому собачьему вою, который аккомпанирует жалобному завыванию ветра пустынь. Вообразим страну, где ясное теплое солнышко в продолжение восьми месяцев суровой зимы является редким гостем и только иногда на мгновение напомнит о своем свете, а затем опять останется в полумраке холодном, как темница, – вот страна северного обитателя Камчатской области.
Небезопасна непроницаемая снежная завеса для путешественника, когда он, спеша укрыться от буйной снежной непогоды, при отсутствии дорог прорезает наугад непроглядную тьму и рискует попасть в глубокий ров или сорваться с утеса и быть поглощенным холодной морской волной.
Путешествия в зимнее время по Камчатской области сопряжены с большими трудностями и лишениями. Человеку, незнакомому с тундрой, трудно составить себе представление о том впечатлении, которое производит эта однообразная снежная, широко раскинувшаяся равнина. Там царит или совершенное безмолвие и отсутствие какого-либо предмета, на котором мог бы остановиться взгляд, или же в этой пустыне разражается ужасающий снежный шторм, прорезываемый зловещим свистом ветра. И вот иногда путник оказывается застигнутым в этой пустыне снежным бураном. Собакам и оленям, везущим нарты, двигаться вперед нет никакой возможности; живому существу остается только зарыться в снег, чтобы под снежным покровом спастись от леденящей стужи, захватывающей дыхание. Обычно длительный, многодневный снежный буран стремительно заносит застигнутых им путников вместе с собаками и оленями.
Единственным моим утешением было то, что всякий приезд в стойбище, в юрты был для их насельников радостным событием. Они дружелюбно приветствовали меня словами:
– Торово, импаклек! (Здравствуй, приятель!)
Обычно в таких случаях хозяйка юрты подстилала мне медвежью или оленью шкуру, и, когда я усаживался на теплый мех, вокруг собирались обитатели этого примитивного жилища, от детишек до стариков. К ним присоединялись насельники из других юрт. Они также усаживались вокруг меня. Все они в наивной простоте и неведении интересовались всем, что происходило вдали от них. Они говорили о неведомых им заморских и заокеанских землях и людях, как о находившихся... за рекой. Так, например, о прибывших из Владивостока туземцы говорили как о людях, приехавших из-за реки Владиво.
И пока между мной и ими завязывалась беседа, хозяйка хлопотала, приготовляя чаепитие. Для этого тут же, в юрте, на горячем костре в котелке кипятили воду, причем, если поблизости не было ручья или реки, довольствовались растопленным снегом или льдом. Прессованный чай, обычно получаемый в обмен на меха, они заваривали черный, как деготь. Дело в том, что чай – их любимый напиток. Они пьют его в неограниченном количестве, без сахара, за исключением тех случаев, когда их угощают сахаром приезжие «из-за реки» люди. Тогда они его откусывают по кусочку и, запивая чаем, разомлев от жары, раздеваются догола. При этом, конечно, выпивают огромное количество чая.
В годы моего пребывания на Камчатке и Чукотке местные жители не употребляли хлеба, довольствуясь вяленой пресной рыбой – юколой. Тем не менее они охотно принимали всякие угощения, кроме шоколада, находя употребляемый ими в пищу нерпичий жир вкуснее, чем русское «черное сало» (шоколад).
После таких чаепитий я проводил беседы.
Но прежде чем я расскажу о характере этих собеседований, я хочу напомнить о том, что в 1907 году, когда я начал свою пастырскую деятельность, все условия жизни коряков, чукчей, тунгусов, ламутов, алеутов, ороченов и других туземных народностей нисколько не соответствовали жизненным человеческим нормам.
Жилища их показались мне ужасными. Для того чтобы попасть внутрь юрты оседлых туземцев – коряков, чукчей, живущих близ берегов океана и Охотского моря, надобно было, скользя по закоптелому вертикально стоящему бревну или попеременно всовывая в прорезанные в столбе дыры ступни, спуститься внутрь через дымовое отверстие (из-за полного отсутствия в жилище окон и дверей). Спускаясь в такую подземную юрту-яму, надо было делать это осторожно, чтобы не угодить в огонь костра, горящего возле столба на земляном полу юрты. Едкий дым, клубящийся от огня вверх через то же выходное отверстие, окутывал спускающегося в юрту или выбирающегося из нее, разъедал до боли глаза, заполнял нос и рот, вызывая слезы и горько-едкий кашель.
Бывало, исстрадавшись в дороге, мечтаешь согреться, легко вздохнуть хотя бы в этой зловонной яме-юрте. И вот, попав в нее, жадно глотаешь сравнительно теплый воздух этого подземного жилища, пропитанного дымом и часто нестерпимо пахнущим нерпичьим жиром.
Между юртами различных туземцев разницы было мало.
Юрта тунгусов имеет круглую конусообразную форму. Длинные тонкие жерди одним концом вкопаны в землю, а наверху соединяются. Весь этот остов покрывается сверху оленьей кожей или мехом и закрепляется палками. Местами кожа и мех продырявлены, и через эти отверстия наносит в юрты клубы снега, а стены при сильном ветре колышатся. Среди юрты горит костер, освещающий и обогревающий жилище. На этом же костре туземцы готовят пищу и варят чай. Собаки, снующие всегда возле костра, тычут свои морды в котлы с готовящейся пищей, но, ткнувшись в горячий котел, отскакивают сами или бдительная хозяйка, мешающая свою похлебку поднятой с земли палочкой, ударяет собаку по морде, а потом той же палочкой снова мешает в котле.
Юрты кочующих коряков почти такого же устройства, но только значительно прочнее и теплее. Внутри юрта разделяется толстым оленьим мехом на маленькие низенькие помещения, словно сундуки или ящики, и там сидят люди, закупоренные меховыми занавесками со всех сторон. В подобном сундуке после долгого путешествия чувствуешь себя весьма уютно, хотя и приходится дышать смрадом и копотью от горящего кусочка меха, плавающего в удушливом нерпичьем жиру. Такой тлеющий факел служит освещением юрты.
Среди коряков распространено многоженство, особенно среди кочующих, так как эти последние имеют большое хозяйство в виде многочисленных стад оленей. Но надо для справедливости отметить, что между женами туземцев почти не бывает ссор, они беспрекословно подчиняются своему господину – мужу, который также обычно с добротой и мягкостью относится к женщинам.
Все они поголовно неграмотны, за некоторым исключением камчатских казаков. Разговорная речь звучала примитивно. Периодически эпидемии и заразные болезни уносили много жизней и без того немногочисленного местного населения.
Отрадным явлением среди убогого, дикого бытия этих забытых всеми людей было отсутствие всякой ругани и сквернословия. Камчатские народности не знали никакой брани. Они не знали также воровства и обмана. Это были доверчивые, как дети, чистые сердцем, но нищие духом люди.
По прибытии к ним я почувствовал себя без малейшего напряжения, всем своим существом спокойно и радостно, словно жил среди них постоянно.
На всем протяжении моей пастырской деятельности в этих отдаленных краях не было ни одного случая, чтобы туземцы (коряки, чукчи, тунгусы, алеуты, якуты, гиляки, орочены и др.) чуждались меня, или в чем-либо не доверяли мне, или сомневались. Иногда шаманы – заклинатели злого духа – избегали встреч со мной, скрывались в юртах.
Только в приокеанском острожке, и то весьма кратковременно, коряки боялись меня, когда я строил там церковь, приют и школу для обучения детей кочующих туземцев, но через месяц с небольшим мы взаимно были добрыми друзьями, когда дети и их родители уяснили пользу обучения, за что впоследствии благодарили меня.
И мои встречи с ними, и приезд к ним в юрты обычно всякий раз носили самый радушный, приветливый, простой, безыскусный характер. И никогда ни с их, ни с моей стороны не было какого-либо непонимания или сомнения. Наши сердца бились созвучно, вполне доверчиво, просто и дружески.
Здесь, в жалком, закоптелом от дыма обиталище людей, невзирая на всю невзрачность обстановки, убеждаешься в сердечной чистоте живущих в этих полузвериных логовах. Каждый раз, всматриваясь в добрые, приветливые лица туземцев, видишь, что глаза их выражают не только ласку и привет, полное доверие к пришельцу, но и какую-то надежду на помощь1 и сочувствие. И куда бы я ни приезжал, меня окружали толпы доверчивых, добродушных местных жителей, среди которых попадалось много больных. Ведь царские чиновники нисколько не заботились о благополучии населения далекого, всеми забытого Камчатского края. Несчастные обитатели этой заброшенной российской окраины почти поголовно болели чесоткой вследствие того, что никогда не мылись и носили на голом теле несменяемую куклянку (одежду из оленьих шкур), покрытую мехом снаружи и изнутри. Большинство из них болели трахомой от дыма и грязи в жилищах.
Отправляясь в 1907 году на Камчатку, я поставил перед собой цель – не ограничиваться обязанностями духовного пастыря, но и обучать местных жителей грамоте, а также, имея при себе походный аптечный набор лекарств и перевязочный материал, руководствуясь скромными медицинскими знаниями, стремился прививать им по мере моих возможностей понятие о лучших условиях жизни.
Нелегкая это была задача!
Для того чтобы облегчить страдания этих несчастных людей, я возил с собой не только походную аптеку, но и не менее двадцати пудов цинковой и ртутной мази. Они всегда с нетерпением ждали и радостно встречали меня, как избавителя от телесных страданий. Летом, пользуясь благоприятной погодой, они выходили на берег моря к прибытию парохода и спрашивали:
– Нет ли на пароходе Майнгу-попа Нестора с хорошей мазью (цинковой)?
В юртах, где мне приходилось жить некоторое время, чтобы по мере сил моих и примитивных познаний в медицине облегчить страдания больных, я встречал буквально полусгнивших калек-людей.
Вот, например, в одной из юрт ползет по земле десятилетний мальчик, покрытый страшными гнойными язвами. Бессвязным глухим стоном он просит помощи и облегчения. Его не менее несчастная, чем он, мать старается облегчить страдания своего дитяти, но делает это по своей некультурности диким образом. Она выскабливает его гнойную коросту тупым рабочим грязным ножом и им же потом режет рыбу, вытирая раны и нож одной и той же меховой тряпкой или подолом меховой куклянки.
В другой юрте меня ужаснуло такое зрелище: на земляном полу копошилась совершенно голая семья калек. Старик с отгнивающими ногами стонал, пытаясь передвигаться с места на место. Мать и ее восьмилетний ребенок, также беспомощные и искалеченные болезнью, ползают по юрте, а единственный сын-работник на охоте и на рыбном промысле – их кормилец.
Однажды в юрте мне встретилась больная старуха. Она сидела на земле у костра и скорбным взглядом смотрела на меня, приветствуя как долгожданного гостя. Сдерживая страдальческие стоны, старуха сдирала с гниющего плеча коросту и запекшуюся кровь с гноем, а также присохшую к гнойным ранам меховую тряпку, заменявшую бинт. А возле этого полуживого существа вертелись щенки, вылизывавшие ноги старухи и подбиравшие с земли комки гноя с кровью на меховых тряпках.
При этом жутком зрелище мне вспомнился евангельский эпизод с Лазарем, сидящим на воротах богача, и псы, лижущие его гнойные ноги.
При виде таких больных и беспомощных страдальцев я тоже страдал за них морально, не имея возможности облегчить их участь. Наблюдая повседневно эти страдания и беспросветное существование, я со скорбью и горечью думал: «О, старая Русь! Что же ты не позаботилась о детях своих!..»
И тогда во мне родилась мысль: «Я приеду к вам в Петербург, столичные чиновники-бюрократы! Я войду в ваши пышные чертоги и нарушу ваше сытое самодовольство напоминаниями о стонах и страданиях бедных людей на забытой вами Камчатке. Я буду настойчиво добиваться материальной помощи для создания человеколюбивого благотворительного православного братства по оказанию помощи жителям Камчатского края. Я потребую у толстосумов-купцов, чтобы они развязали свои мешки с золотом и помогли в культурно-полезном благоустройстве жизни забытых и заброшенных людей, наших братьев».
Под впечатлением этих мыслей я записывал тогда в своем дневнике о том, что долг Церкви, ее духовенства – возглавить борьбу с тьмой, отсталостью, дикостью и организовать братскую помощь близким. С этой целью я разработал проект Устава братства, наметил пути его развития и деятельности. Но осуществить задуманное, как я расскажу об этом дальше, мне удалось не сразу, с невероятным трудом и бюрократическими препятствиями. И потому, сдерживая слезы участия, подавляя стоны страдания, я до поры до времени ограничивался скромной пастырской деятельностью, выискивая пути к сердцу язычников, старался словом христианской истины, а также посильной медицинской помощью облегчить их страдания.
За два года до отъезда на Камчатку мне привелось побывать в киевском соборе святого Владимира.
Восторгаясь росписью художника Васнецова, я остановился как зачарованный. Мой взгляд надолго был прикован к изображению пророка Иеремии. С головой, посыпанной пеплом, страдающий от множества горестных мыслей, великий пророк стоял передо мной в жутком оцепенении и не мог вымолвить ни слова. Звуки его голоса, слова вдохновенных мыслей, возможно, облегчили бы его скорбь, прибавили бы ему сил пережить безмерное страдание. Но... голоса у него нет! Пророк молчит. Он не имеет сил открыть свои уста, и капли горьких слез орошают его страждущее лицо...
Вспомнил я этого пророка в жалких подземных юртах Камчатской области и понял, что он предвидел пророчески отчаяние и скорби людей, забытых миром, и ужасался.
Безусловно, на человека, прибывшего в далекую, дикую, суровую, пустынную, необработанную Камчатскую область из центра цивилизованной, культурной России, эта удаленная окраина великого Российского государства производит грустное, мрачное впечатление, пока новый человек не освоится со всей окружающей природой и условиями жизни этого своеобразного края.
Есть старая легенда, весьма оригинальная в связи с евангельским сказанием об искушении диаволом Христа, молившегося в пустыне, когда он предлагал Христу поклониться ему и тогда получить в Свое владение все земное царство, но своим мизинцем с когтем диавол скрыл от взора Христа Камчатский полуостров, оставив эту окраину в своем владении, дабы не соприкоснулась Камчатская область с материком, просвещенным Христовым учением.
На нашу долю выпало свидетельствовать, что аборигены Камчатского края, в массе своей туземное языческое население, находились долгое время во власти духов темной силы апапеля, владельца и диктатора коряков, чукчей и других туземцев, которые жили в постоянном страхе перед воздушными, морскими, наземными и подземными силами грозной природы, пока не происходил выбор для почитания темного или светлого, злого или доброго апапеля.
И это, пожалуй, становится понятным, если мы представим себе условия жизни людей в Камчатском крае, покоящемся на зыбких, неустойчивых водах Великого океана и Охотского моря, на колеблющейся под влиянием огнедышащих вулканов земле, во власти грозных тайфунов и штормов, снежных бурь, длящихся восемь-девять месяцев в году и захватывающих в свои раскаленные морозом когти людей и животных, обрекая их на мучительное замерзание на равнинах тундры, в пропастях и оврагах, на крутых горных хребтах.
Безлюдные безграничные пустыни, кустарники и редкие леса скрывают хищных зверей, ищущих себе лакомую добычу в людях, пробирающихся сквозь непроходимые снега на собаках и оленях. Население огромного Камчатского края совершенно беспомощно перед грозными эпидемическими заболеваниями.
Вот это уже не легендарный, а действительно грозный, ядовито-смертельный мизинец, с острым когтем, прикрывший дивную, добрую, хорошую окраину – полуостров с материком Камчатского края, драгоценную жемчужину с чудесным населением «детей природы», чистых душой, скромных, честных, безобидных, добрых туземцев.
Край, богатый ископаемыми, минералами, золотом, серебром, самоцветами, «черным золотом» – нефтью, целебными источниками, сокрытыми от хищных людских глаз природными богатствами: пушным зверем, подводным царством морских рыб и животных, надземным базаром разновидных птиц. Край, где переплелись между собой, перемешались и уживались и горе, и радость, и бедность, и богатство, и грозный стихийный страх, и спокойствие, озаряемое красочным северным сиянием, и нужда, и терпение, и ничтожная помощь.
И хищничество, и грабежи российского богатства иностранными охотниками до чужого добра. И обида, и беспомощность, и личная, и семейная примитивная радость, и скромное довольство всем.
Май они встречают, как предвестник лета, хотя до лета еще очень далеко. Каждая хозяйка готовится по местному обычаю – готовит дома кушанье, а затем на собаках выезжают на поляну все – старые и малые.
Но вся суть праздника в том, что за неделю или полторы срезают ветки с почками кустарника багульника и ставят в теплую воду в жилище, где он к 1 мая расцветает весь. Все везут эти цветы, и на белоснежном снегу, как символе чистоты и девственности, рассаживают живые цветы. Получается контраст: среди зимы – на снегу дивные клумбы живых цветов. Затем разводят костер, греют чай, располагаются на снегу, пьют чай и веселятся, взирая на этот сказочный чудесный ковер. Налюбовавшись по-детски, с веселым настроением уезжают домой, увозя часть цветов с собой, а часть оставляют, и они еще долго смотрят на них, пока не скроются за горизонтом.
Спокоен и осторожен был мой путь к сердцам жителей Камчатской области, находившихся в те далекие годы под влиянием шаманов. Коряки, чукчи и другие народности исповедовавшие шаманство, поклонялись злым духам. Они считали их повелителями таинственных сил природы, а землетрясения, извержения вулканов, северные сияния, морские бури, снежные бураны, все болезни, эпидемии, эпизоотии, голод и прочие беды приписывали наветам злой силы, сурово властвующей над человеком.
Не зная и не понимая природы этих явлений, шаманист жил в вечном страхе перед духами, присутствие которых самовнушительно ощущал и стремился через посредство шамана – жреца и заклинателя – избавиться от их злобы, стараясь задобрить «темную силу» умилостивительными кровавыми жертвоприношениями животных, сопровождая их нелепыми и дикими обрядами.
Камчатские жрецы, или шаманы, являлись заклинателями духов, а также истолкователями их воли, представляли собой посредников между духами и людьми.
Шаманами могут быть как мужчины, так и женщины. Во время языческого ритуала наш шаман мазал идолов кровью, убитого принесенного в жертву оленя, а также убивал дорогих ездовых собак, развешивая их на кольях возле жилых юрт, или внушал то же проделывать хозяину юрты, главе семьи, нанося этим огромный ущерб хозяйству обитателей юрт, так как ездовые собаки так же ценны, как для русского крестьянина рабочая лошадь.
С этим разорительным для мирного бедного населения обычаем мне было трудно бороться, но все же силой разумного убеждения местами удалось добиться его искоренения.
Иногда мне случалось присутствовать на шаманских радениях, грубых и крайне неприятных.
Шаманы, прежде чем начать шаманить, съедают известную им порцию сухих ядовитых грибов мухоморов. Это, помимо несомненного отравления всего организма, вызывало отравление мозговое и одурманивание на продолжительное время, напоминающее дикое опьянение. Придя в такое состояние, шаман бьет в бубен, скачет, кривляется, и на губах его появляется пена, после чего у него начинаются галлюцинации. Шаман тогда начинает прорицать, всякий вздор применяя к доверчиво воспринимающим его бред.
Началом шаманизма является страх, а невежественность – главная его поддержка. Ни храмов, ни сколько-нибудь правильной организации жрецов у этих язычников нет. Коряк-язычник хотя и имеет своего деревянного идола, но ему не поклоняется как высшему существу, а только время от времени оказывает своему идолу внимание, смазывая его жиром, мясом, манялой, а затем опять бросает его в свой домашний скарб. Такой идол пользуется вниманием хозяев юрты в случае большого домашнего торжества.
Отсутствие постоянной медицинской помощи заставляет население прибегать к своим знахарям и шаманам.
Коряк-язычник обычно так же верует в Великого Святого Бога, обитающего на небесах, почитая Его единым Богом всех народов. Но язычник считает себя бессильным молитвенно или жертвенно повлиять на Светлого Бога, определявшего в загробной жизни бытие каждой души человеческой. В оправдание приносимых темным духам жертв туземец говорил, что у каждого народа, в каждой отдельной стране есть свой всесильный дух-покровитель, невидимый властелин над телом и душой человека, покровитель животного мира и повелитель над грозными стихиями природы. А потому он умилостивляет и как бы подкупает этого духа кровавыми жертвами в надежде таким путем получить богатство, здоровье и всякое благополучие в земной жизни. Шаманизм, таким образом, занимается только материальной стороной жизни и нравственного начала в себе не имеет. Шаманизм есть плод дикой, мрачной, беспросветной жизни обитателей суровых пустынь.
Зато как пышно, как прекрасно расцветала душа язычника, когда она познавала благодать Христову. Вот, например, случай обращения в православие одной корячки.
Я совершал богослужение в Иоасафовской церкви на берегу Тихого океана. Царила молитвенная благоговейная тишина, когда вдруг раздался дикий голос женщины, корячки-язычницы. Она стояла перед распятием Христа с предстоящей Божией Матерью и апостолом Иоанном Богословом, рассматривая его, и принялась кричать и топать ногами на изображение Богородицы, приняв Ее за виновницу страданий Христа.
– Зачем ты повесила Его там, на дереве? Зачем ты делаешь Ему больно? Сними Его с дерева! Ты видишь – у Него у кровь?
Я в это время совершал каждение по храму и, подойдя к женщине-язычнице, спокойно стал объяснять ей на корякском языке значение страданий Христа. Пораженная услышанным, полудикая корячка, которая никогда в жизни не видала ничего, кроме своей тундры и юрты, которая никогда не слышала таких необыкновенных, таких чудесных слов христианского учения, вдруг озарилась его светом. Она здесь же, в храме у распятия, стала просить, молить и настойчиво требовать, чтобы я тотчас же дал ей мою веру, чтобы я окрестил ее тут же, сейчас же.
Успокоив ее и объяснив ей, что сейчас невозможно ее окрестить, но что она уже эту веру имеет и ей надо только научиться хотя бы начаткам Христовой веры, я продолжал богослужение.
Вскоре без промедления я стал учить ее молиться, приезжая к ней в кочевье. В доступной ее пониманию форме я рассказывал ей о Боге, о Спасителе мира. На Пасху, когда обычно ко мне съезжались туземцы, она вместе со всей семьей была окрещена и получила имя Варвары, а ее сын – имя Иоасаф.
Попутно замечу, что момент ее выкриков у распятия совершился в присутствии многолюдной толпы русских матросов, пришедших в церковь с русского военного корабля, стоявшего в то время в бухте Корфа. Они были поражены всем происходящим и ушли из церкви после богослужения потрясенными, несмотря на то что были людьми, многое повидавшими во время дальних плаваний.
В те далекие годы туземцы глубоко верили в силу «доброго духа», представляя его милостивым стариком, но неохотно о нем рассказывали.
Однажды в Гижигинск, где были церковь и школа, приехала из Тайганоси группа эвенов. Они просили меня показать им православный храм. Я выполнил их просьбу и объяснил им, какие святые изображены на иконах. Среди многих образов на иконостасе их внимание привлекло изображение святого Николая Чудотворца. Эвены подошли к нему и почтительно поклонились. Старший из них, указывая на изображение святого Николая, сказал:
– Это наш добрый дух. Мы его знаем. Мы его иногда видим... И с этими словами еще поклонились ему и положили на пол возле образа связку беличьих шкурок.
– Это ему от нас, – сказал один из эвенов, – он добрый дух, мы его почитаем.
Мой отказ принять это приношение обидел простодушных эвенов, поэтому пришлось взять меха как пожертвование на церковь.
Помню я и трогательную жертвенность, трогательную любовь обращенных язычников к своему храму, к чтимым образам. Еще полуязычески, по-детски, но горя святой немудрствующей любовью, приносили коряки и тунгусы, обращенные в христианство, приклады к иконам и храмам. Приклады – это пожертвования мехами, оленями, рыбой и другими продуктами туземной жизни, которые туземец приносит перед иконой или к храму и, кладя, говорит:
– Вот это тебе, святой Николай или святой Иоасаф. Прикладами бывали и сотни мехов, и олени, которые пригонялись к ограде церкви.
ОТ ГОСПОДА СТОПЫ ЧЕЛОВЕКА УСТРОЯЮТСЯ
Язычник пришел ко мне просить крещенья,
Когда крестил коряков много я.
«Бог благословит твой день спасенья,
Да будешь ты в крещении по имени Илья.
Свет Истины разгонит тьму кумира,
Господь крестившихся приемлет с миром
И дарует Свое прощение
Принявшим Святое Таинство крещенья».
Но сила злая Илье внушила над верой надругаться,
А над достигнутым путем обмана крещеньем посмеяться.
Но тот же час страх обуял хулителя
За поругание Христа Спасителя.
Мой крестник полагал путем позорного обмана
Поиздеваться надо мной камланием шамана.
Но из купели вышел он совсем преображенный,
Как будто вновь на Божий свет рожденный.
После того через полвека меня он разыскал
И горько плакал, прося его простить,
От смертного греха освободить.
Теперь уж к райскому спасению ему открылася дорога,
Очищенной, раскаянной душой в вечности он славит Бога.
Совершенно необычайным было направление жизненного земного пути некоего иеромонаха Кириака, сложное, своеобразное и многогранное. И суждено было ему связать свою жизнь со мной, ставшим его крестным отцом среди нескольких тысяч моих крестников, разбросанных по Вселенной.
В 1908 году в далекой северной окраине Камчатской области на берегах Охотского моря я исполнял свой пастырско-миссионерский долг, просвещая язычников-шаманистов верой Христовой. Среди многих гижигинских коряков, тунгусов и чукчей, подготовленных и испытанных моей проверкой к достойному просвещению Христовой православной верой, я совершал над ними Таинство Святого Крещения.
В большой толпе крещаемых подошел ко мне гигантский коряк-язычник и заявил, что он тоже желает креститься, считая себя также подготовленным вместе с другими принимающими крещение. Я в порядке очереди окрестил его, дав ему православное имя Илия, кратко пояснив житие святого пророка Божия Илии.
Моя пастырско-миссионерская жизнь требовала от меня постоянного разъезда по Камчатской области, посещений оседлого населения туземцев в их примитивных жилищах – подземных юртах, куда мой путь лежал на собаках, и кочующих на оленях оленеводов, разбросанных по горам и тундре.
В силу моей кочевой жизни мне приходилось редко, а иногда и совсем не приходилось встречать крещенных мной представителей камчатских народностей.
Например, было так с Илией, моим крестником, которого после крещения я больше не встретил ни разу. Но милостью Божией сложилось так, что через пятьдесят лет он, будучи уже иеромонахом Кириаком, разыскал меня и у нас в 1960 году возобновилась заочная связь, потерянная более полувека тому назад.
Я не буду повторяться о чрезвычайно интересной и назидательной жизни о. Кириака, которую он в письмах ко мне искренне и с глубокой верой в Бога излагает, не скрывая и не стесняясь, раскаиваясь и ища моего разрешения от его крайне нехороших поступков в виде крещения не для познания веры Христовой, но с целью насмешки и кощунства над принимаемым им православием. Будучи жрецом-шаманом, заклинателем темной силы, он скрыл от меня, что желал через крещение подвергнуть посмеянию и меня как православного пастыря.
Но сие-то крещение и послужило в жизни Илии, впоследствии иеромонаха Кириака, неожиданным для него душевным, умственным и сердечным переворотом, приведшим душу его ко спасению чрез раскаяние и непостыдной, мирной кончине и к радостному отходу в вечность, где душу его на своих крылах ангел-хранитель представил пред Богом.
По получении от него письменного раскаяния я в своей домовой церкви прочел ему разрешительную молитву с величайшей благодарностью ко Господу, взыскавшему его, и осенил его благословением в ту сторону, где он находился.
Радуюсь я спасению души никогда не забываемого в моих посильных молитвах дивного в житии своем и назидательного для всех приснопамятного иеромонаха Кириака. Вечная память его бессмертной чистой душе в райских обителях со всеми праведниками, прошедшей многообразный и долголетний путь земной жизни от языческой темноты к благодатному, немеркнущему свету в Боге.
В августе 1960 года я получил письмо от мирского человека, очень доброго и милого Михаила Васильевича, который мне сообщал о том, что еще в 1957 году он запросил Патриархию, ему был дан мой новосибирский адрес, куда он послал целую тетрадь (исповедь о. Кириака) и письмо, но мною они не были получены. Тогда он спустя время снова обратился и получил мой новый адрес, и у нас завязалась переписка.
Замолкло его вдохновенное слово,
В могиле холодной глубоко лежит
Наш благостный пастырь. Но смерти суровой
Печать побеждена. Не мертв он, но спит.
В день престольного праздника в кафедральном соборе в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где я служил литургию, я получил письмо от сожителей о. Кириака, в котором они сообщали, что «радость и ликование были велии у нас по поводу сего», и описывали, какое впечатление на них произвел мой ответ. Причем писали они своему другу Михаилу Васильевичу, так как писари там малограмотные, а он уже пересылал мне.
«Дорогой и незабвенный друг наш! Здравствуй!
С большой радостью сообщаем тебе, что мы получили твою посылку. В ней были письма Высокопреосвященнейшего Владыки Нестора, а также три портрета его. Как только Валентин Николаевич вскрыл конверт и вынул оттуда письма и портреты, так сам весь побледнел и руки затряслись от волнения. Он побежал бегом к постели нашего батюшки Кириака и дал ему в руки. Надел очки и, как увидел он портрет, так и застонал: «Он, он, святитель Божий! Хорошо я помню на нем наперсный крест на наградной ленте Георгия. Он заслужил его, как ангел-спаситель и хранитель, а теперь он – святитель Божий. Ох, какой я окаянный!»
Затем он попросил читать письма. А сам плачет и плачет, как младенец. Прочтут ему несколько слов, а он тихо скажет: «Подождите, дайте мне насладиться этими словами. Я маленько повспоминаю». Ждем, а он закроет глаза и думает. Потом опять велит читать дальше. Опять остановит, о чем-то думая. А то попросит письмо себе в руки и так это благоговейно с трепетом прижмет его к груди и держит, держит минуты две-три. А потом целовать начнет. Раз двадцать читали ему эти письма и стихотворение «Радостная Пасха у прокаженных». Часто говорил первые два-три дня так: «Святый многострадальный Иов, помолись Богу за меня, окаянного! Там, там, на берегу нашего моря, он сделал храм в честь тебя, Праведника Божия».
Мы все просили его, чтобы он сказал, какой ответ написать великому Владыке, а он все плачет и плачет, как ребенок, и никак не желает или не может успокоиться. Махнет рукою тихо и шепчет: «Большое дерзновение будет мне, окаянному, писать моему Господину и Божьему святителю. Я недостоин развязать подвязки обуви на праведных стопах этого ангела земного, а вы хотите, чтобы я писать велел ему».
На четвертый день часа на четыре он впал в беспамятство и все говорил с закрытыми глазами примерно так: «Мы с батюшкой поедем сперва в Марково на ярмарку, а оттуда поедем в Вакарино, а из Вакарина проедем в Еропол и на всех ярмарках всех обгоним на своих собаках. Купим лодку, и поедем ловить рыбу в Майне, и поедем опять по реке на Алганскую ярмарку, и там всех обгоним и получим ружье, а они – портки».
Около него читали Библию. Затем он стал говорить про какого-то Геронтия, про Японию. А когда он очнулся от этого беспамятства, мы все опять стали просить его, чтобы сказал, какой написать ответ Владыке. Опять ответил: «Не надо!» Часто впадает в беспамятство, стал совсем как глупый ребенок, вспоминает Макария Алтайского, озеро Телецкое».
Через несколько дней о. Кириак смог написать мне:
«Ваше Высокопреосвященство, Святитель Божий и многолюбивый Господин мой! С самого начала я, многогрешный и недостойный смиренный инок Кириак, падаю ниц перед Вашим Святительством и испрашиваю Вашего Святительского благословения, лобызая десницу Вашу. Ваши письма я получил и от 25/VIII, и за 28/IХ с. г. А также и портретов три, а один в Святительском облачении и с иподиаконом. Вспомнил я, что первый раз я видел Вас в таком облачении лет 45 назад во Владивостоке в окружении двух или трех архиереев в день Вашей хиротонии. И теперь так сильно наполнилась душа моя радостью, что я думал, сердце мое не выдержит. Ведь не только горе, но и неожиданная радость может разволновать любого человека до потери рассудка. А тем более такого старого, как я, ведь мне девятый десяток к концу подходит. И вот сейчас, когда я пришел в себя, я и не знаю, а о чем написать Вам. Ваше письмо напомнило мне многое из моей многогрешной жизни еще до Вашего приезда в Гижигинский уезд, в нашу Корякскую походную православную миссию. Хорошо я помню три домика на морском берегу между сопок, в которых Вы устроили несчастных прокаженных, и в уголку одного домика Вы устроили для них свою церковь, как вот теперь только вспомнил, назвали ее в честь многострадального Иова из Библии. Потому что он тоже был прокаженный. И я всего-то один раз был в этой церкви, но мне много говорили, как Вы проезжали туда к прокаженным, совершали для них богослужения и привозили им продукты, гостинцы, священные книги и детишкам разные забавы. Жили они, как вот теперь и мы здесь живем, в одном домике мужики, в другом – бабы да детишки. Только у нас здесь нет детишек-то, а одни старики беспомощные да калеки никудышные. Было нас двести человек, а теперь прибавили еще сорок. Очень тесно. Только потому я и помнил Вас через пятьдесят с лишним лет, а особенно с 1936 года, что Вы всегда стояли в моей памяти как великий святой человеколюбец несчастных больных и бедных больших детей природы, она была у нас там как первозданная.
Когда Вы молодым священником приехали к нам в Гижигу, я хорошо помню, мне было тогда 25 лет, и я был такой отчаянный вор и пройдоха. Ведь я остался сиротой лет шести. Колонисты-купцы воспитали меня побоями в своих факториях. У них я и научился русскому языку, а потом и грамоте. К этим годам я на своих собаках несколько раз изъездил всю Камчатку. А когда мне было лет пятнадцать, меня прибрал к себе купец Баранов Егор Семенович, который взял однажды меня с собой в Императорскую гавань. И вот помню, мы тогда приехали в неведомое для меня, дикаря, место, в Тьерский стан, а там была церковь, первый раз в жизни увидел я церковь. И как раз мы попали туда, когда приехал туда архиерей. После, много лет спустя, я узнал, что это был Камчатский епископ Мартиниан. А потом купец Баранов взял меня обратно в Марково.
Когда Вы приехали к нам, разговору у нас, туземцев, было много о Вас. Особенно ненавидели вас шаманы. И я, окаянный, захотел над Вами посмеяться – ради забавы принять от Вас крещение. Вы дали мне имя Илия. И это мое надругательство над Вами перевернулось взаправду. Что-то светлое осенило весь мой разум. Буквально я переродился духовно в несколько дней, и мне так сильно захотелось быть таким же, как Вы. Но Вы быстро от нас куда-то уехали.
При помощи одного хорошего мне знакомого торговца-купца – пошли ему, Господи, Царствия Небесного – я в 1908-м или же в 1909 году, забыл уже, приехал в г. Благовещенск и отыскал там епископа. Звали его Преосвященный Владыка Владимир, это я хорошо и точно помню. Меня пропустили к нему. И я рассказал ему обо всей своей грязной жизни, показал ему свою хорошую грамотность, рассказал, как крестился у батюшки Нестора и про свое имя. А никаких документов у меня не было. И упал я перед ним, и стал умолять его записать меня в монахи и в батюшки. Продержал он меня у себя с месяц – все наблюдал за мною. А потом меня послали с другими людьми в г. Казань. Там дали мне жить в Спасском монастыре. С полгода я работал у них. Был очень прилежным. Перечитал много книг священных. Истово молился Богу. Голос у меня был хороший, и я быстро научился петь на клиросе. А еще через полгода по моей слезной просьбе Преосвященный Алексий совершил надо мною монашеский постриг. Он был еще и ректором Академии, а архиепископом Казанским и Свияжским был Никанор, а Алексий считался его Чистопольским викарием. Архиепископа Димитрия, про которого мне рассказывали там, я уже не застал, ибо он умер до меня. Ректор Алексий (фамилия его Дородницын, после я читал много книг, им написанных) очень сильно полюбил меня, и я ему рассказал про свою жизнь, рассказал ему про то, как к нам приехал монах, батюшка Нестор по имени, и как я ради забавы обманул его и, думая подшутить над ним, попросил его крестить меня и как я после крещения почувствовал сразу в себе какое-то светлое обновление, как меня стало мучить желание сделаться самому таким же, как батюшка, мой креститель Нестор. И кто и как мне помогли приехать сюда к ним в г. Казань.
Епископ Алексий говорил мне, как ему было трудно учиться в Московской академии. Он был немного постарше меня. У них было два отдела простого училища, где учили на миссионера-священника. И он проверил мою грамотность. А потом ведь я целый год жил у них в монастыре-то, и он уже постриг меня в иноческий чин. И он зачислил меня учеником на монгольский. Год я учился, а потом и еще полгода. И меня послали в Бийск – это на Алтае. Но я там прожил с год, и мне дали документы ехать во Владивосток к архиерею Евсевию. Продержал меня там в монастыре с полгода, а потом призывает к себе и говорит мне так: «Вот я сам из Москвы, из Тулы, где самовары делают. А все время живу то в Сибири, то на твоей Камчатке жил, а теперь вот здесь. Когда закончил учиться в Академии под Москвой, мне сказали: «Негоже быть тебе ни в Москве, ни в Туле. Даем тебе для несения Божия послушания Сибирь». И тебе, брат мой Кириак, негоже нести на своей Камчатке послушание Божие. Я отправляю тебя на Курилы, к японцам. По цвету кожи ты под стать будешь им. На первых порах ты будешь там у Владыки Николая келейником. А там уж он сам посмотрит, на какое послушание будешь пригоден».
Я смиренно ответил ему, что я весь на послушании и поеду, куда направит меня Божий Промысл. Но немного дней сподобился я служить этому великому просветителю идолопоклонников. Он был уже таким слабеньким, хотя и высокого роста, что месяца через два или три скончался. А я стал жить там же, но уже у Владыки Сергия. Умер Владыка Николай 76-ти лет от роду. В Японии он прожил 50 с лишком лет. Мирское имя его было Касаткин Иоанн. Помяни, Господи, во Царствии Своем Небесном святительство его и святительство архиепископа Евсевия, святительство епископа Владимира, епископа Алексия, архиепископа Никанора, наставлявших меня на путь истины во иночестве и ангельское послушание дававшие мне силу нести с благоговением. Восемь лет я жил там спокойно, хваля имя Господне посреди идолопоклонников. За это время два раза меня посылал Владыка с поручением во Владивосток. Один раз я жил в нем месяца четыре. Это как раз в то время, когда в соборе над Вами совершали хиротонию. Много, много раз я делал над собою усилие подойти к Вам и со слезами попросить у Вас прощения за тот, как мне казалось, кощунственный грех, когда ради забавы, ради того чтобы надсмеяться над Вами, принял от Вас во имя Отца, Сына и Святаго Духа водное Таинство Святого Крещения. Я до сих пор удивляюсь, как это могло получиться, что об этом своем кощунстве я исповедовался перед шестью святителями, т. е. перед епископом Благовещенским Владимиром, перед епископом Чистопольским Алексием, перед архиепископом Казанским Никанором, перед архиепископом Владивостокским Евсевием, перед архиепископом Японским Николаем, а впоследствии и перед Сергием (Тихомиров его фамилия в миру). А вот перед Вами не смог. Что-то неведомое мешало мне в тот период, когда Вы получили, сподобились получить сан Камчатского епископа. Это было осенью. Вот точно не помню, – или 1915 года, или 1916 года, но, как мне говорили, Вы уже вернулись с военного поля брани и были украшены наградным наперсным крестом с Георгиевской лентой. Я до того времени не видел еще ни у одного священнослужителя наперсный крест на ленте.
И когда после хиротонии, спустя недели две, перед отъездом в Японию я в последний раз был принят Владыкою Евсевием, я спросил его, почему на посвящаемом наперсный крест висел на какой-то ленте, он, улыбнувшись, добродушно пояснил мне, что Владыка Нестор удостоился этой награды от Его Императорского Величества за самоотверженную помощь нашим воинам, раненным на передовых позициях войны. Что-то в таком духе пояснил он мне. Вот и теперь я вижу на карточке тот крест и ту ленту. Какое большое волнение чувствую я в душе своей. Видеть то, что я видел и о чем говорил почти полвека тому назад. Получать письма и портреты от того человека, над которым я надсмеялся и который крестил меня на моей родине 52 или 53 года тому назад.
Господин мой и Святитель Божий, слезно умоляю, простите меня, окаянного, ради Христа Иисуса.
Ох, и сильно устал я говорить. Ведь два дня наш писарь это письмо пишет, а я лежу и говорю ему, что писать.
В 1920 году получилось так, что я попал через Корею в Китай, и целый год меня продержали в городе Юн-Пинфу при русской церкви святого Иоанна, Крестителя Господня. А там подошло время, что на Родину было проехать нельзя – война везде, снова Господь Бог привел меня в Японию.
В 1936 году меня снова потянуло на Родину, но не успел я сойти по трапу с парохода, как меня арестовали. Осудили и отправили сначала на берег Амура, а потом на Колыму, на Чукотку. В 1954 году освободили, но кому нужен 82-летний старик? И вместе с другими такими же, как я, меня поместили в инвалидный дом.
Вот кратко рассказал Вам.
Устал я, Владыка и Господин мой. А хочется так много, много сказать Вам о теперешнем житье моем и выплакать перед Вами все свои грехи.
Не сочтите за дерзость, Милостивый Господин мой, что я попрошу Вас прислать нам сюда через нашего друга книг Священного Писания, а также еще черного сатину, материи, хотя бы на одну или две мантии. Здесь у нас есть наперсный крест, епитрахиль, поручи, Типикон, Библия. В праздники совершаем богослужения в отдельной комнатушке.
Все мы земно кланяемся Вам и испрашиваем Вашего святительского благословения и молитв Ваших.
Недостойные слуги Ваши – иноки Кириак, Симеон, Никифор, Павлин и из мирян Валентин Николаевич и Иван Павлович. Лобызаем Вашу святительскую десницу».
Второе письмо он написал мне 18 октября 1960 года:
«Высокопреосвященнейший Владыка и Святитель Божий!
Высокочтимый нами Господин и Отец наш! Просим Вашу милость принять от всех нас, здесь страждущих, сыновнее лобызание во Господе Христе Иисусе и благословите всех нас своим святительским благословением. Великому Господину нашему, Владыке Нестору многая лета, многая лета, многая лета!
Здравствуйте, Ваше Святительское Высокопреосвященство!
Не больше недели прошло с тех пор, как я послал к Вам первое письмо. Прошу у Вас прощения за то, что я так долго не отвечал Вам. Не моя вина была в том и не злой умысел. Радость от получения Вашего письма, напечатанного на трех листах, и трех портретов Ваших очень сильно и на целый месяц лишили меня величайшего дара Божия – рассудка. Ведь это легко сказать только – не видеть более пятидесяти лет того, кто поставил меня на путь в жизнь Вечную, кто просветил меня ясным светом Евангельской истины, и вдруг получить от него доброе, доброе послание и великие знаки его благорасположения – три дорогих портрета.
В первом письме я описал Вам свою жизнь. А теперь мне очень отрадно вспомнить тот великий день, в который я был покрыт мантией, ризой спасения и броней правды, каковая напоминала бы мне всю жизнь о том, что с того самого дня я на всякое дело считаюсь мертвым человеком, что я буду жить ради одних только добрых дел. Богу Одному только ведомо, выполнил ли я за свою жизнь все клятвы, какие я давал перед алтарем в час принятия иноческого чина. Но как перед Грозным Судией исповедуюсь перед Вами, Святитель Божий, что с того дня и до сего дня старался во всем: и в деяниях, и в мыслях – выполнять их. А там, Бог знает, может, и согрешил когда.
Я уже писал Вам, что мне дали имя великого древнего отшельника Кириака (что значит – «господский»), прожившего весьма долгую жизнь в IV веке, так что день моего Ангела уже не 20 июля, Пророка Божия Илии, а 29 сентября, а сегодня было только 5 октября, и сегодня мы с братией молились нашим русским святителям – Петру, Алексию, Ионе, Филиппу и Ермогену. Как видите сами, милостивый Господин мой, преподобный великий подвижник Кириак и меня грешного сподобил очень многолетней жизни, а также и жизнь послал мне очень и очень тяжелую.
До сих пор мой мозг сверлят слова, сказанные постригавшим: «Претерпеши ли всякую тесноту и скорбь иноческого жития ради Небесного Царствия?» И мой твердый ответ, ответ бывшего вора и негодяя, разбойника и татя, вольного и свободного до принятия от Вас Святаго Крещения, как моей родной Камчатки ветер: «Ей, Богу содействующу, честный отче!»
Помню наставление: «Аще убо хощеши инок быти, прежде всего очисти себя от всякия скверны плоти и духа, в искушениях не печалься». Ведь никто-никто не неволил меня принимать иноческий постриг. Три раза я подавал ножницы в руки постригавшего, и два раза возвращал он их мне со словами – может быть, я одумаюсь и откажусь от него, но сила Вашего крещения надо мной оказалась такой могучей, такой осенительной, что я без колебания готов был идти на всякую казнь во имя Иисуса Христа.
Двадцать четыре пары старейших иноков Спасского монастыря вышли из алтаря с зажженными свечами в руках ко мне на паперть, оттуда накрытого мантиями ввели меня во храм Божий для совершения пострига. С каким большим воодушевлением и умилением слушал я пение «Слава в вышних Богу!», когда меня подводили к алтарю. Какие умилительные слезы потекли у меня из глаз, когда запели тропарь «Объятия Отча отверсти мне потщися. Тебе, Господи, с умилением зову, согреших на небо и пред Тобою».9 Надели на меня хитон, параман на грудь, рясу, пояс, мантию, клобук, четки и крест с зажженной свечой.
Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца нашего на небесех.
Теперь всем нам, а особенно мне, особенно стало радостно, ибо Вы, многомилостивый Господин наш, утешаете нас недостойных своими добрыми, ласковыми письменами.
Ох, Господи! Как мне сейчас стало легко на душе! Я, как и Святый Симеон Богоприимец, говорю: «Ныне отпущаеши, Владыко!.. Яко видеста очи мои Того, Кто давным-давно озарил мою черную душу шамана светом Евангельского учения и этим самым из жестокого бандита и идолопоклонника сделал верного христианина, познавшего смысл временной земной жизни ради Вечной жизни на небесах Господа и Бога своего».10
Все мы испрашиваем Ваших святых молитв о грехах наших и, земно кланяясь Вам, сыновне лобызаем Вашу десницу.
Простите нас Христа и Бога нашего ради. Ваши детки – Кириак со другими».
24 сентября было получено письмо от Михаила Васильевича, где он благодарил Господа за нашу связь письменную, а также писал: «...Много, много благодарен я и своему дорогому и милому другу зато, что он так усердно в течение шести лет просил меня найти Вас. Грешен я перед своим другом в том, что после первой неудачной попытки связать его, бедного, с Вами бессердечно отказывался повторить поиски. Как я мучаюсь и страдаю теперь и душой, и сознанием, что в течение четырех лет считал эти просьбы его бредом лишенного рассудка, измученного человека. Как перед Богом, каюсь перед ним, что все эти его просьбы ко мне я считал пустой забавой выжившего из ума бедного друга, а поэтому еще больше сочувствовал тому, еще теплее относился к нему, ибо считал, что он терзается от полного расстройства мозгов, что идеал его больного воображения – Владыка Нестор – не существовавшая личность и является мифом, созданным больным воображением моего несчастного друга. Молю Господа Бога простить мне этот вольный и невольный грех, как простил мне его милый друг. Теперь я осознаю свою неправоту еще и тем фактом, что на протяжении последних шести лет он несколько раз повторял одно и то же:
«Ты обязательно запиши его мирское имя и прозвище – это Анисимов Николай Александрович, а самое главное, запиши нашу Гижигу, она одна во всем свете белом». Его больше всего мучило, как он много раз говорил, что он не знал, молиться ли ему о Вашем здравии или об упокоении души Вашей. Поверьте мне, Высокочтимый мною батюшка, что он все годы говорил нам, что родители дали ему временную жизнь, что они родили его духовно слепым и что только Вы переродили его крещением, сняли темную пелену с духовных очей его, что Вы дали ему возможность познать истинный свет духовной жизни и этим самым обессмертили его душу для Вечной жизни. У меня имеется много записей, сделанных мною тут же в момент бесед его, или же я делал их после бесед. Мне часто приходилось делать записи под его диктовку воспоминаний о давно минувшем. Большинство этих записей относится к периоду его жизни на Алтае, в Казани, в Японии. Почти ничего не записано о Камчатке. Он говорил, что ему очень тяжело вспоминать свою жизнь на родине до 35-летнего возраста, так как этот период слишком мрачный и тяжелый для души его, что эта жизнь – сплошные грехи ради телесной похоти и что многие грехи были слишком ужасные. «Даже воспоминание о моем первом имени приводит меня в кошмарный трепет», – так много раз признавался он».
1 ноября я ему писал: «...Какая великая милость Господня и к тебе и ко мне, так как судил Бог дожить нам обоим до глубокой старости и Господь примирил нас чрез твое искреннее покаяние. Слава Богу и благодарение за все! А за тебя я безгранично радуюсь и благословляю тебя заочно, но с глубокой сердечной, отеческой любовью радуюсь со слезами умиления и, обнимая тебя, целую архипастырским и отеческим целованием.
Бог спас душу твою, и ты, хотя и не смел лично просить у меня прощения, когда во Владивостоке меня посвящали во епископа Камчатского, и не смел подойти ко мне, но прежде суждено было тебе исповедать твой грех надсмеяния над крещением тебя с целью надругательства, и ты просил прощения у шести архиереев. Знаменательно и то, что ты прошел по моим стопам к этим архиереям, так как ты хотел стать таким, как я. И только через полвека Бог судил найти меня и принести покаяние, прося простить тебя за кощунственную дерзость. Радуйся сему ты, радуюсь сугубо и я, молитвой духовного твоего отца в моем лице, я, твой духовник, недостойный, ныне митрополит Нестор, властию, данною мне от Бога, прощаю и разрешаю тя, чадо мое Илия от купели Святаго Крещения, а ныне иеромонах Кириак, от сокрытого греха твоего надругательства над Святым Таинством Крещения и надо мной, немощным твоим крестителем в молодые годы, и от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Теперь ты, дитя мое, чистое в покаянии, можешь с верой и благодарением Господа Бога молитвенно сказать и повторять постоянно до часа твоей мирной кончины: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал мне недостойному пред лицем людей Свет во откровении язычникам и славу христианства».
«Помяни мя, недостойного, Господи, во Царствии Твоем, яко разбойнику безумному подражавшему, но дал мне своевременно благоразумие и спаси душу мою. Аминь».
Знаменательно, что твое письмо с покаянием я получил 16/29 октября сего 1960 года, т. е. через сорок четыре года после моего посвящения в сан епископа Камчатского. В этот день 1916 году ты был в соборе во Владивостоке, когда меня посвящали в архиереи. Бог тебя благословит со всеми живущими с тобой.
Любящий твой крестный отец митрополит Нестор».
В последующих письмах он писал: «...В своей земной жизни Господь помог достигнуть мне желанной вершины, и эта вершина есть испрошение прощения великих грехов, содеянных мною в дни языческой молодости против Вас, моего духовного отца и учителя.
С того дня, как мне прочитали Ваше отпущение грехов моих, мне стало весьма легко. Теперь ничего не страшит меня, и я готов спокойно умереть и отдать свою душу Создавшему меня Вечному Творцу всего сущего.
Никогда, никогда даже в мыслях своих я не был раскольником и отделением от нашей Русской Православной Церкви. Помню годы, когда наша Русская Православная Церковь здесь, в России, и за границей переживала большие раздоры и ее иерархи пребывали в междоусобной брани, тем самым терзали и раздирали святое тело ее, я оставался твердо верен каноническим древним установлениям ее. Я оставался верен в своих молитвах нашему Святейшему Всероссийскому Патриарху...
С благоговением дерзаем испрашивать Вашего Святительского благословения.
Ваши смиренные послушники
с недостойным многогрешным Кириаком».
Анализируя данные из письменных сообщений, я провожу некоторую параллель.
Я принял монашество в 1907 году, 17 апреля ст. ст., в моей духовной колыбели – в Спасском монастыре, в Казанском кремле. И как я понял, о. Кириак принял постриг там же. В иеродиакона я был посвящен в Казанском кафедральном соборе 6 мая того же 1907 года, а в иеромонаха – 9 мая того же 1907 года посвящен епископом Алексием Дородницыным.
Отец Кириак также в этом Спасском монастыре постригался и был рукоположен епископом Алексием (Дородницыным). Это считаю промышлением Божиим по отношению к о. Кириаку и ко мне. Все архиереи, о коих вспоминает о. Кириак, в 1916 году во Владивостоке 16 октября ст. ст. меня посвящали в соборе в сан епископа Камчатского. И у всех архиереев тех, т. е. архиепископа Евсевия, моего духовного отца, у архиепископа Сергия Японского, у архиепископа Евгения Благовещенского и у епископа Павла Никольск-Уссурийского, Илия (будущий иеромонах о. Кириак) брал благословение и просил простить его. А разве это не чудо – то, что Господь вел о. Кириака по моим следам?
В своих рассказах он упоминает о том, что был миссионером; даже девочка-подросток, дочь шамана, с глубокой верой просила у него крещения.
В письме от 16 декабря о. Кириак писал: «...Радуюсь я, и собрания веселятся облачениям, и особенно мантиям, ибо теперь меня тоже похоронят с подобающим чину облачением. Я только и сетовал об этом. Теперь я могу произнести: «Ныне отпущаеши раба Твоего с миром, яко видеста очи мои спасение мое. Господи, Господи, прими дух мой многогрешный с миром».
В феврале 1961 года было получено сообщение о мирной кончине иеромонаха Кириака. При крещении его Господь судил мне дать ему имя Илия.
Первый небесный покровитель, таким образом, был Илия, который колесницей добродетелей своих вознесся к небесам по милости Божией. И наш благоговейный Илия, который также своей добродетельной жизнью по принятии крещения душою своею духовно возродился, словно на колеснице благодатной пастырской жизни возносился к небесам, исполняя истово подвиги своего послушания к священническому сану, куда Богом водимый ныне превознесен душою по кончине своей праведной.
Да явится и в вечности он избранником Божиим во обители Отца Небесного. Мы же будем хранить о нем вечную молитвенную память, уповая, что и его душа бессмертная молится Богу о нас немощных.
По получении извещения я немедленно в своем домашнем храме отслужил панихиду, а в воскресенье была совершена заупокойная литургия о новопреставленном.
«За два дня до своей кончины праведной, – пишут его сожители, – наш дорогой батюшка как будто выздоровел. Он стал всех узнавать, тихо беседовать с нами. Хотя он и болел, но безболезненно. Каждый воскресный день его приобщали Святых Таин Тела и Крови Христовых. Он даже проговорил, что сегодня празднуется святитель Григорий Богослов и иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Все мы зело возрадовались такому выздоровлению нашего родного батюшки. Как раз за два дня до сего дня мы получили 120 рублей денег и сообщение о том, что к нашему Михаилу Васильевичу приедет келейник нашего Владыки, о. Сергий, в гости.
Мы ему сказали об этом, и он был весьма много обрадован и радовался, как дитя малое. Мы все боялись, что от радости такой он опять взволнуется и впадет в беспамятство. Но он велел прочитать ему. Прежде всего сам взял в свои руки, перекрестился, поцеловал и со словами «радость и любовь Господня» велел читать. Все-все прочитали ему. Он узнал, что и нашего Владыку не минула горькая чаша таких же страданий и он пил ее восемь лет. Он всегда и сейчас при чтении очень волновался, когда наш родной Владыка пишет о нем такие слова: «Любимый отец мой Кириак», «родное мое чадо духовное», «дорогой мой батюшка, о. Кириак», «милый мой старец», «батюшка Кириак» – все эти дорогие ему названия. А читали ему три или четыре раза. И он говорил так:
«Хорошо, что у Михаила Васильевича есть много написано про мою иноческую жизнь в дорогой мне Казанской обители, где я познавал яркий свет евангельского учения, и на Алтайской миссии, и в Японии, и в многие годы каторги. И он ему все сие спишет и отдаст, и я велел ему сделать так. А до принятия от моего родного духовного отца Святого Крещения моя вся жизнь темная, как пасхальная ночь в лесу, и я сам в этой темноте ничего не знаю, и не надо знать, ибо мне самому моя жизнь стала видной только после Святого Крещения». Он просил тут же писать письмо Михаила Васильевича к своему господину Владыке. Мы послали за писцом, но один из них сильно занедужил, другого послали на кухню уборку делать, третий тоже не смог встать с постели. И так все. Не удалось в этот день написать Михаилу Васильевичу, кроме того, что смогли тогда написать десять слов о его быстром выздоровлении. «Ну, – сказал он, – Бог даст, завтра напишем».
И велел читать ему все письма, какие раньше были присланы от нашего Святителя Божия. Так день и закончился за чтением их. Радостно было нам и ему, и хорошо всем было. В среду утром после братской молитвы он велел читать общую службу ко Господу по присланному каноннику и после – канон Пресвятой Богородице. Днем опять велел найти писаря написать письма. Но опять все-все оказались в самом деле сильно больными. И он об этом горько-горько сетовал, все у нас немощные; пробовали мы по очереди, но руки совсем для такого дела не владеют. Хорошо, читать можем сами. А сам он говорил нам слова прощальные, что он на этих днях отойдет к Творцу и Богу своему в жизнь Вечную. Мы ему говорили: «Поживи с нами, мы без тебя будем сироты». Но он говорил: «У Бога нет сирот. Но мне так теперь хорошо и легко, потому что рядом со мною стоит праведный дух моего духовного родителя и просветителя, и он введет меня в Царствие Вечного Бога».
Затем он приподнялся, вынул из-под подушечки ящичек с портретами нашего дорогого Владыки и стал целовать и рассматривать сквозь свои двойные очки. Нам хотелось спросить его распоряжения насчет поминовения, но убоялись. Потом еще по разу всех их облобызал, бережно сложил и сказал: «Велите Ивану Павловичу съездить за батюшкой, я должен еще раз приобщиться Тела и Крови Христовых».
Мы дали санитару рубль и попросили сходить в поселок за Иваном Павловичем, хотя его батюшка каждое воскресение перед этим приезжал приобщать, несмотря на то, что он был в бесчувственном состоянии. А ведь привозить батюшку за шестьдесят верст накладно. Надо платить по шесть-семь рублей, да труды Ивана Павловича. Это хорошо, что деньги пришли вовремя. Но мы для этого раза не жалели, и санитар вскоре пришел с Иваном Павловичем. Тут пришла наша Капитолина Константиновна, пришел еще Валентин Николаевич, ибо им сказали, что наш батюшка в своем хорошем рассудке стал. Дали Ивану Павловичу десятку, и он поехал за батюшкой. А Капитолина Константиновна пошла к мужу опять брать бумажку на разрешение пропустить к больному для причащения священника. А вечером он заставил читать акафисты Спасителю и Божией Матери.
На другой день к обеду, в четверг это было, Иван Павлович приехал с батюшкой. Мы уже прочитали чин последования ко Святому Причащению. Так что все было готово. Батюшка сам исполнил чин по Святом Причащении. Наш родной батюшка остался один со священником – так он сам велел. А потом вскоре позвал всех нас и сказал, что батюшка приедет обязательно отпевать.
Когда уехал священник, наш отец велел читать ему опять письма Владыки. И их читали ему все. И он опять говорил: «...хорошо, что у Михаила Васильевича написано много о жизни моей, и он обязательно с этого сделает список для моего Владыки и просветителя». Он попросил Капитолину Константиновну прийти завтра пораньше, чтобы написать с его слов небольшое письмо «к моему родному духовному отцу и святителю Божию». И к Михаилу Васильевичу еще. Она обязательно обещала.
А в пятницу утром рано о. Никифор первый подошел к его постели, но наш дорогой батюшка уже не дышал. Руки лежали на груди, и под руками лежали все портреты того, кто давным-давно просветил его светом учения Господина нашего Иисуса Христа. Это были портреты нашего дорогого Владыки. И среди них был снимок из календаря Святейшего Алексия, Патриарха нашего.
Тут же послали санитара за врачом. Врач сказал, что он умер без мучений, тихо. Это было утром в пятницу, в день памяти преп. Ефрема Сирина. Послали за Капитолиной Константиновной – ведь только она одна может уговорить мужа разрешить все сделать по-христиански. Через два-три часа все было в порядке. Разрешили отнести его усопшее тело в ту самую отдельную комнату, где мы все трое – Никифор, Симеон, Павлин – совершили над ним положенное по чину для монашествующих.
Никифор отер его тело теплою водою, прежде начертав образы креста на лице, на груди, на коленях, на руках, на ногах. Затем одели его в подрясник. Поверх надели мантию, присланную нашим Владыкой, по чину пришлось ее разобрать, чтобы можно было обвить крест-накрест. Куколь давно был сшит Капитолиной Константиновной, и икону Спасителя дали ему в руки. Тут же покадили ладаном, зажгли свечи. К вечеру принесли дощатый гроб, и санитары при нас благоговейно при нашем пении положили тело усопшего во гроб. Мы все трое по очереди неотступно читали над ним Святое Евангелие. А Иван Павлович послали опять за священником приехать служить панихиду, а там в церкви отслужить заупокойную литургию.
В воскресенье батюшка был занят и приехал только утром в понедельник. В этой комнате мы установили все образа, и непрерывно горели пять свечей: три у гроба, а две над образами.
В день памяти мучеников бессребреников Кира и Иоанна похоронили на общем могильнике. Нам разрешили нанять лошадь и поехать провожать всем троим. Так мы еще раз умиленно пропели над гробом батюшки Великий канон «Помощник и Покровитель бысть мне во спасение...»11 Весь полностью пропели. Затем все люди помянули. Священнику уплатили все и еще за помин в сорокоуст, в девять дней и на целый год поминать..»
Бог видел все твои страданья,
Молитвы слышал Он твои,
Исполнит Он твои желанья,
Возьмет в Обители Свои.
И там, на лоне Авраама,
Среди Божественных красот,
Души твоей больная рана
Под звуки гимнов заживет.
Ты будешь, горестей не зная,
Творца Вселенной прославлять,
О грешных людях вспоминая,
Владыку мира умолять.
Проси Его, чтоб дал нам силы
Дурные страсти побеждать,
Любить людей и до могилы
Страданья ближних облегчать.
* * *
Не могу обойти молчанием и весьма драгоценные дары Камчатской области с ее природными богатствами, привлекающими не только своим грозным величием и красотой, но и пользой для населения.
Духовным и административным центром всей Камчатской области является собственно Камчатка, т. е. Камчатский полуостров, омываемый Охотским и Беринговым морями. Он тянется в длину на 1200 верст, а в ширину достигает 400 верст. Посредине полуострова параллельно проходят две горные цепи, составляющие Камчатские Срединный и Восточный хребты. Восточная береговая полоса полуострова Камчатки испещрена огнедышащими вулканами и горами, она полна красоты и дикого величия, а западная береговая полоса со стороны Охотского моря – низменная, пустынная, имеющая мрачный и унылый вид. Полуостров испещрен горными речками, коих насчитывается до двухсот. Реки начинаются горными истоками и, живописно извиваясь по ущельям, протекают в болотистые равнины и впадают в моря. На расстоянии примерно 700 верст вдоль полуострова протянулась главная река – Камчатка, имеющая в длину до 570 верст и принимающая в себя до 120 притоков, мелководная, с каменистым во многих местах дном. В те годы судоходства по реке Камчатке не было, она была судоходна только до села Милькова. Другие реки здесь малосудоходны, и только в нижнем течении. Но все они являются прекрасным нерестилищем (местом метания икры) ценных лососевых рыб.
Рыбы лососевых видов в определенный период года несчетным количеством идут из моря в верховья рек против течения на нерест. На дне рек самки, ложась на бок, силой удара хвостом разбрасывают песок и гальку, а в ямки мечут икру, и самцы сейчас же поливают икру молоками. После этого самки и самцы, изнуренные, остатками сил забрасывают ямки с икрой песком, уплотняют, чтобы спасти потомство от хищных рыб, поедающих икру и мелкую рыбешку.
Самки и самцы, совершив свой родительский долг, умирают. Эту дохлую рыбу поедают звери: лисицы, выдры, соболи и другие. Жизнь лососевой красной рыбы с момента рождения до метания икры продолжается всего три года. Среди них преобладают: горбуша, кета, красная, чавыча, кижуч. Кроме лососевых, в морях ловится сельдь, камбала, навага, треска, хариус и др. Имеются богатые тресколовные банки в Охотском море, у Командорских островов и у острова Карагинского.
Большое промысловое значение имеют крабы, которыми наиболее богат участок Охотского моря у западного побережья Камчатки в районе реки Хайрюзовой.
Особую разновидность представляют собой так называемые камчатские крабы, мясо которых очень питательно и вкусно. Внешне на первый взгляд он напоминает обычного краба. Но в действительности краб более родственен ракам-отшельникам. В отличие от обычных крабов, у камчатского краба последняя пара грудных конечностей недоразвита и подогнута под края головогрудного щита. Головогрудный щит сердцевидной формы суживается к переднему концу и сверху покрыт многочисленными щитами. Брюшко подогнуто под головогрудь. Снизу оно покрыто многочисленными щитками, расположенными продольными рядами. Окраска панциря сверху розовато-коричневого цвета. У крупных самцов ширина головогруди достигает 25 сантиметров, размах ног – 1,5 метра, вес – 7 килограммов. Самки значительно меньше одновозрастных самцов. В большом количестве камчатские крабы обитают в Японском и Охотском морях, а также в южной части Берингова моря. Особенно же много их у западного побережья Камчатского полуострова.
Самки крабов после спаривания откладывают на свои брюшные ножки от 20 до 30 тысяч икринок. Однако такая обильная плодовитость связана с огромной гибелью (до 96,5% личинок на плавающей стадии, до оседания их на дно).
В гористых местах Камчатского полуострова, особенно в восточной его части, высятся более 20 действующих и до 100 потухших вулканов. Между прочим, многие из так называемых «спящих», или потухших, вулканов довольно часто дают о себе знать то подземным гулом, то извержением лавы – они все еще живы и дышат и грозятся своей мощью.
Самый высокий вулкан на Камчатке – Ключевская сопка (высота ее 4850 метров). Над его оснеженной округлой вершиной вечно клубится дым, и сквозь его черноту сверкает огненный фонтан расплавленной лавы. Он взвивается на большую высоту, и по ночам яркий огонь видно даже за сотни километров.
Другая река, уже в Гижигинском уезде, – Таватами, впадающая в Гижигинскую губу, замечательна тем, что близ нее находятся горячие ключи. В них мне привелось купаться в феврале 1909 года. Поблизости от этих ключей живут тунгусы. Многие из них, больные, купаются в Таватамских ключах, а в весеннее время туда ездят купаться гижигинцы.
Кроме того, здесь больные пьют целебные воды. При мне на Таватамских ключах было примитивное устройство: вода стекала в деревянную загородку, где стояла одна оцинкованная ванна, а другая деревянная. Здесь лечились и приезжающие больные, а тунгусы купались даже и на морозе.
Вообще на Камчатке в связи с широким распространением вулканической почвы находится значительное количество горячих минеральных ключей. Одни ключи и горячие озера находятся вблизи селений, а другие бывают доступны только зимой случайным охотникам на пушного зверя. Температура ключей неравная и колеблется от плюс 25 до 45 и даже 81 градуса по Цельсию.
В 35 верстах от Петропавловска-Камчатского существуют горячие Паратунские ключи. Анализ воды этих ключей показал наличие серно-известковых и сернонатровых солей. Больные купаются здесь во всякое время года и при всякой температуре воздуха. Дело в том, что постоянный теплый и горячий пар над ключами не дает охлаждаться головам тех, кто пользуется ими в зимний период. Так что при исключительно тяжелых условиях жизни на Камчатке, где в годы моего пребывания подчас совершенно не было медицинской помощи, Сам Господь, как бы сострадая больным, дает своими горячими минеральными источниками помощь и облегчение.
На Паратунских горячих ключах в начале нынешнего века над самым озером возвышался небольшой храм во имя Живоносного Источника Божией Матери. Престол здесь праздновался в пятницу на Пасху. Постоянного священника при этом храме не было.
Вскоре после моего прибытия на Камчатку, в пятницу на Святую Пасху, я служил в этом храме литургию, затем освятил Паратунские целебные ключи и водрузил возле них крест, а в дальнейшем предполагал устроить здесь общедоступную лечебницу – Дом Милосердия.
Подобных ключей на Камчатке много. К сожалению, в те далекие годы все они были запущены, заброшены и никто из царских чиновников не заботился о том, чтобы создать там курорты и лечебницы для несчастных обитателей Камчатки, подлинных пасынков тогдашней России.
Мне неоднократно приходилось весной и даже среди суровой зимы, морозов и пурги купаться в этих целебных ключах, под открытым небом. И всегда я получал облегчение от мучительного камчатского ревматизма.
Климат на полуострове Камчатка суровее климата средних губерний европейской России, расположенных с ними на одной широте, вследствие морского холодного течения и долгого таяния льдов, целые горы которого наносит из Ледовитого океана в Берингово и Охотское моря. На суровый климат полуострова влияет также морской ветер, наносящий в изобилии зимой снег, а летом дождь. По гористому восточному берегу Камчатки, а равно и в г. Петропавловске, климат гораздо мягче сравнительно с открытым западным берегом. Береговые полосы, открытые для ветров и подверженные морским туманам, бедны растительностью, каковая имеется в виде прижатых к земле трав и кустарников, ольхи, ивы, березы, таволги и кедровникового стланца. Под долинам гор и вдоль реки Камчатки раскинулся богатый строевой мачтовый лес – лиственница, береза и ель, а также здесь встречается обилие и разнообразие кустарниковой растительности: ивы, таволги, шиповника, черемухи, малины, жимолости и смородины. Пышная и сочная луговая трава здесь достигает человеческого роста. В летнее время камчатские луга представляют собой роскошный яркий разноцветный ковер из всевозможных оттенков зеленых трав и полевых цветов.
Проникая далее в глубь полуострова, мы наблюдаем постепенную перемену декорации природы. За роскошными лесами и пышными лугами тянется однообразная серая тундра, переходящая в мокрую, непроходимую, дикую, пустынную, поросшую однообразным тростником, мхами, лишаями и северной ягодой – морошкой, брусникой, княженикой и голубицей.
В летнее время всю красоту природы девственной Камчатской страны омрачают громадные тучи комаров и мошкары, от которых неимоверно страдают не только люди, но и животные. Случается, что мошкара совершенно заедает оленей и собак, плотно заполняя ноздри и уши этих животных, верных друзей человека.
Камчатская тундра изобилует мышами, о которых небезынтересно сказать несколько слов.
Мыши как в тундре, так и возле горных увалов, устраивают себе особого рода «хижины», которые сами же тщательно устилают травой и даже разделяют на отдельные «комнаты», или «амбары», в которые кладут для себя запасы продуктов на зиму. В подобных мышиных амбарах можно встретить различные коренья, саранчу, кедровый орех и др., причем в одних амбарах коренья складываются в очищенном виде, а в иных – сбрасываются беспорядочно и небрежно, очевидно наскоро. Это значит – кто-то помешал – человек или звери.
Но когда я увидел, как люди с разной посудой и с банками безжалостно бросились к мышиным складам и, отбрасывая рыхлую землю с поверхности этих складов, вычерпывали банками все запасы орехов, ягод и кореньев, мне стало жалко обиженных мышей, потерявших весь свой зимний запас питания.
Камчатская мышь, появившись в жилом помещении, ничего там не портит и не грызет, но зато и тут во всех возможных уголках устраивает себе амбары. Так, например, когда я жил на берегу Берингова моря в бухте барона Корфа, окруженный царством полевых мышей, то летом и осенью ежедневно по утрам, вставая с постели, находил в карманах своего платья склады всевозможной провизии, как-то: горох, крупу, сухари и т. п., а в сапогах – склады мелкого картофеля, который мыши вытаскивали в продолжение ночи с моего же огорода.
Ночью мыши, наполняя во множестве мою комнату, часто забирались ко мне на постель или даже сваливались на меня с потолка. Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, я на ночь забирался в особо сшитый мною мешок и на голову надевал подобие намордника – специально обтянутый тюлем шлем, защищавший мое лицо от прикосновения мышей.
Камчатская тундровая мышь совершает ежегодно перекочевку с одного места на другое, причем кочуют одновременно все мыши в не поддающемся учету количестве и делают переходы на расстояние нескольких сот и тысяч километров. Например, уходят с побережья Берингова моря на Охотское и обратно. Идут по строго определенному направлению, переплывая попутные реки, озера и морские заливы, конечно, с громадными трудностями и большими потерями.
Переплыв водное пространство, мыши отдыхают, обсушиваются на солнышке и потом снова продолжают свое странствование.
Население с восторгом приветствует появление мышей в определенной местности, так как это служит добрым предвестником сухого лета и обильного промысла пушного зверя.
Мне лично приходилось наблюдать, как мыши несметным количеством по особому их мышиному чутью мириадами перекочевывали с одного побережья Великого океана на другое побережье Охотского моря через перешеек Камчатского полуострова, преодолевая горы, овраги, реки, бухты с огромными потерями.
Во время моего путешествия на собаках по снежному пути я увидел, как мыши совершали переход. Сколько видит глаз до горизонта, все это пространство было покрыто поверх снега серой сплошной массой кочующих мышей. Собаки мои не могли скользить по мышам, так что пришлось мне и каюрам идти на лыжах, чтобы проложить путь нашим ездовым собакам.
Во главе каждого уезда стоял уездный начальник. Обычно (правда, к счастью, не всегда) это был человек огрубевший и зазнавшийся, часто горький пьяница, самодур и взяточник.
Мне, скромному пастырю, бесполезно было рассчитывать на их сочувствие и содействие в стремлении облегчить тяжкую участь местного населения. При моих попытках в этом направлении они лениво и беспечно отмахивались от меня, заявляя:
– Чего вы хотите? В России в каждом городе, в каждом селе своя «Камчатка». Зачем вам понадобилось добровольно забираться сюда, к нам?
Я терпеливо выслушивал подобные высказывания этих черствых, властолюбивых и обленившихся в тупой дреме чиновников.
– Поймите, – говорил я им в таких случаях, – никакие невзгоды и трудности не остановят меня, не ослабят творческо-просветительской деятельности и энергии. Я не преследую личных целей и стремлюсь к благу и пользе общественной, к благополучию местных народностей. И свидетельствую с честью, что совесть моя чиста и ничем не запятнана по отношению ко всему населению Камчатской области, знавшему меня и постоянно доныне живущему в моем маленьком сердце неугасимой любовью к этим дорогим мне детям природы и моим духовным детям.
В те далекие годы реакции, усилившейся после революционных событий 1905 года, творческие силы окраинных народностей были скованы косностью бюрократов-чиновников как в столице империи, так и на местах. Одному, без поддержки и участливого отношения со стороны начальства мне приходилось отдавать всего себя, все свои юные силы на благо народа и любимой Родины.
Большинство жителей Камчатской области, особенно туземцы, не знали ничего о Христе, о Его человеколюбивом учении, но я помнил слова Спасителя:
«Идите и научите все языки и крестите их во имя Божие» (Мф.28:19).12
Но одного крещения было недостаточно – оно должно было сопровождаться пастырским учением, разъяснением основ веры Христовой. Камчатским людям, истинным детям природы, были присущи многие добрые качества, и мне приходилось не столько учить их, сколько оберегать и спасать от злых и корыстных пришельцев, проникавших к туземцам из «культурных стран» и пользовавшихся доверием и простотой камчатских аборигенов, обманным путем, под личиной друзей обиравших их.
Труд камчатских народностей в силу суровых условий края и их жизнь в особом нелегком занятии: зимняя охота на пушного зверя, морские промыслы – все это являлось для них и пропитанием семьи и верных их друзей, ездовых собак и оленей, и предметом торговли с приезжими хищниками-иностранцами в обмен на крайне примитивные продукты обихода и охотничьи предметы.
* * *
Если верой не согрето
Сердце бедное в груди,
То туманом жизнь одета.
...Нет и цели впереди...
Приходилось мне в 1907 году встречать толпы голодных туземцев. Тяжело было видеть их сухие, бледные, изможденные лица. Невозможно описать их голодные припадки, и жаль, что некому прийти на помощь этим одиноким безответным страдальцам.
Дорогие! Сейчас невольно нам припоминается картина под заглавием «На Шипке все спокойно».13 Да, там спокойно... Там спокойно в свое время замерзал русский солдат. Тихо стоя на месте, кротко принимал Богом ему ниспосланную судьбу – он стоял и тихо замерзал.
Вы чувствуете всю тяжесть его положения?
Так вот, почувствовав весь ужас на Шипке, обратите внимание, что на Камчатке так же тихо, так же беспомощно в страшных снегах и морозах и в не менее страшных болезнях и мучениях погибали целых два-три племени.
Но солдат православный на Шипке все-таки имел утешение – он знал Христа, он знал, что там, где-то далеко, есть люди, которые его любят что по крайней мере о нем хотя бы поплачут.
Это для него было во всяком случае своеобразное утешение. А туземцы камчатские не знали любви, не были утешены ничьей лаской. Они только боялись. Боялись своих злых духов, боялись природы, холода, голода, мороза, боялись всякого начальства. В этой смене всяких страхов проходила их несчастная жизнь.
Я осознал тогда, что мне надо не только проповедовать Евангелие, но и прививать среди отсталых народностей Камчатского полуострова навыки общечеловеческой жизни. Однако без помощи общественности в том числе и материальной, в замышляемой мною строительной и просветительной работе все предпринимаемые мною мероприятия носили случайный, эпизодический характер. Вот почему я и не оставлял мысли о поездке в тогдашнюю столицу Российской Империи – Петербург. Там, по моему замыслу, надлежало рассказать сановникам и всем имущим власть и деньги о бедствиях камчатских народностей, об их темноте и нищете.
Действительно, условия жизни туземных народностей Камчатки, являвшихся пасынками своей матери России, в мои годы были чрезвычайно печальны. До слез было обидно за этих людей. В Центральной России ими никто не интересовался, да и местная администрация относилась пренебрежительно, не проявляя заботы о них. В силу изолированности этого далекого края уездные начальники, возглавлявшие разделенную на уезды Камчатскую область, являлись ни в чем не ограниченными самодурами. В большинстве своем эти грубые держиморды, расхитители и взяточники оправдывали слова народной мудрости, являя в своем лице «царя и Бога».
Конечно, в этом «темном царстве», где заправилами были самодуры, огрубевшие в невежестве, я наблюдал отдельных просвещенных, культурных деятелей, к числу каковых отношу С. М. Леха, Сокольникова и Диденко.
В 1909 году на Камчатке было учреждено губернаторство. Но на деле оказалось, что «хрен редьки не слаще». Облеченные огромной властью на местах, губернаторы здесь, на российских задворках, в еще более резкой, чем подчиненные им теперь уездные начальники, форме проявляли свое самоуправство и дикий деспотизм. К тому же местное население оставалось бы в своей чистоте свободным от многих пороков, если бы их не прививали им пришлые люди, нахлынувшие на Камчатку.
Со стороны же туземных народностей существовало полное доверие ко всем пришлым людям. Но они трепетали от страха перед уездными начальниками и губернатором, особенно когда им приходилось соприкасаться с ними непосредственно и слышать их полицейскую манеру разговаривать с подвластными людьми посредством окриков, запугиваний и брани.
Для наглядности приведу такой случай, имевший место со мной.
Всю долгую зиму я по обыкновению проводил в поездках по Камчатскому полуострову. И вот как-то в марте я возвращался на собаках домой, в бухту барона Корфа.
В пути вследствие сильной простуды я заболел. Температура у меня поднялась до 39,5°, и я, лежа в повозке, стонал, особенно при сотрясении нарты на ухабах и раскатах. Но спутники, честные эвены, при виде моих страданий решили в простоте душевной, что я помру в дороге, не доехав домой. Заболел я действительно всерьез, а до дома оставалось еще свыше трехсот верст пути.
Когда мы доехали до холма апапеля, мои спутники сделали остановку. Они поднялись на холм, на котором ощущали присутствие духа их предков – старика, жившего близ моря и повелевавшего морем и ветрами, и принялись умилостивлять «злое божество» оленьим мясом, табаком и т. п. Опасаясь за себя, они просили злого духа, чтобы я согласился выполнить их просьбу. После жертвоприношения они подошли к моей нарте, посмотрели пристально и с сожалением на меня, покачали головами от безнадежности моего состояния здоровья, и один из них, старый эвен, сказал:
– Иннаклек майнгу попе (друг, батюшка большой). Ты пиши записку, что ты сам помер, а то нам худо будет. Мы приедем домой, ты молчать будешь.
Я, конечно, изумился их словам, но они пояснили:
– Ты себя не видишь, а мы тебя видим. Ты скоро помрешь, живой домой не доедешь. Тебе от болезни плохо, очень плохо... Пиши, пожалуйста, сейчас записку, что ты сам помер, а то мы потом привезем тебя мертвым, и ты будешь молчать, а начальник сердитый... Он нам не поверит, если мы скажем, что ты сам помер! Скажет, однако, что мы тебя убили. Пиши, пожалуйста, друг, записку, что ты сам помер!
С этими словами все мои спутники-эвены упали на колени и убедительно стали просить писать нелепую по содержанию записку о том, что я «сам помер». С трудом удалось мне убедить этих милых простых людей в том, что я не умру, а живым доберусь в бухту Корфа – простуда пройдет, и все будет хорошо; при этом просил их не делать частых привалов для чаепития, что они и исполнили. Только после того, как мне удалось убедить их в этом, мы тронулись в дальнейший путь.
Господь Бог помог мне, и я благополучно добрался до дома. Упоминая о болезни и страхе миролюбивых туземцев в Камчатской области перед неограниченной властью и самодурством уездных начальников и приставов, я понял, почему их называли «царь и Бог».
Однажды в глухом селении Гижига, где я жил в первые годы моего пребывания на Камчатке, я приглашен был начальником Гижигинского уезда на разбираемое им судебное дело.
Войдя в кабинет начальника, я увидел стоящее блестящее «зерцало» – трехгранное, с золотым орлом сверху и с тремя указами Петра I. В кресле сидел один начальник в специальном судебном одеянии.
Друг против друга сидели две женщины камчадалки: подсудимая – жена помощника начальника уезда и потерпевшая – ее домработница, подавшая в суд. Я и другие посторонние слушатели сидели в стороне.
Судья ушел и вошел обратно, сказав громко:
– Суд идет! (Он и суд и судья.)
Мы все встали и по команде его сели. Суд начался. Судья спросил жалобицу, прося коротко и ясно объяснить жалобу и нанесенную ей обиду.
Камчадалка в многословных излияниях рассказывала судье, как она была нанята «начальницей» мыть у нее в квартире пол и исполнять прочую работу и чистку, показывая всякие свои действия наглядно.
Она плакала от нанесенной ей обиды и заявила:
– Она меня не только облаяла, но и отшлепала (побила).
Потом судья задал вопрос подсудимой, и та в сердцах наговорила много злобного и лишнего. Началась женская перебранка. Еле-еле судья-начальник остановил их, дело подходило уже к драке. Судья поспешил читать приговор и попросил всех встать. «Виновная в нанесении оскорбления действием за нарушение тишины и порядка оштрафована на три рубля».
Жалобица удивилась малой сумме и протянула руку за деньгами. Но судья пояснил ей, что эти деньги не для жалобицы, а в казну. Тогда жалобица заявила в гневе:
– Ах, вот еще как! Дак я теперь наработаю три целковых, принесу тебе, судья-начальник, эти деньги, а ее отшлепаю, как хочу.
Довольно этого одного примера судебного дела. Вот каковы люди, которые населяли огромную прекрасную область, далеко закинутую на край света, но зато богато награжденную Богом.
Обычно свои поездки к корякам и чукчам, тунгусам я совершал на нартах, запряженных собаками (от 12 до 20), или на оленях. Устройство камчатской нарты таково, что едущий в ней находится, как в гробу, в лежачем положении, а каюр-возница сидит в ногах пассажира и управляет собаками, привязанными к длинному ремню. Если собаки завидят какого-либо зверя, то несутся во всю силу. Каюр в таких случаях не может с ними справиться, и нарта часто опрокидывается, возница и седок скатываются в снег, а собаки уносятся в снежную мглу.
Таковы трудности и опасности зимних дорог, но не лучше и летняя, когда можно ездить только верхом на лошади по узким тропинкам, переплывая вброд бесчисленные реки и речонки, завязая в болотах, объезжая озера. Неважные дороги осенняя и весенняя, когда по рыхлому снегу трудно бежать собачкам и приходится на лыжах идти впереди саней. Но всего хуже дорога по морскому льду. Мне часто приходилось переезжать Пенжинскую губу – залив в северной части Охотского моря. Лед на этой губе, застывший гигантскими морскими глыбами, представляет беспорядочную кучу огромных тор, утесов, острых скал, ущелий и опасных страшных трещин. Кроме того, благодаря приливам и отливам, внешний вид бухты постоянно меняется. Мне же приходилось по этой бухте проезжать и днем и ночью. Сани то взбирались наверх, то опускались вниз, ежеминутно попадая в ту или иную из многочисленных трещин.
Вот каковы путешествия на Камчатке.
Как радуется зато сердце путника, когда, истомленный страхом гибели в беспредельной снежной пустыне или среди страшных морских льдов, завидит он вдали острожек или стойбище, где живут туземцы. Из юрт поднимается красноватый от пламени дым. Люди, собаки, олени копошатся возле юрт. Уютным и приветливым кажется уставшему путнику отдых у костра; даже собаки, завидя жилище, мгновенно ободряются и, весело завывая, стремительно бегут к уютному ночлегу. Убогое жилище туземца кажется путнику верхом комфорта и удобства, хотя для человека избалованного оно представляется собранием всяких неудобств и лишений. Грязные, большей частью с нарывами и язвами люди, тут же собаки, щенки, дым и копоть от костра, смрад, грязь – вот что наполняет юрту туземца.
Сталкиваясь в своей пастырской деятельности с тунгусами, коряками, чукчами и другими народностями, населяющими Камчатскую область, я убедился в их доброте, душевной простоте, правдивости, доверчивости и искренности прививаемого им религиозного чувства.
Когда я приезжал в их населенные пункты, они устилали мой путь ковром из кедровых веток, подстилали мне под ноги свои меха, а иногда даже брали меня на руки и несли весьма бережно с приветствием: «Христос Воскресе!» Они радостно и умиленно воспринимали богослужение и молитвы на своем родном языке и с трогательным усердием молились. К каждому моему прибытию тунгусы расширяли свою юрту так, что в ней помещались для молитвы несколько сот человек. В моей кочевой пастырской деятельности приходилось в зимнюю стужу совершать богослужения в облачении из оленьего меха.14 Посреди юрты горел дымный костер, дававший некоторое тепло. Туземцы при этом ласково повторяли:
– Ты наш добрый гость и отец!
Здесь мне предстояло совершить венчание двадцати пар желающих вступить в церковный брак, так как среди коренного населения крещеных тунгусов богослужения приходилось совершать редко, ибо от одного моего приезда до другого проходило значительное время. Многие подолгу оставались невенчаными, даже некрещеными.
Надо сказать, что тунгусы (и женщины и мужчины) по внешности похожи друг на друга: они носили одинаковое меховое платье, состоящее из штанов и курток. Как у мужчин, так и у женщин были длинные волосы, а у мужчин на лице, как и у женщин, не было никакой растительности. Во всяком случае, при тусклом свете костра мне они казались совершенно одинаковыми.
Начав совершение обряда венчания, я попросил тунгусов стать попарно: жених и невеста. Над головами венчающихся держали за неимением венцов бумажную иконку в одной руке, а в другой – горящую свечу. И вот случайно по чьей-то неосторожности на одном из венчающихся загорелась одежда. Произошло смятение. В суете, в стремлении погасить огонь я не мог понять, кто жених, а кто невеста, и поэтому попросил тунгусов, чтобы они сами встали попарно.
По окончании богослужения и выполнении всех треб тунгусы разбирали юрту и помогали мне в изготовлении и установке деревянного креста, освящавшего место нашего молитвенного общения.
Заслуживает быть отмеченным довольно оригинальный и трудный способ определения возраста тунгусов, которые тогда не были знакомы с исчислением времени. Они не знали ни дня, ни месяца своего рождения или смерти родственников. Для привития этого навыка мне приходилось наводить их на воспоминание какого-либо выдающегося события в их жизни, близкого к их детству, как-то: голод, наводнение, смерть близких людей, смена начальника уезда и т. п. А затем самому путем догадок приходилось приблизительно определять возраст.
Я приходил в восторг от примитивного, но своеобразного тунгусского календаря. Он состоял из небольшой дощечки с ручкой в виде лопатки. В этой дощечке просверлено двенадцать рядов маленьких отверстий, причем в каждом ряду столько, сколько в данном месяце дней. Большие религиозные праздники, которые тунгусы знали и почитали, отмечались особым значком – кружком или крестиком. В текущее число вставлялся деревянный гвоздик, ежедневно переставляемый. Православные тунгусы знали на память святцы и безошибочно показывали в календаре праздники и дни тех святых, имена коих они носили, принимая христианство. Называли же они их просто, уменьшительно, как друг друга и близких людей: Пронька, Илька, Улька, Санька.
Удивительны внимание и почтение к памяти умерших у тунгусов. Они редко видели священника, и, когда мне приходилось, например, приезжать к ним в кочевье, тунгусы просили совершать отпевание всех родственников, похороненных вблизи стойбища или погибших далеко в тундре.
Положив на столик передо мной взятые с места погребения маленькие камушки, они говорили при этом имена своих умерших, а после совершения отпевания «омолитвенные» камушки тунгусы брали с собой, чтобы положить на могиле умерших, которых отпевали.
* * *
На Камчатке позабытой
Трещит мороз сердитый,
Из туч валят снега
И воет злобная пурга.
Вл. И. Семенов
Нередко буйный снежный буран преграждал путь моего следования. И тогда приходилось мерзнуть и голодать затерянному в безлюдной пустыне при снежном урагане и буквально смотреть смерти в глаза; поэтому для преодоления расстояния в 700–800 верст затрачивалось несколько недель.
Я горел желанием научить местных жителей грамоте, привить им общепринятые навыки: умываться, соблюдать в юрте чистоту и особенно беречь детей. Местные жители, не знавшие разврата и сквернословия, особенно заслуживали участливого отношения и заботы. Однако, повторяю, все это мне одному было не по силам. Тогдашнее общество пришлых людей на Камчатке – всякого рода темных дельцов, скупщиков пушнины и местных чиновников – было мне чуждо, отталкивало своей черствостью и эгоистичным безучастием.
Для того чтобы изучить жизнь вверенной мне паствы, получше ознакомиться с самыми отдаленными уголками Камчатской области, я переезжал с места на место по стойбищам, посещая юрты, стараясь сколько возможно приносить пользу населению.
За проезд на собаках или оленях (на лошадях там тогда не ездили) мне приходилось платить с версты и подводы по 6 копеек установленной платы. А мне случалось в зимний период проезжать по пять-шесть тысяч верст. Получал же я в те далекие времена сорок рублей в месяц. Замечу кстати, что подвод при каждом переезде необходимо было брать от четырех до пяти. Это количество определялось потребностью (одна – для одежды, одна – для пищи людям и корма для собак, одна – служебная, одна – для походной аптеки и, наконец, моя нарта).
В описываемые мною годы (начало XX века) Камчатская область не имела телеграфной связи. Почта зимой шла на Иркутск, Якутск, Охотск, Гижигу и Петропавловск, чем в полтора раза увеличивалось и без того огромное расстояние от государственного центра. Пароходы Общества прапорщиков в течение лета успевали сделать только один рейс; на корреспонденцию, отправленную в одном году, ответ можно было получить лишь в следующем.
Я тяжело переживал лишения только потому, что рядом с собой видел обогащающихся за счет простоты и наивной доверчивости туземцев; тогда сюда для наживы и эксплуатации местного населения проникали грабители всех наций. Сюда, помимо русских, приезжали татары, евреи, кавказцы, а также иностранные «хищники», в том числе американцы.
Японцы для своих грабительских наездов имели сотни морских пароходов и шхун. Они буквально наводняли побережье Охотского моря и Тихого океана. Хищнически захваченной здесь рыбой питалась вся Япония. Не считаясь с интересами Русского государства (не говоря уже об интересах местного населения), японцы заграждали устья рек и вылавливали несметное количество рыбы, стремящейся к верховьям рек на нерест. На своих огромных пароходах и паровых шхунах беспрепятственно прибывали к берегам Камчатки американские торговцы – например, Свенсон и Стивенс.
Пользуясь младенческой доверчивостью и простотой жителей Камчатской области, американцы за ничтожное вознаграждение (в виде простых побрякушек), но чаще всего за «огненную воду» отбирали у несчастных камчадалов плоды целого года промысловых трудов – разнообразную пушнину, преимущественно соболя, лисицу, выдру, шкуру черного и белого медведя, белки, горностая, волка, бобра и другие меха. А главное, они безжалостно развращали и спаивали несчастных обитателей Камчатской области, приучая их к алкоголю. Закабаление происходило обычно таким путем: иностранцы нагло заявляли туземцам о том, что уплата пушниной была «недостаточной», которую оценивали не хозяева, а сами покупатели, а потому за «окончательным» расчетом заокеанские «просвещенные» жулики являлись спустя год. Так продолжалось десятки лет. Алчность американских торгашей была безгранична. Когда они на зимний период покидали Камчатку, там оставались их агенты, которые ездили по факториям, продолжая на протяжении круглого года грабить местное население.
Это позорное, безобразное хозяйничанье хищников, в том числе и иностранных, им удавалось легко, потому что было бесконтрольно и безнаказанно.
При мне происходили, например, такие эпизоды.
Как-то зимой я приехал на собаках в одно из корякских стойбищ. Смотрю – в дневное время все мужское население спит в юрте мертвецким сном. Оказывается, все они пьяны. Спросил хозяйку:
– Что у вас за праздник?
Хозяйка с сияющим видом рассказала мне о том, что они, обитатели этой юрты, самые счастливые в стойбище люди. Из ее сбивчивых объяснений я понял, что к ним приезжал купец, который «по дружбе» дал им... несколько иголок для шитья! «Это, – говорит, – такое счастье только для вас. Ведь юрта (фабрика) на «земном шаре» сгорела. Был пожар, и хозяин умер!» И вот за несколько копеек (действительная стоимость иголок) ловкий купец по фамилии Неутоин забрал всю пушнину: соболей, медвежьи шкуры, чернобурых лисиц, белок, выдру. А они еще благодарили его за «доброту»!
Но представьте себе, как велико было изумление хозяйки юрты, когда я безвозмездно отдал им все имевшиеся при мне иголки и пояснил при этом, как жестоко их обманул и ограбил Неутоин.

Торговля чукчей с американцами. Нач. XX в.
Чтобы уверить население стойбища, живущее в юртах, я подарил для всех обитателей через хозяйку целую горсть иголок, чем окончательно убедил в хищничестве Неутоина, называвшего себя их другом и благодетелем.
Разве это не дело пастыря-миссионера – объяснить все доверчивым людям, открыть им глаза на смысл и значение истинной бескорыстной дружбы и спасти людей от ложного пути на будущее при взаимоотношениях их с меновщиками, торговцами, хищниками и паразитами, бессовестными грабителями трудолюбивых охотников, тяжелым трудом добывающих себе насущный, самый необходимый в их скромном обиходе, самый дешевый, простой материал, обесцениваемый кулаками-торговцами.
Я думаю, что не только обитатели этой злосчастной юрты, так жестоко ограбленные хищником, являлись жертвой. Я открыл им глаза на давно укоренившуюся эксплуатацию туземцев скупщиками-хищниками. Они никогда не забудут этого сами и могут спасти многих своих земляков, оседлых и кочевых туземцев, от того печального бедствия, которое пережили.
Чувство благодарности хозяйки юрты, которой я объяснил, что за «друг» их ограбил, было велико. А ее муж впоследствии разыскал меня в юртах, где я посещал кочевников коряков, и в благодарность от своей семьи привез мне шкуру медведя, от которой я отказался, а чтобы он не обиделся на меня за отказ принять благодарственный подарок, я убедил его, что обязательно снова приеду к ним в юрту, чтобы посидеть на этой медвежине и преподать дальнейшие уроки жизни, в коих они не сведущи, чтобы не было впредь ущерба их трудовому промыслу и упадка их несложного домашнего хозяйства.
Таковые посещения я ввел после этого случая в личное обязательство ради помощи населению, хотя и малой. Зато для хищников торговцев я был недругом, и они избегали встречи со мной в корякских и тунгусских юртах, но неизменно осведомлялись, был ли у них «Майнгу поп Нестор» и что говорил.
Еще беспощаднее действовали американцы. Они спаивали охотников, жителей Камчатки, дешевым одеколоном, виски и спиртом, от которого люди теряли зрение. Однажды в селении Ямск на Охотском побережье двое туземцев так напились одеколона, что тут же, возле опустошенной ими посуды, уснули. Наутро один из них проснулся и принялся кричать, призывая к себе приятеля:
– Иди ко мне, а то я тебя не вижу! Смотрю и ничего не вижу!..
Он усердно, недоумевая, тер глаза, но тщетно: несчастный неизлечимо ослеп, а приятель не откликнулся на его зов, потому что был мертв.
6. Врачебно-медицинское обслуживание
В здоровом теле – здоровый дух.
Мне крест ниспослан Богом,
Отметил Бог меня перстом,
К страдающим в болезнях и тревогах.
Навстречу им иду с крестом.
Хоть крест мой тяжел,
Но мне он по силам,
Кем же я окружен,
Крест их страданий для них не по силам.
К Тебе, Господь, в нужде и в несчастье
Я смело, как сын, прихожу
И в Твоем бесконечном участье
Терпенье и силы для всех нахожу.
В подобном плачевном состоянии был в Камчатской области и весь врачебно-медицинский вопрос.
Страдальцы туземцы, предоставленные самим себе, варварски врачевали сами себе раны. Лишаи лечили тертым табаком, или порохом, или прошивали вокруг лишая женским волосом, натертым предварительно углем; при каменной болезни пили толченое стекло; больные глаза лечили нагаром курительной трубки – никотином. В бельмо на глазу втирали толченый сахар, растертое серебро или березовый деготь. В больное ухо вливали настой табака, а глухому из уха вытягивали влагу вставленной подожженной бумажной трубочкой. Ожоги намазывали кровью из отрубленного собачьего хвоста и т. д.
В 1908 году, когда еще не было учреждено на Камчатке губернаторство, прибыл на пароходе владивостокский губернатор Флуг. Знакомясь с заброшенным диким краем, губернатор заинтересовался одним из серьезных вопросов в области – медицинским.
В то время на Камчатке долгие годы был один доктор – Тюшов. Отвыкший от условий культурной жизни, он не имел связи с Россией в продолжение зимы восемь-девять месяцев, привык к лечению домашними и знахарскими способами и средствами.
Губернатор Флуг спросил у доктора Тюшова:
– Есть ли в Петропавловске больница и медикаменты? Доктор ответил:
– Есть, – и вынул из кармана коробочку, в которой лежало несколько порошков и маленький пузырек с йодом, а в бумажке – рулончик бинта. – Вот и вся наша больница и аптека.
Губернатор весьма удивился и приказал принести для доктора набор походной аптеки. Сам доктор смутился от приглашения губернатора сесть и сел после троекратного приглашения на край стула, отказавшись сесть нормально и тем соблюдая свой этикет.
Когда этот доктор ушел в отставку, то со своей женой-камчадалкой выехал с Камчатки на жительство в Иркутск. Он остановился временно в гостинице, ожидая, что по его письму приедут за ним родственники. Слуга гостиницы пригласил доктора в телефонную будку, так как, очевидно, кто-то из родных или знакомых спросил о приезде с Камчатки доктора Тюшова. Слуга передал трубку доктору и предложил ему разговаривать с вызвавшим его к телефону. Доктор обиделся на слугу, что он завел его в маленькую будку и издевается над ним, заставляя говорить со стеной. Как ни объяснял слуга, что это телефон и говорить должно именно в трубку, Тюшов, не понимая и не зная еще телефона, продолжал обижаться и требовал, чтобы к нему вышел тот, кто его хочет видеть. Наконец, сам слуга начал говорить с кем-то по телефону и объяснил, что доктор приехал с дикой Камчатки, где нет телефонов, и думает, что над ним издеваются, заставляя разговаривать со стеной. Таких курьезов в действительности еще дикой Камчатки можно было встретить немало.
Иногда бывает то, чего никогда не бывает. Невольно мне пришлось быть врачом, своеобразно спасшим человека от смерти в дикой пустыне на берегу Великого океана.
Как-то глубокой ночью я сидел в своей землянке. На берегу океана жутко бушевала снежная буря. Неожиданно ко мне постучали два камчадала, я с великим трудом открыл им дверь, и они принялись настойчиво просить меня немедленно идти с ними, чтобы спасти человека от смерти. Я предложил взять лекарства, они сказали, что не надо; Святые Дары тоже не велели брать. Я был в недоумении, а они меня все торопили и убеждали, что я спасу. Оказалось – я все свое ношу с собой.
Наконец я уступил их просьбе, и мы пошли. Снег лепил глаза, мы проваливались в сугробы и с трудом передвигались, глубоко ныряя в сугробы; заподозрить их в злом умысле я не мог, так как это им несвойственно.
Достигнув юрты, где лежал больной, без памяти, с лицом багрового цвета, они убедительно просили меня направить струю своей мочи ему в рот. Я возмутился, принялся кричать на них, что они издеваются над священнослужителем, позвав в такую непогоду, да еще в ночное время. Но они начали креститься и говорить, успокаивая меня, что далеки от этого. Спасти может только молодой, а они старики. Пытались, но безуспешно.
Все же я исполнил их требование, дикий для моего понимания способ лечения, но испытанный ими в подобных случаях. У больного вскоре изо рта пошла пена, он пришел в сознание, и таким образом была неожиданно для меня его жизнь спасена. Это было в тяжелой форме отравление спиртом или одеколоном. И если бы я не подчинился их требованию, то, не придя в сознание, отравленный алкоголем умер бы. Впоследствии они все трое благодарили меня и просили простить за беспокойство.
Все страдания, связанные с тяготами при проникновении в глубь Камчатки, я переносил стойко, утешая себя молитвой и верой в то, что Господь Бог даст силу для того, чтобы преодолеть встретившиеся на моем пути трудности. Я видел воочию плоды своей пастырской деятельности.
Так, например, в одной из подземных юрт, где жили эвены, я при виде изнывающих от чесотки грязных детишек попросил мать разрешить мне вымыть и вылечить двух ее мальчиков в возрасте от шести до восьми лет. Несчастная мать, не понимая значения моей заботы, воспротивилась этому и, оберегая своих детей от чего-то чуждого, неведомого, отказала мне в просьбе. Ведь ее мальчики по тогдашнему обыкновению никогда не мылись.
Я долго убеждал ее согласиться с моими доводами о значении чистоты для здоровья, обещал излечить детей, чьи расчесанные тела были покрыты гнойной коростой. Видя непонимание матери и ее упорство, я сделал другой подход. Этой полудикой эвенке я предложил:
– Давай-ка я помою менее любимого из твоих сыновей!
Она наконец согласилась и указала на старшего.
Тогда я согрел на костре воду, приготовил простыни, мыло, полотенце, бинты и мазь. При виде всего этого младший мальчик бросился защищать своего брата от мытья и лечения. Он царапал меня, что-то кричал, а мать сердито ворчала, недоверчиво и боязливо глядя на меня. Путем ласковых уговоров я успокоил малыша, а старшенького мальчика принялся мыть теплой водой. Ему это вскоре, по-видимому, понравилось, но больше всего его занимала мыльная пена.
Спустя десять дней, на протяжении которых я настойчиво мыл и, перевязывая его болячки, лечил несчастного ребенка, этот мальчуган преобразился. Он стал выглядеть замечательно: чистый, без струпьев и ран, довольный и веселый. Мать пришла в неописуемый восторг. Она радовалась, смеялась, благодарила меня, а главное, принялась убедительно просить меня сделать таким же белым и здоровым ее любимца – младшего сына. Да и сам мальчик уже не царапал, не бранил меня.
Сначала я сделал вид, что не согласен выполнить ее просьбу. Но потом «смилостивился» и обещал заняться младшим при условии, если мать станет помогать мне в этом и будет учиться, как надо следить за чистотой и здоровьем своих детей после моего отъезда. Наделил я эту юрту щедро перевязочным материалом, мазью, мылом и детским бельем. Следует заметить, что все туземцы (взрослые и дети) надевали на голое тело бессменную меховую одежду.
Когда я закончил лечение братьев и собирался покидать юрту, чтобы ехать в другие стойбища, мать, обращаясь к моим проводникам-каюрам, сказала:
– Расскажите во всех юртах, что когда приедет инаклек (друг, приятель) Нестор, то его не надо бояться и ему можно давать детей «чистить водой», как он моих «вычистил». Только пусть сало (мыло), которым он мазал моих мальчиков, не едят, оно невкусное. Я сама съела кусок, после чего у меня еще и теперь болит живот.
И мне всюду, куда я ни приезжал, приходилось в числе прочих забот объяснять назначение мыла. Мне, имевшему о всех туземцах Камчатской области пастырско-отеческое попечение, волей-неволей приходилось быть врачом не только душ, но и телес. И, когда после выполнения лежащих на мне, как на пастыре, обязанностей я уезжал дальше в глубь Камчатской области, местные жители со скорбью провожали меня. Они просили не оставлять, не забывать их медпомощью (хотя и весьма скудной, так как я не мог всех снабдить различными лекарствами и мазями из своей походной аптечки, привезенной из России).
В те годы в Камчатской области из-за отсутствия ветеринарии часто болели и гибли друзья и помощники туземцев – ездовые собаки, а также олени. Серьезной борьбы с эпизоотией не существовало. Только с 1910 года в городе Петропавловске появился ветеринарный инспектор, он же и единственный врач на всю огромную область.
Население также страдало от разнообразных заболеваний. В частности, корь, считающаяся у нас детской болезнью, там поражала только взрослое население. При этом смертность от кори была невероятно большая.
В первые годы моего пребывания на этой отдаленной российской окраине эпидемия кори охватила почти все уезды Камчатской области. Тогда здесь врачей не было, кроме населенного пункта Гижигинска, где имелся доктор, но и он бездействовал, испугавшись необычного в его медицинской практике явления – массового заболевания и смертности взрослых от детской болезни. Его растерянность доходила до того, что он не являлся на вызовы к больным, а требовал, чтобы они подходили к закрытому окну их жилищ, и сквозь оконные стекла выкрикивал «медицинские советы». В большинстве же случаев он безнадежно махал руками, когда видел, что отчаявшийся получить медицинскую помощь больной уходил.
Во время упомянутой мной эпидемии кори в жалкой, холодной юрте, в острожке, ютилась семья туземцев, которая довольствовалась самой скромной для них счастливой судьбой, мирной трудолюбивой жизнью, а малые дети и подростки были утешением и отрадой для своих родителей, но безжалостная болезнь разорила и разрушила это гнездо. Сначала умер в беспомощном состоянии отец семьи, а за ним последовали двое детей-подростков; в полубессознательном состоянии на полу юрты лежала умирающая мать, а между нею и трупом отца сидел холодный и голодный малютка, бессознательно теребя отцовскую одежду. Зловещий ветер жалобно стонал за стеной юрты и своим завыванием напоминал погребальный плач – единственное похоронное пение над безвестными телами. Костер уже давно догорел; собирая топливо, умерла старшая дочь, умерла, наконец, и мать, а счастливое в своем детском неведении, замерзающее от холода дитя тянуло мать за омертвевшую руку, ползало по материнской груди и лепетало сквозь слезы о холоде и своих страданиях. Ответа не было, и не много прошло времени, пока и этот истощенный плачущий ребенок не замолк навеки. Спаслась только девочка-подросток, которую приняли добросердечные соседи и которая рассказала мне печальную повесть о своей семье.
Так погибла в безвестности никому не нужная, никому не ведомая камчатская семья и множество таких семей. Никто не знает о них, никому не нужна жизнь бедного обитателя суровой пустыни. Если покойник был крещен, его запишут в число умерших, помолятся за него, а если он был язычник, то разве только сожгут его труп на костре и буйный ветер разметет по мертвой пустыне остатки пепла.
Мною было замечено, что от постоянного употребления в пищу вяленой рыбы-юколы, просушиваемой на открытом воздухе, а потому в период вяления усеянной мухами, тучами комаров и мошкары, откладывающих в юколе яички, возникают среди жителей желудочные заболевания. Туземцы страдали от глистов, причем страдания их носили чрезвычайно тяжелый характер. Заболевшие худели, постоянно жаловались на боль в боку и в «нутре» (в животе). Вследствие заболевания желудка и кишечника камчадалы становились необычайно нервными, иногда припадочными, и начинали «имяречить». Спешу объяснить это своеобразное слово. Хронически страдающие нервным «имяречением» камчадалы от испуга принимались кричать то, что у них на уме, не помня себя, или при неожиданном испуге в тот момент, когда кто-либо заставит, могли буквально все исполнить безотчетно, что им громко прикажут, повторяя в испуге любое приказание. В момент болезненного испуга одержимые «имяречкой» становились безропотными. Они могли в таких случаях выполнить все, что бы им ни приказали. По окончании же припадка, придя в себя, эти робкие по натуре люди начинали стыдливо плакать и извиняться перед окружающими за то, что поступили неладно, сами не зная, что сделали.
Болезнь, называемая на местном наречии «имяречением», получила свое название, как мне разъяснили, от двух слов: «имя» и «рек» («произносит слово»). Подобное заболевание не было известно тогда никому из медицинских работников, и проявлений его я нигде на земном шаре не наблюдал.
Как ни странно, но появление «имяречки» бывает не только трагическое, но и порой трагикомическое. Например, в селении Марково Анадырского уезда местный священник-камчадал, а с ним и все население встретили меня по обыкновению весьма радушно, с уважением к моему духовному сану. После краткого богослужения в церкви я перешел в квартиру батюшки-настоятеля. Все население направилось за нами во главе с начальником уезда Диденко (о котором, между прочим, упоминает писатель Тихон Семушкин в своей книге «Алитет уходит в горы»). Диденко за его простоту и приветливость в обращении с камчадалами (в отличие от других чиновников) ласково называли «дядей Володей». Подходившую ко мне паству я благословлял; рядом со мной стояли – с правой стороны маленького роста, с благодушным лицом Диденко, а слева – высокий, суровый на вид священник о. Агафапод Шипицын. И вот для того чтобы наглядно продемонстрировать передо мной проявления припадка болезни «имяречка», дядя Володя легонько толкнул одну из старушек, подходившую в числе верующих прихожан ко мне, и негромно, но властно сказал: «Бей его»!
Совершенно неожиданно эта смиренная женщина, впав в невменяемое состояние, принялась бить меня своими кулачонками со словами: «Бей его! Бей его! Бей его!» Это странное болезненное состояние сменилось пробуждением так же внезапно, как и возникло. С просветленным лицом старушка убежала, повторяя часто: «Что я наделала! Что я наделала!»
На другой день после этого случая я захотел увидеть несчастную старушку, страдающую «имяречкой». Мне сказали, что она все время плачет и скорбит по поводу происшедшего с нею при подходе под благословение Владыки припадка «имяречения».
Придя ко мне, старушка принялась умолять:
– Прости меня, старую дуру. Я все это с испуга наговорила и поколотила тебя вчера. Дядя Володя меня испугал.
Тогда во мне возникло желание проверить болезненное состояние старушки. Я топнул ногой и громко спросил ее:
– Что, добивать меня пришла?
Старушка опять стала невменяемой. Она набросилась на меня с кулачками, повторяя исступленно:
– Добивать! Добивать! Добивать!
С трудом удалось мне успокоить больную. Придя в себя, она рассказала:
– Я не знаю откуда, когда пришло это несчастье в нашу семью, но «имяречкой» болеем и я, и мой муж.
Из дальнейшего, несколько бессвязного ее воспоминания мне стало ясно, что болезнь состоит в нервном испуге. Достаточно внезапного потрясения, и одержимые «имяречением» начинают делать и говорить непроизвольно то, что им прикажут. Припадок продолжается недолго, после чего больные мгновенно приходят в себя. Причины возникновения «имяречки» трудно определить, но предполагают, что заболевают ею жители Камчатки на почве недостаточного и скверного питания преимущественно юколой, которую, как я уже говорил, вялят под открытым небом с весны до осени. На нее садится во множестве и откладывает яички всевозможная тля.
В Ключевском селении я посетил священника о. М. Е., у которого были жена и дети. В момент моего прихода матушка сидела в комнате и держала на руках младшего ребенка – двухлетную дочь. У меня невольно вырвалось громкое восклицание:
– Какая славная Ниночка!
А кто-то из присутствующих камчадалок сказал:
– Ниночка, пококетничай!
В этот момент ее отец, неся на стол стопу тарелок, запнувшись, уронил их, и они с грохотом разбились, что вызвало у местных женщин испуг. И в то время, как несмышленая малютка по-детски склонила головку и приподняла рубашонку, все находившиеся в комнате женщины-камчадалки начали непроизвольно повторять все Ниночкины жесты, выкрикивая:
– Ниночка, пококетничай! Ниночка, пококетничай!
Все начали так же кокетничать и неожиданно подняли подолы, как ребенок свою рубашонку.
Наблюдал я еще и такой случай.
Группа камчадалов и камчадалок была занята тереблением пера набитых охотниками уток. Во время этой работы шла мирная, тихая беседа. Неожиданно к ним подошел один из охотников. Он поставил к стене дома винтовку, и она, упав, выстрелила. От внезапного резкого звука все занятые работой по тереблению птицы впали в невменяемо-болезненное состояние «имяречения». Они принялись что-то выкрикивать, в исступлении бросая друг в друга перья и пух. Смятение и шум, поднятые камчадалами, встревожили собак, лежавших неподалеку. Они в смятении бросились таскать битую птицу, чем еще усилили «имяречение» людей. Поднялся дикий крик, форменный бунт и битва с собаками и между людьми, бросавшимися птичьим пухом. И только охотник смог всех успокоить.
Одна «имяречащая» женщина вздумала убить палкой суслика и стала сторожить у норы; когда суслик вылезал из норы, поднимаясь на задние лапы и мотая головой, больная так же мотала головой и, несмотря на все усилия, не смогла сделать ни одного движения, чтобы убить суслика.
Однажды в церкви во время богослужения церковный сторож неожиданно запнулся за подсвечник и повалил его. Подсвечник упал и покатился по наклонному полу. Большинство молящихся в церкви туземцев были «имяречащие». Они в испуге почти поголовно также упали на пол и покатились, подражая движению подсвечника и приговаривая:
– Катится! Катится! Катится!
Несколько женщин сидели и чистили диких уток, а собаки, бегая кругом, подбирали утиные потроха и грызлись. Несчастные больные должны были бросить работу, так как и они, подражая собакам, невольно начинали грызться между собой.
Однажды ко мне пришла женщина, а я в это время умывался и властно приказал ей:
– Умывайся скорее!
Она мгновенно схватила мыло, намылила лицо, платок на голове и начала умываться.
Наконец, приведу еще один пример.
По глубокому снегу на лыжах шла камчадалка. В пути она встретила мальчика-лыжника. Их лыжи столкнулись. От возникшего в пустынной тишине резкого звука женщина впала в невменяемое состояние. Она схватила упавшего мальчика за голову, сорвала с него малахай и принялась исступленно грызть его покрытую паршой голову. Только то, что припадок быстро миновал, избавило мальчика от терзаний.
Однажды к берегам Камчатки прибыло военное морское судно «Якут». Находившийся на его борту врач, знавший о существовании здесь болезни «имяречения», решил проверить случаи, вызывающие возникновение припадков. Он задумал весьма опасный опыт, приняв, правда, предохранительные меры.
Он усадил в две-три лодки камчадалов и камчадалок, не страдавших «имяречением». Среди них поместил женщину, больную «имяречкой» с грудным ребенком. Сам же сел рядом с нею, а сидящим на других лодках приказал строго следить за той лодкой, в которую усадил женщину с ребенком. Решено было переправиться на противоположный берег. Как только лодки отчалили от берега, доктор громко крикнул:
– Брось в воду ребенка!
Вздрогнув от неожиданности и испуга, мать начала выкрикивать эту фразу с противоречием:
– Брось в воду! Нет, не брошу!
Был миг, когда она сделала попытку швырнуть в воду ребенка, но, очевидно, материнское чувство оказалось настолько глубоким, что взяло верх над болезнью. Она судорожно прижала его к груди, и вслед за этим наступило просветление.
По мнению судового врача, это был единственный, исключительный случай, когда здравый смысл, материнский инстинкт одержали верх над болезненной одержимостью.
Постепенно я привык к случаям проявления «имяречения». Но в 1907 году, когда я, еще молодой иеромонах, оказался в непривычной для меня суровой обстановке камчатского быта, меня поразил вот какой случай.
В Гижигинске в ночь под Рождество я совершал праздничную заутреню и Божественную литургию. Когда по ходу богослужения было провозглашено многолетие, по старинному русскому обычаю в церковной ограде выстрелили в этот момент из старой пушки. Храм был наполнен молящимися, на клиросе пел хор ребятишек под управлением регента. Выстрел так всех напугал, что в церкви поднялся невероятный шум и гам. Раздались нелепые выкрики и непроизвольный хохот. «Имяречащие» кричали то, о чем думали в момент выстрела. Один из певчих в испуге что-то исступленно крикнул и засмеялся. Тогда все хористы вместо пения «Многая лета» громко расхохотались. Еще не будучи знаком со случаями проявления «имяречения», я принял этот безобразный хохот и шум в храме за проявление кощунства, а потому с чувством глубокого огорчения и возмущения ушел, расстроенный, в свою комнату.
На другой день прихожане объяснили мне причину шума и смеха во время богослужения. Таково было мое первое знакомство с проявлением болезненного припадка «имяречения».
Эта болезнь, постоянная, хроническая, в общем невинная, но очень неприятная и распространенная, глубоко загадочная, присущая только Камчатке, не поддается никакому лечению, и борьба с ней бесполезна. Об этой неприятной как для окружающих, так и для одержимых нервной болезни, в начале нынешнего века Н. П. Сокольниковым (начальником Командорских островов) была написана книга. В отличие от большинства тогдашних захолустных администраторов Сокольников был человеком весьма культурным, с университетским образованием. На протяжении нескольких лет он долго и вдумчиво изучал причины возникновения «имяречения», формы ее проявления, но средств к излечению болезни тогда не было. Н. П. Сокольников – гуманный и просвещенный русский администратор на Камчатке, представлявший в то время собой исключительное явление, – погиб 1 сентября 1923 года в г. Иокогаме (Япония) во время знаменитого землетрясения, разрушившего Токио, Иокогаму и много других городов.
В Камчатской области мне пришлось узнать из рассказов камчадалов и камчадалок в различных селениях, особенно на западном берегу Охотского моря, а также тунгусского населения о существовании болезни, которую называли одним словом – «надобность». Расшифровка этого своеобразного слова разъясняет смысл этой болезни. «Надобностью», как мне объяснили, болеют только женщины или незадолго перед рождением ребенка, или после родов. Но болезнь эта весьма редкая и малораспространенная. Женщина, болеющая надобностью, в нервном припадочном состоянии настойчиво требует у кого-либо из родственников удовлетворить ее каприз – доставить ей какой-либо предмет или часть одежды (головной платок, кофту и т. п.), уверяя, что она на расстоянии видит, что в таком-то селе или городе (допустим, в Охотске) в сундуке или в ящике лежит, к примеру, шелковый розовый головной платок или шаль. Но ни обитатели этого дома, ни сама местность и дом женщине не знакомы, так как она никогда там не бывала. Однако больная уверена, что ясно видит то, что просит ей привезти, хотя бы это было за сотни и даже тысячи верст. Кто-то из родных должен поехать, допустим, из селения Малки или Начики в Охотск или другую местность и там выпросить у кого-то или купить «надобную вещь», иначе больная не успокоится и, пока не выполнят ее требования, будет подвергаться припадкам.
* * *
Аминь глаголю вам, понеже сотвористе единому сих братии Моих менших, Мне сотвористе.
В 1916 году я, будучи епископом, отправился на собаках в глубь Камчатской области и доехал до селения Гональское. По неоднократным прошлым посещениям оно запомнилось мне как многолюдное. Теперь же, въезжая в село, я обратил внимание на то, что собаки из моей упряжи против обыкновения не принялись радостно выть, почуяв жилье. Впрочем, некоторые неуверенно взвыли, но встречного ответа от гональских собак не последовало.
Меня поразила мертвая тишина в селении. Во всех избушках окна были заколочены, а на кладбище я обнаружил много новых могильных крестов. Только один человек – сельский староста – вышел мне навстречу. Видя мое недоумение по поводу безлюдья в селении староста объяснил:
– Черная оспа здесь. В жилищах покойников штабелями складывают, могилы не успеваем рыть. А теперь, кроме меня, некому, но и я не могу, да и земля глубоко промерзла. В живых осталось всего восемь человек, я девятый, но на ногах я один. Остальные лежат .
Мы вошли в одну избушку. На полу вповалку на соломе лежали умирающие – все восемь человек. Особенно тяжелое впечатление производили мечущиеся в агонии роженица и умирающая рядом с ней повивальная бабка, желавшая тем не менее помочь в страшных, трагических родах. Тела и лица больных были покрыты черными кровавыми гнойниками.
Некоторые из больных узнали меня. Они радостно восклицали:
– Владыка дорогой, как мы рады, что дождались тебя! Мы люди верующие, причасти нас скорее, и тогда мы спокойно умрем.
И было так чудесно-страшно, когда свет Христовой радости осенил ужасные черные лица умирающих, для которых смерть в присутствии священника и при его молитвенном напутствии являлась желанным избавлением от мучений. Трудно передать их искреннюю, непосредственную радость духовную, когда они причастились Святых Таин.
Расстроганный, я молитвенно напутствовал их уход в жизнь Вечную, оставив этот мертвый дом.
Продолжая свой путь в глубь Камчатки, я и в других селениях наблюдал такую же жуткую картину мертвого запустения. А мне необходимо было узнать поселение, не захваченное еще эпидемией, близко от которого я мог бы установить карантинный пункт со строжайшим запретом дальнейшего проезда.
Проезжая вдоль побережья Тихого океана, я узнал причину внезапной вспышки этого тяжелого заболевания. На западном берегу Охотского моря на одном из японских рыбзаводов заболел черной оспой и умер японец. Рыбопромышленники втиснули труп в пустую бочку, забили ее и поставили вместе с бочками, наполненными рыбой. Это и послужило причиной быстрого распространения эпидемии черной оспы по всей Камчатке. Вскоре эпидемия перекинулась на восточное побережье океана.
Когда я приехал в Ключевское, то узнал наконец, что последнее селение, в котором есть еще больные черной оспой, – это Еловка. От нее дальше простирается снежная пустыня, ставшая естественным препятствием для дальнейшего распространения страшной болезни. Здесь, в Еловке, и был устроен карантин.
7. В глуши Камчатской
О, вера христианская, святая,
Как много утешенья ты даешь!
Земную жизнь ты озаряешь светом Рая
И от земли нас к небесам ведешь.
Селение Ключевское – старинное. Оно расположено в живописной местности. Высокий, с оснеженной округлой вершиной вулкан постоянно выбрасывает огненный фонтан, озаряющий небо, и зарево видно далеко окрест, на 200–300 километров. По склонам Ключевской сопки неуловимым для глаза движением сползает пылающими ручьями лава.
В январе 1917 года в мое пребывание в селе Ключевском неожиданно дрогнула земля, закачались строения и сами собой зазвонили в местном храме колокола.
Подземный грохот продолжался, почва под ногами сотрясалась. Дым и пламя слились воедино, и небо затянулось черной зловещей пеленой. В селении началась паника. Люди в страхе бегали по улицам, не зная, куда укрыться от грозной стихии. Ездовые собаки сорвались с привязи и с воем разбежались. В избах, где лежали умершие от черной оспы, землетрясение разбрасывало их от стены к стене. Это усугубило ужасы эпидемии.
Обезумевшие от страха люди пытались уйти подальше от смертоносной огнедышащей горы. Я увидел растерявшуюся женщину с группой малых детей и схватил двоих ее ребят, помог им уйти подальше от места катастрофы.
На близлежащей реке от землетрясения местами поломался лед, и вода фонтаном взвилась вверх. Много людей, искренне верующих в Бога, спешили к церкви. Однако здание ее покосилось, войти внутрь храма было невозможно. Тогда на паперти под непрекращающийся гул землетрясения в зареве от извержения вулкана я отслужил молебен об избавлении от грозного бедствия.
По окончании этой грозной катастрофы я узнал, что землетрясение прошло полосой в 400 километров, достигнув отдаленных Командорских островов, где также были разрушения и человеческие жертвы. Особенно страшно оно потому, что колебания почвы были волнообразными, т. е. самыми разрушительными.
В один из моих объездов Камчатской области на собаках я попал в отдаленное от населенных пунктов место. Суровая северная пустыня поразила меня своим безлюдьем. И вдруг везущие меня собаки неожиданно опрометью бросились в сторону через непроезжий густой кустарник, так что мой каюр не успел (да и не смог бы) удержать собак. Обычно в таких случаях предполагается, что собаки учуяли какого-либо зверя и бросились за ним вдогонку. Но в данном случае это предположение не оправдалось.
Промчав с моей нартой через кустарник, собаки притащили нас к одинокому низенькому срубу-избушке. На пронзительный вой наших собак из сруба вышел молодой камчадал. Вслед за ним выбежала молодая женщина. От них я узнал, что мы въехали в запрещенное место, так как здесь живет прокаженный. Он-то меня и встретил.
При виде их испуга за меня и моих спутников я спросил, обращаясь к мужчине, изуродованному лепрой, и указывая на женщину:
– А это кто?
– Это моя жена, – ответил прокаженный. – Но она вполне здорова.
Узнав с моих слов о том, что я епископ, оба они принялись просить меня зайти к ним в избушку и окрестить недавно родившегося у них ребенка.
Я вошел в избушку, состоявшую всего из одной комнаты. Этот сруб и скудную обстановку они соорудили своими силами. В самодельной люльке, подвешенной к низенькому потолку, безмятежно спал малютка мальчик. В углу на полочке я заметил бумажную икону и огарок восковой свечи. Я обратил внимание на то, что правая сторона лица и тела мужчины были изъязвлены гнойниками от бугорчатой проказы. В избушке было гнойное зловоние.
Супруги засуетились. Для крещения младенца они согрели воду. Затем женщина достала из ящика, стоявшего в углу, деревянную чашу-купель. При этом она объяснила, что еще до рождения ребенка сама выдолбила из пня чашу-купель в надежде, что когда-нибудь ей удастся тайком позвать в опасную для всех зону батюшку из Ключевского селения для крещения их ребенка.
Я окрестил младенца и по просьбе родителей, покумившись с ними, остался на целый день их гостем. Мои каюры, управлявшие собаками, оставались вдали от кустарника, ожидая меня у костра, где они устроили себе обед.
За чаепитием я узнал, что молодой человек неожиданно заболел проказой и его тотчас же изгнали из селения, как заразного неизлечимой лепрой. На мой вопрос о том, как же его жена, совершенно здоровая, оказалась с ним здесь, в пустыне изгнания, она просто, без рисовки и совершенно искренне ответила:
– Ведь я его законная жена. Мне жалко его, моего друга и спутника жизни. Я добровольно навсегда пришла с ним в эту безлюдную местность. Я помогаю ему в домашней работе и хожу за ним. А теперь вот у нас радость – есть сыночек крещеный! Никуда я от них, моих дорогих, не уйду!
Ребенок, как я убедился, был совершенно здоров. Питалась эта трогательно дружная семья невольных пустынножителей рыбой из речной протоки, ягодами и саранными кореньями. Я навсегда сохранил в сердце своем память об этих замечательных людях, особенно облик маленькой худенькой женщины с большим любвеобильным сердцем.
Меня сильно поразили сооруженные ими деревянные нары – общее супружеское ложе, где вместе с заживо разлагающимся прокаженным спала его здоровая жена.
Какова дальнейшая участь моих неожиданных пустынных кумовьев, я не знаю.
Все виденное в тогдашней Камчатской области не удивляло, а ужасало меня. Подумать только: в первом десятилетии нынешнего просвещенного века, каких-нибудь 50 лет назад, на всю огромную Камчатскую область был всего лишь один врач. И только с учреждением губернаторства в городе Петропавловске с 1910 года появились врачебный инспектор и один врач. В то же время появился огромный отряд жандармерии, но – увы! – это явилось вместо пользы негодным балансом.
У туземного населения не было ни одной школы, не было и ни одного грамотного туземца. Эти темные люди не имели никакого представления о школе, об учебе, а в первые годы моего пребывания на Камчатке, когда я что-либо читал по книге или писал на бумаге, они смотрели на меня с удивлением и перешептывались, по-видимому считая меня ненормальным.
Я считал величайшим преступлением отсутствие школы и твердо решил с учреждением задуманного мною Камчатского братства на братские пожертвования открыть ряд школ для детей оседлых туземцев, а для детей кочующих народов устроить дом с интернатом и школой.
Обрусевшее население Камчатского полуострова было все же счастливее туземных народностей, так как на Камчатке уже были школы. В Петропавловске было высшее и начальное училище, а также мною организованное второклассное училище. В нескольких больших селениях существовали церковноприходские школы. Для неграмотных туземцев – коряков и чукчей – я открыл первую школу грамоты.
Напрасно я пытался в доступной для примитивного их понимания форме разъяснить, что такое школа и для чего в ней надо учиться. Не помогали и привезенные мною прекрасные наглядные пособия и красочные плакаты. Слова «школа», «грамота», «учение» были для них отвлеченными, непонятными звуками – и только.
Тогда я решил пригласить некоторых родителей, свободных от охоты и домашних дел, наведываться в школу и присмотреться, как и чему обучаются их дети. Ничего в этом страшного, мол, нет. Происходило это в Иоасафовом селении (Тилечики), куда я привез прекрасные здания школы и приюта для жительства детей кочующих коряков и других народностей Камчатской области. Эти дома периодически строились во Владивостоке и в разобранном виде с русскими рабочими я переправлял их на пароходе Добровольного флота.
Когда школа была поставлена и открыта, кое-кто из родителей наконец согласились привести туда своих детей, а некоторые и сами пришли с ребятами на занятия. Они с удивлением смотрели, как их дети учились читать и писать; взрослых поражало, как это ребенок «смотрит на бумагу и произносит мудреные слова, затем чего-то на бумаге царапает и опять говорит вслух». Все это заставляло темную еще тогда массу населения просто и наивно, по-ребячески удивляться.
Наконец, прошел год обучения. Дети оказались способными и очень понятливыми. К началу нового учебного года эвены и чукчи привели значительно больше детей, чем в прошлом году, да и сами попросили разрешения учиться вместе со своими ребятами.
Так в Камчатской области полвека назад возникла первая школа для туземного населения на русском и корякском языках. Этим как бы подчеркивалась отличительная положительная черта русского человека: помогать малым, отсталым народностям приобщаться к культуре, познавать счастье знания. Огромной радостью для меня было то, что в конце концов и взрослые и дети поняли, что такое грамотность и какая от нее польза.
Вспоминаю еще некоторые интересные подробности из жизни камчатских туземцев. Населявшие необозримые просторы Северо-Востока нашей Родины камчатские народности не имели фамилий. Исключение составляли давно обрусевшие камчадалы и казаки – пришельцы с берегов Лены и из Якутска.
Тунгусы и орочены разделялись по родам (например, Долганский род, Уяганский род). А чукчи и эвены различались по юртам, присваивая себе имя ее старшего обитателя. Все это приводило к путанице. Вот почему во время одного из моих пребываний в Петербурге, где я разрешал ряд неотложных вопросов, мне дали право присваивать отдельным семьям из числа просвещаемых мною на Камчатке туземцев фамилии, составляя надлежащую о сем книгу записи населения.
Для того чтобы туземцам стало понятным значение фамилии, я давал их сообразно с характерными чертами главы семьи или по их способностям. Например, в школе учился эвен – староста всего своего острожка. Он отличался замечательными способностями, причем научился быстро, красиво и ровно писать. Ему я дал фамилию Писарев. И надо было видеть его радость, его гордое сознание отца, у которого дети и внуки и дальше из рода в род все будут Писаревы в память его умения красиво писать. А другой туземец, один из лучших охотников за медведями, получил фамилию Медведев.
Некоторым для памяти приходилось вырезывать фамилии на дощечках или кусочках кости, так как, если я делал отметку с указанием присвоенной фамилии на бумаге, они эту бумажку употребляли на курево.
В своих непрестанных разъездах по Камчатской области я с интересом наблюдал окружающих меня людей и природу. Весь Камчатский полуостров с Анадырским и Гижигинским округами, а также побережье Охотского моря населяли камчадалы-ительмены.
К началу XX века разговорная речь камчадалов утратила свою исконную национальную особенность. Смешиваясь с тамошними туземцами – юкагирами, коряками и главным образом с потомками якутских и камчатских казаков и переселенцами с реки Лены в XVIII и XIX веках, камчадалы растворились в них. Но они сохранили при этом свои самобытные национальные черты характера: добродушие, гостеприимство, трудолюбие. По наивности, простодушию они не могли противостоять наглости и жестокости тупых и алчных тогдашних чиновников и уездных начальников, насаждаемых царским правительством. Они поневоле попадали в кабалу к хищникам купцам, как отечественным, так и заморским, особенно американским и японским.
Местные жители – ительмены в основном говорили по-русски, за исключением селений Дранки и Караги, где русская разговорная речь еще не слилась с ительменской.
Коснусь попутно и внешности камчатского населения. Надо отдать справедливость – лица туземцев обоего пола довольно миловидны, приятны, встречаются даже красивые. К сожалению, из-за тяжелых бытовых и природных условий, а также под влиянием однообразной пресной пищи, состоящей в основном из вяленой рыбы, многие болели цингой. В 10-х годах нынешнего столетия борьба с цингой приносила положительные результаты, а за последние годы этот тяжелый недуг совершенно за очень редкими исключениями изжит.
Меня, тогда молодого иеромонаха, удивляло и угнетало то обстоятельство, что подавляющее большинство населения – как мужчины, так и женщины – курили табак, а также жевали привозимую американскими хищниками кулаками лемесину, или жвачный листовой табак.
Поразило меня еще и такое зрелище в одной из камчадальских семей: ребенок не более четырех лет от роду сосал материнскую грудь, а потом вскарабкался на колени к отцу, взял у него из рук и сунул себе в рот дымящуюся трубку. При этом он даже не поморщился. На мой вопрос по этому поводу отец ответил спокойно:
– Пусть привыкает. Все равно он будет курить, тем более что уже привык и даже не кашляет. Наоборот, малютка плачет, если у него отнимают трубку.
Но ни с чем не сравним поразительно жуткий тогдашний обычай сожжения умерших коряков-язычников.
В 10-х годах нынешнего века мне пришлось присутствовать при смерти, а затем при погребении корякского мальчика. Замечу, что наиболее тяжелое впечатление произвела на меня подготовка к сожжению трупа.
В юрту, где жил умерший, сходятся все сродники и знакомые. Они выражают соболезнование членам семьи, а затем умершего кладут на земляной пол и покрывают его большим шаманским бубном. Пока все не соберутся и не сошьют новую белую меховую посмертную одежду из шкуры белого оленя, никто не смеет лечь спать, даже если это продолжается три или более ночей. Но для того чтобы не было скучно и не дремалось, сродники садятся на землю вокруг умершего и на его трупе шаманском бубне непрерывно играют в карты. Кстати, карты этим полудиким людям привозили «цивилизованные» отечественные и зарубежные хищники, алчные скупщики пушнины.
Когда уже все готово к сожжению умершего, труп подымают нерпичьим ремнем из подземной юрты через дымовую трубу и везут на нарте или несут на костер. Вместе с умершим кладется все, что служило человеку при жизни: табак, сумочка с пищей, лыжи, лук, стрелы и т. д.
Костер раскладывается очень большой, и две женщины стоят по его краям до тех пор, пока пламя не коснется их одежды. Во время сожжения трупа собравшиеся вокруг пылающего костра завывают и кричат: «Атавхун», т. е. «счастливый путь». Такой посмертный обряд мне пришлось видеть впервые.
Коряки веруют в загробную жизнь и в достойное воздаяние за пережитые на земле невзгоды, за добро и зло. По их верованию, умерший отправляется на охоту за соболем и сгоняет лучшего соболя навстречу охотникам, своим сродникам. Если гремит гром, то коряки говорят, что это покойник бегает на лыжах за соболем. Вот как темен, дик и достоин сочувствия был угнетенный туземный народ.
Моей первейшей обязанностью православного священнослужителя было просвещать пребывающих во тьме обитателей Камчатской области. Признаюсь, тяжело, очень тяжело было мне, молодому и неопытному. Но, невзирая на трудности, я дал обет не покидать Камчатский край. Я прилагал все силы и знания для облегчения участи местных жителей. Я пытался разъяснять и внушать язычникам, корякам и чукчам, что они под влиянием шаманов, с верой в их умилостивительные жертвоприношения разоряют себя, убивая своих ездовых собак, коих вешают на кольях возле своих юрт. А ездовые собаки так же ценны, как для русского крестьянина рабочая лошадь.
В 1907 году, в первой половине августа, вследствие проливных дождей, от бурных горных потоков в Гижигинском уезде случилось большое наводнение, причинившее много бед и несчастий. Потоками воды были смыты все запасы рыбы, в том числе и корма для собак. Были снесены жилища и юрты тунгусов со всем домашним скарбом и меховой одеждой. Ко всему этому от селения Гижиги до границ Охотского моря был недоход рыбы, которая для коренного населения являлась основным питанием, заменяющим и хлеб, которого, кстати, тогда там не было.
Тунгусы, пострадавшие от наводнения и возникшего вследствие этого голода, не имели оленей, что лишало их возможности добывать пропитание.
Я был очевидцем их безвыходного бедственного положения. Меня охватывало отчаяние при мысли о том, что я ничем не могу помочь несчастным страдальцам. От связи с Центральной Россией я был отрезан по меньшей мере на год и не имел запаса продуктов для оказания срочной помощи пострадавшим от наводнения. В поисках выхода из создавшегося положения я написал письма Владыке Евсевию во Владивосток, епископу Андрею в Уфу, а также о. Иоанну Сергиеву в Кронштадт.
Мои послания достигли цели лишь через год. В ответ я получил ободряющие, воодушевляющие меня письма, а кроме того, денежную помощь и продуктовые посылки для распределения среди местного населения, пострадавшего от стихийного бедствия.
Особенно меня ободрило и утешило краткое, но вдохновенное письмо о. Иоанна Сергиева:
«Отец Нестор! Дерзай и уповай пред Лицем Пославшего тебя на апостольскую проповедь. Терпи, как апостолы, уповай на помощь Божию, утешай новую паству твою надеждой жизни Вечной. Переводом посылаю тебе 400 рублей на голодающих. Протоиерей Иоанн Сергиев».
При виде бедственного положения обитателей Камчатской области я с первых же шагов своей пастырской деятельности задумал облегчить тяжелую участь местного коренного населения. Но дальность расстояния от Европейской России, отсутствие телеграфного сообщения и регулярной прямой транспортной связи препятствовали скорому осуществлению моей мечты. Поэтому на первых порах мне приходилось довольствоваться воззваниями и письмами к родным и друзьям о сочувствии моему начинанию.
Памятуя о том, что «сила Божия в немощи совершается», я не впадал в уныние, а постепенно и обдуманно начал готовиться к далекому путешествию в Петербург. Я никогда там не был, и меня, скромного, захолустного иеромонаха, пугала чопорная чиновная, сановная столица, которую я представлял себе страшной и недоступной. Но с Божьей помощью все это было мною преодолено, о чем я расскажу в последующих главах «Моих воспоминаний».
Пока же мне пришлось еще много и долго потрудиться как пастырю среди жителей Камчатской области, не имея никакой поддержки и материальной помощи и даже совета ни от единичных работников – миссионеров Российской Церкви, ни от монастырей. Я твердо решил тогда организовать специальное Камчатское братство с установлением хотя бы скромного запасного денежного фонда для бесперебойной широкой работы по изменению и улучшению (по мере возможности) жизни туземцев, привитию им культурных навыков.
* * *
В священный час ночной
В книге звезд страницу за страницей
Читаю я о жизни мировой,
А мысль моя стремится вольной птицей,
Но предо мною все та же темнота.
Вдруг за таинственной звездой с востока
Так лучезарно засиял свет издалека –
То небо возвестило Рождение на земле Христа.
Неописуемая радость охватывала меня каждый раз, когда я с крестом и Евангелием входил в соприкосновение с язычником и, подобно садовнику, бросал слова истины в живую человеческую душу, когда видел, как под благодатным теплом и светом Христовым наливаются и зреют эти семена, как всходят первые всходы на Божией ниве. Радостно бывало у меня на сердце, когда темный, полудикий язычник, трепетавший перед всем в мире, во всем видевший только мрачные силы, вдруг, просветленный, открывал свои духовные очи и, озаренный светом Божией любви, постигал, что во Вселенной царит не злой, а добрый Бог – Бог любви, любящий Своих детей, Отец, Который любит и его, жалкого, забитого тунгуса, чукчу и коряка.
Однажды накануне праздника Рождества Христова я приехал в одну отдаленную юрту, где и заночевал. После длительной дружеской беседы за чаепитием уставшие обитатели юрты – коряки расположились на ночлег вокруг костра на полу. Костер потух. В яме стало уже совсем мрачно и холодно. Чтобы не замерзнуть, все обитатели юрты, сбросив меховую одежду, голые, забрались в общий меховой мешок-кукуль и спали. Мне же было отведено место для ночлега на земляном полу в другом конце юрты.
Помолившись, я лег в своей меховой одежде и хотел было забыться и заснуть, но не смог. Меня волновали глубокие переживания и исключительная обстановка той рождественской ночи. В юрте наступила тишина. Все уже спали, но через открытое отверстие дымового выхода доносились до меня своеобразные звуки этой малообитаемой местности. Слышались завывания нескольких десятков собак, лежавших снаружи возле юрты, порой раздавался гул наподобие отдаленного орудийного выстрела. Это разрывалась от сильного мороза земля.
«Какие это совсем особенные люди, – думал я о жителях этой северной пустыни. Какие лишения и страдания они переносят! Какая нечеловеческая обстановка их бытия, какая глубокая духовная тьма в этих нищих духом людях! Но ведь они родились здесь и не знали другой, лучшей и более культурной жизни, и для них мила эта жизнь, полная лишений и страданий».
Мне стало жутко и до боли тоскливо оставаться в холодном, мрачном подземелье в эту святую рождественскую ночь. Я – один христианин, затерявшийся здесь, в пустыне, среди диких, но добрых людей. Но они еще на знают Христа, не знают Его Рождества. Их дети не знали рождественской и новогодней радости, этого веселого праздника.
Чтобы не поддаться тоске и унынию, я вылез из юрты взглянуть на красоту звездного неба и всею грудью вдохнул свежий, чистый воздух.
А небо-то, небо! Какая красота!
Стояла морозная, сурово-угрюмая полярная ночь. Небо сияло лучисто мерцающими яркими звездами. Они напомнили мне трепетный свет лампад в храме. Я вспомнил далекое милое детство, теплые уютные комнаты родительского дома. Нарядная, сверкающая огнями свечей и блестящих игрушек, пахнущая хвоей и лесом елка, окруженная детьми, среди которых и я, радостный и счастливый в день Рождения Божественного Младенца.
И теперь в снежной камчатской пустыне я невольно снова по-детски искал в небе ту звезду, которая привела некогда волхвов к яслям родившегося Христа. Всем сердцем я молился, чтобы Господь Сам научил Своему святому учению тех детей природы, которые спали рядом со мной безмятежным сном.
И небо, как бы вняв моим мольбам, само неожиданно дало мне ответ, и я понял знак. Внезапно весь небосклон с северо-восточной стороны озарился необыкновенно радужным светом. Яркие лучи северного сияния заиграли многоцветьем в ночном небе. Казалось, что из этого величественного сияния вот-вот появятся хоры ангелов и повторится Вифлеемское славословие рождественской ночи.
Охваченный восторгом, я быстро спустился по бревну в юрту, разбудил всех ее обитателей, и мы, выбравшись наружу, стоя на снегу любовались красотой озаренного сиянием неба.
Перед нашим восторженным взором словно открылась во всем величии и славе Небесная Церковь. Этот незабываемый миг настолько воодушевил и очаровал меня, что я стал рассказывать стоявшим со мной под открытым небом туземцам неведомую им и дивную историю Рождества Христова. Я видел, что сон их ушел, появилось радостное, бодрое настроение.
Вернувшись в юрту, мы снова раздули костер и, озаренные его пламенем, за чаепитием вели беседу о Христе.
Светлые семена, брошенные в чистые простые сердца в такой исключительный момент, быстро взошли и дали хорошие плоды. Луч Божественной благодати, ниспосланный с неба, коснулся в подземной юрте душ этих чистых сердцем, несчастных в своем тогдашнем одичании людей и озарил их светом Христовой веры. Жители стойбища, познавшие через проповедь веру Христову, все крестились.
Разъезжая по всей Камчатской области, я все больше и больше убеждался в том, какое жалкое существование влачат оседлые и кочующие туземцы, населяющие эту отдаленную восточную окраину нашего обширного Отечества. По прошествии некоторого времени многие из них уже были мною просвещены светом евангельского учения, стали православными христианами.
Они охотно принимали христианство, ведь его учение соответствовало их поведению. Эти тогда полудикие люди, несмотря на суровые, подчас ужасающие условия жизни, отличались чрезвычайной честностью, добротой, совершенно детской наивностью, простотой и мягкостью характера. Когда мне приходилось появляться в их стойбище после долгого, трудного зимнего пути на собаках и оленях, то все они – как принявшие православие, так и язычники – встречали меня с величайшей радостью и по местным условиям чрезвычайно гостеприимно, угощая оленьим мясом, манялой (внутренности оленя) или медвежатиной, а оседлые туземцы, живущие по берегам океана или Охотского моря, угощали юколой и нерпой.
Разыскивая свою кочующую паству, занесенную снежными сугробами, мне приходилось, подчиняясь чутью собак, за отсутствием дорог ехать за тысячи верст на нартах под вой ездовых собак. Обычно все церковные требы для крещеных туземцев я поневоле совершал в тесной, грязной юрте.
С одной стороны, ужасны, но, с другой, стороны трогательны и умилительны воспоминания о тяжелой жизни этих простых, чистых сердцем детей суровой северной природы.
В подтверждение этих слов приведу небольшой очерк, озаглавленный мною
РАДОСТНАЯ ПАСХА
С наступлением Великого христианского праздника Пасхи так ясно и радостно снова и снова вспоминается и отображается в сердце трогательно-умилительное пасхальное богослужение на Камчатке в 1908 году, в незабываемом дорогом моем детище – изолированной в то время от мира колонии прокаженных. (Борьба с этой болезнью в последнее время приводит к ее ликвидации.) При мне же в начале нынешнего века в эту колонию были собраны больные проказой из различных глухих мест Камчатки, ютившиеся до этого в суровой пустыне, изгнанные из родных селений и юрт, как заразные.
Созданная при моем участии колония прокаженных состояла из трех уютных деревянных домов на морском берегу среди гор. В одном доме ютились женщины и дети, в другом – мужчины, а в третьем доме, стоявшем за изгородью, жила медицинская сестра А. М. Урусова. Эта женщина прибыла сюда добровольно, отозвавшись на наш призыв послужить неизлечимо больным страдальцам. Самоотверженное служение сестры, ее ласковая сердечная забота о несчастных и уход за ними значительно успокаивали больных, облегчая их страдания и не позволяя им впадать в угнетенное состояние духа, умело отвлекая их от намерения прервать жизнь самоубийством, рассеивая их мрачные думы, скрашивая их безотрадную жизнь. Словно ангел-хранитель, покрывающий их страдания лаской и любовью, была дорогая сестрица-мать, как нежно и совершенно справедливо называли больные свою сестру милосердия. Она обмывала раны и струпья прокаженных.
В колонию я приезжал периодически на собаках и привозил для ее насельников продукты питания и каждому, согласно возрасту и полу, различные материалы для работы и рукоделия, а также журналы, книги, игрушки и игры для детей.
В одной из комнат я устроил скромную церковь в честь святого праведного многострадального (прокаженного) Иова и совершал там богослужения, уделяя время для общения с людьми. Между нами установились близкие, дружеские отношения и взаимопонимание. За период моего полувекового священнослужения Православной Христовой Церкви мне приходилось встречать светлый праздник Пасхи и совершать пасхальное богослужение в самых неожиданных и разнообразных условиях.
Я возносил молитвы, прославляя Воскресшего Христа, в суровой камчатской пустыне, занесенной снежным бураном; в туземных юртах, куда проникнуть можно только через дымоход по столбу; на корабле в открытом море; на суровом берегу Великого океана; на передовых позициях в войну 1914–1915 годов; в лазарете; в дореволюционных тюрьмах; в монастыре; в Московском Кремле; в Константинополе; в Египте -Александрии; в Китае; в Японии.
Конечно, каждое мое пасхальное богослужение и общение с людьми при вышеупомянутых обстоятельствах оставили в моей душе неизгладимый след. Но особенно запомнилась пасхальная ночь в камчатской колонии прокаженных, где я с любовью оставил частицу своего сердца.
ПАСХА У ПРОКАЖЕННЫХ
На Камчатке, на краю Вселенной,
В могильной тьме земли забвенной,
Вдали от мира, в безмолвии, под ризою небесной,
Украшенные яркими звездами,
В глуши, в снегах меж морем и горами
Жили отверженные люди.
Вот с этими духовными детьми,
Страдающими телом и костьми
От злой, мучительной проказы,
Не видевших ни радостей,
Ни чьей давно уж ласки,
Господь судил мне с ними встретить Пасху.
Без храма, без колокольных звонов,
Без роскоши и без парчи нарядной,
Без громких шумных хоров
И без толпы парадной
В беленькой чистенькой хатке,
Убожеством и нищетой богатой,
Там прокаженные стояли с воэжженными свечами,
И Божий Дом молитвенный, украшенный цветами,
Сияющие взоры всех, исполненные умиленья, –
Все это возвещало о наступившем Дне Христова Воскресения.
В ризе скромной, под завесою алтарной,
С настроеньем лучезарным,
Со свечами и крестом
Я воспел песнь у престола –
Ту, что Ангелы на небе первые воспели,
Их молитвы в сердца наши долетели.
Гимн воскресный в грудь ударил прокаженным,
И они с натугой, гласом хриплым и болезнью изнуренным,
Но душою умиляясь, пели песнь Воскресного канона.
Позабыты миром, отлучены от света, эти люди –
Наши братья – Господа молили
О прощении своих грехов, о мире всего мира.
В первый раз им от рожденья
В день Великий, в День спасенья
Довелось быть за обедней в Пасху, во Христово Воскресенье.
И, влекомые Христовою любовью,
Исповедались и приобщились Его Тела, Его Крови.
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» –
От радости тогда они кричали.
«Воистину, воистину Христос Воскрес!» –
Им эхом волны моря, горы отвечали.
Но вот прошел тот день, настал разлуки нашей час,
И жаль мне расставаться с ними стало.
Но добрые воспоминанья навек остались у нас,
Хотя в духовном единении мы пробыли так мало.
А как отрадно было им со мной – судите сами! –
Когда они, колена преклонив, с поникшей головой
Молили Господа о ниспослании непогоды,
Чтобы не было дороги мне; меня ж молили со слезами:
«Родной ты наш отец! Еще, еще хоть день останься с нами!»
Да сердце ведь не камень!
Их слезы разогрели мне его опять,
И я остался с прокаженными друзьями,
Чтобы молитву и дружную беседу продолжать.

Село Паратунка. Нач. XX в.
* * *
Под действием сурового климата, в ужасной антигигиеничной обстановке, в тяжелой борьбе для добывания пропитания охотой жители Камчатской области в давние годы моего там пребывания постоянно подвергались всяким опасностям, которые их подстерегали и на море, где они охотились за нерпой, тюленем и рыбой, и на охоте в горах и лесах, где нападение диких зверей было не редкостью.
На плавающих льдинах всегда можно встретить массу белых медведей, за которыми, рискуя жизнью, охотятся чукчи, коряки и другие туземцы. Добыча эта является огромным богатством для промышляющих, но как американцы, так и другие пришлые скупщики звериных шкур, постоянно обижают этих скромных промысловиков; сами же грабители, понимая огромную стоимость этих мехов, несметно обогащаются, увозя в свои страны ценности и богатства российской Камчатской области.
Черные же и бурые медведи, живя зиму в берлогах в глубине тундр и лесов, обычно перед Благовещением идут целой вереницей к воде для ловли рыбы, которую достают лапой.
Однажды я поднимался на гору для водружения креста; близ тропинки, по которой я шел, лежал медведь. Увидев его, я, естественно, испугался, но меня успокоил камчадал, сказав, что зверь меня не тронет, потому что сыт.
В другой раз я был очевидцем ужасного случая. Проезжая ночью на собачьей нарте в одном из камчатских селений и завидя огонек, мы приблизились к жилищу. Войдя, я увидел фельдшера-чеха, который обрадовался моему приходу и обратился с просьбой о помощи. Я весьма рад был ему услужить и должен был держать керосиновую лампу над израненным камчадалом, ибо его жена, испуганная и дрожащая, спряталась в углу вместе с лампой. Я взял лампу и подошел к раненому, но вскоре попросил эту лампу у меня из рук взять, ибо и мне стало плохо.
Увидев обезображенное лицо охотника, ставшего жертвой нападения медведицы, у которой были медвежата, я перепугался. Матерински защищая своих детей, медведица по обыкновению бросилась на лицо человека и содрала кожу на черепе вместе с волосами от глаз до затылка; глаза были залиты кровью, а часть руки отгрызена до локтя. Затем я все-таки успокоился, и охотнику была оказана посильная медицинская помощь.
Как-то ночью, проезжая несколько верст по реке Болбачики к одноименному селению, собаки испугались какого-то зверя. Проехав немного, мы увидели перед собой блестящие в темноте, словно огни, волчьи глаза. Нас полукругом окружили волки. Я велел быстро зажечь факелы, и тогда волки разбежались. Мы были спасены.
* * *
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне.
А. С. Пушкин
Пересекая полуостров Камчатку и направляясь на материк, я часто проезжал путь, прилегающий к реке Анапка. Здесь постоянно бушуют снежные ураганы, угрожающие невероятной опасностью для путников, едущих на оленях или собаках по этой страшной местности. Причиной здешних непрерывных ураганов и бурь является самое узкое сквозное место между двух рек – Пустой и Анапкой, разделенных узким, как коридор, ущельем (местные жители называют их Щеки).
В 1911 году, в один из своих очередных проездов по злосчастной Анапке, я пересек это ущелье, но встретился там, как говорится, лицом к лицу со смертью. Неожиданно забушевавший буран снежной пеленой разделил пять наших оленьих подвод, растянувшихся на огромное расстояние. Мы потеряли друг друга из виду. Олени выбились из сил, падали от голода и невозможности преодолеть бушующую снежную пургу. Подвода с провизией затерялась где-то в снежной пустыне, и мне с моим спутником-каюром пришлось пятеро суток бороться со встречным ураганом, заносившим нас снегом. Таким образом, мы, забрасываемые снегом, оставаясь голодными, так как, кроме снега, нам нечем было питаться. К тому же морозы стояли настолько сильные, что руки и ноги коченели в мехах.
Мой возница, каюр-эвен, молодой парень, предложил начать поиски затерявшихся спутников и нарты с продуктами. К поясу каюра, по его совету, я привязал нерпичий ремень длиной около восьми саженей. Другой конец ремня я привязал к своей нарте. Возница с остолом (палкой) в руках принялся обходить по радиусу вокруг нарты, надеясь обнаружить отставшие подводы, в том числе и с продуктами. Он долго ходил вдали от нашей нарты, и я со страхом думал о том, что бедняга уже замерз в каком-нибудь сугробе. При одной этой мысли меня бросало в холодный пот. Я терял силу, пытался кричать, но мой голос тонул в бешеном вое снежного вихря. Тогда я принялся подтягивать к себе ремень, но сил у меня не хватало. Сознание одиночества в беспредельной снежной пустыне и предсмертный страх заставили меня читать самому себе отходные молитвы перед смертью, казавшейся неминуемой.
Первый признак смертельного окоченения проявился прежде всего в непреодолимой сонливости со сладостными сновидениями. Я видел себя в родном доме, в тепле, в семейном уюте и будто мама угощает меня чем-то вкусным. А когда путем непомерного напряжения силы воли я отгонял сон и просыпался, чувствуя, как колючий снег и морозный ветер обжигают лицо, предсмертный страх снова повергал меня в отчаяние и холодный пот леденил тело.
Наконец, когда я впал в окончательное изнеможение в жутком томлении предсмертного страха, каюр подтянул себя за ремень, приблизился к нашей нарте и, обессиленный, упал в снег.
Между тем уже на шестые сутки буран начал утихать, и выяснилось, что и наши олени, и олени наших спутников подохли от голода. Буран прекратился. Пришлось всем тащить на себе нарты. Когда мы выбрались из снеговых ям и посмотрели друг на друга, у каждого на лице отразился испуг. Самих себя мы не видели, но при взгляде на спутников сердце сжималось от боли. Испытав голод и нечеловеческие страдания, мы выглядели как выходцы из могил. Слезы струились у меня из глаз и ледяными каплями падали на меховую кухлянку. Однако хуже всего было то, что во рту у меня сделалось воспаление и, невзирая на мучительный голод, я ничего не мог есть, кроме снега.
* * *
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре.
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
А. С. Пушкин
Вспоминается еще и такой случай, происшедший во время одного из моих проникновений в глубь Камчатской области, едва не кончившийся для участников этой поездки трагически.
Вместе с коряками я на ездовых собаках отправился с Чукотки в селение Гижигу. Когда большая часть пути нами была проделана и до Гижиги оставалось ехать около пяти часов, я с согласия моих спутников-эвенов отдал все, что было с нами съедобного и для людей и для собак, обитателям одной из последних юрт на нашем пути. Казалось, как в пословице: зачем везти в лес дрова? Ведь мы были уже недалеко от своего дома, где все есть. Стояла ясная, тихая погода, ничто не предвещало опасности для нашего последнего, совсем маленького перехода.
Но неожиданно начался снег – с ветром, перешедший в неистовый буран. Вскоре нас занесло так, что не стало видно ни зги. Собаки поджали хвосты и остановились, жутко завывая. Мы сперва не теряли бодрого расположения духа, так как были уверены, что буран к утру пройдет и мы тронемся в дальнейший путь на Гижигу. Но пришлось просидеть на месте... восемь суток!
И люди и собаки страдали от голода. Сначала коряки строгали тонкую стружку дерева тальника – «яый» – и ели, но это нисколько не утоляло голода. Древесная стружка со снегом не могла быть нормальным питанием. Тогда эвены начали убивать наиболее истощенных ездовых собак. Это была единственная возможность спасти оставшихся собак от голода, да и эвены жадно ели сырое мясо. Они уговаривали и меня присоединиться к ним, но я предпочел жевать нерпичий ремень с отвратительным запахом жира ворвани, хотя нисколько не утолил голода. Только отчаяние вынуждало меня прибегнуть к такому жуткому самообману в попытке хоть как-то насытиться.
На исходе пятого дня нашего сидения под снегом неожиданно блеснул светлый луч спасения. Оставшиеся в живых собаки выбрались из-под снега и радостно, весело хором завыли. Мы объяснили это тем, что они учуяли неподалеку медведя или другого зверя. Ничего иного во время бурана мы не ожидали.
Но вдруг к нам подъехали две собачьи нарты, и находившиеся при мне эвены закричали:
– Приехал Ванька, казак Падерин!
Потеряв от голода самообладание, я разбросал снег и взмолился, обращаясь к казаку:
– Дай Христа ради хлеба! . Казак степенно улыбнулся и сказал:
– Погоди, батюшка, прежде благослови меня. Я ведь с тобой два года не встречался. Благослови, а уж потом я тебе хлебушка дам .
Но от голода рассудок мой помутился, и я забыл одну из Христовых истин: «Не о едином хлебе будет жить человек, но всяким Божьим словом, исходящим из уст Его» (Мф.4:4) . И я страдальчески продолжал кричать:
– Нет, дай хлеба!
После того как я, опомнившись, благословил Падерина, нас накормили похлебкой с юколой, хлебом и чаем. С помощью казака была укреплена нартами палатка, куда меня с опухшими ногами втащили к костру. Падерин растер мои окоченевшие больные ноги, чем значительно облегчил мои страдания.
Наш снеговой плен продолжался с 24 января по 1 февраля. А 31 января я, собравшись с силами, полулежа в брезентовом плаще, отслужил благодарственный молебен о нашем спасении. При этом Падерин был певчим. После богослужения и искренней молитвы мы все как-то преобразились: нас охватило радостное, бодрое, праздничное настроение. Благодарный Падерину за наше спасение, я восхищался его самоотверженностью и недоумевал, как он мог в такой буран подъехать к нам.
Как выяснилось, Падерин со своими спутниками ехал из Гижигинска. Ураган застиг его недалеко от нас, а так как ветер был для них попутный, их собаки учуяли нас и притащили к нам своих седоков. Мы пробыли вместе еще трое суток, и я искренне говорил, что согласен остаться навсегда в этой сооруженной общими усилиями палатке. Вскоре наступила ясная погода, и мы разъехались в разные стороны по своим делам.
Как ездовая, так и охотничья собака на Камчатке имеют большую цену, так как они кормят своих хозяев, а при езде заменяют лошадь.
Всего на Камчатке числилось 36 тысяч собак, на прокорм которых шло семь миллионов штук сушеной и квашеной рыбы. Надо сказать, что собаки – очень смышленые и умные животные, которые к тому же отличаются чуткостью. Во время больших переездов по незнакомой дороге следует довериться собакам, и они никогда не обманывают этого доверия, ибо, обладая способностью предчувствовать опасность, безошибочно выбирают правильный путь.
Так было со мной во время дальних путешествий зимой 1911 года. Желая попасть в жилые юрты до ночи, я с коряками поспешил уехать с ночлега пораньше, но, когда наступили сумерки, следы дороги исчезли из глаз моего проводника-каюра. Ему показалось, что путь наш должен лежать вправо, а собаки тянут в противоположную сторону. Завязалась борьба: каюр бил собак палкой (остолом) и кричал на них, а те выли от боли, но упрямо тянули потег влево. Пока я не вмешался, битва не кончилась, но каюр настоял на своем и погнал собак в правую сторону.
Перед нами раскинулась беспредельная снежная равнина. Собаки, позабыв недавнюю трепку, весело бежали по ровному белому пушистому снегу, как вдруг в один момент мы очутились в овраге глубиной двадцать шесть футов, а за нами туда же угодила другая, а потом третья подвода. Момента, когда мы летели, никто не заметил, но, когда нас всадило в глубочайший рыхлый снег, тут уж мы очнулись. К счастью, большой снежный сугроб спас нас от серьезной катастрофы. Наша нарта немного поломалась, а мы отделались легкими ушибами. Сидя поздней ночью в этой глубокой яме, мой каюр-коряк горячо раскаивался за свое непослушание умным собакам.
Выбраться из оврага было весьма нелегко. Сначала с большим трудом выбрался один коряк и начал манить юколой из оврага голодных собак, держа в руках конец ремня, за который собаки были привязаны к нарте. Собаки подняли неистовый вой, но голод погнал их по крутому подъему, а каюр все тянул их, показывая юколу, а остальные коряки помогали собакам поднимать по утесу нарту. Так постепенно были вытащены все собаки с нартами, а напоследок меня прицепили к ремню и потащили кверху, и я не только с полным послушанием и смирением перенес все толчки и обвалы снега, но хвалил и благодарил коряков, чтобы подбодрить их.
Но самое роковое происшествие случилось со мной в другой раз, когда эти же собаки подверглись вместе со мной однажды ночью смертельной опасности во время путешествия по Камчатке в селение Кирганик на восточном побережье Великого океана.
Было это в феврале. До нашей остановки оставалось лишь четыре версты. Мы пересекали замерзшую реку Кирганик. Наступила полная темнота. Первая подвода собачьей упряжи с грузом походной аптеки прошла благополучно. Во второй, гробообразной повозке, крытой меховым пологом и меховым фартуком, спокойно спал я.
Вдруг лед, ставший уже тонким под весенним ветром, треснул, и я вместе с повозкой, возницей-каюром и собаками провалился в образовавшуюся полынью. От ледяных потоков, ворвавшихся так внезапно под полог, я немедленно проснулся и, захлебываясь, стал вырываться из-под полога и фартука.
К счастью, мы провалились на неглубоком месте. Судорожно сорвав с помощью каюра полог с повозки, я смог встать, по пояс в ледяной воде на дно реки. Вода мгновенно проникла под одежду, и она стала сразу непомерно тяжелой. Стремясь выкарабкаться на сушу, я выбивался из сил, захлебывался и терял сознание. Мои спутники-камчадалы с трудом спасли меня. Они вытащили меня из воды и, сколько могли, выжали воду из моей меховой одежды. Однако пустынная местность не давала возможности сделать привал, чтобы переодеться. В обледенелой одежде, продрогший, превратившийся в ледяную сосульку, я еще около суток добирался вместе со своими спутниками до ближайшего селения.
Когда же наконец меня внесли в теплое жилище, я ощутил резкое повышение температуры, а наутро заболел воспалением легких.
Но ничто не могло устрашить меня и остановить в стремлении до конца выполнить свою обязанность: нести слово евангельского учения пребывающим в темноте и невежестве жителям Камчатской области, создать лучшие условия жизни для местного населения. Испытывая всякие невзгоды и трудности, я на личном опыте постиг тяжелую жизнь камчатских аборигенов и от души жалел их.
Камчадалы, приехавшие в Петропавловск за покупками. Нач. XX а.
* * *
Буря промчалась, но грозно суровое море шумит.
Волны, как рать, уходящая с боя, не могут утихнуть
И в беспорядке бегут, обгоняя друг друга,
Хвастаясь друг перед другом трофеями битвы;
Клочьями синего неба,
Златом и сребром отступающих туч,
Алой зари лоскутами.
А. Н. Майков
В 1909 году, во время плавания на пароходе вдоль Охотского побережья, мне пришлось пережить тяжелые часы во время неистового шторма, захватившего нас за Шантарскими островами. Произошло это при следующих обстоятельствах.
В Удском уезде, близ мыса Чумикан, расположено селение Чумикан. Топкая, илистая почва поселка непроходима даже в сухое время года. На обширном пространстве нет ни пастбища для скота, ни удобного места для огородов. Климат имеет все невыгодные для житья условия: весной сплошные густые и холодные туманы из-за застоя льдин между Шантарскими островами; в начале лета туманы чередуются с проливными дождями; осенью туманы не покидают злополучного уголка, пока их не выдуют холодные западные ветры. Ну а с наступлением зимы приходит время пурги и метелей, причем бывают они настолько сильны, что заносят снегом избушки, прерывая всякое сообщение между ними.
Казаки, гиляки и оседлые тунгусы составляют население Чумикана. Здесь насчитывалось шестнадцать-двадцать жилых построек. Небольшой полусгнивший склад провианта и часовня с жалкой внутренней обстановкой – вот незавидная картина Чумикана. Большей частью это жалкие, грязные избушки казаков и убогие деревянные, обложенные землей юрты пеших тунгусов. Жителей там около сотни. Летом здесь и по реке Тунгуру появляются оленные тунгусы для рыбного промысла. Так как овощей эта земля не родит, единственное пропитание – рыба, нерпа, олень и медведь.
Чумикан хотя и принадлежал Владивостокской епархии, но местоположение его таково, что летом духовные нужды населения обслуживала Владивостокская епархия, а зимой – Якутская или Благовещенская.
Чумикан, вероятно, надолго остался в памяти у меня и моих спутников.
Жители этого отдаленнейшего от Центральной России населенного пункта пригласили меня сойти с парохода и посетить их, помолиться вместе с ними и совершить требы. Ведь в их заброшенном в пустыне селении они лишены были возможности видеть священника в течение нескольких лет.
Погода благоприятствовала нашей поездке в катере на Чумикан, и компания составилась из нескольких пассажиров, так что, сколько смог вместить катер, столько и поехало публики. Все местное население ожидало меня на берегу. Здесь под шум морского прибоя я отслужил молебен и совершил церковные требы. Кроме того, я провел с туземцами беседу, расспросил их о неотложных духовных нуждах, но так как начинался отлив, мы должны были поспешить выйти на катере из речки. Пока мы плыли по ней, не было никаких признаков того несчастья, которое настигло нас буквально через несколько минут.
До нашего парохода, стоявшего в открытом море, нам оставалось десять минут ходу, как вдруг поднялся сильный ветер, туман скрыл от нас пароход и разразился ужасный шторм. Пассажиры лежали вповалку на дне маленького катера и тяжело страдали от морской болезни. Наверное, больше всех, до крови, мучился я, так как не переносил ни малейшей качки. К тому же все продрогли, так как отправились в Чумикан мы солнечным, тихим августовским днем в легких костюмах.
Шторм заставил наш пароход уйти еще дальше в открытое море, где уже не грозила опасность от подводных камней. А наш катер, подобно щепке, бросали разъяренные волны из стороны в сторону, вода заливала нас и машину.
Наконец, после долгой борьбы с волнами команда обессилела, уголь и вода кончились, а последние спички израсходовали, пытаясь зажечь платки и рубашки в надежде, что наш огонь заметят с парохода и подберут нас. Но все было напрасно.
Непроглядная темная ночь, беспрерывный холодный дождь и гигантские волны совсем измучили нас. Даже маловеры и люди, не понимающие молитвы, горячо молились Богу и давали всякие обещания, только бы скорее спастись. У плывших с нами гиляков потонули дорогие охотничьи собаки, сброшенные с катера сильной волной.
Промучившись таким образом целых девятнадцать часов, мы были подняты на пароход при громких радостных криках:
– Ура! Спасены!
8. Поездка в Петербург
Господь сказал мне: не говори: «я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку Свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот, Я вложил слова Мои в уста твои.
Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на Кресте!
И челн Твой будет ли причален
К моей распятой высоте?
А. Блок
Невероятные, большей частью даже не предполагаемые трудности встретились на моем пути в полудикой Камчатской области. И, когда мне становилось особенно тяжело при виде бедствий туземных жителей и в тайниках моего сердца возникало сомнение в том, что безразличие и косность местных властей будут когда-нибудь преодолены, я вспоминал Голгофу, Распятого за всех нас на Кресте Иисуса Христа, Его светлый многострадальный Лик – и мне становилось легче. Ободренный, воспрянувший духом, окрепший телом, я твердо знал, что вслед за страданиями всегда приходит радость и торжество Воскресения!
Подводя итоги первых шагов моей пастырской деятельности, я пришел к выводу, что пришла пора приступить к мероприятиям по созданию Камчатского братства. Вкусив достаточно чужого горя и беспощадных бедствий исстрадавшегося населения Камчатки, я не только составил проект учреждения такого Братства, но и наметил действенные пути его осуществления. Движимый стремлением быть полезным камчатскому населению, жаждущему духовной пищи, я в 1910 году решил восстановить древний монастырь, основанный 200 лет назад монахом Игнатием (в миру – казак Иван Козыревский). Обитель эта была создана им вблизи речушки Николки, впадающей в реку Камчатку.
Когда я впервые прибыл туда, там никого не было. Осмотрев местность, где раньше был монастырь, найдя с помощью камчадалов следы бывшей обители, я решил использовать для восстановительных работ в качестве вполне пригодного материала лиственничный лес. Но для полного осуществления задуманного у меня не было денег. В поисках выхода я стал возлагать большие надежды на задуманное мною Камчатское братство.
Мой архипастырь, Владивостокский епископ Евсевий, внимательно прочитал мой проект, написанный под впечатлением всего пережитого мною, и ответил:
– Блажен, кто верует! Вы, о. Нестор, молодой пастырь, но уже успели вкусить горя людского среди суровой жизни на Камчатке и по доброте своей сердечной ищете путей помощи посредством создания Камчатского благотворительного братства со смелым размахом отделений в чужих епархиях. Ведь вы, короче говоря, залезаете в карман столичных архиереев и их паствы. А ведь едва ли они допустят вас с вашим Братством в свои епархии. Впрочем, многое будет зависеть от Святейшего Синода, который имеет право утверждать подобные братства с широкой программой деятельности. Но если вы верите в благую возможность, я благословляю вас поехать в Петербург. Там, в Синоде, через Петербургского митрополита Антония продвигайте ваш проект Камчатского братства. Со своей стороны я дам вам письмо для вручения его Владыке, председательствующему в Святейшем Синоде, митрополиту Антонию (Вадковскому). Он архипастырь гуманный и, быть может, пойдет вам навстречу. Расскажите ему подробно об ужасах, с которыми вы столкнулись на Камчатке.
И вот после долгих странствий я прибыл в Петербург – город огромный, многолюдный, нарядный и шумный, город чопорных сановников, бездушных в большинстве своем чиновников, город, являвшийся тогда столицей Российской Империи.
По прибытии в Петербург я явился к первоприсутствующему в Святейшем Синоде митрополиту Петербургскому и Ладожскому Антонию (Вадковскому). Он принял меня ласково, внимательно выслушал и отвел мне келью в Александро-Невской лавре, где я мог во время своего пребывания в столице продолжать разработку деталей, касающихся создания Камчатского благотворительного братства.
Я, молодой иеромонах, и не предполагал в своей безвестности и скромности, что мои слова – слова человека, прибывшего из далекой, в те годы неведомой широкой публике Камчатки, из дымных подземных юрт, – а также доклады в кулуарах Государственной думы, лекции в залах различных петербургских церковных и общественных учреждений получат широкую огласку и известность. Я не ожидал, что после доклада Императору Николаю II председателя Государственной думы, где я выступал с рассказом о Камчатском крае и о моей работе там, я буду приглашен в царский дворец. Но расскажу все по порядку.
В Александро-Невской лавре, в моей строгой келье, посещали меня некоторые члены Государственной думы и в один из таких визитов сообщили, что задуманный мною проект встретил одобрение и поддержку всех депутатов, независимо от их политических взглядов. Однако, как мне разъяснили, принятие конкретных мер и оказание материальной помощи не входит в компетенцию Государственной думы. Поэтому окончательного решения надо ожидать от Святейшего Синода. Тем не менее были обещаны испрошенные мною 25 тысяч рублей на восстановление Камчатской показательной трудовой обители, что была наподобие существовавших тогда Валаамского, Соловецкого и Шпаковского (в Уссурийском крае) монастырей.
Между тем и митрополит Антоний благожелательно отнесся ко мне и к проекту Устава Камчатского братства. Он посоветовал мне обратиться за содействием к обер-прокурору Святейшего Синода Лукьянову.
Не без робости я вошел в здание Синода и попросил дежурного чиновника доложить обо мне обер-прокурору. Когда подошла моя очередь, я вошел в большой кабинет. Суровый на вид, замкнутый Лукьянов строго взглянул на меня, окинул критическим холодным взглядом с головы до ног и, не дав даже отрекомендоваться, спросил отрывисто:
– Кто такой? Откуда? Зачем явились в Синод?
Я назвал себя и кратко объяснил причину своего дальнего путешествия. При этом я подал обер-прокурору проект Устава Камчатского братства и свои доклады, касающиеся церковно-просветительной и благотворительной деятельности на Камчатском полуострове.
Однако Лукьянов не дослушал меня и заявил:
– Имейте в виду, что Синод не будет рассматривать Устав Камчатского братства! Пусть этим займется ваш епархиальный архиерей.
На мою попытку внести некоторую ясность в вопрос о Камчатском братстве обер-прокурор с оттенком раздражения в голосе повторил:
– Я вам ясно сказал, что мы в Петербурге не будем этим заниматься, а вы можете возвращаться на Камчатку. Мне не о чем с вами разговаривать.
Кивнув головой в знак того, что аудиенция окончена, Лукьянов сказал:
– Мне подали лошадей, я должен ехать.
Присутствовавший при этом управляющий синодальной канцелярией открыл дверь и выжидательно смотрел на меня, пока я не ушел. Чрезмерно огорченный, оскорбленный за себя и своего архиерея, я покинул здание Синода.
По дороге в Александро-Невскую лавру я обратил внимание на ювелирный магазин в одном из домов на углу Невского проспекта и площади Николаевского вокзала. У меня возникла мысль заказать в этом магазине модели орденских знаков для задуманного мною Камчатского братства, что я и сделал. Эскизы этих знаков, нарисованные в красках, с пояснением, были при мне. Владелец ювелирного магазина Н. Г. Линдер внимательно выслушал меня и сказал:
– Если в дальнейшем моей фирме будет поручено изготовление орденских знаков для Камчатского братства, то я в виде подарка или, вернее, бесплатной премии сделаю все четыре модели.
Конечно, я охотно с этим согласился, хотя не было никаких оснований спешить с заказом после холодного приема в Синоде.
Спустя еще несколько дней, еще ничего не добившись в Синоде, я отправился в ювелирный магазин. Линдер с многозначительной довольной улыбкой раскрыл передо мною футляр с изготовленными моделями орденских знаков всех четырех степеней. Они были прекрасно выполнены с отделкой из золота, серебра и эмали. Я невольно залюбовался ими.
Орденский знак первой степени был в виде обычной тогда звезды – с той только разницей, что в середине ее на фоне белой эмали была изображена голова Спасителя, так как Камчатское братство предполагалось назвать Спасским. Кружок белой эмали заканчивался крестообразно (синей и красной эмалью). Плоское кольцо являлось опорой острой звезды. Внутри на белой эмали была надпись золотыми буквами – евангельское изречение: «Убеди внити, да наполнится дом Мой». Смысл этих слов, согласно евангельскому сказанию, заключался в следующем. Когда Господин пригласил к себе на пир знатных гостей, то все они отказались, сославшись на занятость и другие причины. Господин тогда приказал слугам своим выйти на перекрестки дорог и собирать всех бедных, убогих, приглашая их «внити, да наполнят дом». Я полагал, что подобная надпись будет вполне соответствовать духу Камчатского братства.
Между тем, пребывая в огорчении и неведении относительно судьбы задуманного мною предприятия, я внезапно был ободрен и обрадован. Совершенно случайно и неожиданно, возвращаясь в отведенную мне келью, я встретил у входа в лавру своего Авву, епископа Андрея, постригавшего меня в монашество и благословившего на миссионерское служение на Камчатке. Он приехал в Петербург из Казани по делам духовной православной миссии среди татар. Я рассказал ему о бездушном отношении к идее создания Камчатского братства со стороны обер-прокурора Святейшего Синода Лукьянова. При виде моего огорчения и некоторой растерянности Владыка Андрей предложил тотчас же ехать с ним к директору департамента духовных дел инославных исповеданий Харузину. По дороге епископ Андрей (ехавший к Харузину по личному делу) сообщил, что этот сановник – глубоко верующий христианин, истинный патриот, весьма гуманный и отзывчивый человек, в чем я сам скоро убедился.
Харузин внимательно слушал мой сжатый рассказ о далекой Камчатке и ее всеми забытых обитателях. Бегло ознакомившись с проектом Устава, он подписался первым учредителем Камчатского благотворительного братства в двух экземплярах, после чего написал более ста адресов столичной знати – мужчин и женщин – и дал от себя общее письмо для всех.
– Пойдите к каждому из них, – посоветовал мне Харузин, – и никто не откажется стать в ряды членов-учредителей Камчатского братства. Не смущайтесь, идите в их квартиры. Да поможет вам Бог. Такое великое и полезное дело вы, о. Нестор, начинаете для Камчатской области, и долг всех нас, русских людей, поддержать вас.
Снова окрыленный надеждой, радостно-возбужденный, я отправился по указанным Харузиным адресам. И действительно, нигде, ни от кого не было отказа в подписи, – более того, каждый новый учредитель Братства давал еще и от себя дополнительные адреса. Таким образом, мне удалось за короткое время собрать свыше двухсот подписей, в том числе от членов Государственного совета, Государственной думы, профессоров, директора Государственного банка, генералов и других высокопоставленных лиц.
Спустя некоторое время ко мне явился незнакомый гвардейский офицер – как я впоследствии узнал, флигель-адъютант личной Канцелярии Его Величества. С изысканной любезностью придворного служаки он вручил мне пакет от управляющего Императорской Канцелярией генерала Мосолова. В пакете было извещение мне, скромному иеромонаху, о том, что Государь Император приглашает меня в Царское Село для слушания моего сообщения о камчатской пастырской деятельности. Но предварительно я должен был прибыть для инструктирования к генералу Мосолову.
И вот я, едва достигший двадцатипятилетнего возраста, в скромном монашеском одеянии, не искушенный в тонкостях придворного этикета, предстал перед статным, с бравой гвардейской выправкой и изысканными манерами царедворцем в орденах и лентах.
– Вам будет вручен пригласительный билет, – объяснил мне генерал Мосолов, – но предупреждаю вас, что в разговоре с Его Величеством надо быть простым, говорить без высокопарности. И, главное, соблюдая придворный этикет, не задавая Государю Императору никаких вопросов.
И вот наконец (это было Великим постом) я получил пригласительный билет. В нем были указаны маршрут и время отправления поезда, которым я должен был следовать в Царское Село. Кроме того, было указано, что у царскосельского вокзала меня будет ожидать придворный экипаж.
С вполне понятным волнением я готовился к аудиенции у монарха величайшей в мире империи.
Не зная еще, какой оборот примет предстоящая беседа, я решил во что бы то ни стало просить царя оказать свое высокое покровительство в скорейшем утверждении Святейшим Синодом Устава Камчатского благотворительного братства. Я думал, как лучше, не нарушая придворный этикет, рассказать монарху об отрицательных сторонах жизни на Камчатке, забытой правительством. Мне хотелось убедительно, ярко обрисовать жалкое прозябание и постепенное вымирание камчатского населения.
Мне предстояло дать понять царю, что мне одному, скромному священнослужителю, не по силам облегчить участь местных жителей, поэтому по благословению епископа Евсевия следовало бы организовать Камчатское благотворительное братство. При этом мне вспомнилась беседа с архиепископом на эту тему.
Владыка, трезво оценивая тогдашнюю обстановку, сказал мне, что вряд ли правящие архиереи согласятся на то, чтобы какой-то иеромонах с Камчатки «лез в их карман». Ведь и Приморский край, прилегающий к иностранным государствам, не был удостоен внимания царского правительства.
Тем не менее, когда я задумал организовать Братство, архиепископ Евсевий отнесся к этому благожелательно и, принимая во внимание, что я заболел на Камчатке цингой, благословил со словами:
– Поезжайте в столицу, полечитесь там, а заодно хлопочите о создании Братства.
По получении через флигель-адъютанта пакета с приглашением к царю я с указанным поездом прибыл в Царское Село. На царскосельском вокзале ко мне подошли два дворцовых человека в красном придворном одеянии и спросили:
– Вы будете камчатский иеромонах Нестор?
Получив утвердительный ответ, они в своем пышном наряде взяли меня под руки в моем скромном монашеском одеянии и повели к карете. Это несколько смутило меня, и я возразил:
– Благодарю вас... я сам. Ведь я не старик, не поддерживайте меня под руки.
Оба они молча улыбнулись. Один из них нес мой портфель с проектом Устава Камчатского братства и моделями орденских знаков.
Когда меня бережно усадили в карету со сверкающими позолотой накладными гербами, пара великолепных лошадей в роскошной упряжи помчалась по благоустроенной дороге, ведущей к царскому дворцу. Когда карета подкатила к дворцовому крыльцу, с него сошел в парадной форме дежурный генерал. Он проводил меня в дворцовые апартаменты, сообщив:
– Сейчас вас примут Их Величества.
Действительно, не прошло и пяти минут, как дежурный генерал, предшествуемый придворными скороходами, одетыми также весьма пышно, провел меня в царский кабинет. Я увидел возле большого письменного стола Императора в скромной полковничьей форме. Рядом с ним, также в довольно скромном одеянии, стояла Императрица Александра Федоровна.
Помолившись на образ Спасителя, стоявший в углу кабинета, я глубоким поклоном приветствовал венценосных супругов. Государь улыбнулся и ласково произнес:
– Здравствуйте, о. Нестор! О вас и о вашем прибытии с Камчатки в Петербург я имел сведения из Государственной думы. Я хотел бы опять видеть вас работающим на благо камчатского населения... Чем бы я мог быть вам полезен? – с этими словами Государь сложил ладони и попросил меня: – Благословите, о. Нестор!
Получив благословение, он поцеловал мою, а я – его руку. Таким же образом произошло мое знакомство и с царицей.
– Расскажите, о. Нестор, о Камчатке, о нуждах ее населения, – негромко предложил мне Николай II, и в его голосе я почувствовал любознательность человека, заинтересовавшегося вдруг местами и людьми, доселе ему неведомыми. – Впрочем, – продолжил он, – когда я еще был наследником и совершал поездку по Дальнему Востоку, мне в числе многочисленных делегаций были представлены во Владивостоке камчадалы и коряки.
Дав этими словами направление нашему разговору, Император с Императрицей внимательно слушали мой рассказ о трудностях, встречавшихся в моей пастырско-миссионерской деятельности на далекой Камчатке. Попутно я рассказал им о несметных природных богатствах края, о жалком, полном материальных и духовных лишений прозябании его обитателей. Затем я перешел к вопросу о задуманном мною Камчатском благотворительном братстве во имя Всемилостивого Спаса, кратко изложив содержание проекта Устава, вручив Государю и самый Устав. И наконец, раскрыл футляр с великолепно исполненными образцами орденских знаков, а также развернул цветной рисунок с их эскизами.
Государь взял орденский знак II степени, приложил к своей груди и вслух выразил восхищение. А об Уставе сказал:
– Основательный Устав и весьма ценный для оказания широкой помощи населению камчатского края.
При виде некоторого моего замешательства Николай II обратился ко мне с вопросом:
– А кто должен утверждать Устав? Вероятно, Святейший Синод?
– Да, Ваше Величество, – ответил я, – но неприветливый прием, оказанный мне обер-прокурором Лукьяновым, и его предвзятость привели к тому, что Устав даже не рассматривался на заседании Синода. Мне же было приказано возвращаться на Камчатку по той причине, что вопрос о создании Камчатского благотворительного братства касается Приморской епархии, хотя в проекте Устава предусмотрено создание филиалов этого Братства в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и других городах Российской Империи. И это, следовательно, не епархиальное, а всероссийского масштаба общество, Устав которого должен утверждается Синодом.
Государь между тем, рассматривая модели знаков и приложенные к ним художественные эскизы, сказал:
– Очень красивые, но ведь это обычная орденская звезда, принятая у нас. Лучше несколько видоизменим ее.
При этих словах Николай II взял со стола сине-красный карандаш, зачеркнул на эскизе некоторые острия звезды и провел замкнутую линию. Получился гофрированный крест с вогнутыми краями.
– Нравится вам, о. Нестор, такой орден? – спросил Император, не выпуская карандаша из рук.
– Даже очень нравится! – воскликнул я и неожиданно, вопреки придворному этикету, спросил: – Ваше Величество, не разрешите ли вы будущему Камчатскому благотворительному братству дать покровителя в лице наследника, Цесаревича Алексия Николаевича? Ведь на отдаленной Камчатке живут чистые сердцем дети природы и покровительство вашего августейшего сына облегчит их участь.
Государь обернулся вполоборота к царице и, указывая на нее обеими руками, сказал улыбаясь:
– Как мать!
Поклонившись Императрице, я повторил свою просьбу. И царица со сдержанной улыбкой ответила:
– О да, я согласна. Очень рада, что мой сын... любимый сын будет покровителем Камчатского братства. Это очень хорошо!
При виде моей неописуемой радости Государь сказал:
– Но, о. Нестор, имейте в виду, что наследник Цесаревич сможет стать покровителем Камчатского братства только в будущем году, когда ему исполнится семь лет и наступит его духовное совершеннолетие. И вы, о. Нестор, обязательно приезжайте на будущий год к Цесаревичу, как покровителю создаваемого вами Братства.
С этими словами Николай II опять взял цветной карандаш и снова занялся видоизменением эскиза орденского знака I степени. После мгновенного раздумья он изобразил в верхней части креста синим карандашом кружок с буквой «А» и вопросительно взглянул на меня. Я понял, что буква означает имя наследника – Алексий. Тем не менее на царский вопрос я ответил не сразу. Я задумался. Ведь, признаться, мне не вполне понравилась поправка. Царь дал мне карандаш, и я на остальных трех эскизах изобразил буквы «Н», «А»,«М», что должно было обозначать имена остальных членов царской фамилии: Императора Николая, Императрицы Александры и вдовствующей Императрицы Марии.
– Видите, – продолжал Государь, – получилось красиво, симметрично... Так ведь будет хорошо? Я эти ордена утверждаю.
Мне осталось только поблагодарить.
После небольшой паузы Государь, будто что-то вспомнив, спросил меня:
– Отец Нестор, вероятно, у вас большие разъезды и большие расходы?
Я ответил, что получаю всего 40 рублей в месяц, а за каждую подводу при каждой поездке приходится платить по шесть копеек с версты. А мне приходится брать по пять подвод собачьих. И объяснил для чего. Поэтому вся надежда на будущее Камчатское благотворительное братство.
– Вы ведь знаете, о. Нестор, – с горькой усмешкой сказал Николай II, – как поступают люди: с глаз долой – из сердца вон. Сначала вас, возможно, выслушают, много наобещают, а потом забудут. Поэтому приезжайте периодически к нам в Петербург и здесь с нами решайте все наболевшие вопросы. Обязательно приезжайте.
Я высказал сожаление по поводу того, что дальнейшие поездки для меня будут весьма обременительны.
– Не беспокойтесь, – успокоил меня Государь, – я распоряжусь о том, чтобы министр путей сообщения Рухлов обеспечил вас постоянным бесплатным билетом по всем дорогам Российской Империи.
После приема в Царскосельском дворце я возвращался в Александро-Невскую лавру будто в радостном сне. Кругом шумела нарядная столица, сверкали лакированные экипажи, рассыпчато-звонко дребезжали трамваи, раздавался цокот копыт рысаков, проносивших в пролетках нарядных петербуржцев. В сизом сумраке угасающего дня расплывчато вырисовывались громады красивых и богатых домов, колонны и башни дворцов, купола храмов. А перед моим взором неотступно стояла угрюмо-пустынная Камчатка с убогим бытом пребывающих в полудиком состоянии туземцев.
В этот же день я счел необходимым сообщить обо всем происшедшем при моем посещении царского дворца митрополиту Антонию. Владыка внимательно выслушал меня и со вздохом облегчения сказал:
– Ну вот и слава Богу! Видите, о. Нестор, какой вы счастливый, как все хорошо получилось. Вас, скромного иеромонаха, принял в своих царских чертогах хозяин земли Русской и обещал удовлетворить все ваши камчатские нужды. Но, о. Нестор, не забывайте о том, что задуманного вами Камчатского братства еще нет. Поэтому вам надо пойти к обер-прокурору Лукьянову и добиться обсуждения, а главное, утверждения Устава Камчатского братства на ближайшем заседании Святейшего Синода. Тем более что орденские знаки уже утверждены Государем.
Вскоре после этого разговора в одной из влиятельнейших в те годы столичных газет, «Новое время», была помещена информация от Канцелярии двора Его Величества о том, что в Царскосельском дворце был принят Государем Императором иеромонах Нестор, прибывший с Камчатки.
Это сообщение меня обнадежило, и я больше не сомневался в успехе своего начинания. А первоприсутствующий митрополит Антоний пообещал на очередном заседании Святейшего Синода поставить в повестку дня обсуждение проекта Устава Камчатского благотворительного братства.
В назначенный день я уже с утра находился в синодальном здании. Обер-прокурор Лукьянов в силу непонятных мне причин при виде меня надменно закричал с видом оскорбленного вельможи:
– Запомните, что никакого Камчатского братства не будет! Можете сейчас же уезжать на Камчатку!
Тем не менее когда началось заседание Святейшего Синода, я, взволнованный, ходил взад и вперед по каменному полу вестибюля на верхнем этаже синодального здания.
Когда заседание закончилось, навстречу мне вышел митрополит Антоний вместе с благожелательно отнесшимся ко мне членом Святейшего Синода архиепископом Никандром Виленским. Оба они предварительно ознакомились с проектом Устава и с одобрением отозвались о нем, утверждая, что подобный по широте и размаху устав благотворительной организации они видят впервые. Подойдя к ним здесь же, в вестибюле, под благословение, я вопросительно взглянул на митрополита Антония, ожидая услышать от него долгожданную радостную весть об утверждении Устава Камчатского братства. Но Владыка Антоний с оттенком сожаления в голосе сказал негромко:
– Ничего не вышло. Поезжайте обратно на Камчатку. Послужите-ка там еще лет... сорок!..
Он не закончил свою горько-ироническую мысль, и ее выразил Владыка Никандр:
– Ну и посмеялись, о. Нестор, на заседании Синода над вашим Камчатским братством!
Это не щадящее моего самолюбия высказывание глубоко потрясло меня. Огорченный провалом моего проекта, я пошатнулся и упал на каменный пол вестибюля, потеряв сознание. При падении я сильно ушиб голову.
Когда меня привели в сознание, я увидел, что лежу на диване, отгороженном ширмой, в какой-то комнатке синодального здания, а в ногах у меня сидит обер-прокурор Лукьянов. Рядом за столиком я заметил доктора в белом халате, наливающего из склянки в стаканчик лекарство. Голова моя была забинтована.
На столике среди лекарств стояла большая тарелка с супом. Едва я осмотрелся, силясь осознать, что здесь происходит, как раздался безразличный, с оттенком раздражения голос Лукьянова:
– Вот видите, о. Нестор, до чего вы голоден и слаб – падаете в обморок от истощения. Ешьте сейчас же этот суп. Подкрепляйтесь!
Нервы мои, вследствие тяжести переживаний, были взвинчены до того, что я совершенно неожиданно для себя громко закричал:
– Я приехал в Петербург в Святейший Синод не суп есть, а хлопотать об утверждении Устава Братства!
Лукьянов сердито скользнул по мне взглядом и с подчеркнутой суровостью сказал:
– Это дерзость!
И с этими словами он встал, вызвал синодального дежурного чиновника и приказал ему, указывая на меня:
– Отец Нестор должен здесь ночевать. Никуда его не пускайте. Он истощен, кормите его супом.
На мои попытки возражать, а также уйти в Лавру. Лукьянов не обратил внимания. Взглянув сурово на доктора, он сказал:
– А вы оказывайте ему медицинскую помощь. Укрепляйте его организм.
В это время из-за ширмы раздался незнакомый голос:
– Где здесь о. Нестор, монах с Камчатки?
Лукьянов насторожился, взял из рук вошедшего незапечатанный конверт, извлек из него карточку, прочел и сказал:
– Вот видите, вы больной, слабый, а вас в пятницу приглашают в Аничков дворец на прием к вдовствующей Государыне Императрице Марии Феодоровне. Но, повторяю, вам надо оставаться в постели! Вам нельзя ехать. Здесь указан номер телефона, и надо уведомить, что вы по болезни не будете.
Я возразил и взял из рук Лукьянова пакет.
Когда Лукьянов ушел, я, невзирая на протесты приставленного ко мне дежурного чиновника, немедленно покинул здание Синода.
В пятницу на шестой неделе Великого поста, еще не оправившись полностью от ушиба головы, я по приглашению вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны направился на прием в ее резиденцию – Аничков дворец. Там меня встретил приветливый и обходительный старик генерал, еще довольно бравый и элегантный князь Шервашидзе. Вместе с ним мы поднялись на второй этаж и сели в огромном роскошном зале в ожидании приема.
Мимо меня во внутренние апартаменты прошли двенадцать фрейлин с шифрами, недавно окончившие Петербургский институт. Они шли на прием к вдовствующей Императрице, в распоряжение которой были ею избраны. Прием их продолжался недолго, и вскоре генерал Шервашидзе объявил, что мне можно пройти в кабинет Марии Феодоровны. Он проводил меня до дверей кабинета вдовствующей Государыни.
Скороход открыл мне дверь, и я увидел стоящую посреди кабинета немолодую женщину невысокого роста, в черном бархатном платье, с прической барашком.
На мое приветствие Мария Феодоровна ответила грубоватым контральто:
– Здравствуйте, о. Нестор! Мой сын очарован вами. Он в восторге от вашей пастырско-миссионерской деятельности.
Я растерялся, напрягая усилия, собираясь с мыслями и не понимая, о каком именно сыне идет речь. Она поняла мое замешательство и пояснила:
– Мой сын Николай II.
Усадив меня в кресло, Мария Федоровна начала расспрашивать о жизни и деятельности на Камчатке, попутно интересуясь нуждами и трудностями встречающимися при этом. Она признала важность и необходимость создания Камчатского братства. Ей понравилось, что покровителем его будет ее внук – престолонаследник Алексий.
– Вот почему мне так хотелось увидеть вас, о. Нестор, и поговорить с вами. Может быть, я смогу быть чем-нибудь вам полезной? – полувопросом закончила она.
Я медлил с ответом, думая о том, что «жалует царь, да не милует псарь», но не решался высказать столь резкую мысль и ответил:
– Очень жаль, что обер-прокурор Лукьянов упорно не желает даже ознакомиться с проектом Устава Камчатского братства и не хочет ставить его на утверждение Святейшего Синода.
– Ай-ай-ай, – воскликнула с сожалением Мария Феодоровна и, участливо рассматривая меня, спросила: – Почему у вас, о. Нестор, такой бледный вид?
В некотором замешательстве я объяснил ей:
– У меня на голове опухоль. Дело в том, что, будучи в Синоде, я упал на каменный пол при известии об отклонении проекта Устава Камчатского братства, полностью потеряв сознание.
– Как это ужасно! – Мария Феодоровна испуганно округлила глаза. – Как же так? Мне Император рассказал, что у вас будет покровителем мой внук и что Государь утвердил ордена Братства.
А когда я рассказал ей об эпизоде с тарелкой супа, предложенной мне обер-прокурором Святейшего Синода Лукьяновым, она произнесла, сочувственно улыбаясь:
– Это было бы смешно, если бы не было так грустно! Суп... Мария Феодоровна задумалась и сказала:
– Вот что, о. Нестор, я вас оставлю на некоторое время. Побудьте немного одни.
С этими словами она ушла во внутренние покои дворца. Прошло не менее получаса, пока открылась дверь и вернувшаяся Мария Феодоровна сказала на ходу:
– Отец Нестор, поздравляю вас! Теперь у вас есть Камчатское братство, у вас есть покровитель – цесаревич Алексий. Сейчас, в этот момент, у Императора с докладом находится обер-прокурор Лукьянов. Я говорила со своим сыном по телефону и узнала, что на заданные государем вопросы о Камчатке, о количестве находящихся там церквей, их состоянии, а также о нуждах православных христиан, о вашей миссионерской работе Лукьянов не мог дать сколько-нибудь обстоятельных, исчерпывающих ответов. Поэтому Государь Император велел вам, о. Нестор, совместно с обер-прокурором Святейшего Синода рассмотреть Устав Камчатского благотворительного братства и утвердить его архиерейскими подписями, когда возобновится сессия.
Аудиенция закончилась моей благодарностью.
Я возвращался в отведенную мне свою келью Александро-Невской лавры, охваченный противоречивыми мыслями. С одной стороны, меня радовал благоприятный исход начатого мною дела, но в то же время меня, как патриота, горячо любящего свою Родину, повергало в уныние безразличие, бездушие, которые я выявил при встрече с Лукьяновым, ограниченным бюрократизм, не живущим интересами России. Невежественная неосведомленность его и подобных ему столичных сановников о состоянии богатейшего и к тому же пограничного края, каким являлась Камчатка, ужасала меня. Да и сам царь Николай II, лишенный критического взгляда на окружающих его сановников, не обладающий даром исторического предвидения и умением анализировать события, как мне кажется, ничего не предпринял бы для облегчения тяжелой участи камчатского населения, если бы я, молодой иеромонах, не проявил должного упорства и настойчивости в достижении намеченной мною цели.
Возвращаясь из Аничкова дворца в Лавру, я ехал по шумным, многолюдным, нарядным улицам и площадям Петербурга. Мой взор никак не мог освоиться с роскошью столичной жизни. Ведь уже несколько лет я наблюдал вокруг себя суровую полупустыню, ежедневно сталкивался с примитивным, исполненным лишений образом жизни туземцев Камчатской области. Это были как бы два противоположных мира. Из страны лесов, непроходимых гор, бурных рек, огнедышащих вулканов я прибыл посланцем воли Божией в Петербург, чтобы смягчить сердца людей, власть и деньги имущих, сломать лед равнодушия и безразличия к детям (вернее, по-тогдашнему, к пасынкам) матери России, населяющим отдаленную окраину государства.
С подобными размышлениями я отправился с докладом к добрейшему митрополиту Антонию.
Владыка встретил меня радушно со словами:
– Поздравляю вас с полным успехом! Сейчас по телефону звонил обер-прокурор Святейшего Синода. Он велел передать, что ждет вас завтра к десяти часам утра у себя на квартире, в доме, что на углу Литейной и Невского. Ну, теперь вам, должно быть, влетит по первое число.
Я ответил:
– Что ж, я к этому готов и ничего другого не жду.
В назначенное время я вошел в домашний кабинет обер-прокурора Лукьянова. На этот раз он протянул мне руку. Видимо, на него исправляюще подействовала беседа с Государем. Тем не менее Лукьянов спросил довольно иронически:
– Ну что? Добились своего?
Не скрывая горечи и обиды, я ответил:
– Мне лично ничего не надо. Я стараюсь о Камчатке и ее людях. Кроме того, если бы я не был уверен в успехе задуманного мною начинания, то не рискнул бы зря совершать такую дальнюю поездку. Без Устава Камчатского братства мне нельзя возвращаться к обездоленным камчадалам.
– Все это так, – перебил меня Лукьянов, – но я интересуюсь сейчас другим: почему вы мне раньше не сообщили подробности о Камчатской миссии, о количестве церквей, школ, о просветительской деятельности среди туземцев?
– Ваше Высокопревосходительство, – ответил я, – с моей стороны было несколько попыток сделать это, но вы заявили, что вам некогда выслушивать меня. При первом моем посещении Святейшего Синода вы приказали мне возвращаться на Камчатку. Что же касается письменного доклада, то я вам вручил не один, а пять докладов о Камчатке.
– Когда? – изумился Лукьянов.
– Во время первого визита, в присутствии управляющего синодальной канцелярией.
При этих словах находившийся здесь же синодальный управляющий делами растерянно замялся, но все же вынужден был пробормотать:
– Да... Нет... Впрочем, действительно, точно так и было: о. Нестор что-то такое вам передал.
Обескураженный Лукьянов принялся нервно рыться в своих бумагах, затем начал выдвигать ящики письменного стола. И только после того, как я заметил поданные мною доклады и указал на них, он извлек их из-под вороха старых бумаг.
– Вот что, о. Нестор, – не спеша начал Лукьянов, как бы придумывая выход из создавшегося неприятного положения, – в таком случае приходите в Великий понедельник в Синод к двенадцати часам дня. Вместе с вами мы рассмотрим проект Устава Камчатского благотворительного братства в присутствии управляющего синодальной канцелярией. Утвердим ваш проект, а после Пасхи, на летней сессии Святейшего Синода, архиереи его подпишут.
В понедельник на Страстной седмице в назначенные часы я был в кабинете обер-прокурора Лукьянова. В присутствии синодального управляющего делами и еще какого-то чиновника начался беглый просмотр Устава Камчатского братства. При этом Лукьянов, как бы в отместку за мою настойчивость, принялся безжалостно вычеркивать отдельные параграфы.
Я старался сдерживать свое возмущение, но присутствовавший при этом управляющий синодальной канцелярией начал возражать в защиту Братства. Лукьянов сказал ему какую-то дерзость, и тот, обиженный, покинул кабинет.
Закончив просмотр Устава, Лукьянов сказал:
– Ну вот, о. Нестор, теперь Устав Камчатского братства считается утвержденным. Вы теперь спокойно можете возвращаться к себе на Камчатку, – и, подавая на прощание руку, он сказал: – Не поминайте меня лихом.
Я поблагодарил его за снисходительное отношение к созданию Камчатского благотворительного братства и пообещал приехать в будущем году по приглашению Императора.
После праздника Пасхи, когда Устав был утвержден Святейшим Синодом, я покинул Петербург.
По дороге в Петропавловск я посетил во Владивостоке архиепископа Евсевия. Владыка еще раз внимательно прочел Устав Братства, а в ближайшее воскресенье после торжественного архиерейского богослужения во владивостокском кафедральном соборе был избран Совет Братства во главе с почетным председателем – архиепископом Евсевием. Меня же, как основателя, избрали пожизненным основателем и учредителем Камчатского братства. Отовсюду, в том числе от многих знатных лиц, подписавшихся в свое время под проектом Устава, я получил приветственные телеграммы с пожеланиями успеха в моей дальнейшей пастырско-миссионерской деятельности. Прибыло также пространное приветствие от обер-прокурора Святейшего Синода Лукьянова.
Прошел еще год в трудах на ниве Христовой, проводимых мной по-прежнему во всех уголках Камчатского края. Зимой на нартах и на лыжах я пробирался в глубь Камчатского полуострова, а летом путешествовал на пароходе вдоль морского побережья. И вот опять пришло время ехать в Петербург за получением покровителя Братства, о чем мне напомнил Владыка Евсевий, давший свое архипастырское благословение на далекий путь. Теперь у меня был выданный министром путей сообщения Рухловым бесплатный проезд в первом классе по всем железным дорогам Российской Империи.
По прибытии в столицу я опять остановился в Александро-Невской лавре, после чего явился к митрополиту Антонию и от него узнал, что обер-прокурор Святейшего Синода Лукьянов находится в отставке. Вместо него на этот пост назначен В. К. Саблер. Владыка Антоний посоветовал мне побывать у него в Святейшем Синоде или на квартире. Жил Саблер на Екатерингофском проспекте, на втором этаже огромного дома.
Рано утром я подымался по устланной коврами лестнице. Навстречу мне спускался какой-то пожилой господин с приятным лицом и седой бородой. Он был в расшитом золотом мундире, с лентой через плечо, звездами, орденами и в парадной треуголке.
– Вы к кому? – с вопросительным взглядом обратился он ко мне вежливо.
– К обер-прокурору Святейшего Синода, – ответил я.
– А кто вы такой? – заинтересовался незнакомец.
Я назвал себя и объяснил, что прибыл в Петербург по приглашению Государя Императора.
– Вы очень удачно приехали, – улыбнулся мой случайный собеседник и, трижды поцеловав меня, назвался: – Я обер-прокурор Саблер! Но, простите, сейчас иду к Государю с докладом. Кстати, сообщу о вашем приезде. Но вас прошу прийти ко мне сегодня же, если вас это не затруднит, к двенадцати часам ночи.
В назначенное время я был в гостиной в квартире обер-прокурора. Кроме меня, здесь были незнакомые мне архиерей, игуменья и протоиерей. В первом часу ночи вошел Саблер.
– Садитесь, – сказал он. – Я вам весьма рад. На днях вас примет Император и вручит вам покровителя Камчатского благотворительного братства.
Действительно, через два дня, 20 августа 1911 года, я получил приглашение в Петергофский дворец. Я захватил с собой орденские знаки первой степени для членов царской семьи, а также альбом с фотографиями Камчатки в подарок покровителю Братства Алексию.
Во дворце меня встретил дежурный генерал и ввел в большой зал, в котором никого не было.
– Эти апартаменты в вашем распоряжении, – объявил он, – ждите здесь и будьте готовы к вызову. Их Величество будет принимать вас в Малом Александрийском дворце. Если что-нибудь вам потребуется – быть может, завтрак или чай, – позвоните.
Мне захотелось отведать царского чаю. Просьба моя была немедленно выполнена. Затем меня повезли в Александрийский дворец. По дороге в парке я встретил ландо, в котором ехали четыре великие княжны с фрейлиной в светло-голубых платьях.
Когда я вошел во дворец, меня встретил статный офицер в парадной гвардейской форме – князь Иоанн Константинович (сын известного тогда поэта – Великого князя Константина Константиновича Романова, подписывавшего свои стихотворные произведения инициалами «К. Р.»). Он принял у меня благословение, после чего повел в вестибюль, расположенный внизу. Здесь на стильных старинных стульях и креслах вдоль мраморных стен сидели военные и гражданские сановники.
Некоторым из них я был представлен – например, королю Сербии Петру I Карагеоргиевичу, королю Николаю Черногорскому, известным тогда каждому по фотографиям в газетах и журналах в связи с происходившими Балканскими войнами.
Спустя некоторое время меня пригласили к Императору. В небольшой уютной, довольно скромно обставленной гостиной находились Государь с супругой и с ними красивый мальчик в матросской форме – престолонаследник Алексий.
Царь, указывая на своего сына, сказал, обращаясь ко мне:
– Вот покровитель вашего Камчатского благотворительного братства, о. Нестор. Примите...
Я поблагодарил царственных родителей и сказал краткое приветствие покровителю Камчатского братства.
После этого Николай II задал несколько вопросов, расспрашивая меня о миссионерской деятельности на Камчатке, а я, отвечая, подал покровителю Братства – наследнику цесаревичу – альбом с видами Камчатки. Государь, ласково поглаживая сына по головке с подстриженными на лбу волосами, сказал ему:
– Алешенька, ты потом посмотришь альбом. Давай-ка лучше расспросим о. Нестора о его путешествиях по Камчатской области да о его пастырской там деятельности.
Когда я, выполняя монаршию волю, рассказал вкратце о пережитом, виденном и проделанном мною в этом далеком, забытом крае и преподнес в заключение царской семье орденские знаки Камчатского благотворительного братства, Николай II, принимая их, осведомился:
– Теперь у вас все хорошо?
– Да, Ваше Величество, – ответил я с благодарностью, – в настоящее время мною открываются отделения Камчатского братства в Петербурге, Москве, Киеве и других городах. Но я осмеливаюсь просить вашего всемилостивейшего разрешения на один товарный вагон ежегодно от Москвы до Владивостока для отправки приобретаемого Братством школьного оборудования, церковной утвари, медикаментов и других пожертвований.
Государь ответил:
– Будет ваша просьба исполнена. А что еще для вас сделать? – и, будто обдумав что-то, сказал: – Отец Нестор, наша семья желает подарить Камчатскому братству церковь. Для получения ее вам надобно будет заехать в Зимний дворец, к графу Ростовцеву. А еще я и царица вручаем вам образ преп. Серафима Саровского.
Царица при этом спросила:
– Можно ли вам подарить шерстяные платья для взрослых и детей Камчатки, связанные моими дочерьми?
Я поблагодарил царя и царицу за подарки, высказав при этом мысль, что лучше всего устроить дарственную церковь в глухой части Камчатской области и освятить ее в честь святителя Иоасафа Белгородского, прославление мощей которого должно было произойти в городе Белгороде через пятнадцать дней. Император удовлетворил и эту мою просьбу и при этом спросил, буду ли я на прославлении мощей святителя Иоасафа в Белгороде.
Я отвечал:
– Я такой маленький человек, что едва ли увижу что-нибудь в Белгороде, так как от такого множества людей меня затрут в толпе.
Тогда Государь сказал:
– Вы, о. Нестор, будете официально участвовать в прославлении мощей, чему я буду очень рад. Все подробности об этом вы узнаете от великой княгини Елизаветы Феодоровны. Посетите ее в Москве, и она вручит вам от нашей семьи специальное Иоасафовское облачение – такое же, как и у всех участников, архиереев и священников.
Я выразил Государю Императору глубокую благодарность за дарованную мне милость и долго еще переживал эту духовную радость.
Наконец, я попросил монаршего разрешения на право ношения Камчатского орденского знака военными чинами, о чем Государь обещал отдать соответствующее распоряжение, что и было вскоре выполнено. Военным разрешалось носить после ордена святого Станислава орденские знаки Камчатского благотворительного братства на орденской ленточке цвета русского национального флага. По окончании аудиенции Государь благословил меня походным образочком преп. Серафима Саровского и обласкал многими ценными дарами.
По прибытии в Зимний дворец мне показали опись церковной утвари и огромные ящики с упакованной в них церковью. Здесь же мне вручили дар царицы для нужд камчатского населения – несколько сот комплектов шерстяного белья. А от себя Государь приложил пакет – 1000 рублей на мои разъезды по Камчатке.
Спустя два дня меня пригласили в Аничков дворец, к вдовствующей Императрице Марии Феодоровне.
Как и в минувшем году, она была любезна и заботлива. Когда я вошел в ее кабинет, первым ее вопросом ко мне был:
– Чем я могу быть вам полезна, о. Нестор?
Я попросил у нее откомандировать на Камчатку для медицинского обслуживания туземного населения десять сестер милосердия. Она удовлетворила эту просьбу. И, по моему совету, медсестры были откомандированы из Сибирской общины Красного Креста, так как климатические условия Сибири были такими же, как и на Камчатке, поэтому сестрам не пришлось долго акклиматизироваться. Впоследствии эти сестры-добровольцы проявили настоящие подвиги любви и милосердия ко всем туземцам далекого, всеми забытого уголка России.
Возвращаясь на Камчатку, я решил задержаться в некоторых городах Центральной России для срочного открытия отделений Камчатского благотворительного братства. Но предварительно потребовалось созвать в Петербурге собрание членов-учредителей, на котором временным председателем избрали Ново-Ладожского предводителя дворянства Шварца, заместителем председателя – протоиерея о. Александра Дернова – настоятеля столичного Петропавловского собора, а членами правления – многих представителей петербургской знати.
По прибытии в Москву я отправился в Кремль. Здесь, при Чудовом монастыре, был склад пожертвованных для школ вещей, а также церковной утвари. Все это было предназначено для отправки на Камчатку через Владивосток. Я занялся созданием отделения Камчатского благотворительного братства. Председателем был избран настоятель Чудова монастыря – московский викарный епископ Арсений.
В Киеве после моей лекции в духовной семинарии о целях и задачах Камчатского благотворительного братства председателем местного отделения избрали ректора – епископа Иннокентия (профессора Ястребова, бывшего моего учителя калмыцкого языка в г. Казани).
Во всех этих филиалах Братства, согласно Уставу, проводился энергичный сбор средств путем распространения орденских знаков. За право ношения орденского знака I степени полагался пожизненный взнос в сумме 300 рублей, II степени – 75 рублей, III степени – 50 рублей, IV степени – 25 рублей. Попутно все отделения Братства производили сбор школьных принадлежностей, церковной утвари, походных аптечек, одежды и т. п. Все это ежегодно отправлялось в предоставляемом по распоряжению Императора товарном вагоне на Дальний Восток и дальше морем, на пароходе Добровольного флота, на Камчатку. Во Владивостоке, на Седанке, под наблюдением архиепископа Евсевия на берегу Амурского залива комплектовались в разобранном виде церкви и школы, а затем после доставки их на место назначения так же производилась их сборка и установка. Вскоре таким путем удалось создать в разных уголках Камчатской области школы, церкви, приют для детей кочевников и т. п. В связи с транспортировкой людей и грузов, направляемых на Камчатку на пароходах Добровольного флота, мне вспомнился один примечательный случай.
В 1910 году к берегам Камчатки приблизился океанский пароход Добровольного флота «Кострома». В период русско-японской войны на этом судне был оборудован плавучий лазарет. А в упомянутом 1910 году «Кострома» совершала рейс из Петропавловска-Камчатского вдоль побережья на Чукотку с остановками в промежуточных портах. На борту этого парохода находились легкомысленные туристы – бездельники и прожигатели жизни, а администрация была из не менее легкомысленных людей. Все они коротали в плавании время за игрой в карты, флиртом и пьянством.
Как-то ночью «Кострома» по небрежности судоводителя налетела на полном ходу на Карагинскую косу. Пароход накренился, сев на мель и глубоко врезавшись килем в грунт. Снять его с мели не было никакой возможности. Во время аварии судна погиб один матрос, и его похоронили на берегу. Помощи из Владивостока скоро ожидать не приходилось, а свои технические средства были недостаточны.
Шло время, и вот, наконец, на горизонте показался японский пароход. Казалось, что он на основании международных морских правил и традиций окажет пострадавшему судну помощь. Однако японцы с пиратской проворностью ограбили «Кострому». Они забрали все более или менее ценное, вплоть до того, что посдирали с мебели бархатную обивку. Когда же наконец из Владивостока прибыл русский спасательный пароход, ему уже нечего было делать: от «Костромы» осталась одна коробка.
Некоторое время спустя правление пароходства «Добровольный флот» прислало на мое имя телеграмму. В ней управляющий пароходством просил, чтобы я во время моих зимних поездок на собаках вдоль побережья прибыл к Карагинской косе и осмотрел, в каком состоянии находится пароход «Кострома». Я выполнил эту просьбу.
Передо мной и моими спутниками предстало печальное зрелище. Посреди неистовых волн с пенистыми гребнями высился остов накренившегося океанского парохода. На берегу чуть приметна была одинокая могила погибшего матроса. Добраться к «Костроме», казалось, было почти невозможно. Один борт судна был погружен в воду, а другой высоко поднимался над бушующими волнами. Обжигающий лицо холодный ветер свистел в рваных мачтовых снастях. С помощью одного из камчадалов я все же забрался по обледенелому, почти вертикально накренившемуся борту на палубу, покрытую скользкой ледяной коркой. С трудом, в полумраке, с пылающим факелом в руках, местами ползком я и мои спутники пробирались сквозь внутренние помещения судна. Всюду были видны следы разрушения и японского грабежа.
По возвращении в Петропавловск я составил акт обследования «Костромы» и отправил его в правление «Добровольного флота». В ответ дирекция пароходства прислала мне благодарность и сообщила, что за оказанную услугу пароход «Кострома», непригодный для дальнейшей эксплуатации, передается в дар Камчатскому благотворительному братству.
Впоследствии в селении Карага, неподалеку от места аварии парохода «Кострома», я устроил зимовку деревенской школы из материалов, снятых с «Костромы». Остов же этого злополучного судна я, в свою очередь, подарил местному населению.
Этот случай еще раз наглядно показывает, что представляла из себя Камчатка в описываемые мною годы.
«КАМЧАТСКИЙ НЕГР»
По возвращении из Петербурга на Камчатку я снова горячо взялся за просветительско-пастырскую деятельность. Оба раза – и в 1910-м и в 1915 годах – я считал своим долгом останавливаться на некоторое время во Владивостоке и там при встрече с архиепископом Евсевием сообщать ему подробности моего пребывания в Петербурге.
Между прочим, 14 сентября 1910 года состоялось торжественное открытие во Владивостоке Камчатского благотворительного братства.
К этому времени императорским рескриптом Камчатский орденский знак был разрешен для ношения военными и морскими чинами наряду с государственными орденами и заносился в воинский формуляр.
Однако наряду с успехами, достигнутыми в создании Братства, были и обидные, до смешного нелепые случаи, порождаемые невежеством, незнанием этой обширной области нашей Родины, и не только среди столичной знати, но и среди тогдашних общественно-политических деятелей.
Возвращаясь ко времени моего пребывания в Петербурге в связи с хлопотами по утверждению Братства, я хочу рассказать о некоторых эпизодах, свидетельствующих о пренебрежительно-невежественном отношении тогдашнего столичного общества к малым народностям и отдаленным окраинам Российского государства.
Однажды, когда я пребывал в состоянии душевной удовлетворенности в связи с утверждением Камчатского благотворительного братства, ко мне в келью в Александро-Невской лавре пришел викарный епископ Никандр Ямбургский. По поручению митрополита Антония он передал мне его распоряжение и благословение в ближайшее воскресенье выступить в зале столичного епархиального дома с докладом о Камчатке и о моей пастырской деятельности. Я знал, что в Петербурге, на Стремянной улице, в епархиальном здании есть огромный лекционный зал, в котором обычно собирается много народа. Меня это несколько озадачило. Я растерялся и пытался отказаться от этого предложения, но епископ Никандр был неумолим. Он пояснил мне, что послушать сообщение о Камчатке явится весь состав членов Святейшего Синода, в том числе три митрополита и архиереи.
Спустя некоторое время по распоряжению обер-прокурора Святейшего Синода были разосланы пригласительные билеты. С волнением я начал готовиться к лекции. При мне было до двухсот негативов фотоснимков из жизни насельников Камчатской области. Пришлось срочно заказывать цветные диапозитивы.
4 декабря, в день, назначенный для моего первого публичного выступления, я, естественно, нервничал. В довершение ко всему меня обескуражила и возмутила легкомысленная выходка одной из столичных газет.
Дело в том, что все петербургские газеты поместили сообщение о предстоящей лекции. Но когда однажды утром я взял в руки «Петербургскую газету», то не поверил своим глазам. Прежде всего меня возмутила и удивила нелепейшая иллюстрация на странице этого печатного органа. На ней был изображен монах-негр в черной рясе греческого покроя и в греческой камилавке. Монах этот был совершенно черный, не считая оскаленных зубов и глазных белков. Оттопырив пухлые губы, монах улыбался со страницы «Петербургской газеты», сообщавшей крупным шрифтом: «КАМЧАТСКИЙ МОНАХ НЕСТОР – НЕГР».
А внизу под этим сообщением было напечатано:
«Иеромонах Нестор-негр прибыл с Камчатки и сегодня в епархиальном доме на Стремянной улице сделает доклад о Камчатке, где он служил, разъезжая по делам священнослужения на лодке с Камчатки на Ямайку. Он плохо говорит по-русски, но хорошо владеет английским языком. Вход на его лекцию для всех бесплатный».
Прочитав эти строки, я вознегодовал, но в то же время готов был рассмеяться. Ведь я до сих пор не знаю английского языка и ни разу не был на Ямайке. Теряясь в решении вопроса, чего больше в этом нелепом сообщении – глупости или издевательской наглости, я не знал, что предпринять, и готов был отменить лекцию. Кончилось тем, что я позвонил в редакцию «Петербургской газеты» и попросил к телефону редактора. Когда раздался его деловито-вопрошающий голос, я сказал:
– Как вы слышите, господин редактор, с вами говорит на чистейшем русском языке иеромонах Нестор, такой же негр, как вы эфиоп!
– Что за дерзость? – пытался возмущаться редактор.
– А вот возьмите в руки сегодняшний номер редактируемой вами газеты и полюбуйтесь, как вы там расписали меня, – уже успокоившись и с трудом сдерживая смех, ответил я, закончив свой протест требованием выяснить причину мистификации.
Спустя некоторое время раздался телефонный звонок, и редактор извиняющимся тоном сказал:
– Простите, о. Нестор, но, как я выяснил, произошло чрезвычайно досадное недоразумение... я бы сказал, проявлено грубое невежество со стороны одного из наших репортеров. Видите ли, мы послали его в лавру, где, как нам стало известно, остановился проездом иеромонах Нестор, известный своей миссионерской деятельностью на далекой, малоизвестной широкой публике Камчатке. Мы велели репортеру проинтервьюировать вас, но этот, я бы сказал, строчкогон и невежда, встретив в лаврских воротах монаха-негра, вообразил, что это вы. Он остановил его и, тыча пальцем в грудь, спросил: «Камчатка?» Негр с недоумением улыбнулся и ответил: «Ямайка!»
В дальнейшем их разговоре репортер и негр-монах не поняли друг друга, так как говорили на разных языках: русском и английском. Остальное при написании заметки репортеру подсказала его необузданная фантазия в сочетании с диким невежеством и абсолютной неосведомленностью о Камчатке.
Однако, как выяснилось, этот репортер-неудачник был прекрасным рисовальщиком. Он-то и изобразил меня в виде негра с Ямайки.
Позже стало известно, что в дни, когда я Александро-Невской лавре готовился к докладу, там жил и некий негр – монах с острова Ямайка по имени Рафаил. Его-то и принял ретивый репортер номера «Петербургской газеты» за иеромонаха Нестора с Камчатки.
Продолжая воспоминания о моей первой лекции в столице, я расскажу о следующем эпизоде. В назначенное для лекции время (4 декабря в 8 часов вечера) я отправился на извозчичьих дрожках к Стремянной улице, на угол Невского проспекта, но из-за толпы, собравшейся у входа в епархиальный дом, подъехать было невозможно. Я сошел с дрожек, но и пешком пробраться сквозь толпу было трудно. Улица была запружена народом. Люди различного возраста и общественного положения стремились ко входу в здание, где должна была состояться лекция «негра с Камчатки». Меня толкали, не пускали вперед и не хотели слушать мои просьбы и объяснения.
– Вы же видите, батюшка, – волнуясь и даже не глядя на меня, объяснял какой-то мужчина, – мы сами никак не можем пробраться в зал послушать негра – монаха с Камчатки.
Я несколько раз пытался рассеять их ошибочное представление, рассказать вкратце историю появления нелепейшей газетной информации о «негре с Камчатки», но меня никто не слушал. Наконец вместе с толпой «счастливцев» мне удалось протиснуться в прихожую епархиального дома. Но и здесь создалась пробка. Пробиться к лестнице мне долго не удавалось. Кругом стоял невообразимый шум, все кричали, спорили и не слушали друг друга. Я застрял в дверях с грустной мыслью, что дальше в зал мне вряд ли удастся пройти.
В это время меня сквозь пар, клубившийся в зале над головами сидевших там «счастливчиков», увидел отец протоиерей Дернов, недавно избранный председателем Петербургского отделения Камчатского благотворительного братства (вместо Шварца). Он велел собравшимся пропустить меня и сжато объяснил суть происшедшей ошибки.
Когда шум и говор утихли, в зал начали входить митрополиты, архиепископы и епископы. Они усаживались за большим столом. В центре был Владыка Антоний. Он вынул из портфеля «Петербургскую газету» и, указывая на нелепую заметку о негре с Камчатки, спросил меня:
– Что это такое?
Я коротко объяснил. Все, кто сидел за столом, рассмеялись, называя меня в шутку негром.
Когда все встали и пропели хором молитву, мне предоставили слово для доклада. Прежде чем начать свой рассказ о моей пастырской деятельности на Камчатке, я с улыбкой объяснил собравшимся, что на Камчатке негров нет. А негра-монаха Нестора, совершающего в лодке рейсы с холодной, покрытой снегом Камчатки в знойную тропическую Ямайку, выдумал репортер «Петербургской газеты».
Замечу кстати, что описанное мною невежество в вопросах, касающихся отдаленной от центра Камчатки, было отнюдь не единичным явлением в старой России. Поэтому в своей лекции я подробно рассказал о городе Петропавловске, о Камчатской области, об иерархах и святынях этого края. Упомянул о типах камчатских жителей, их нравах, обычаях и быте.
После моего доклада митрополит Антоний объявил, что сейчас по рядам пройдут сборщики пожертвований на Камчатское благотворительное братство. Была собрана огромная сумма денег. Кроме того, среди золотых, серебряных монет и кредитных билетов были кольца, браслеты, серьги с бриллиантами, крестики и многие другие ценности. Немедленно по окончании сбора был составлен акт и все собранное вручили мне как дар Камчатскому благотворительному братству.
В заключение состоялся концерт духовной музыки. Кружок любителей церковного пения, состоявший в основном из учителей церковно-приходских школ, также отчислил сумму, вырученную за выступление, в пользу Камчатского братства.
Продолжая еще некоторое время оставаться в Петербурге по делам Камчатского благотворительного братства, я был приглашен к старушке вдове, генеральше Александре Алексеевне Куракиной. Это была добрейшая и наивнейшая в своей оригинальной простоте знатная русская женщина. Она, по рекомендации вдовствующей Императрицы Марии Феодоровны, как бывшая статс-дама, была приглашена в число членов-учредителей Петербургского отделения Камчатского благотворительного братства. Куракина сказала, что желает помочь и делом, и деньгами, тем более что ее удостоили избрания в вице-президенты столичного отделения Братства. Особенно ей хотелось быть полезной в задуманном мною создании монастыря на Камчатке.
И вот, не долго думая, Куракина сняла с себя золотую цепь, украшенную бриллиантами и сапфирами, которую ей в годы молодости подарила при поездке в Данию Императрица Мария Феодоровна. На цепи был лорнет. Она сняла его и сказала:
– Мне кажется, лорнет на Камчатке не будет нужен... А вот эту цепь разрешите, о. Нестор, преподнести вам в дар вашему Благотворительному братству.
В дальнейшем при каждом моем посещении Петербурга по делам Камчатского братства я обязательно навещал Александру Алексеевну Куракину. И всякий раз она задавала мне вопрос:
– Нашли ли вы, о. Нестор, достойную, энергичную монашествующую братию для Камчатского монастыря?
Я отвечал, что это не так-то просто и что я предполагаю посетить монастыри со строгим уставом для подбора деятельных, трудолюбивых монахов. Но старушка генеральша не соглашалась со мной.
– Вы не понимаете меня, – твердила Куракина, – вы не понимаете, о. Нестор, как вы этим тормозите свое доброе дело. Вот вы остановились в Александро-Невской лавре. Там очень много монахов, и не все они там нужны. Я рекомендую вам подходить к каждому монаху и останавливать его словами: «Стой, монах! Ты нужен на Камчатке, в монастыре. Поезжай со мной!»
Как я ни старался убедить Куракину, что «отобранные» таким путем монахи не подойдут для строгого труда на Камчатке и вряд ли согласятся расстаться с сытой жизнью в столичной лавре, старушка генеральша продолжала настаивать на своем, и мы расставались взаимно огорченные.
Когда же я спустя день-два опять приходил к ней, она принимала меня с распростертыми объятиями и повторяла, сокрушенно покачивая головой:
– Ах, какая я дура! Как только, о. Нестор, вы ушли от меня, я задумалась над вашими словами и пришла к мысли, что вы правы. Не берите к себе на Камчатку столичных монахов!
Как-то во время такой беседы лакей доложил, что к Александре Алексеевне пожаловала графиня Мусина-Пушкина. Куракина не задумываясь ответила:
– Скажи графине, что я сейчас очень занята. У меня о. Нестор с Камчатки. Я никого не принимаю. Пусть пожалует в другой раз.
Но дверь настежь распахнулась и влетела вместе с перепуганной горничной старуха графиня Мусина-Пушкина.
– Я к вам на минутку! – прохрипела она.
– Я не могу вас принять. Уйдите! – завопила Куракина. – Вы видите, у меня о. Нестор!
И как ни пыталась графиня Мусина-Пушкина броситься с широко распростертыми объятиями к Куракиной, та отстранялась и настойчиво просила:
– Оставьте меня! Приходите в другой раз! Ведь у меня о. Нестор!..
9. Камчатское братство
Твоим, о Боже, попеченьям
Я отдаю всю жизнь мою.
Со страхом и благоговеньем
Готовлюсь к оному я дню.
Я отдаюсь Тебе, Спаситель,
Умом, и сердцем, и душой,
И в оный день, о Вседержитель,
Готов предстать перед Тобой!
Свети во мраке ярким светом
Мой благодатный путеводный огонек!
Свети язычникам Христовым светом,
Чтоб свет Твой всех к Тебе привлек!
Свети всем сбившимся с дороги,
Свети заблудшимся в пути!
Зови их всех к заветам Бога,
Чтоб верный путь могли найти!
Творить добро есть цель благая:
Господь поможет совершить.
Итак, свети не уставая,
Чтоб свет Христов во тьму пролить!
14 сентября 1910 года во Владивостоке было открыто Камчатское братство. При его открытии я произнес речь о задачах Братства.
– Исполняя волю Высокопреосвященнейшего архипастыря нашего, вступаю я на эту кафедру, чтобы предложить вашему вниманию некоторые свои предположения и соображения о главной цели и задачах открываемого ныне православного Камчатского братства. Быть может, даже для живущих здесь, на Дальнем Востоке, известие о Камчатском Братстве так же ново, как, собственно говоря, еще ново для нас и всякое известие и сообщение о далекой Камчатке.
Да, надо сознаться, что для большинства русских людей открытие Камчатки совершилось не более каких-нибудь двух, трех, ну десяти лет тому назад, несмотря на то что иностранцы и ближайшие соседи Камчатки – японцы, американцы уже сотни лет, подробно исследовав всю естественно-богатую Камчатку, тайно и явно работают там в пользу интересов своих стран.
Для большей наглядности приведу краткий рассказ из жизни камчатского путешественника. В Японии камчатский путешественник спрашивает японцев: где они добыли и приобрели десятки тысяч белок, котиков, лисиц и другой пушнины?
Японцы отвечают:
– В русской Камчатке.
В той же самой Японии спрашиваем: где японцы добыли сотни тысяч пудов рыбы и запасли в обилии икры?
Получаем ответ: в русской Камчатке.
Да камчатскому путешественнику, можно, и не спрашивая ни японцев, ни американцев, где они что-то добыли, самому все это наблюдать и видеть по всему Охотско-Камчатскому побережью и в северных водах Камчатки.
Заехал камчатский путешественник к в Россию, на родину. Вот земляки в просвещенном центре России его и спрашивают:
– Вы откуда – с Камчатки? Ой-ой-ой... Да ведь это... Постойте-ка, да чья она? Наша или иностранная? И охота вам жить с какими-то грязными дикарями-камчадалами? Бросьте их, оставьте, идите лучше в Россию, тут своего дела много. А там и питаться нечем, одна собачья пища.
Не так больно было бы это слышать, если бы говорили это не русские люди.
Наконец, в самой Камчатке путешественник камчатский, видя кругом бедность, нищету, болезни, голод, нужду, хищения и беспомощность, спрашивает камчадалов и туземцев, кто же им во всех бедах помогает и их утешает. И – о ужас, да будет всем нам стыдно! – камчадалы отвечают:
– Японцы нам братья и хотя берут у нас рыбу и пушнину, но и нам помогают.
Слышали? Японцы – братья...
А мы зачем собрались сюда только еще сегодня?
Выслушав подробный рассказ камчатского путешественника, мне думается, каждый скажет: да, необходимо скорее учредить русское братство для далекой пока еще Русской Камчатки, а то и в самом деле Россия, как недобрая мачеха, совершенно оставила на произвол судьбы свою Камчатку, а при подобном внимании к Камчатке иностранцев она легко может и в действительности стать американской или японской.
Итак, чтобы Камчатская область не была забыта, заброшена Россией, чтобы она не была одинока и беспомощна в своей тяжелой жизни, чтобы на краю русской земли не раздавались упреки о русской христианской бессердечности, – да будет у Камчатки свой попечитель: святое православное Братство, а не японское.
Какова же должна быть служба, деятельность Братства и каковы нужды Камчатки?
Дадим посильный ответ на эти вопросы, занимающие в данное время каждого слушателя. С помощью благотворительных, просветительных и врачебных братских учреждений, питаемых сочувствием всей православной России, Братство должно служить деятельным стражем духовных и материальных интересов всех обитателей этой окраины; оно должно явиться противовесом всяким богато обеспеченным иноверным и иноземным миссиям, обществам и братствам, дабы не дать им совершенно отторгнуть и подчинить себе обширный естественно-богатый Камчатский край, представляющий собою окно во второе земное полушарие.
Содействие просвещению святым Евангелием остатков языческого мира, уцелевшего на дальневосточных окраинах, должно быть тоже одной из главных задач Камчатского братства, тем более что некоторые камчатские дети природы – язычники сейчас готовы своими душами и сердцами для Христова Евангельского посева и есть местами уже зрелая для Христа жатва. Но гибнет она из-за отсутствия духовных вождей, ибо что может сделать одинокий бесправный необеспеченный миссионер против произвола всевозможных хищников и при беспредельном самовластии настоящих горе-культурных сограждан, окружающих камчатских туземцев!
Но, к сожалению, некоторые язычники, даже при полном чувствовании и сознании пустоты шаманских верований, все же пугливо держатся в стороне и от христианства, вследствие нехристианского поведения русского населения.
Язычники спрашивают миссионера:
– А где же светлый Бог у тех, кто день и ночь шаманят за картами и вином, грабят нас и дают грабить другим?
Что сказать, что ответить простодушным язычникам должен миссионер, не имеющий около себя своих русских собратьев? Разве мыслимо с успехом проповедовать Христа диким племенам и предлагать им войти в духовное единение с такой средою, от которой с ужасом отвращается их детское сердце? Вот опять православное Братство должно и в этом случае позаботиться, чтобы русское имя было любимо на Камчатке, чтобы образовалась там такая среда, которая силою добрых примеров и попечений не только удержала бы просвещенных православием язычников под материнской властью святой Церкви, но и давала бы чистое нравственное понятие, а не ложное и гнусное представление язычникам о жизни и вере православных христиан.
Теперь мы приблизительно знаем, чем может служить православное Братство Камчатской области, и, несомненно, все в один голос скажем, что именно в настоящее время особенно нужно святое Братство, что дело Братства есть дело общегосударственное, жизненное и общенародное, требующее для себя нужной, дружной, воодушевленной поддержки.
Мы должны еще в кратких словах сказать о нужде Камчатской области.
Камчатская область нуждается в даровании тех же средств, какими три века просвещалась и покорялась Сибирь, т. е. в умножении храмов, приходов, походных миссий, школ с ремесленными, слесарными, столярными отделениями и с общежитиями для детей бродячих туземцев.
Является нужда в больницах, в благоустройстве лепрозорных колоний для несчастных мучеников-прокаженных – вот каков должен быть труд камчатских братчиков.
Наблюдательный и практичный ум мог бы заметить, что я опустил самое главное, самое существенное для просвещения и насаждения христианской культуры в далеком, диком, суровом краю. Но я специально хотел оттенить, выделить эту насущную для просвещения области нужду. Конечно, нужна для дикарей-туземцев и вообще камчадалов точка опоры в нравственной, трудолюбивой, богоугодной, христианской жизни, нужна молитвенная купель для православного просвещения всей области, нужна духовная врачебница – мирная святая иноческая обитель, нужна примерная показательная община трудолюбивых братий, послушников, учителей во всех отраслях хозяйственной, сельской, полевой, лесной, огородной, речной, морской работы и различной добыче природных богатств.
Если громче, убедительнее кинуть клич по святой Руси, то найдутся смиренные, добрые люди, ищущие иноческого подвига, найдутся люди, жаждущие и равноапостольской, и миссионерской службы Богу и ближним. И сейчас уже есть желающие такого труда, только их надо поддержать, воодушевить и снабдить всем насущным для отправления в далекий край. И будут эти люди просвещать дикий необработанный край светом Божественного Евангелия и орошать неприветливую землю молитвенными слезами, а Бог поможет им в их полезных трудах.
История Камчатского края нам напоминает, что в начале XVIII века (в 1711 году) заботами первого камчатского миссионера, архимандрита Мартиниана, была устроена в Нижнекамчатске святая Успенская обитель. Но грубая невежественная сила служивых людей, ссыльных и иностранцев разорила вконец Камчатскую область.
Дорогие братья!
Так я дерзаю называть решительно всех вас, православных людей русских, здесь присутствующих, и чрез ваши головы кричу всей православной России, без различия звания, состояния, пола и возраста, как братьям или братчикам отдаленной русской камчатской окраины.
Итак, братья!
Позвольте же больше не сомневаться в том, что уже коснулась вашего сердца леденящая душу совокупность бед и печалей многострадальной земли забвенной. Позвольте прочитать во всеуслышание ваши правильные сердечные определение и заключение. Да, все жители Камчатки, хотя и питаются подчас по нужде собачьей пищей (а иногда и этой пищи лишены и живут даже не в хижинах и лачугах, а в юртах и даже под землею), но все же они носят те же духовные черты образа и подобия Божия, а следовательно, они наши братья и посему имеют одинаковое с нами право на радость и блага христианской культуры.
Если вы любите и жалеете Камчатку, если вы верите ей, если не хотите, чтобы русское Охотское море и весь Тихий океан, в котором нашли вечное себе упокоение многие русские самоотверженные воины, были подчинены Желтому Востоку, то вы ради самоотверженных подвигов своих братий, отстаивающих русское море для России даже до места мученической смерти, – ради них все вы должны прочно водворить русское Братство в Камчатке, представляющее собою передовой опыт, против коварного языческого Востока и тем выдворить иностранное своевольное, хищное, лукавое братство, обращающее Камчатку в рабство!
Бог в помощь всем нам! Служите кто, как и чем может; кто не может послужить средствами, даже малой лептой, тот послужи добрым именем, советом, молитвой и просто сердечным сочувствием – все это дорого и приемлется с глубокой сердечной благодарностью от лица Камчатской области и от лица приемлющих.
А ты, русская народная великая армия! Устреми свой взор на Дальний Восток, прислушайся к мольбе и стонам забытой Камчатки и приди послужить ей дружно, по-братски приди охранять нас! Это твой священный долг.
Поспешим же всею братскою семьею самоотверженно порадеть словом и делом о сохранении и благополучии нашей Камчатки и ее обитателей!
Покров для нас – братское знамя Нерукотворного Образа Всемилостивого Спаса. Надежда у нас – на небесное предстательство приснопамятных православных просветителей Сибири и Камчатки.
Источником благодатного воодушевления да послужит нам обращенный к каждому рабу Божию великий завет Христов:
«Изыди на пути и халуги, и убеди внити, да наполнится дом Мой» (Лк.14:23).
Открытие Братства возглавил архиепископ Евсевий.
Председателем Совета братства был избран протоиерей Владивостокского кафедрального собора о. А. Муравьев; членами – протоиерей о. Н. Чистяков, камчадал протоиерей о. И. Коноплев, начальница женской гимназии А. Г. Кравцова и другие.
Кроме перечисленных лиц, деятельными членами Совета братства были архиепископ Николай, заслуженно названный «Апостолом Японии» за плодотворную архипастырскую деятельность; генерал-губернатор Гондатти; игуменья Руфина – настоятельница женского Чардынского монастыря и многие другие.
Между прочим, о начальнице гимназии А. Г. Кравцовой хочется рассказать следующее. В одном из заброшенных камчатских селений в созданной мною начальной школе успешно закончила обучение девочка-камчадалка Вера Козлова. Радуясь ее успехам в учении, я по ее просьбе взял ее с собой во Владивосток. Здесь Верой Козловой и заинтересовалась член совета Благотворительного братства А. Г. Кравцова – женщина передовая и отзывчивая. Она охотно приняла девочку-камчадалку в гимназию. Вера окончила ее с золотой медалью и вернулась на Камчатку учительствовать в детской школе.
Весьма успешно развивалась деятельность Петербургского отделения Камчатского благотворительного братства. Уже через год после основания здесь было 258 членов. Средства, накапливавшиеся в столичном отделении, шли на устройство церквей, школ, приютов, лечебниц и станов на Камчатке. В частности, на собранные в столице пожертвования был создан и отправлен на Камчатку так называемый «Первый Петербургский стан» для села Тиличики Гижигинского уезда. Отсюда же была отправлена церковь для камчатских сел Начики, Пенжино и других, а также оборудован приют для коряков, открыта больница и богадельня в Теличиках.
Камчатское благотворительное братство за первые три года своего существования насчитывало уже 1900 членов и имело свои отделения во всех уголках Российской Империи – от Петербурга до Владивостока.
После одного из моих пребываний в Перми при возвращении из столицы на Камчатку я задержался на своей родине, в г. Вятке. Я посетил здешнего епископа Филарета. Он обрадовал меня сообщением о том, что для оказания содействия в религиозно-просветительской работе на Камчатке в мое распоряжение командируется из г. Глазова протоиерей о. Даниил Шерстенников. По прибытии в Петропавловск он возглавил местное отделение Братства, а впоследствии был епископом Охотским, викарием Камчатской епархии.
Каждое освящение вновь открываемых храмов или благотворительных учреждений привлекало огромное количество местных жителей. А освещение храма в Олюторске ознаменовалось массовым крещением коряков, а также вступлением в церковный брак, доселе ими презираемый.
* * *
Бессильны здесь и бури и волненья,
Мой челн уже на берегу ином.
С 1911-го по 1917 год Камчатское благотворительное братство имело в своем распоряжении огромные суммы денег, исчислявшиеся сотнями тысяч рублей. В течение пяти лет было выстроено семь новых церквей и открыто восемь школ. Таким образом, в 1916 году в Камчатской области существовало 35 церквей, 38 часовен со святыми престолами и 42 школы.
То, что создание Братства благоприятствовало успешному и широкому развитию моей пастырской деятельности, могут подтвердить следующие выдержки из авторитетных изданий тех времен.
Так, например, еще задолго до моего прибытия на Камчатку «Церковные ведомости», издаваемые при Святейшем Правительствующем Синоде, в № 24 от 9 июня 1890 года сообщали:
«В Камчатской епархии трудами православного духовенства обращено к христианской вере 388 человек».
Эти итоговые данные за 1890 год интересно сравнить с цифрой, приведенной в следующем сообщении («Енисейские епархиальные ведомости», № 5 от 1 марта 1913 года):
«Из Петропавловска-Камчатского сообщают о том, что добровольно прибывшим туда иеромонахом о. Нестором освящена в бухте барона Корфа церковь в честь св. Иоасафа Белгородского. Богослужения и проповеди в ней проводятся на корякском языке. Вскоре по открытии церкви крестилось свыше 100 коряков. Они перестали сжигать умерших по языческому обряду и стали носить русское платье».
Однако эти и многие другие радостные моменты в моей пастырской деятельности порой отравлялись совершенно нелепыми обидно невежественными случаями. Однажды попал мне в руки петербургский еженедельный журнал «Всемирная панорама» (№№ 97–98 за 1910 год). И хотя на обложке его были изображены на фоне гор, лесов, морей и рек мчащиеся поезда, рассекающие океанские волны пароходы, пролетающие под облаками дирижабли, а по суше метались воинственные индейцы с томагавками и перьями в волосах, а также эскимосы на санях в собачьей упряжке и т. д. и т. п., но, по-видимому, ни редактор, ни сотрудники этого столичного издания с претенциозным названием «Всемирная панорама» не знали толком о том, что делается у нас в России, в частности на одной из ее окраин – Камчатке.
Им ничего не было известно об этом полуострове, свыше двух столетий принадлежавшем русским; о той Камчатке, где в 1854–1855 годах отважный малочисленный гарнизон героически отразил нападение англо-французской эскадры, позорно бежавшей от наших берегов. Только невежеством можно объяснить появление в этом журнале снимка, изображавшего величественную бухту с раскинувшимся на гористом побережье городом Петропавловском-Камчатским с подписью:
«Город Петропавловск Камчатской области, основанный иеромонахом Нестором».
Вот как знали в царской России Камчатку!
Должен признать, что в 10-х годах нынешнего века о забытой власть имущими людьми Камчатке заговорил в Петербурге скромный иеромонах Нестор и тем самым как бы вторично «открыл» ее.
Во время одного из моих пребываний в Петербурге я посетил виднейшего в те годы журналиста М. О. Меньшикова, бывшего некоторое время редактором весьма влиятельной крупной газеты «Новое время». Я попросил его написать о Камчатке, о нуждах ее населения. Он взглянул на меня с презрительной усмешкой и сказал:
– Зачем вы, о. Нестор, бросаете «русское дело» здесь, в центре России, и уходите куда-то в далекую, никого не интересующую Камчатку, к отсталым, диким язычникам, ее населяющим?
– Не забывайте, – ответил я ему, – что жители Камчатки такие же люди, как и мы с вами.
Столичный журналист с ужасом округлил глаза и непонимающе пожал плечами. А я, не обращая на это внимания, продолжал:
– Они имеют душу человеческую, бедны, но добры. Многие из них еще ничего не знают о Христе, заповедовавшем: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына, и Святаго Духа» (Мф.28:19).
Тем не менее М. О. Меньшиков отказался написать что-нибудь о Камчатской области и о моей тамошней деятельности. Были, правда, несколько позже отдельные личности, с любовью и интересом относившиеся к Камчатке и ее обитателям. Так, например, некто Арс. Несмелое к 200-летию основания города Петропавловска-Камчатского написал следующее стихотворение:
Славный Беринг взор направил
На снега камчатских гор:
Галиоты «Петр» и «Павел»
Вводит в бухту командор.
Вот и цепи забренчали,
Загремели якоря...
Петропавловск, не твоя ли
Загорается заря?!
Вспомним этот день любовно
В юбилей твой, славный град,
Ибо было это ровно
Двести лет тому назад.
Труд великий совершая,
Русский молот застучал,
И жемчужиною края
Петропавловск скоро стал.
Так он смирно занимался,
Сын двух русских кораблей,
И отсюда разливался
Свет Христов на дикарей.
«Братья, трепетно возденьте
Очи к вечным небесам», –
Архипастырь Иннокентий
Разжигал тот светоч нам.
Город рос. Кипела стройка,
И в один военный год
Вместе с доблестным Завойко
Отразил он вражий флот.
10. Историческое прошлое Камчатской области
Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
Суровую, дикую, малообжитую в прошлом Камчатскую область и ее полудиких обитателей я полюбил всем сердцем. Меня интересовало прошлое этого замечательного во всех отношениях края.
Издавна у русского народа родилась неудержимая, бесстрашная страсть к открытию новых земель и присоединению их к своей Родине. Установление естественных границ стало впоследствии проблемой русской государственности.
Камчатка – часть России. Среди необозримых просторов нашей Родины она занимает самую восточную часть ее, то крыло Азии, которое тесно соприкасается с лежащим напротив берегом Америки и на географических картах рисуется обыкновенно в западном полушарии как маленький язычок в левом верхнем углу.
Собственно Камчатский полуостров, Камчатка в прямом смысле этого слова, составляет лишь небольшую часть огромной Камчатской области и Камчатской епархии, простирающейся на всю прибрежную полосу по берегам Охотского и Берингова морей и Северного Ледовитого океана и углубляющейся во внутреннюю часть материка к границам Якутской области.
Русские впервые появились в этих местах в середине XVII столетия. Славной памяти якутский казак Симеон Дежнев со своими сподвижниками в 1649 году завоевал Чукотско-Анадырский край.

Крест Дежнева. Нач. XX в.
Первые же сведения о свободном племени «чукоч» исходили еще в 1644 года от строителя Нижнеколымского острога, казака Михаила Стадухина. И тогда же отважные якутские казаки, промышленники и вольные люди отправились на поиски Чукотского края.
От устья Колымы по Ледовитому океану они плыли на самодельных утлых ладьях – кочах. Это были плоскодонные суда длиною до 12 саженей и соразмерной ширины. Управлялись они гребцами, а при попутном ветре ставились паруса из оленьей кожи. Якоря на кочах были деревянные с привязанными к ним камнями. На таких примитивных судах было, конечно, трудно справляться с бурными волнами океана, и отважные путешественники явно рисковали жизнью, отправляясь в морское плавание.
Многие соратники Дежнева погибли в суровом море, отыскивая Чукотский край, когда их кочи разбивало волнами или глыбами плавающего льда. Многие погибли от холода, голода и разных болезней. Но ничто не устрашило отважных казаков, и всякий раз редевшие ряды умиравших и погибавших героев – искателей новых неведомых земель – пополнялись новыми предпринимателями, пускавшимися в смелое плавание по бурному морю или в сухопутную разведку по суровой пустыне, в леса, горы и тундру.
Когда утлые ладьи с отважными пловцами разбивало и выбрасывало на берег, они отправлялись пешком по тундре и бездорожью и попутно покоряли суровых обитателей диких пустынь, собирая с них ясак (подать в казну мехами), а туземцев, сопротивлявшихся им, усмиряли расправой.
Таким образом Дежнев со сподвижниками прошел Чукотскую землю, воюя с непокорными чукчами. Безлесье, тундра, холод, неприветливая природа в чукотской земле заставили казаков скоро уйти оттуда дальше, в анадырскую землю. По пути к устью реки Анадырь Дежнев покорил многочисленное племя анаулов, но впоследствии за непокорность совершенно истребил его, так что от этого народа не осталось и следа.
На реке Анадырь казаки основали первый острог, осели там прочно на постоянное жительство, обустроили дома и поставили церковь. Из Анадырского острога казаки партиями отправлялись по окрестностям и покоряли оседлых и кочующих чуванцев, юкагиров, коряков и олюторцев, собирая с них ясак.
В то время когда партия казаков, предводительствуемая Симеоном Дежневым, покоряла Чукотско-Анадырский край, другая партия казаков во главе с Симеоном Шелковниковым покоряла Охотский край и живущих по побережью Охотского моря тунгусов. Здесь казаки основали Охотский острог и утвердились на постоянное жительство.
Существует весьма вероятное предположение о том, что Камчатку впервые посетил еще спутник знаменитого русского землепроходца Симеона Дежнева Федот Алексеев, который в 1648 году объезжал северо-восточную Азию, находясь на особом, им предводительствуемом коче. Бурею он был разлучен с Дежневым и, не попав на Анадырь, оказался на берегу Камчатского полуострова, который и обошел кругом. Но так как из-за преждевременной смерти Алексеева Русское государство так ничего и не узнало о его открытиях и путешествии, то первооткрывателем и покорителем Камчатки считают якутского казака, полусотника Владимира Атласова, который в 1696 году в сопровождении шестидесяти человек совершил поход на Камчатку и, проникнув в глубь страны, построил Верхнекамчатский острог.
В конце XVII и начале XVIII века здесь появились русские исследователи, смелые люди – казак В. В. Атласов и С. П. Крашенинников.
По мнению Крашенинникова, слово «Камчатка» пришло к нам от коряков. «Кончал» обозначало на их языке «камчадал» (а сами камчадалы называли себя «ительмен», т. е. «люди»). «Кончат» – это на языке коряков «долина реки Камчатки», «кончаток» – «в долине Камчатки». Любопытно отметить и то, что наименование «Камчатка» можно найти в старинных чертежах Сибири, составленных в 1667 году при Борисе Годунове.
Авторитетные камчатские исследователи Крашенинников и Миллер приводят ряд фактов, которые говорят о том, что первым русским, появившимся на Камчатке, действительно был Федот Алексеев. Сам Атласов в своих записях сообщает со слов камчадалов о первом русском на Камчатке Федоте Алексееве, «по имени которого впадавшую в реку Камчатку Никул – речка Федотовщиной называется».
Атласов и Крашенинников обнаружили примитивную технику обработки кости и камня, а также гончарство. Древнее население Камчатского полуострова – ительмены занимались рыболовством и в меньшей степени охотой. Средствами передвижения у них летом была долбленая лодка, а зимой – собачья упряжь. Язык ительменов вместе с корякским и чукотским образует северо-восточную группу азиатских языков. Большинство ительменов постепенно усвоили русский язык и охотно приобщались к русской культуре. Вскоре у них появились сети, железные инструменты, огнестрельное оружие, они освоили новые отрасли хозяйства – огородничество, скотоводство. Под влиянием более совершенного русского языка видоизменялся и развивался, как и разговорная речь, язык других обитателей Камчатского края: эвенов (ламутов), коряков (нымыланов) и алеутов.
Уже в те далекие годы русским было известно о том, что Камчатский полуостров богат полезными ископаемыми: углем, торфом, пемзой (продукт камчатских вулканов), слюдой, охрой, серным колчеданом и нефтью.
Атласов представлял собой личность исключительную: человек малообразованный, он тем не менее был очень умным, наблюдательным, сообразительным и с громадной инициативой. Его записи заключают в себе массу географических данных, и никто из сибирских землепроходцев, включая и Беринга, не давал таких содержательных отчетов, какие давал он.
Атласов обложил податью часть жителей и следующим интересным письмом доложил обо всем им сделанном в Москву, Петру Великому:
«Якутский казак Володимер из твоих государевых людишек бьет челом Великому Государю и просит Его царское Величество принять камчатскую землю под свою высокую руку, а его бы не оставил царской милостью. В той Камчатке реки выходят из берегов ради великого обилия рыбы, а в траве не видать конного человека. За чугунный котелок люди платят столько соболиных шкур, сколько их в него укладывается плотно.
Там есть ключи и озера с такой же горячей водой, как в бане, а кругом тех ключей горы превеликие, из них же дым и пламень, яко из ада преисподнейшего».
Петр Великий наградил Атласова за подвиг чином головы и принял привезенную Атласовым камчатскую подать: 80 сороков соболей, 17 морских бобров, 4 выдры, 10 чернобурых лисиц и 191 красную. Атласову Петр Великий дал приказ: «Накрепко стеречь камчатскую землю, понеже земля сия продуктами натуры вельми богата и пользу немалую Российской державе учинить может». Для этого Атласова снабдили пушками, порохом, свинцом, поручили набрать отряд в сто человек, дали полковое знамя, поставили к отряду барабанщика и горниста.
К сожалению, возвращаясь с триумфом, Атласов был задержан за буйство на реке Тунгуске и только в 1707 году вновь дошел до Камчатки, но вскоре был убит.
В 1639 году якутский казак Иван Москвитянин с двенадцатью товарищами был послан с реки Лены атаманом Копыловым на северо-восток. Построив ладьи, этот храбрый отряд двинулся в трудный поход по реке Ульи и дошел до «Большого моря». Это были первые русские на берегу Тихого океана.
По западному побережью Камчатский полуостров покорял камчадал казак Морозко с дружиной. Когда весь край, составляющий ныне так называемую Камчатскую область, был окончательно покорен, русское правительство начало посылать в покоренные места к туземцам русских приказных людей и комиссаров для сбора ясака – подати – в казну для устройства острогов и для присмотра за туземцами.
Страна, составляющая настоящую Камчатскую область, представляет собой площадь в 1 млн. 900 тысяч квадратных верст и равна трем государствам Европы – Франции, Италии и Германии, вместе взятым. Береговая полоса, омываемая Беринговым, Охотским морями и Северным Ледовитым океаном, равняется 10 тысячам погонных верст.
Обратим наш взор в глубь веков, ко времени покорения Камчатской области и просвещения этого темного, языческого края светом Христова учения.
Первый священник-миссионер архимандрит Мартиниан, по некоторым свидетельствам из Казани, прибыл на Камчатку в 1705 году. Но во время восстания и войны камчадалов с пришлыми людьми и сборщиками ясака в 1718 году о. Мартиниан был мученически убит и сброшен в реку Большую.
Особого внимания достоин главнейший продолжатель дела о. Мартиниана – молодой казак Иван Козыревский.
С малых лет оставшись сиротой, Козыревский попал под дурное влияние и воспитывался в среде вольной казацкой дружины и сборщиков ясака, где усвоил грубые нравы и вольности, присущие духу того времени. Он был соучастником убийства покорителя Камчатки Владимира Атласова, и за сию вину, а также за беспощадное убийство некоторых камчадалов, неистовство и жестокое обращение с местным населением Козыревский и Стадухин были наказаны царем Петром I. Вместо смертной казни они были приговорены судом к отправлению на исследование «соседственных с Камчаткой» Курильских островов. Им было велено собственноручно построить кочи (корабль) и отправиться на них в путь на изыскание новых островов, граничащих с Камчаткой, и присоединить их к России.
Оба провинившихся казака выполнили это повеление. Геройски отважно совершил Козыревский трудное путешествие по неведомому морю и увековечил свое имя подчинением России курильцев, с которых собрал ясак мехами. Своим отважным походом на курильцев он считался отбывшим наказание и искупившим свою вину. Он приплыл к ближайшему к южной оконечности Камчатки мысу Лопатке и присоединил под Российский государственный флаг большие острова – Шумшу и Парамушир, за что был прощен и награжден десятью рублями (!).
Но сам Иван Козыревский, движимый чувством раскаяния, решился посвятить свою жизнь иноческому служению и в 1711 году принял на Камчатке монашество с именем Игнатий. Отец Игнатий построил первую камчатскую монастырскую пустынь на впадающей в реку Камчатку незамерзающей реке Николке, где было первое зимовье русских в 1654 году (казака Ф. Алексеева), близ Ключевской сопки, и с глубокой самоотверженностью стал служить Камчатскому краю, просвещая его светом Христовым.
При своей обители о. Игнатий устроил убежище для калек и престарелых камчадалов, а на прилегающей к монастырю земле занялся обработкой полей, огородничеством, сажал корнеплодные овощи и т. п., ведя тяжкую борьбу с суровой природой. В этом далеком северном монастыре он создал столярную и слесарную мастерские, соорудил рыболовецкие снасти. Своим трудолюбием он привлекал к этому делу камчадалов, обучал их земледельческим трудам.
Монастырь просуществовал около восемнадцати лет. В 1732 году о. Игнатий, к тому времени уже иеромонах, был вызван в Москву и по постановлению Тайной канцелярии15 лишен сана и расстрижен, а обитель, осиротевшая без своего руководителя, была разграблена и сожжена во время камчатских бунтов в том же 1732 году. Причина лишения о. Игнатия сана, вероятно, крылась в том, что горячий патриот, о. Игнатий не пришелся по вкусу временщику Бирону.
Отец Игнатий оставил на молитвенную память на Камчатке написанный им синодик – небольшую тетрадь с изложением своих преступлений на Камчатке и с просьбой ко всем, кто их прочитает, помолиться Богу о упокоении его многогрешной души. Он просил молиться о прощении его грехов и о помиловании убиенных на Камчатке людей.
После разорения обители последовал период кровопролитных битв, смут и волнений среди туземцев Камчатки, восставших на защиту своих прав. Истощилось долготерпение жителей Камчатки, притесняемых приказчиками, ясачными сборщиками. Сбор ясака производился насильственно и во много раз превышал законный размер подати, причем сборщики жестоко, бесчеловечно обращались с беззащитными дикарями. Без зазрения совести они отнимали у них всю промышляемую пушнину, всякий мех и даже меховую рухлядь. Жизнь человеческая ставилась ни во что и насильственно отнималась за кожу и мех убитого зверя, хотя и мех в те времена ценился очень дешево.
Во время зимнего объезда Камчатской области мною было избрано это место под монастырь, который я намеревался восстановить. На месте бывшей первой камчатской Никольской церкви и по сие время стоит крест в ограде, и место это носит название «Монастырь». По берегу незамерзающей реки Ключевой пустующий участок земли на протяжении пяти верст и поныне подразделяется на различные названия, дающие возможность безошибочно определить места существовавших именно здесь монастыря и казачьей крепости.
Так, после участка земли, именуемого «Монастырь», следуют: 1) Пелоч, 2) Казармы, 3) Конюшни, 4) Банюшки, 5) Балашаны для рыбы (навесы), 6) Мельница (остатки видны в воде), 7) Вершины Ключа, 8) Баты.
Жители Ключевского селения и ближайших заимок круглый год промышляют для себя и для собак рыбу в незамерзающих Ключах.
19 декабря 1910 года я ездил на собаках из селения Ключи для осмотра вышеописанного участка земли под монастырь и реки Ключи и видел, как рыба кижуч шла сплошной стеной, а все заливы (по очертаниям ковшеобразные) представляли собой как бы огромный чан или котел, в котором кишел не один десяток тысяч рыб. Ключевские крестьяне, забредя в непромокаемых шарах (сапогах) в воду, бьют рыбу палками и баграми и выбрасывают ее на нарту.
В июле и августе в реке Ключи появляется рыба азабач (красная), с сентября по февраль – кижуч, постоянная рыба – голец. Бывает также застойная рыба, т. е. застаивающаяся в протоках. Чавыча и другая морская рыба промышляется в реке Камчатке в 15 верстах от селения Ключи.
Местность бывшего монастыря покрыта невысоким березняком, а строевой лес (семь-девять саженей): лиственница, топольник, береза и ель – есть на тридцать-пятьдесят верст от селения Ключи (удобный сплав по реке Камчатке).
От Усть-Камчатска до Ключей и Толбачика ходит катер Камчатского Торгово-промышленного общества. Земля по долине реки Камчатки и на месте, избранном под монастырь, плодородная, особенно хорошо произрастают здесь корнеплодные овощи. Там сеется ячмень, конопля, привилось также пчеловодство.
Помолившись Богу, 27 марта 1911 года некоторые ключевцы и представители духовной, полицейской и сельской власти отправились на собаках к месту, мною избранному под монастырь, для водружения креста. Я отслужил молебен, окропил святою водою крест, землю и реку Ключевую и тем молитвенно утвердил сие место за будущею святою обителью Всемилостивого Спаса и святителя Алексия, митрополита Московского, Небесного Покровителя Камчатки.
Да будет воля Божия!
* * *
Господи! спаси нас, погибаем.
В 20-х годах XVIII века на далекую Камчатку, богатейшую кладовую природы, обратили свой взор как за границей, так и в России, и уже в 1725 году по предложению голландцев и Парижской Академии наук Петр Великий направил на Камчатку экспедицию для исследования и определения, действительно ли Азия соединена с Америкой или между ними существует водное пространство.
Экспедицию возглавил отважный путешественник и патриот, замечательный российский мореплаватель Витус Беринг. Он хотя и был родом датчанин, но горячо и искренне полюбил свое второе Отечество – Россию.
От Петербурга до Камчатки экспедиция добиралась сухим путем через Сибирь, Якутск, Охотск, преодолевая неимоверные трудности и препятствия. Особенно тяжел был путь от Якутска до Охотска, когда пришлось пробираться по непроходимой тундре и болотам. Из пятисот вьючных животных до Охотска дошло только сто двенадцать, остальные пали в пути от бездорожья и бескормицы. Люди шли пешком, на себе и на лошадях неся непомерной тяжести груз – материал для постройки и оснастки судов. На вьюках везли весь такелаж, все снасти:
паруса, якоря и даже смолу. Для удобства перевозки приходилось тяжелые якоря разрубать на части, канаты, снасти и паруса тоже разделять, а в Охотске якоря сваривали и все приводили в надлежащий вид.
Члены экспедиции страдали от холода и голода, вынужденные есть кожу ремней и подошв. Некоторые члены экспедиции не дошли до Камчатки – умерли в пути.
2 июля 1728 года Беринг уже спустил на воду в Усть-Камчатске свой первый бот, отстроенный собственными силами. Бот этот был назван «Святой Гавриил».
15 августа 1728 года был радостный для всей экспедиции день, ибо во время плавания Беринг мог уже установить, что Азию от Америки отделяет пролив. Во вторую Великую Северную экспедицию на построенных в Охотске двух галиотах «Петр» и «Павел»16 Беринг в 1740 году, плавая вдоль восточного побережья Камчатского полуострова, вошел в закрытую и защищенную со всех сторон большую гавань и, остановившись в бухте Суаача (ныне Авачинская), обосновался временно на берегу бухты в живописном местечке.
Здесь Берингу встретились дикие язычники-камчадалы, жившие в мрачной первобытной обстановке. Сначала они приняли Беринга отнюдь не дружелюбно, не желая покоряться России. Но Беринг энергичными мерами усмирил и окончательно покорил их. Со своих судов он снес на берег образа святых апостолов Петра и Павла. В честь этих основоположников христианской Церкви был сооружен небольшой храм. Священнослужители, бывшие при экспедиции, положили здесь начало евангельской проповеди. В честь своих судов Беринг назвал эту гавань Петропавловской, а впоследствии на этом месте вырос живописный городок Петропавловск. Он возник на месте зимовки, где было всего лишь несколько землянок. Впоследствии здесь начали поселяться камчадалы, чукотские казаки и русские землепроходцы.
Продолжая свои великие труды по исследованию камчатских земель, островов и морей, Беринг в 1741 году повел из Петропавловска судно «Святой Петр» под своей командой, а судно «Святой Павел» под командой капитана Чирикова к берегам Америки, но свирепствовавший тогда почти беспрерывный шторм привел боты в такое состояние, что продолжать плавание не было никакой возможности. Паруса и снасти порвал ветер, мачты едва держались; запас пресной питьевой воды истощился, из-за отсутствия еды началась цинга. Доходило до того, что цинготного рулевого поддерживали под руки двое таких же цинготных матросов. Некому было работать. Экипаж был близок к полному отчаянию.
4 октября судно «Святой Петр», поднятое волной, было выброшено на пустынный гористый островок. «Невозможно описать, – вспоминает плывший на корабле ученый Штеллер, – как велика была радость всех нас, когда мы увидели берег. Умирающие выползли наверх, чтобы увидеть землю своими глазами, и каждый сердечно благодарил Бога за Его великую милость к нам. Даже больной капитан – командор Беринг вышел наверх. Открывшаяся земля казалась всем Камчаткой».
Но – увы! – земля эта была не Камчаткой, а каким-то неизвестным пустынным необитаемым островом. Тем не менее Беринг со своими спутниками высадились на остров для зимовки. Там нашли они только «безбоязненных пясцов», бобров, морских котиков, сивучей и не виданных дотоле животных – морских коров.
Земля была совершенно безлесной, только на берегу валялись кое-где выкинутые океаном деревья. Хижины построить было не из чего, и потому моряки вырыли в прибрежном песке несколько землянок, покрыли их парусами и там поселились. Многие из больных вскоре умерли.
Больной, совершенно разлагавшийся от мучительной цинги, Беринг был тоже перенесен в холодную землянку. Его заносило снегом и песком, но он просил не откапывать его, так как в песке ему было теплее.
8 декабря 1741 года эта землянка стала вечной могилой славной памяти Витуса Беринга. По бокам ее схоронили его адъютанта и комиссара, и над этой могилой одиноко стоял до последнего времени святой крест. В городе Петропавловске Берингу был воздвигнут памятник.
Следует вспомнить, как напутствовал Беринга в Петербурге Император Петр I, предвидевший замечательное будущее огромных просторов от Урала до Тихого океана. Уже лежа на одре болезни, за две недели до своей кончины, Петр начертал Берингу инструкцию: проведать, соединяются ли материки Азия и Америка перешейком или между ними есть свободное водное пространство, а также водружать Российский флаг на открываемых землях. И Беринг блестяще выполнил эти задания. Он исследовал и доказал, что материки Азия и Америка разъединены проливом, а также присоединил к Российской державе северо-восточные земли в Азии, ряд богатейших островов в Тихом океане и область Аляску на Американском континенте.
Из сопровождавших Беринга людей умер тридцать один человек. Оставшиеся в живых занялись охотой на морских зверей, главным образом на морских котиков, мясом которых и питались.
С наступлением лета они разломали свой корабль, выброшенный на берег, и построили из него лодку, на которой добрались до Камчатки.
Именем Беринга называется теперь Камчатское, ныне Берингово, море. Его же именем называется и исследованный им пролив. Остров, на котором скончался Беринг, тоже назван Беринговым. В единственном существующем на нем селении – Никольском – живут алеуты, занимающиеся промыслом морских котиков. Неподалеку от Берингова острова находится остров Медный.
Как только весть о присоединении и исследовании Камчатки достигла центра России, как только были получены сведения об этом отдаленнейшем, изолированном от культурной жизни крае, так сейчас же начали усиленно ссылать из России на Камчатку политических осужденных, преступников и проштрафившееся духовенство. Одних ссылали на произвол судьбы, ожидавшей их в неведомом крае, а других хотя и ссылали, но в то же время назначали на должности приказчиков, сборщиков ясака или разведчиков нового края. Слух о пушном и зверином богатстве Камчатки быстро разнесся по всей Сибири и России, и оттуда бросились на Камчатку искатели легкой наживы и всякие хищники.
Доктор Штеллер, спутник Беринга, весьма характерно и справедливо свидетельствует о жизни и поведении как людей, прибывших на Камчатку, так и камчатских аборигенов. «Камчатская земля, – говорит он, – сугубо злостраждет, что же де надлежит до начал и действ, тоже многоразлично. Едино зло есть язычество практическое, что сметенный сор российский, так как в ссылку сосланные древних вин память нынешними составляют и в деторождениях беззаконных распространяют. В христианском учении, подобно как и в нравах, таковые невежды, что хотя ко всякому сребролюбию и обманству склонны, однако же они в замерзание прирождения своего придя, отлучаются от прежнего и лучшему навыку не приметают. А кроме того, главнейшей невежественной тьмы, крайнейшие или, лучше сказать, подлейшие пороки обретаются: пьянство неистовое, убийство, сребролюбие и нелепость в собрании, необузданное желание к расточению, прелюбодейство понеже немногими во грех вменяется. Детям воспитания весьма нет. Одним словом заключить: земля она, как последняя в Азии, а по жителям ее истинно последняя; обманете и лжей во едино место совокупление и всех зол сходбище.
Другое зло есть не феорийское, но простое и истинно же таковое, т. е. неверные народы суть простосердечны, справедливы, весьма правдивы, в обещаниях постоянны, странноприимны, трудолюбивы, боязливы, однако же не глупы. Когда что лучшее видят, то к тому аки быстрым потоком несутся, а к худому, хотя и с принуждением, но неохотно текут. Что же до суеверия языческого надлежит, суеверны они более от невежества, нежели безбожны. И когда приятно обличают их, то и самим себе безмерно кажутся смешны».
До самого последнего времени это меткое определение доктора Штеллера совершенно соответствовало действительности. Очень мало хорошего видели камчатские туземцы от пришлого русского населения. Единственно, кто шел к диким племенам с любовью и лаской, это были немногие христианские миссионеры, проповедники святого Евангелия на краю земли.
После упомянутых нами о. Мартиниана и о. Игнатия дело проповеди христианства на Камчатке сильно упало. Возродилось оно в 1743 году, когда начала свою работу Камчатская духовная миссия во главе с ее начальником отцом архимандритом Иоасафом Хотунцевским. Труды этой первой миссии были чрезвычайно успешны. Все население собственно Камчатского полуострова, за исключением немногочисленных племен кочевников тунгусов, было просвещено святым крещением. Было построено несколько церквей и часовен, а также открыто четыре школы, где обучалось свыше двухсот детей, что при общем населении полуострова в 6 500 человек составляет большой процент, особенно для тогдашнего времени. Правда, школы нуждались во всем необходимом. Так, например, вместо бумаги дети писали на бересте, но самоотверженными трудами работа поддерживалась.
К сожалению, миссия просуществовала только восемнадцать лет, и за этот срок новообращенные камчадалы не были утверждены в христианской вере. Сменившие же работников миссии отдельные миссионеры-священники оказывались далеко не всегда на высоте положения, не обращали должного внимания на христианское воспитание паствы и потому камчадалы-христиане часто ничем не отличались от язычников. По-прежнему оставались они суеверными, прибегали к шаманству – заклинанию злого духа. Туземцы, проживавшие на материке, за полуостровом, долгое время не поддавались влиянию миссионеров, да и вообще относились к русскому человеку с недоверием или, точнее, со страхом, потому что пришлый народ обращался с ними жестоко и бесчеловечно. Жестокое насилие: грабежи, батоги, цепные оковы, пытки, застенки – вот тяжелый удел несчастных обитателей, у которых отбирали не только промышленную пушнину, но и снимали последнюю меховую одежду.
Много усилий было потрачено русскими на введение на Камчатке хлебопашества. Для этого с реки Лены на Камчатку посылались пахотные крестьяне. На реке Милькове была устроена первая водяная мельница. Хлебопашество насаждалось строгими принудительными мерами, но климатические условия, неплодородная почва не давали камчадалам возможности успешно заняться земледелием, а главное и почти единственное дающее достаточное пропитание их занятие – ловля рыбы – очень страдало из-за попыток введения земледелия. Камчадалы пропускали ход рыбы, не успевали делать годовой запас для себя и своих ездовых собак камчадальского хлеба – юколы (вяленой рыбы) и голодали.
Так как о Камчатском крае не было постоянной заботы, а главное, не было верных, честных и осведомленных руководителей и блюстителей порядка, то всякие начинания обычно не доводились до конца и по причине беспечности все рушилось и разорялось.
В 1840 году уже не осталось почти следов от всех заводов, больниц, школ и других культурно-просветительных учреждений, и нужно было все начинать сызнова.
В середине XIX века Петропавловску пришлось пережить самое бурное, героическое его время. Это было в период Крымской войны, когда на Россию совершили нападение соединенные силы Англии, Франции и Турции.
В Петропавловске первое известие о войне было получено в мае 1854 года от американского посланника на Сандвичевых островах. Губернатор Камчатки контр-адмирал С. В. Завойко, не ожидая официального извещения, которое сухопутным путем пришло только в июле, тотчас же приступил к постройке земляных батарей для защиты порта от неприятельских судов, плавающих в Тихом океане. Вооружив затем все население Петропавловска, способное носить оружие, и воспользовавшись командою пришедших вскоре в Петропавловск кругосветных судов «Аврора» и «Двина», адмирал образовал, таким образом, отряд в 920 человек, с которыми и выдержал героическую борьбу в течение недели против более чем вдвое сильнейшего неприятеля.
17 августа англо-французская эскадра в числе шести кораблей при 224 орудиях вошла в Авачинскую бухту и остановилась на расстоянии двух километров от города Петропавловска. В эскадре находились: английский 54-пушечный фрегат «Президент» с адмиралом сэром Дэви Прайтом на борту, 32-пушечный корвет «Эвридика» и 18-пушечный бриг «Облигадо».
Едва показался неприятель, с русской стороны был открыт огонь, чтобы показать врагу, что Петропавловск не сдается. Противник ответил несколькими выстрелами, которые, однако, не причинили никакого вреда. Неприятельская эскадра направилась к одной из русских батарей, расположенной на небольшой речке Поганке. Меткими выстрелами этой батареи неприятелю был нанесен серьезный урон и убит начальник английской эскадры – адмирал Прайт. Потерпев неудачу, неприятель отошел от берега и временно прекратил сражение.
Только через три дня, 20 августа, с девяти часов утра бой начался снова. Все 224 неприятельских орудия начали обстрел города и русских батарей. Первая и четвертая батареи были скоро приведены к молчанию, и многочисленные лодки стали высаживать неприятельский десант. При этом две десантные лодки были потоплены второй батареей.
Команда четвертой батареи, заклепав свои пушки, отступила и спряталась в прибрежных кустах. Противник занял батарею и, водрузив свой флаг, начал наступление на город. Но в это время двадцать пять матросов четвертой батареи, соединившись с двадцатью охотниками и камчадалами, начали обстрел неприятельского отряда. Англо-французский отряд был вынужден повернуться, забрать свое знамя и вернуться на корабль.
Между тем вторая батарея пришла в очень плачевное состояние, так что из двенадцати пушек боеспособными остались только четыре. Пользуясь этим, корабль «Вираго» попытался проскочить в Петропавловскую бухту, но был отбит огнем «Авроры» и «Двины».
Союзники отошли в Тарьинскую бухту и там пробыли три дня, исправляя полученные повреждения. Там же был похоронен адмирал Прайт, причем все корабли со скрещенными реями отдали ему последний пушечный салют. На высокой березе над могилой были вырезаны только две буквы: «Д. П.». Все это видели разведчики-камчадалы, наблюдавшие из-за кустов.
Тем временем русские восстановили первую и вторую батареи, только четвертую не удалось восстановить.
24 августа начался самый горячий, самый решительный бой. Снова первая и вторая батареи, нанесшие неприятелю самый чувствительный урон, были приведены к молчанию, и снова все попытки парохода «Вираго» проскочить в Петропавловскую гавань были остановлены огнем «Авроры» и «Двины». При этих попытках с «Вираго» был сбит флаг, попавший в русские руки как почетный трофей.
В этот день союзники предприняли главную атаку против западной стороны, где находились третья, пятая и шестая батареи. После того как третья и шестая батареи были приведены к молчанию, множество больших лодок с девятьюстами матросов двинулись к берегу. Высадившись, противник сплошной колонной двинулся к городу по тесной дороге между горой и пресным озером.
Внезапно на этой дороге он был встречен убийственным огнем пятой батареи, которая была расположена недалеко от моря и до сих пор хранила молчание. Кроме того, рассыпанные в кустах отряды камчадалов (все промысловые охотники и великолепные стрелки) стреляли без промаха, а теснота в колоннах неприятеля давала возможность камчадалам простреливать одной пулей двух неприятельских солдат. Командир десанта капитан Паркер и множество его людей были убиты на месте.
Союзники бросились в сторону, к Никольской горе, засели на ней и стали обстреливать русских сверху. Русские маленькими кучками, по 30–35 человек, бросились на гору в штыки. Хотя их было всего 347 человек, а неприятеля высадилось 926 человек, но англо-французы не выдержали стремительности нападения и, не зная местности, стали отступать, перевалили через вершину Никольской горы, которая с противоположной стороны кончалась узким крутым обрывом в море. С этого-то обрыва русские и камчадалы и сбрасывали неприятеля в море. Во время этого сражения англо-французы потеряли девять офицеров и более 300 солдат; русских же погибло 100 человек.
После этого союзники оставались еще два дня в Тарьинской бухте, ремонтируя корабли и погребая умерших воинов, после чего неприятельская эскадра вышла в море. Русские также похоронили своих погибших воинов и неприятельских солдат, оставшихся на нашей территории. Над их братскими могилами впоследствии русская администрация воздвигла прекрасный памятник. На могильные холмы были возложены массивные плиты с надписями на русском, английском и французском языках.
24 августа, в так называемый праздник Камчатской славы, ежегодно в Петропавловске совершался крестный ход, который обходил все покрытые славою места и окрестности города, а над братскими могилами служилась торжественная панихида.
Адмирал Завойко немедленно после окончания сражения послал рапорт в Петербург, и весной следующего года получил оттуда приказание немедленно эвакуировать на Амур все учреждения – всю казенную движимую собственность и все военные и гражданские чины.
Распоряжение это оказалось глубоко прозорливым, ибо неприятельская эскадра, во много раз более сильная, летом 1855 года снова подошла к Петропавловску. Увидев Петропавловск безлюдным и получив сведения о том, куда ушли русские, эскадра направилась в погоню. Пройдя через пролив Лаперуза в Ниппонское море, англо-французский флот – шесть больших боевых фрегатов – встретился с русским флотом, состоявшим из тех же «Авроры» и «Двины», двух небольших пароходов: «Иртыш» и «Байкал», корвета и маленького катера. Русский флот стоял в заливе Де-Кастри южнее того места, где пролив Невельского максимально узок. Русские уже готовились к неравному смертельному бою, Завойко готовился к затоплению своих кораблей, когда 27 мая 1855 года внезапно густой туман покрыл море. Под его покровом русские проделали замечательно хитрый маневр, рассчитанный на невежественность англо-французов.
Хотя русский город Николаевск-на-Амуре существовал уже в течение двух лет и русские давно знали о существовании пролива Невельского, отделяющего Сахалин от материка (пролив этот был указан даже на карте Крашенинникова в 1743 году), но на западноевропейских картах Сахалин продолжали изображать как полуостров, а о существовании пролива не знал никто в англо-французском флоте.
В густом, непроницаемом тумане русские прошли по проливу и скрылись в гавани Николаевска. Союзники же были несказанно изумлены, когда после исчезновения тумана не увидели перед собой русских. Распустив пары, неприятельский флот бросился к проливу Лаперуза, думая, что русские скрылись в этом направлении. Вскоре они оставили свои тщетные поиски.
Ниже привожу статью к поэме Семенова, помещенную в журнале «Литературные приложения к журналу «Нива» за 1896 год (август)» – «Петропавловск-Камчатский».
«Говоря о войне 1854 года, все и всегда подразумевают осаду Севастополя. Перед величием этой кровавой эпопеи совершенно теряются другие, более мелкие эпизоды тогдашней войны.
Между тем Петропавловский бой, а затем снятие Петропавловского порта и перенесение его на Амур представляют собою одну из славных страниц в истории русского флота. Об этих двух делах наиболее распространенная и уважаемая английская газета «Times» писала тогда: «Русская эскадра нанесла британскому флагу два черных пятна, которые не могут быть смыты водами всех океанов».
В 1854 году Петропавловск-Камчатский под командой контр-адмирала Завойко имел в своем распоряжении для защиты пятьдесят семь пушек, причем на каждую пушку имелось всего по тридцать семь зарядов. Весь гарнизон, считая всех способных носить оружие, в том числе чиновников, торговцев и камчадалов, состоял из 1016 человек. Неприятель же явился в числе шести боевых судов, несших более двухсот орудий.
Первая атака последовала 20 августа, но была отбита, и свезенный неприятельский десант попал под выстрелы своих же кораблей и был отброшен легко нашими отрядами.
24 августа неприятель атаковал Петропавловск всеми силами, видимо решившись покончить с упрямыми защитниками. После четырех часов усиленной бомбардировки, сбив наши батареи, не прекращавшие огня до последнего уцелевшего орудия, союзники высадили десант в 900 человек на разоренный берег и двинулись занимать Петропавловск.
По свидетельству очевидцев, участников сражения, со слов которых написана эта заметка (в 1896 году), неприятель в стройной колонне, как на параде, перевалил через небольшую возвышенность, двинулся к городу, видимо не ожидая сопротивления. Как вдруг батарея из трех малокалиберных пушек, единственных, которыми располагал в эту минуту Петропавловск, дала по нем залп картечью. Неприятель замялся; послышались команды на английском и французском языках; рожки заиграли атаку, но было поздно. Воспользовавшись минутным замешательством, три отряда наших – в общем менее 200 человек – с криком «ура!» бросились на расстроенную колонну. Это было какое-то неодолимое стремление. Они шли не за победой, а за смертью с одной целью –врезаться во вражеские ряды и как можно дороже продать свою жизнь. Неприятель не выдержал, дрогнул..
«Ура!» – вспыхнуло с новой силой. Крики «бей!», «бегут!» смешались с нестройными командами и сигналами.
Действительно, враги бежали врассыпную и не той дорогой, которой пришли, а, как им казалось, кратчайшей – напрямик через гору. Но Никольская гора подходит к морю отвесным обрывом. Здесь, на гребне, и началась резня. Дрались саблями, штыками, прикладами и, когда в тесноте нельзя было пустить в ход оружие, работали ножами, зубами, душили друг друга, вместе, обнявшись, бросались вниз на прибрежные камни.
С мужеством, которому надо отдать справедливость, англичане и французы пробились к своим шлюпкам по грудь и по горло в воде, унося своих раненых.
Из девятисот человек десанта союзники потеряли триста. Нам досталось английское знамя и семь офицерских сабель.
Французский адмирал писал во Францию:
«Адмирал Завойко защищался храбро и со знанием дела. Сожалею, что не мог пожать ему руки, я не ожидал встретить такого сильного сопротивления в ничтожном местечке».
Во время пребывания союзной эскадры в Петропавловске умер английский адмирал от раны, которую сам себе нанес из пистолета. Смерть его по настоящее время остается загадкой. Англичане говорили, что адмирал перед боем осматривал пистолеты и один из них нечаянно выстрелил. Объяснение вряд ли правдоподобное: неужели адмирал рассчитывал лично принять участие в бою?
Другие утверждают, что после первой неудачи адмирал просто застрелился, не желая пережить своего поражения, и притом на глазах команды, так как ввиду предстоящего боя переборки его каюты были сняты.
Защитники Петропавловска, конечно, охотнее верили последнему объяснению.
Дважды отраженный, потерпев значительный урон, неприятель 27 августа снялся с якоря и ушел в море, оставив Петропавловск в покое».
В дни Крымской войны церковь на Камчатке находилась под управлением великого духом и разумом архипастыря, одного из виднейших камчатских просветителей – первого тамошнего епископа Иннокентия (Вениаминова), о котором я вкратце упоминал ранее. Это был действительно истинный пастырь того духовного стада, которое поручено ему было волей Божией. Был он любвеобилен, ласков со всеми. Широко отзывался на все духовные и материальные нужды паствы. Лично знакомился со всей своей огромной епархией, предпринимая объезды. Поднял снова на должную высоту миссионерскую работу. Этот даровитый владыка много, плодотворно и ревностно потрудился в архипастырском служении на далекой окраине нашей Отчизны. Он возжег яркий светильник православия среди алеутов, колошей, чукчей, коряков, тунгусов, якутов, гиляков, ламутов, камчадалов. Заложил твердый фундамент православия в Америке, на Аляске.
В то же самое время совершал он огромную исследовательскую и миссионерскую научную работу, так что его труды по исследованию Тихоокеанского побережья до сих пор имеют большую научную ценность.
К сожалению, хотя Владыка Иннокентий носил титул епископа Камчатского, местопребывание он имел в Америке, на Аляске, в г. Ситке. И потому его плодотворная большая работа задевала Камчатку только краем, но все же приносила добрые святые плоды.
Сибирь – далекая, холодная, нелюбезная тогдашней Центральной России, – эта Сибирь дала Русской Православной Церкви великих иерархов и святителей: Иннокентия и Софрония Иркутских, Иоанна и Павла Тобольских, а также ряд других иерархов с большими именами, в том числе упомянутого выше Иннокентия Вениаминова.
Вот краткие черты его жизни: глухое Ангинское село Иркутской епархии. Никому неведомый священник церкви этого села Евсевий Попов. В его семье родился четвертый сын – Иван. С пятилетнего возраста оставшись без отца, он был взят на воспитание своим дядей – диаконом Димитрием Поповым.

Распространение русского владычества а Восточной Сибири (XVII XIX вв.). Карта нач. XX в.
За два года маленький Ваня так преуспел в учении по Псалтири и Часослову, что уже семи лет от роду в церкви читал Апостол. Далее он учился в Иркутской духовной семинарии, отличался хорошей успеваемостью, был добрым соучеником. По внешности выделялся среди сверстников крупным ростом, полнотой. Характер имел малообщительный и молчаливый.
У него была врожденная страсть к приобретению технических знаний. Ваня часто тайком убегал из семинарии к часовому мастеру, интересовался взаимодействием деталей часового механизма.
Еще будучи ребенком, он соорудил сам, без посторонней помощи, для класса часы с деталями из... отбросов, валявшихся на улице. Станок и колеса были сделаны им при помощи обломка ножа и шила, выброшенных семинарским экономом в мусорный ящик; циферблат он смастерил из обрывка бумаги, а стрелки – из лучин.
Для многих одноклассников Ваня сделал карманные часы.
По обычаям того времени ректор семинарии давал учащимся при окончании ими курса обучения фамилии сообразно их внешности и духовным качествам. Таким путем Ване Попову была присвоена фамилия Вениаминов в память об иркутском епископе Вениамине, незадолго перед тем скончавшимся и отличавшимся при жизни величественной осанкой, спокойным характером.
Молодого Вениаминова готовили к поступлению в духовную академию, но в те далекие времена семинаристам за год до окончания духовной семинарии разрешалось при принятии священства жениться. И вот в период, когда был длительный весенний ледоход на реке Ангаре, ректор семинарии, живший в Иннокентиевском монастыре, оказался отрезанным от семинарии. Иван Вениаминов, не дожидаясь его возвращения, подал заместителю ректора прошение о разрешении на женитьбу, на что получил согласие. После женитьбы Иван Вениаминов был рукоположен в сан диакона (в Благовещенской церкви). Это дало ему повод впоследствии говорить шутя, что Ангара решила его судьбу – ехать не в духовную академию, а... в Америку, так как ему пришлось жить со своей семьей в русских североамериканских владениях. Он научил местных жителей плотницкому, столярному, кузнечному и слесарному ремеслам, а также выделке кирпича, каменной кладке и часовому искусству.
Изучив наречие местных народностей, энергичный пастырь Вениаминов перевел Евангелие и многие молитвы на язык североамериканских туземцев.
Вскоре у о. Иоанна умерла матушка, и он в 1850 году принял монашество с наречением имени Иннокентий. По возведении в сан епископа Владыка в 1854 году, уже будучи архиепископом, переселился на берег Охотского моря, в порт Аян, где соорудил церковь, в коей навсегда оставил свой архипастырский жезл.
Во время войны 1854–1855 годов английские корабли вошли в пустынный порт Аян, где взяли в плен находившегося там мирного жителя – священника Махова. Как раз в это время архиепископ Иннокентий, совершая объезд епархии, возвратился из Якутска в Аян. На Нелькане Владыка встретил свою старшую дочь, спросившую отца:
– Зачем вы едете в Аян? Ведь там англичане.
– А зачем я им нужен? – спокойно возразил архиепископ Иннокентий. – Да если и возьмут в плен, себе убыток сделают: меня ведь кормить надо.
21 июля 1854 года в Аянском храме, когда Владыка Иннокентий совершал богослужение, в бухту вошла вражеская эскадра. На борту одного из английских кораблей содержался в заключении пленный священник Махов. Английские моряки объявили архиепископу Иннокентию и о его пленении. Владыка ответил им с достоинством и кроткой улыбкой такими же словами, какие он говорил дочери. На следующий день англичане, пристыженные словами православного архипастыря, освободили из плена мирных, безоружных священнослужителей.

Камчатские жители. Фотографии из альбома митрополита Нестора Архив А. А. Караулом и В. В. Коростелева
В 1861 году архиепископ Иннокентий поселился в Благовещенске и на парусном судне совершал объезды по епархии. Туземцы горячо любили своего Владыку, совершавшего богослужение на их родном языке, чем привлек их к Православной Церкви.
После того как Владыка Иннокентий из Камчатской епархии был поставлен в митрополиты Московские, темп миссионерской работы на Камчатке сразу понизился. Самым главным несчастьем для этой работы было то, что, начиная с того момента, когда в 1761 году была закрыта Камчатская миссия, на Камчатке оставались только отдельные миссионеры, которые должны были в то же время нести и обязанности приходских священников на огромном пустынном пространстве.
Я имел счастье лично знать дочь Владыки Иннокентия, Екатерину Ивановну Петелину. Она на моей памяти жила и скончалась в Казани. Будучи еще мальчиком, я с напряженным вниманием слушал ее рассказы о ставшем впоследствии Московским митрополитом Владыке Иннокентии, о его плодотворной архипастырской деятельности на далеких окраинах нашего необъятного государства, в том числе и в Камчатской области.
Владыка Иннокентий был для меня лучшим примером, лучшим учителем того времени на священнослужительском и миссионерском поприще.
Изумительно красивы жизнь, подвиги, дела и яркое горение веры в Бога скромного человека и святителя Церкви Христовой – Иннокентия Вениаминова. На могиле этого замечательного архипастыря лежит распятие, а на надгробии написано:
«Архиерейство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь».
Идя по пути этого архипастыря-просветителя, я всю свою жизнь посвятил служению Богу и выполнению Христовых заповедей, помня слова Священного Писания: «По тому будут знать, что вы Мои ученики, как вы любите друг друга».17
За все это время камчатская Церковь управлялась епископами из самых разнообразных углов обширной дальневосточной русской окраины. Первоначально вместе со всей Сибирью из Тобольска, потом из Иркутска, из Аляски, из Якутска, из Благовещенска, из Владивостока и, наконец, в лице моего недостоинства Камчатка получила своего самостоятельного епископа в 1916 году.
Расцвет миссионерской работы на всем Дальнем Востоке, и в частности на Камчатке, за последние годы особенно связан с именем Владыки Евсевия.
Владыка Евсевий родился в 1860 году в семье бедного тульского священника, о. Иоанна Никольского.
С 1897 года со званием епископа Курильского, Камчатского и Благовещенского он стал духовным вождем всего огромного Дальневосточного края. Первоначально он жил в г. Благовещенске, но с 1913 года Благовещенск был выделен в отдельную епархию, и Владыка Евсевий переехал во Владивосток. Огромная полоса земли от Камчатки до Китайской Восточной железной дороги включительно находилась под его духовным водительством.
В продолжение двадцати лет неустанно, непрерывно работал он на этом огромном святом поприще. За это время он построил и освятил стосемьдесят одну церковь, построил монастыри, открыл миссии, оживил всестороннюю духовную работу в крае.
На Камчатке он был дважды. До него архиереи бывали здесь только семь раз: трижды Владыка Иннокентий и по одному разу епископы Павел, Макарий, Мартиниан и Гурий. Владыку Гурия я знал лично и держал его жезл во время его приездов в Казань.
Для Камчатки посещения архипастырей составляли всегда события огромной важности. Целые десятилетия хранились потом об этом событии воспоминания. К сожалению, посещения эти были очень не часты, и, например, целый огромный Анадырский край остался ни разу не посещенным архиереями. Анадырцы даже писали Владыке Евсевию ходатайство с просьбой побывать у них, показать им, какой такой есть архиерей.
Я глубоко счастлив тем, что меня Господь Бог привел начать работу на Камчатке именно во время управления епархией Владыкой Евсевием, быть его помощником на этом поприще Камчатской работы и впоследствии стать его викарием на Камчатке.
11. Деятельность Камчатского благотворительного православного братства
С тоской в очах, с огнем в груди
Ты в мир отверженный иди.
И пусть любви твоей лучи,
Как пламя, будут горячи...
И пусть гремит, как Божий гром,
Твой голос в сумраке ночном...
И будит тех, кто духом мертв,
Чей путь без звезд и храм без жертв.
Кто во тьме скитается без сил,
В нощи шаманства свой светильник погасил...
А ты, как фимиам, в огне любви гори,
О вечной правде неумолчно говори.
В 10-х годах нынешнего столетия Приамурским генерал-губернатором был видный сановник в звании придворного шталмейстера – Н. Л. Гондатти.
Первоначально, еще молодым деятелем (в 1880 году), Н. Л. Гондатти был уездным начальником на Чукотке, где оставил о себе добрую память среди туземцев. Впоследствии он был начальником Амурской исследовательской экспедиции.
Умный, просвещенный и деятельный, Гондатти видел и понимал, что технически и культурно отсталая Россия того времени утрачивала свое влияние на Дальнем Востоке, что, в свою очередь, давало повод англо-американским и японским «хищникам» безнаказанно и почти бесконтрольно хозяйничать на наших далеких, забытых окраинах. Вот почему он с глубоким сочувствием, с большим вниманием относился к моей пастырской деятельности и всячески содействовал успешному осуществлению идеи создания Камчатского благотворительного православного братства.
Мне запомнился такой эпизод.
Проездом из Петербурга на Камчатку я находился в летних архиепископских покоях на Седанке близ Владивостока. Тогда же у Владыки Евсевия находился в гостях приамурский генерал-губернатор Гондатти. И мне совершенно случайно пришлось быть свидетелем следующего разговора между начальником края и правящим архиереем.
– Когда я давал отцу Нестору свое благословение на создание Камчатского благотворительного братства, – произнес Владыка Евсевий, – у меня, признаюсь, возникло сомнение в успешном выполнении этого полезного начинания. Ведь мне во Владивостоке приходилось за пятак нанимать хоругвеносцев при совершении крещенского крестного хода. Кто же, думал я тогда, согласится затрачивать средства на какое-то Благотворительное Камчатское братство? Но молодой, вдохновенный и энергичный о. Нестор работал и на Камчатке, и в Петербурге не покладая рук. Он писал и печатал воззвания, посещал сотни лиц, убеждая их внести свою лепту в дело Божие. Он исходил и изъездил во имя Господне всю Камчатскую область.
– Да, – согласился с Владыкой генерал-губернатор, – есть люди, которые, идя путем жизни, оставляют за собой яркий, немеркнущий свет, распространяющийся далеко на потомство. Их деяния благоухают ароматом особой, неземной благодати... Одним из таких православных деятелей является о. Нестор. Ведь только горение его души и сердца зажгло верой в Бога камчатских туземцев, которых он тысячами обратил в христианство. Надо отдать должное и открыто сказать, что сановная и власть имущая Россия только благодаря о. Нестору обратила наконец внимание на Камчатку. Не было ни одной стороны жизни насельников Камчатской области, которой о. Нестор не касался бы: он строил храмы, часовни, школы, приюты, лечебницы, организовывал походные аптеки. Нет такого кочевья или населенного пункта на Камчатке, где не знали бы милостивого, доброго, приветливого иеромонаха о. Нестора.
Не скрою, мне было приятно слушать столь положительное суждение обо мне и моей деятельности из уст двух влиятельных лиц.
Однако я не успокаивался на достигнутом, зная, сколько впереди еще дела, сколько неизбежных трудностей, досадных неприятностей и неудач. Но я уверен был в том, что с Божьей помощью их одолею.
Но еще больше, чем похвалой архиерея и губернатора, я был до глубины души тронут проникновенными словами стихотворения, посвященного Камчатскому братству. Автор, напечатавший его в одном из тогдашних изданий, мне неизвестен. Тем более мне кажется, что стихотворение воплотило мысли не одного, а многих лиц, знакомых с многогранной деятельностью Благотворительного Братства. Ниже привожу отрывки из этого стихотворения:
Над Камчатской областью,
Далеко заброшенной,
Бурями овеянной,
Братство Православное
Спаса Милосердного,
Что весною солнышко,
Тихо поднимается,
Ярко разгорается.
Единеньем крепкое
И любовью спаяно,
Братство Православное
За собратьев горестных,
Темных, обездоленных
И на край закинутых,
Дружно ополчается
Со крестом, с молитвою,
С образом Спасителя –
Церкви Окормителя.
Как и предки русские,
Ты сильна не множеством,
О, рать православная,
А могуча верою
И рукою щедрою
Да сердцем отзывчивым,
Чтоб согреть холодную,
Накормить голодную,
Просветить ту темную
Паству ту камчатскую.
Всей любовью братскою.
Помоги же, Спасе наш,
Братству Православному
Укрепляться, шириться
И с любовью многою
Светлою дорогою
Идти к обездоленным
С жертвою посильною
Да с душой умильною,
Со словом ободряющим,
С гласом призывающим.
Всем усопшим братчикам
В праведном селении
Дай упокоение,
Царство бесконечное
И блаженство вечное,
А Владыке-Учредителю
И почетным попечителям,
Братчикам-сотрудникам,
Пастырю-ревнителю
Ты пошли, о Господи,
Доброе здоровье,
Мир и благоденствие,
Радость, долгоденствие.
В стремлении расширить круг деятельности Камчатского благотворительного братства я посещал различные города нашей Родины. В частности, в Перми мне пришлось побывать в 1910-м, 1911-ми1914 годах. Здесь, в обширном зале Стефановской часовни, я выступал с докладом о Камчатке, ее своеобразно-дикой природе и о жителях, а также об их быте и нуждах.
Свои лекции я сопровождал интересными так называемыми «туманными» картинами. Они производили на слушателей глубокое, захватывающее впечатление.
В 1911 года с благословения Преосвященного Палладия мною в Перми было открыто отделение Камчатского благотворительного братства, имевшее много членов, вносивших свои добровольные пожертвования на нужды духовно-просветительской деятельности на Камчатском полуострове. Мне удалось вдохновить на трудный подвиг трех сестер милосердия пермской Мариинской общины Красного Креста – начальницу этой общины А. М. Урусову, А. А. Кашину и М. Г. Волкову-Жукову, отправившихся добровольно на далекую, холодную, суровую российскую окраину.
Население Камчатского края впервые увидело самоотверженный труд русской женщины в лице этих трех медицинских сестер милосердия. Их энергичная работа заключалась не только в помощи больным, – ласковая, внимательная, поистине материнская забота в деле культурного переустройства и переоборудования всего хозяйственного и домашнего уклада туземцев принесла большую пользу общественной и семейной жизни камчатского населения. В адрес этих сестер всегда изливались чувства глубокой благодарности, большой радости и немалого изумления.
По добрым следам этих трех первых медсестер пошли на самоотверженный труд сестры и из других общин Красного Креста, например Казанцева и Иванова.
С открытием Камчатского братства на пожертвования духовных миссий приобреталось весьма много необходимого и полезного для походных аптек, а также белье носильное и постельное, продукты питания в колонии для лепрозорных (хлеб, молоко, овощи, консервы и т. п.). Сестра в колонии уже имела возможность готовить для больных горячую пищу.
Колония была оборудована соответствующей обстановкой и кроватями вместо нар, кухонной и столовой посудой (для каждого больного отдельно). Специально для больных приобрели лодку, невод, сети для ловли рыбы, для женщин – материал для шитья и вышивания. Учитывалось болезненное, удрученное состояние неизлечимо больных, а посему для отвлечения от тяжелого душевного гнета сестра милосердия старалась прокаженных занимать каким-либо легким трудом.
На севере Камчатской области мною был открыт и оборудован приют с амбулаторией для детей оседлых и кочующих туземцев, который также самоотверженно обслуживала заведующая приютом – медсестра М. Г. Волкова.
Местность здесь была дикая, суровая. Питаться приходилось только рыбой юколой. Местный священник, камчадал, слабо знал русский язык. Сестре милосердия для посещения заболевших местных жителей и оказания медицинской помощи приходилось много ходить пешком, ездить на лодке, а зимой на лыжах и собачьих нартах.
Впоследствии я открыл еще один приют в бухте барона Корфа в большом здании из восьми комнат. Десять плотников едва успели его достроить к прибытию последнего парохода. Приходилось работать, помогая плотникам, и мне, и сестре милосердия, и ребятам. Общими усилиями нам удалось соорудить еще колонку и оборудовать две ванны. Не избалованное вниманием местное население не верило, что все это сделано для их детей, которые здесь будут жить, питаться, учиться и пользоваться бытовыми услугами бесплатно.
Детишки первое время с непривычки во сне падали с кроватей на пол. Среди них было много способных к ремеслам мальчиков, а девочки достигали значительных успехов в рукоделии и шитье. И взрослые и дети любили посещать церковь, внимательно следили за богослужением. Я повседневно ощущал их искреннее любовное отношение ко мне, их духовному пастырю.
По словам сестры милосердия, туземцы при полном отсутствии телеграфной и слабой почтовой связи за два-три дня узнавали о том, что «папа Нестор» едет к ним. Они выезжали встречать меня на нартах, лыжах и радостно приветствовали. Порой, когда где-нибудь в пути пурга заносила меня снегом, они находили меня и заботливо сопровождали до своего селения.
После каждой такой поездки я с помощью туземцев на месте своего пребывания водружал крест или сооружал церковь, приют или школу. После моей проповеди и подготовки многие крестились, принимая православную христианскую веру.
Сестра милосердия Т. Казанцева пробыла в Камчатской области шесть лет. По прибытии в Петропавловск она поступила в распоряжение уже бывшего тогда врачебного инспектора, доктора А. Ю. Левинского, и была назначена им в район западного побережья Охотского моря. Здесь ей пришлось, преодолевая трудности и лишения, обслуживать семнадцать населенных пунктов.
Преисполнена духовной красоты жизнедеятельность сестры милосердия Анны Ивановны Томсон. Она прибыла в колонию прокаженных одной из последних. Как и ее предшественницы, эта милая старушка была для прокаженных заботливой и доброй, как мать. В начале 1917 года на Камчатке, в том месте, где находилась основанная мною колония для прокаженных, произошло сильное землетрясение.
Случилось это стихийное бедствие глубокой ночью. Дом, в котором были размещены больные, был изолирован плетнем от окружающего мира, а домик, в котором жила сестра милосердия Томсон, стоял несколько в стороне от больницы. В момент страшного землетрясения домик Томсон был разрушен. Она жила одна, и никто не мог прийти к прокаженным и сказать, что их любимая сестра милосердия придавлена обломками рухнувшего домика. Горевшая висячая лампа в момент землетрясения упала в щебень, разбилась, и разлившийся керосин вспыхнул.
Пламя быстро распространялось. Старушке Томсон, придавленной развалинами дома, грозила смерть от огня. Кругом никого не было. Но произошел непредвиденный счастливый случай.
Неизвестный русский охотник со своей собакой проходил в эту ночную пору по горам. В момент землетрясения и бушевавшего снежного бурана охотник сбился с пути. Ощупью, наугад вместе с собакой он спустился с горы и совершенно случайно набрел на развалины горящего дома. Услыхав человеческий стон, охотник подошел к руинам и спросил:
– Кто здесь? Что произошло?
– Спасите меня! Снимите балки и бревна, придавившие меня, – слабым голосом, со стоном страдания просила несчастная старушка Томсон. – Я сестра милосердия из колонии прокаженных, я очень волнуюсь за судьбу моих больных. Кто их успокоит? Живы ли они?.. Освободите меня и доведите до прокаженных.
Охотник быстро и ловко погасил огонь, освободил Томсон из-под развалин и, придерживая, повел ее к зданию больницы. Здесь произошла трогательная сцена. У старушки случилось нервное потрясение. Она плакала от радости, что дом, где находились прокаженные, цел, а все больные невредимы. А несчастные прокаженные в момент землетрясения страдали не столько от страха, сколько от волнения за судьбу любимой ими сестры милосердия. Их пугало, приводило в недоумение то, что она не пришла к ним в жуткие минуты землетрясения. Вот почему, когда они увидели ее, израненную и измученную, но живую, радости их не было конца.
Когда землетрясение кончилось, а волнения и страхи улеглись, случайный, неизвестный путник-охотник по просьбе Томсон отправился в Петропавловск и обо всем происшедшем в колонии прокаженных сообщил мне.
Взяв с собой все необходимое, я немедленно на собаках поехал к месту катастрофы. Прибыв в колонию, я утешил больных и ободрил ослабевшую после пережитого сестру милосердия Томсон.
Прибыли на Камчатку присланные по моей просьбе из Петербурга десять сестер милосердия. Они получили назначения в разные места Камчатской области для медицинского обслуживания туземного населения. Работать этим сердобольным женщинам приходилось чрезмерно много, зачастую заменяя доктора. Попутно они обучали местное население гигиене, шитью, кройке, приготовлению горячей пищи. Приходилось им помогать школьному учителю и проводить культурно-просветительную работу.
Сестры эти явились истинными ангелами-хранителями для многочисленных туземцев. С любовью, с лаской и с большим знанием дела пришли они на помощь больным, страдающим людям.
Туземцы ответили любовью на любовь. Сначала, видя женщин с крестами на груди, они принимали их за священников и называли «нависхат-попе», что значит «женщина-священник». А потом, уже хорошо узнав сестер милосердия, они стали называть их матерями.
Работа сестер была очень трудна вследствие дикости края и связанных с этим неудобств, а для женщин эти неудобства, конечно, только усугублялись. Сестрам, жившим в обрусевших камчадальских селениях, приходилось еще вдобавок терпеть много неприятностей из-за порочного пришлого элемента, который чинил всяческие препятствия любой полезной работе. Замечательно, как подлинные христианки, трудились в колонии для прокаженных сестры милосердия Урусова и Иванова.
12. Миссионерский съезд на Камчатке
Вы – соль земли... Вы – свет мира.
Служа пред алтарем, я с ревностью пророка Обязанности нес священные свои, Я строго обличал слепых жрецов пороки, А немощных овец в объятья брал любви.
Говоря о миссионерской работе, необходимо упомянуть о первом (и, к сожалению, единственном) Камчатском миссионерском съезде. Съезд этот, чрезвычайно важный в истории всей камчатской миссионерской работы, происходил в 1914 году в селе Иоасафовском на севере Камчатки. На этом собрании необходимо остановиться подробнее, так как именно здесь наиболее ярко выявились подробности камчатского миссионерствования.
Уже самый способ созыва съезда чрезвычайно интересен. Ни телефона, ни телеграфа между разбросанными на огромные расстояния селениями Камчатки не существовало. И тем не менее устной передачей, крылатой вестью из селения в селение известие о готовящемся съезде миссионеров пронеслось по всем миссионерским станам, по всем церквам.
При этом вспоминается мне удивление американского путешественника Кенана, который поражался той быстроте, с которой известия изустно распространялись по малолюдной северной тундре. Кенан ехал с максимальной быстротой, торопясь к назначенному сроку. И тем не менее весть о его приезде всегда предшествовала ему. Видно, и в почти безлюдной тундре невозможно уйти от человеческих пересудов.
Миссионерский съезд открылся 18 февраля 1914 года. Событие это приобретает еще больший смысл, если представить себе жизнь камчатских миссионеров, где общение друг с другом было чрезвычайно затруднено. Даже встреча двух-трех священников составляла событие в камчатской жизни. Съезд же, собравшийся хотя и в дикой местности, но в центре всей миссионерской работы, приобрел огромное значение. Дикие коряки впервые увидели здесь соборное торжественное богослужение с участием диакона, какового они ранее никогда не видали.
Всего лишь за два года до съезда в селении Иоасафовском, где собрались миссионеры, не было ни церкви, ни школы, не было постоянного священника, не было даже землянок, и люди жили в грязных ямах-юртах с входом через дымовую трубу. На ровной снежной площади селения, тогда именовавшегося Тиличиками, было разбросано восемь юрт.
Помню, когда я впервые приехал туда, эти юрты с ямами-отверстиями посредине напоминали мне маленькие действующие вулканы. Время от времени сквозь густые клубы дыма из отверстий показывались фигуры коряков и корячек, они пугливо поглядывали на меня. Вой полутораста собак был мне встречным гимном. С недоверием и не очень ласково приняли меня коряки. Даже крещеные всячески старались уклониться от выполнения христианских правил, отказывались от брака, от исповеди и причастия. Русского языка они не понимали совершенно.
Но прошел год, и мы стали друзьями в результате хотя и кратковременной, но настойчивой миссионерской работы.
За сотни и тысячи верст съезжались миссионеры. На собаках, оленях неслись по снежной пустыне их легкие сани. Некоторые миссионеры подвергались смертельной опасности, чтобы попасть на съезд. Так, три священника и четыре псаломщика были застигнуты на Анапке жестокой пургой. Анапка – это страшное место, вызывающее ужас даже у привычных ко всему коряков. Там, в тесном ущелье между гор, по узкой речной долине дует постоянный сквозной ветер, от которого даже у туземных собак, везущих нарты, лопается кожа на лапах, на ушах и в ноздрях и идет кровь. Там за три года до съезда и я замерзал во время пурги, и даже эхо не отражало моих воплей, ибо не было пространства для голоса в густой снежной метели. Несчастные батюшки, ехавшие на съезд, должны были просидеть, занесенные снегом, целых семь дней. Один псаломщик, Е. Слободчиков, едва не сделался жертвой жестокой Анапки. Он отстал от своих спутников, страдал и почти замерз в одиночестве. Спасся он чудом и, прибыв на съезд, с умилением отслужил благодарственный молебен.
Съезд совпал с первой половиной Великого поста. Ежедневно в Иоасафовском храме совершались великопостные богослужения, причем все священники служили поочередно и каждый день произносились проповеди. Храм был переполнен богомольцами – русскими и коряками. Все они говели. Поучения произносились как на русском, так и на корякском языках. На наш съезд добровольно прибыло много язычников-коряков, интересовавшихся непонятным для них событием на глухой, заброшенной на берегах Великого океана Камчатке.
В первые же дни съезд возбудил огромный интерес во всех окружных оседлых и кочующих туземных племенах. На собаках и оленях съезжались они. Красивую, незабываемую картину составляли длинные ряды легких саней-нарт. Коряки приходили на заседания съезда, внимательно слушали и глубоко интересовались всем, о чем говорилось на съезде. Так что заседания приходилось вести как на русском, так и на корякском языках.
На съезде были выработаны все мельчайшие подробности миссионерской работы, создавалась атмосфера тесной, дружественной взаимопомощи и общения, были заинтересованы в работе окружающие племена диких язычников.
Мною был сделан на съезде следующий доклад, в достаточной степени ярко рисующий положение камчатской миссии в то время.
«Жизнь крещеных тунгусов и коряков (кочующее племя) протекает вдали от священников-миссионеров и учителей. Батюшку большинство туземцев видит раз в год или даже в несколько лет. Отсюда следует, что этот крещеный инородец, предоставленный самому себе, за неимением духовного руководителя в продолжение кочевой жизни забывает свое православное имя, забывает правильно изображать даже наружный знак молитвенного общения с Православной Церковью (знамение креста), не говоря уже о внутренней молитве, которой он и не научен.
Ни учением веры православной, ни церковной молитвой, ни святыми таинствами, ни церковными обрядами, ничем еще прочно не был связан с Православием камчатский туземец.
После всего этого можно ли удивляться и ужасаться тому, что крещеный туземец не оставил шаманство, что он не прерывает связи с злыми духами, умилоствляя их животными жертвоприношениями. Можно ли осудить его за то, что он слушает наговоры шамана и верит ему. Ведь шаман живет рука об руку с туземцем, да нередко и сам же шаман из тех же крещеных тунгусов или коряков, а священника нет вблизи.
Северная природа Камчатской области, суровая и дикая обстановка жизни обитателей, лишения, болезни, голодовки, эпизоотии, холод, непогода – все это оставляет мрачный отпечаток на душе обитателя, и несчастный, одинокий и беззащитный дикарь ищет где-нибудь защиты, успокоения, облегчения от всех этих невзгод и нигде не находит, как только в колдовстве, наговорах, заклинании и шаманстве. Вот что значит быть вдали от туземной крещеной паствы ее пастырю и учителю!
Надеть туземцу крест при крещении и думать, что сделано все необходимое и на этом успокоиться, – этого мы, миссионеры, не должны допускать. Да не оскорбится слух доброго пастыря в слышании сей горькой правды, если только пастырь чувствует на своей совести подобную вину. Но мы, миссионеры новообразованной Камчатской миссии, должны перечувствовать, пережить все это горе, должны восполнить весь этот недочет, должны напрягать все усилия к объединению, к постоянному и частому общению с туземной паствой. Нам ныне, слава Богу, прибавлено содержание, а с ним увеличивается ответственность и даже возможность приблизиться к пастве. Будем же по мере сил, не жалея себя и разъездных денег, чаще навещать туземную крещеную паству, коснеющую в обстановке языческой жизни.
Бесспорно, есть несколько серьезных причин, которые снимают часть обвинений с пастырей-миссионеров, редко посещающих туземцев. Ведь каждый священник-миссионер в Камчатской миссии в то же время и приходский священник большого села, где постоянно приходится выполнять прямые обязанности по приходу; тот же миссионер состоит заведующим, а некоторые – даже законоучителями в церковноприходских школах. Все это не дает возможности надолго и часто отлучаться к обитателям тундры, живущим на далеком расстоянии и рассеянным по обширной тундре и горным хребтам Камчатской области.
Из всего вышеизложенного видно, что нужно принять какие-то меры к устранению препятствий в посещении отдаленных стойбищ и острожков камчатских туземцев. Необходимо установить более тесную, близкую, постоянную духовную связь между крещеными и священником-миссионером. Последнего можно достигнуть только путем широкого церковно-школьного строительства в Камчатской миссии. Как можно больше в доступных местах и районах оседлой и кочевой жизни туземцев нужно насаждать церквей, часовен, школ, молитвенных домов, миссионерских станов и походных миссий.
Жизнь крещеных коряков протекает в худших условиях, чем жизнь тунгусов. Тунгусы уже все крещеные, а корякам крещеным часто приходится жить среди коряков-язычников, так что жизнь последних более языческая. Крещеные коряки не знают даже своего русского имени и называют себя корякским именем. Я могу привести сотни примеров, когда при посещении корякских юрт спрашивал имя какого-нибудь крещеного коряка, и он сначала говорил свое корякское прозвище, а когда спросишь его по-русски, то он задумывается и часто отвечает: «Ко» («не знаю») – или бежит в соседнюю юрту спрашивать у старух и стариков, не знают ли они, как его зовут по-русски, потому-де что батюшка спрашивает. Тут начинают вспоминать и перебирать имена: то Семен, то Иван, то Петр, а точно не знают.
В этом случае не знаешь, что делать, как назвать, какое из этих имен выбрать, и невольно согрешаешь. Потом справляешься в исповедных росписях и сверяешь их с посемейными списками в уездном управлении, и оказывается – не Семен, не Иван, не Петр, но, по одной справке, Илья, а по другой – Алексий.
Это не выдумка, а горький факт, который, наверное, много раз повторялся и повторяется с каждым священником, записывающим имена коряков в юртах. Эти кочующие коряки не знают также времени своего рождения, так что приходится определять на взгляд.
Среди коряков еще прочно держится верование в заклинание злого духа, а умилостивление его сопровождается жестоким обрядом принесения (через заклание) в жертву самых лучших и ценных ездовых собак. С таким жестоким, грубым и разорительным верованием миссионерам нужно усиленно бороться. Нужно помнить, что собака для жизни туземца более необходима, чем лошадь для русского крестьянина, и ценность передовой собаки, равно и охотничьей, доходит до 50–100–150 рублей. Борясь с подобными варварскими обычаями, миссионерам необходимо установить с коряками более тесную связь и частое общение. Примером благотворного влияния на духовно-нравственную жизнь крещеных коряков может послужить Петроградский Иоасафовский миссионерский стан, открытый в дикой, глухой, пустынной, немноголюдной корякской местности.
Отцы миссионеры и все члены-участники съезда могут сами наглядно видеть резкую перемену в жизни олюторцев-коряков селения Иоасафовского. Ныне здесь видно, что не только лицо земли Олюторской изменилось и просветилось постройкой благолепного храма и школы, но и образ обитателей ее меняется к лучшему. Прекратились жестокие сожжения умерших людей на кострах, уменьшились жертвоприношения животных и заклинания злых духов, отпадает верование в колдовство и заговоры, настраивается законная супружеская жизнь, оставляется и преследуется многоженство.
Коряки Петербургского миссионерского стана, жившие ранее по примеру других в подземных юртах с входом через дымовую трубу, ныне обзавелись землянками, что более гигиенично и удобно.
Олюторский крещеный коряк ныне уже знает свое русское имя, носит даже русскую фамилию и старается научиться прилично говорить по-русски. В жилище его установлены иконы, и в праздничные дни коряки зажигают перед иконами восковую свечу и молятся. Тот же коряк обращает ныне внимание на свой костюм, понимает негигиеничность ношения на голом теле меховой одежды. Он стыдится идти в церковь в неопрятной меховой одежде и заводит себе русское платье. Доверяет при заболевании русской медицине. Обучает своих детей в церковно-миссионерской школе. Из тридцати учащихся ныне в иоасафовской школе – двадцать коряков и один чукча (учатся взрослые и даже супруги). Олюторец любит священника, слушает его, спрашивает у него совета. Эта перемена произошла даже с грубым олюторцем – заядлым шаманистом.
Отчего все это произошло? Что было тому причиной? Только лишь одно влияние Церкви и школы и тесное общение и единение священника-миссионера с местным населением. Вот к этому все мы, миссионеры, и должны стремиться. Искать удобного случая и любой возможности к устройству школ, церквей, походных миссий и сами должны уделять больше внимания, времени и забот просвещению и спасению душ туземной паствы.
Взаимоотношения туземцев, как крещеных, так и язычников, и общение с русскими людьми и влияние их друг на друга оставляют свои следы как на туземцах, так и на русских. Нередко поселяются близ туземцев или приезжают к ним для меновой торговли русские или иноверцы, как-то: татары, латыши, армяне, грузины – и иностранцы: китайцы, японцы и др. Пользуясь простотой, доверчивостью и неразвитостью полудикого камчатского туземца, эти меновщики всячески обманывают и обирают их, причем за безделицу, а то и за спирт, водку или одеколон выменивают ценную пушнину, пуская в ход любые хитрости и уловки.
Искатель легкой наживы или просто эксплуататор, терпеливо переносящий все лишения, невзгоды и трудности зимних разъездов по камчатским снежным пустыням, прозывается на Камчатке «муркой». Всякий «мурка», или проходимец, нетерпимый в своем родном обществе, забравшись к камчатским туземцам, играет у них видную и важную роль «начальника» и скоро через угощение туземцев спиртом и другими крепкими напитками или через дачу в долг ненужного товара вроде биноклей или граммофонов добивается среди них звания «приятеля» и «друга».
В этом-то все зло и кроется, ибо у всякого такого «друга» туземец в руках или в кабале. Нам известны такие случаи, когда «мурка» татарин (ныне сошедший с ума и, кажется, умерший) наряду с лубочными картинами, изображающими нагих безнравственных красавиц, продавал туземцам и бумажные изображения святых икон и внушал, что все это не что иное, как иконы. Другой разъездной торговец за сахар и табак заставил коряка плясать, плевать и кощунствовать пред святыми иконами. Можно ли удивляться после этого, что, придя в сознание, камчадал в гневе на такого русского «мурку» не бранится, а только скажет: «Ну, русские люди!», – но скажет так, что это больно отзывается в сердце русского человека и обиднее всякой брани.
Здесь-то и нужна борьба, и борьба не одного человека, а целого общества культурных, порядочных работников, дабы показать туземцам порядочность и другие добрые качества русского человека. Нужно достичь того, чтобы русское имя было любимым на Камчатке. Здесь предстоит миссионерам положить немало труда. Нужен живой, наглядный пример нравственной, трезвой, культурной, трудолюбивой жизни камчатского пастыря и учителя, являющегося в Камчатскую область для просвещения и обрусения края.
Переходя к влиянию туземцев на русских, можно отметить, что русские, живя по соседству с ними, легко перенимают языческие обычаи и обряды.
Из всего вышесказанного можно заключить, что взаимное влияние русских и туземцев привело к тому, что туземцы местами дурно обрусели, а русские местами худо одичали. Здесь нужна борьба и работа Камчатской миссии».
21 февраля съезд закончился, а с 22-го начались церковные крестные ходы. Все население, еще недавно первобытное, дикое, приняло праздничный, торжественный вид. Дома, землянки, школа, храм были украшены национальными флагами, всюду красовались гирлянды из зеленого кедровника и разноцветной материи. Возле храма высилась арка с надписью: «Христос посреди нас».
Утром 23 февраля, после литургии, был совершен крестный ход к языческому корякскому священному месту «апапелю», где язычники почитали присутствие невидимой силы божества и для умилостивления этого божества приносили в жертву убитых собак, оленье мясо, рога, жир, табак.
После бесед и молитв во время съезда коряки Иоасафовского села решили раз и навсегда оставить почитание апапеля и уничтожить его. На месте апапеля в это утро была устроена арка с надписью: «С нами Бог». Когда крестный ход в сопровождении всех прибывших на съезд коряков подошел в апапелю, то я обратился к туземцам с проповедью, разъясняя слова: «С нами Бог».
Стоя у апапеля, я спросил у язычников-коряков:
– Что это такое? – указывая на апапель.
– Это наш апапель, – отвечали язычники, – где мы умилостивляем злого духа.
– А это что такое? – указывая на церковь, спросил я.
– Это твой апапель, – отвечали язычники, – где живет добрый дух.
– А для чего же нам два апапеля? Может быть, довольно одного? Тогда коряки-язычники заявили:
– Пусть будет один твой апапель, а наш худой (дурной) нам больше не надо.
Коряки единодушно обещали не почитать больше апапеля, вырыли на этом месте яму, сложили туда все остатки прежних жертвоприношений, часть их сбросили в море, а на месте апапеля соорудили святой крест.
Закончился съезд мирским праздником, детскими трогательными играми туземцев: гонками на собаках и оленях, борьбой, бегами скороходов и прочими излюбленными развлечениями туземцев. Победителям на состязаниях я раздавал подарки. Вечером были устроены иллюминация, бенгальские огни, ракеты, фейерверки. Надо было видеть радость и удивление дикарей при виде чудесного зрелища. Их невинная, искренняя радость невольно передавалась и нам.
В понедельник 24 февраля молебном с акафистом святителю Иоасафу официально закончился съезд. Опять потянулись ряды саней, опять в снега и вьюги вступили бодрые работники христианского просвещения Камчатки, неся в своих сердцах святые воспоминания о милости Божией и Камчатской Церкви.
На память о съезде все священники, его участники, получили в подарок по полному комплекту церковного облачения, которое было приобретено благодаря работе Камчатского братства.
Со светлым примиряющим чувством заканчиваю я мои краткие очерки о дорогой и любимой мною Камчатке. С любовью и благодарностью Богу оглядываюсь на длинный путь, пройденный мною и всеми работниками нашей Камчатской миссии по снежным долинам Камчатки. Нашими слабыми силами, как умели, мы, Божией силою поспешествуемые, бросали в самую святую, в самую чистую ниву душ человеческих священные семена Евангельские. И я твердо, всею душою верю, что эти семена не пропали даром.
Вера Христова хранится в миллионах русских православных сердец, и вместе со своими русскими братьями простые сердцем жители Камчатки также хранят в своих душах любовь и верность Тому Светлому Богу, Которого они узнали так недавно.
Я всегда возношу молитву благодарения Богу за то, что Он привел меня в Камчатский край, за то, что я мог посвятить свои лучшие молодые годы и силы тем добрым, сердечным, простым людям, которые в страшных условиях живут там, на далеком Севере.
Не одни только прокаженные выражали мне, да и всякому, кто подойдет к ним с любовью, свою горячую, сердечную ответную любовь. На любовь отвечают там любовью все простые умом, но чистые сердцем обитатели Камчатки.
О, никогда не забуду я Камчатку!
Зимой перед вами то расстилается необозримое ровное снежное поле тундры, то в живописном величественном беспорядке громоздятся друг на друга огромные чудовищные скалы, покрытые, как будто столетней сединой, пушистым глубоким снегом, а между глубоких снегов в самые лютые морозы вы вдруг видите перед собой озеро, полное чистой, свежей горячей воды вулканического происхождения, а у самого берега – борт, окаймленный зеленой травой и мхами. Там даже в январе с наслаждением купаются люди. Когда в долгие зимние вечера под завывание ветра слышится шум неустанного морского прибоя, бьющего в скалистые берега; когда земля трещит от мороза и вой собак сливается с завыванием ветра, – тогда кажется, что сам старый-старый Дедушка Мороз из русских сказок здесь, в этой суровой Камчатке, свил свое вековечное гнездо.
Зато как только сходит снег, то сразу резким контрастом открывается летний ландшафт цветущей природы. Как прекрасен расцветший тысячами красок волшебный ковер камчатских лугов, как богаты, как красивы бесчисленные табуны оленей – верных друзей и кормильцев обитателей Камчатки, как беспредельно множество редких зверей в тундре и лесах. И медведи, и лисицы, и белки, и волки, и соболи, и горностаи – добыча охотника на суше, а в океанских водах плещутся гигантские киты, моржи, бархатистые нарядные котики и мириады всевозможных рыб, дельфины, тюлени, сивучи, бобры.
Однажды весной, возвращаясь в Петропавловск ночью, я плыл в лодке по морской бухте. В небе сияла луна, а море сверкало тысячами фосфорических огней. Наша лодка едва могла продвигаться, так как вода кишела серебристыми рыбами, переполнившими бухту. Рыба мешала движению весел, вскакивала в лодку, так что нам приходилось торопиться выбросить ее, чтобы не перегрузить наше судно. Под лучами луны, при ярком фосфорическом свечении моря чешуя рыб сверкала волшебными алмазами.
Беспредельно богат и птичий мир Камчатки. Высоко в небе реют царственные орлы, а по берегам морей вьют свои гнезда гогочущие, крякающие, кричащие стаи всевозможных птиц, морских уток различных пород. Из этих птиц особенно сказочна птица аира («ара» на местном языке). Она устраивает гнезда на высоких обрывистых скалах. Яйца этой птицы величиной с утиное, желток кирпичного цвета, а белок бело-голубоватый. На скорлупе как будто собрана вся красота небес: если небо было ярко в момент носки, ярко-лазурной бывает и скорлупа, а если небо было покрыто серыми тучами, то и скорлупа яиц темна и сера.
Из прочих бесчисленных красот Камчатки нельзя не поразиться ее горам и вулканам. Двенадцать великанов, пылающих огнем, непрестанно гудящих и волнующихся, дышащих жаром и серой, освещающих ночи ярким заревом лавы, соперничают в красоте с северным сиянием. А особенно прекрасен самый величественный царь всех камчатских вулканов – огромная Ключевская сопка 175 000 футов высотой.
Когда лежа в санях-нартах едешь по долинам и темной ночью всматриваешься в яркую красоту сверкающего звездами неба, то далеко-далеко видишь три блестящих рукава огненной лавы Ключевского вулкана. Очень редко замолкают вулканы, но это затишье кратковременное и обманчивое. Неведомые мощные силы таятся в глубине этих могучих гор, и после небольшого перерыва там с большой силой все снова начинает кипеть лавой и дышать огнем, порождая другое чудо – горячие минеральные ключи.
Несметны, неисчислимы сокровища Камчатки. На севере, около Пенжинской губы и бухты барона Корфа, находятся прямо на земле большие залежи каменного угля. Когда я обосновался в селении Иоасафовском на берегу бухты Корфа, мы часто топили очаги каменным углем, собирая его прямо на берегу. Волны моря, ударяясь о каменноугольные горы, отбивали куски угля, которыми мы и пользовались для топки.
В тех же районах встречаются богатые месторождения железа и меди. Следовательно, имеются идеальные условия для создания богатейшего литейно-промышленного центра. В дополнение ко всему там недавно найдена нефть.
В 1909-м и 1910 годах была произведена геологическая разведка в районе реки Анадырь. Перед самой войной такая же разведка была произведена на Чукотском Носу. Изыскания показали, что недра края таят в себе огромнейшие залежи золота. Еще раньше были известны богатые месторождения этого драгоценного металла в Охотском крае, а на севере Камчатской области найдено большое количество платины.
На побережье Охотского моря, около селения Палана, вдоль берега возвышаются скалы, сплошь состоящие из аметистов, красиво переливающихся фиолетовыми искрами в лучах солнца.
Разнообразно, безмерно богата Камчатка всеми дарами природы. Щедро наградил ее Господь драгоценными сокровищами. Девственная, но грозная красавица природа Камчатки достойна кисти чуткого художника и пера вдохновенного поэта. Во мне она вызывает восхищение, не изжитое за всю мою жизнь.
Но человек, облаченный в первобытный костюм из звериных шкур, борясь со страшной суровостью природы, окруженный негостеприимным климатом, холодным морем, даже среди безмерного богатства, окружающего его, не знал духовных радостей, не бросал осмысленного величавого взора вокруг, не осознавал себя венцом творения, чадом Божиим, ради которого Господь сошел на землю.
Венцом всей красоты, мощи, богатства и глубокой моей вечной любви является чистая, девственная душа аборигенов, насельников, туземцев – детей природы на Камчатке. Если мы с удивлением и восторгом смотрим и видим, как на скорлупе яйца птицы ары отображается небо во всех его красках, то несколько же глубже, живительнее и ярче отображается духовная сила и красота в богоподобных душах людей, от природы совестливых, невинных, чистых и не запятнанных пороками, так легко прижившимися в среде так называемых культурных людей.
13. На рубеже двух эпох
Сменяйтесь, времена, катитесь в вечность, годы,
Но некогда весна бессменная взойдет.
Жив Бог! Жива душа, и царь земной природы –
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет.
Вечная слава вам, славы достойные!
Там, в тиши под землей,
Спите спокойно, российские воины,
Вечная слава и вечный покой!
В 1914 году архиепископ Владивостокский Евсевий командировал меня в Святейший Правительствующий Синод для получения в Петербурге 25 000 рублей, ассигнованных разными учреждениями по ходатайству Государственной думы после моего доклада.
Я ехал в вагоне 1-го класса Сибирского экспресса. За окном проплывали необъятные просторы матушки-Руси, занятой повседневным мирным трудом. Ничто не предвещало военной бури. Жизнь шла своим чередом.
Поезд, врезаясь в таежные дебри, мчался на запад, миновал суровый гористый Урал, пронесся с грохотом по ажурному мосту над многоводной привольной Волгой, быстро приближаясь к столице. Но по прибытии в Петербург я был поражен известием о том, что в июле 1914 года Германия и Австро-Венгрия объявили нам войну и уже на полях сражений проливается кровь. Неудивительно поэтому, что в Святейшем Синоде мне объявили о том, что в связи с началом военных действий ассигнованные Камчатскому братству 25 000 рублей мы не получим, так как они будут переданы на военные нужды, а получить их я смогу только после войны.
Тогда же, выполняя волю Владыки Евсевия, я посетил Валаамский монастырь, где намеревался пригласить молодых послушников в воссоздаваемую мною на Камчатке обитель. Однако все молодые послушники были мобилизованы в армию. Я немедленно телеграфировал архиепископу Евсевию о встретившихся затруднениях в моих хлопотах по делам Камчатского братства. Владыка ответил телеграммой: «Война, по-видимому, будет недолго. Продолжайте оставаться. Выполняйте возложенные на вас задания».
Получив такое категорическое распоряжение, я почувствовал себя как бы скованным, бесполезным в тяжелую годину военных испытаний, выпавших на долю нашей Родины и русского народа. Поэтому я попросил разрешения оказывать посильную христолюбивую помощь раненым воинам как в лазаретах, так и на передовых позициях в действующей армии.
Я сформировал и возглавил санитарный поезд (в составе врача и санитаров), после чего приступил к оказанию первой медицинской помощи воинам кавалерийских и других частей на фронте, но более всего моему санитарному отряду пришлось потрудиться при Лейб-гвардии драгунском полку.
Мне, как начальнику санитарного отряда, приходилось ездить верхом на лошади вдоль линии огня и руководить не только врачебным и санитарным персоналом, но и обозом с медикаментами. Не раз доводилось мне смотреть в глаза смерти и под градом пуль, среди рвущихся с оглушительным грохотом фугасов и снарядов утешать напутственной молитвой умирающих русских воинов-страстотерпцев, а раненым облегчать страдания медицинской помощью. Любовь к ближнему и к Родине побеждала, заглушала во мне вспышки страха перед смертью и человеческими страданиями.
С таким же самоотверженным настроением я выполнял нередко даваемые мне командованием военные поручения, отправляясь на передовые позиции в сторожевое охранение. Приходилось подолгу находиться в окопах среди солдат, напутствуя их молитвой на бранный подвиг за Родину, за Русскую землю. Довольно часто мне поручали, как вестовому, срочно под смертоносным огнем перевозить секретные донесения, а также бывать в разведке и участвовать в конной атаке.

Указ о возведении игумена Нестора в сан архимандрита от 6 октября 1915 г. РГИА ДВ. Ф. 244. Оп. 3. Д 323. Л. 65 об.
На протяжении двух военных лет я стойко переносил все тяготы фронтовой жизни. За участие в боевых операциях в период нахождения в действующей армии, а также за организацию санитарного отряда я получил высшую для священнослужителя воинскую награду: крест на Георгиевской ленте, а также ордена святой Анны III и II степеней, святого Владимира IV степени и утвержденный Императорским рескриптом в период войны орден святого Николая (все с мечами и бантами).18 Эти высокие боевые награды за проявленный патриотизм при защите Родины от посягнувшего на нее врага в первой мировой войне сохранены и поныне, согласно декрету теперешнего правительства, за всеми, имеющими оные.
В связи с этим вспоминаю, как в 1945 году, после освобождения Харбина от японских захватчиков, мне, проживавшему там, привелось быть представленным маршалу Малиновскому. Этот легендарный герой Великой Отечественной войны, увидев на мне боевые ордена и знаки отличия, заинтересовался, когда и при каких обстоятельствах меня ими наградили, и со вниманием выслушал мой рассказ об этом, а затем подтвердил декрет, сказав:
– Вы имеете право достойно носить все эти боевые ордена.
В конце 1915 года архиепископ Евсевий писал мне в действующую армию о том, что без меня мое детище – Камчатское благотворительное братство – со всеми духовно-просветительными и лечебными учреждениями может погибнуть в расцвете своего развития. Поэтому Владыка Евсевий уже сам просил меня по возможности скорее вернуться на Камчатку.
Повинуясь повелению своего правящего архиерея, я сердечно распрощался с фронтовиками и выехал к месту моего постоянного служения. Многообразные и сложные чувства переживал я при этом. Мое сердце как бы раздвоилось. Я скорбел об участи русских воинов, проливавших кровь за мирное благоденствие народа и независимость Родины, и в то же время мне было до слез жаль обездоленных, несчастных жителей Камчатки.
По прибытии в Петропавловск-Камчатский я немедленно создал Комитет по сбору средств для оказания помощи русским воинам. В числе первых жертвователей я внес в фонд этого благотворительного Комитета имевшиеся у меня золотые ценности.
Зиму 1916 года я провел в Петропавловске в заботах о сборе средств и об оказании помощи раненым и увечным русским воинам. В то же время я не прекращал своих пастырских поездок по Камчатской области. Во время одной из них я простудился и заболел воспалением легких. Болезнь протекала в весьма тяжелой форме, и я находился при смерти, однако по милости Божией начал поправляться.
Как-то, еще не вполне оправившись и болезненно впечатлительный, я лежал в отведенном мне помещении. Вдруг большая крыса прыгнула ко мне на кровать. Это мерзкое животное повергло меня в непонятный ужас, и мне стали мерещиться жуткие бредовые явления. Тогда ухаживавшие за мной сердобольные люди решили для укрепления моего физического и нервного состояния отвезти меня весной в село Апачи. Там, среди девственно-нетронутой дикой природы, у подножия вулканов, я должен был почувствовать себя лучше, тем более что в этой местности имелись горячие целебные источники.
По прибытии в Апачи я убедился, что устройство их примитивное. Кроме небольшой, кое-как сделанной загородки и одинокой скамьи, ничего здесь не было.
Помню, до Апачей меня долго везли на нарте. Наконец – остановка. Сопровождавший меня врач сказал:
– Посмотрите, кругом хвойный лес. Вы здесь сможете отдохнуть и хорошо поправить здоровье.
С этими словами он пошел осмотреть местность, а казак-возница отправился на поиски хвороста. Я остался один и от нечего делать вошел за изгородь, сбросил с себя одежду и начал купаться. Вода в источнике была настолько горячая, что терпеть было тяжело, но в то же время начал ощущать во всем организме постепенное облегчение. Мне даже показалось, что с моего тела будто спала какая-то пелена.
В это время меня начали искать мои спутники. Не обнаружив меня в нарте, они принялись громко звать меня. Я отозвался. Спутники были взволнованы, их беспокоило мое состояние – все-таки я был болен воспалением легких. Однако все обошлось благополучно. Я поправился окончательно и чувствовал себя великолепно после купания в источнике.
14. Создание на Камчатке епископской кафедры
Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, Иже на небесех.
По возвращении в Петропавловск-Камчатский я получил из Владивостока по действующему уже тогда телеграфу распоряжение архиепископа Евсевия срочно прибыть к нему. При первой же возможности я явился по вызову.
Архиепископ Евсевий усадил меня за письменный стол и велел составить доклад о моей пастырско-миссионерской деятельности на Камчатке. Это, по его словам, было необходимо для разрешения вопроса о создании там епископской кафедры. Владыка Евсевий сказал:
– Кандидат на эту кафедру один – архимандрит Нестор. Ибо Нестор – это Камчатка, а Камчатка – это Нестор.
Святейший Всероссийский Синод избрал священно-архимандрита Нестора, начальника Камчатской духовной миссии, епископом Петропавловским с хиротонией в Петербурге – в Александро-Невской лавре или в Казанском соборе (по его благоусмотрению).
Когда управляющий Канцелярией Святейшего Синода запросил лично меня, так как необходимо было ответ об избрании места хиротонии во епископа представить на заседании Синода, то я ответил:
– Прошу доложить мою искреннюю просьбу, что я желаю получить архиерейскую хиротонию во Владивостокском кафедральном соборе от руки моего духовного Аввы – нашего архиепископа Евсевия, избравшего мое недостоинство епископом на Камчатку. Для осуществления хиротонии необходимы дополнительно архиереи, а на Дальнем Востоке есть епископы в Японии, в Благовещенске, в Чите и Никольск-Уссурийске.
Управляющий троекратно мне повторил, чтобы я серьезно подумал, так как я терял большие прогонные деньги, выплачиваемые за поездку от Петербурга до Петропавловска-Камчатского и составляющие огромную сумму, и весьма удивился моей настойчивости и полному отказу от прогонных денег.
Архиепископ Евсевий, в свою очередь, с отеческой радостью воспринял мое желание совершить хиротонию во Владивостоке, куда к 16 октября, в воскресный день, Владыка Евсевий пригласил всех вышеупомянутых архиереев.
Иду свершать в труде и поте
Удел, назначенный Тобой,
Я не сомкну очей в дремоте
И не ослабну пред Тобой!
По возвращении в архиерейскую церковь на Седанке, где было мое наречение во епископа, я сказал свою речь. Приводя эту речь, оглядываюсь на пройденный мною долгий жизненный путь в этом сане и снова и снова глубоко сознаю немощность свою и свое недостоинство.
В раннем детстве молил я Бога сделать меня архиереем, ибо тогда по-детски прельщался внешним блеском и красотой епископского служения. Но когда Господь исполнил мою детскую молитву, я осознал уже тяжесть архиерейского омофора и вот уже сорок пять лет сгибаюсь под этим бременем. Только Божия помощь и благодать дают силы нести это бремя, да еще молитвы великих пастырей и архипастырей – живых и усопших уже руководителей и наставников моих: епископа Андрея, митрополита Антония, о. Иоанна Кронштадтского, митрополита Евсевия и др. Они ходатайствуют о Божией помощи и Божием благословении мне.
Добрые имена моих руководителей снова, как и сорок пять лет назад, повторяю я с благодарностью, отвечая им на любовь любовью, на молитву молитвой, смиренно прося Бога принять и мои недостойные молитвы по Своей неизреченной благости.
«Ваше Высокопреосвященство, богомудрые архипастыри и отцы!
Взирая нашим земным человеческим взглядом, казалось бы, не мне, недостойному, не получившему высшего богословского образования и происходящему из военно-светской семьи, не мне подобало предстоять на сем святом месте в настоящий знаменательный момент архиерейского наречения и в преддверии восприятия епископского сана. Но от Господа стопы человеку исправляются, и судьба моя от лица Божия исходит.
Всемогущий Промысел Божий чрез благословение моего учителя, духовного отца – святителя высокоиноческой жизни епископа Андрея и приснопамятного молитвенника – о. Иоанна Кронштадтского предуказывал мне еще в 1907 году путь пастырского служения в Камчатской области, и во все время многотрудного моего служения на Камчатке Десница Божия управляла мною немощным.
Верую, что и ныне благодатью Всемогущего Бога, предуказанием богомудрого иерарха Камчатских церквей архиепископа Евсевия Святейший Синод избрал и утвердил о бытии моему недостоинству епископом богоспасаемого града Петропавловска-Камчатского.
Покорясь всеблагому о мне Промыслу Божию, изливающему на меня благодать Святаго Духа в восприятии высокого жребия святительского служения, я смиренно преклоняю главу свою под это благое иго. Но при искреннем сознании своих немощей и греховности моя совесть смущается пред величием настоящего святого момента.
Страх и трепет прииде на мя.
Да можно ли не смущаться при сознании высоты и величия воспринимаемого епископского сана. Высота и величие архиерейского служения есть отображение высоты любви и смирения Самого Иисуса Христа, сошедшего с небес нашего ради спасения. Смогу ли я, слабый и убогий, быть носителем ига Христова, заключающегося в кротости и смирении сердца, в служении ближним до самоотвержения?
Господи Боже мой, вверяющий мне стадо словесных овец Твоих для соблюдения их в правой вере, для спасения их душ! Правилом веры и образом кротости яви мя стаду моему. Не для себя, а для моей паствы должен я поставить цель моей жизни. Архипастырское служение в Камчатской области, населенной туземцами, еще во множестве пребывающими в язычестве, должно быть служением особенно высоким, миссионерским и равноапостольским.
Самое наименование Камчатского епископа Петропавловским по кафедральному граду и собору, освященных в честь святых апостолов Петра и Павла, поставляет меня быть подражателем этих первоверховных апостолов, просветителей всея Вселенныя, подражателем их трудов и подвигов в деле евангельского благовествования, подражателем святых апостолов в Божественном служении, в несении неизбежно встречающихся на миссионерском поприще трудностей и невзгод.
За истекшие девять лет я до некоторой степени уже изведал ту тяжесть креста, которую Бог судил мне нести с юного моего возраста при трудных условиях миссионерского служения в Камчатской области. Подобно тому как некогда апостол Павел поведал коринфянам о всех перенесенных им ради спасения душ человеческих трудностях, невзгодах и лишениях и тем свидетельствовал, как сила Божия в немощах его совершалась, так и тем более я не умолчу и, не хвалясь собой (да и нечем мне похваляться), а во славу Божию свидетельствую пред Святою Церковью, как сила Божия в моих немощах совершалась.
Совершая дело евангельской проповеди и пастырского миссионерского служения в обширной и суровой Камчатской области, среди язычников-шаманистов, поклонников злой темной силы, приходилось неоднократно подвергаться смертельной опасности, мерзнуть под снегом, будучи занесенным снежным бураном, изнуряться голодом, погибать в волнах морской пучины, претерпевать напасти от хищного зверя, изнемогать в тяжелых болезнях. И Господь всегда оберегал меня немощного на всех путях моего миссионерского служения. Налагая этот крест на меня, Господь не только не дал мне упасть под его тяжестью, но даже покрывал всякие невзгоды и все мои немощи великими Своими милостями – не ради меня, а ради православного Его Святого Имени, для просвещения языческой паствы.
Далекие камчатские обитатели, пребывающие постоянно в духовной и материальной нужде, холоде и голоде, ныне взысканы милостью Божией. Под святым покровом Образа Всемилостивого Спаса и под высоким покровительством наследника Цесаревича Алексия Николаевича объединяются православные русские люди и составляют собой святое Камчатское братство и своей любовью и благотворительной деятельностью оказывают большую помощь и поддержку миссионерскому делу на Камчатке. Из далекой Камчатки, из мрачной и убогой жизненной обстановки я неоднократно имел счастье предстоять в светлых чертогах царских пред лицем Государя и всей Царской семьи и был осыпан царскими милостями и дарами для Камчатской миссии, для бедной камчатской паствы, для прокаженных.
Ныне, слава Богу, умножается число храмов Божиих на Камчатке благодаря развивающейся деятельности Камчатского братства и его отделений. Но все же еще в пределах жительства туземцев Камчатской области ощущается недостаток церквей. Нелегко приходится иногда, совершая богослужения и исполняя церковные требы в туземных юртах, куда пастырь-миссионер проникает через дымовую трубу по закоптелому от дыма бревну, заменяющему входную лестницу. По юрте расстилается дым от костра, согревающего и освещающего жилище. Едкий дым, холод и вся мрачная подземная обстановка юрты хотя и затрудняют проповедь пастыря-миссионера, но приходится мириться с таким положением. Все невзгоды, встречающиеся на тернистом пути миссионерского служения, кажутся ничтожными, когда учение и проповедь миссионера о Боге, о христианской вере и жизни, о спасении душ человеческих через святое крещение достигнет успеха и коснется душ темных язычников, не ведающих истинного Бога, сидящих во тьме и сени смертной. Сколько радости испытывает миссионер, когда видит, как к нему идут навстречу доверчиво сами язычники-туземцы, жаждущие познания истинной православной веры и ищущие жизни под покровом Церкви Христовой.
Туземцы Камчатской области – это дети природы, это мягкий воск в руках владеющих ими. При таких условиях открывается широкое благодатное поле деятельности перед миссионером, но еще очень мало пастырей, готовых вступить на этот святой путь в Камчатской области. С грустью приходится признать, что жатва обильна, а делателей мало. Будем молиться Господу Богу, да низведет Господь делателей на жатву свою.
Ныне, в эти знаменательные дни духовного торжества в жизни Камчатской области, достойно с благоговением вспомнить бывших немногих духовных деятелей на Камчатке от дней ее покорения под державу России с 1689 года.
Первый пастырь и благовестник святаго Евангелия, переступивший в 1705 году камчадальскую землю, архимандрит Мартиниан, положил начало святому крещению язычников-камчадалов. Будучи отцом своей паствы и честным защитником ее от пришлых на Камчатку грабителей, притеснявших туземцев, он сам претерпел от них притеснения и пытки, а в довершение принял мученическую кончину от руки злодеев, которые, истязав архимандрита Мартиниана, утопили его в Большой реке.
С благоговением я принял в свое наследие Камчатскую миссию, основанную на мученической крови этого первого миссионера, – миссию, которая не раз еще подвергалась тяжелым испытаниям, гонениям и даже прекращению ее благовестнической деятельности.
Не может быть предана забвению память монаха Игнатия Козыревского который основал первую камчатскую пустынь, разрушенную во время междоусобиц 1730-х годов.
Слава и благодарение Богу! Ныне положено новое начало устройства святой Спасовой обители на Камчатке. Бог даст, этот рассадник благочестия, насаждаемый опытной рукой благочестивого игумена Свято-Троицкой Уссурийской обители о. Сергия чрез учеников его и послушников разовьется и послужит священной купелью для просвещения Камчатского края.
Живым образом восстает перед нами блаженной памяти первый начальник Камчатской духовной миссии, архимандрит Иоасаф Хотунцевский (впоследствии епископ Кексгольмский), человек положительно твердого характера. Он был строителем церквей и школ на Камчатке и неутомимо странствовал по необозримой камчатской пустыне с евангельской проповедью. Святитель Иоасаф еще в 1740-х годах находил нужным и полезным для успешного просвещения Камчатки учреждение там епископской кафедры.
С чувством истинного сыновнего уважения простираю я ныне взор вдаль, за ограду Свято-Вознесенской Иннокентиевской Иркутской обители, где почивают старческие кости архимандрита Пахомия, бывшего труженика и исповедника Камчатской миссии в 1750-х годах, который после многолетних камчатских трудов, живя на покое в Вознесенском монастыре, сгорел во время бывшего там пожара.
Нельзя также обойти молчанием имена иеромонахов, доброй памяти истинных тружеников, просветителей тунгусов, коряков и чукчей – пресвитеров Ермолая Иванова, Лазаря и Иоанна, иеромонахов убиенного Флавиана и Иосифа и протопопов Стефана и Никифора, начальников Камчатской проповеднической свиты.
Преклоняюсь с чувством душевного умиления пред равноапостольским миссионерским служением на Камчатке приснопамятного первого святителя – епископа Камчатского Иннокентия, впоследствии бывшего митрополитом Московским. Его труды и подвиги бессмертны на Камчатке и достаточно хорошо известны всем нам.
Вечная память и со святым упокоением да будет всем этим печальникам о просвещении и спасении душ камчатских обитателей.
В заключение моего слова сыновне припадаю к твоим стопам, мой священноначальник, богомудрый архипастырь и духовный отец, святитель Евсевий. Прошу твоего отеческого наставления, столь необходимого для меня, молодого и неопытного, и постоянного твоего руководства как архипастыря, богатого духовным и жизненным опытом. Я же пребуду в послушании, сыновней покорности, преданности и любви к тебе до скончания моей жизни.
Сыновне припадаю ко всем вам, преосвященнейшие архипастыри, предстоящие пред Господом Богом в молитвах за меня, недостойного, и прошу – благословите меня, да приидет чрез возложение ваших святительских рук на мою грешную главу благодать Всесвятаго Духа и восполнит и уврачует мои немощи.
Помолитесь, дабы Господь мне помог посильно подражать в добрых подвигах всем бывшим просветителям Камчатки.
Помолитесь и за вверяемую мне камчатскую паству, да просветит ее Господь словом истины, да откроет им Евангелие правды, соединит Святей Своей Церкви и сопричтет ее к избранному Своему стаду, а мне грешному да даст Господь сил, крепости и умения право править слово Истины. Аминь».
* * *
Прожить – не поле перейти.
Порой немало испытаний,
Немало горя и страданий
Нас ждет на жизненном пути.
16 октября 1916 года архиепископ Владивостокский Евсевий при вручении мне жезла епископа Петропавловского сказал:
– Радостно приветствую тебя со знаменательным в твоей жизни событием: возведением в сан епископа. Радуюсь по этому поводу не только я, но, несомненно, еще больше меня возрадуется вверяемая тебе камчатская паства.
Сам ты хорошо знаешь, как сильно всегда жаждали жители Камчатки видеть архиерея, получить от него наставление. К сожалению, вследствие отдаленности области от епархиального города епархиальный архиерей не мог часто посещать Камчатку. Жители даже главного города – Петропавловска видели у себя архиерея не более одного раза в десять лет, а в отдаленных селениях архиерея ни разу не видели. Сам ты рассказывал, как, например, жители села Маркова на Анадыре говорили тебе: «Что это за архиерей, не знаем, ни разу не видели, хотя бы раз посмотреть».
Теперь, с назначением тебя епископом города Петропавловска, жители этой области будут иметь утешение – видеть архиерея и молиться с ним гораздо чаще, и будут иметь это утешение жители не только Петропавловска и прибрежных селений, но и всех других населенных пунктов.
Будучи начальником своего детища – Камчатского благотворительного братства, ты по-прежнему, не боясь трудностей и опасностей разъездов по Камчатке, станешь, как и раньше, посещать самые отдаленные уголки, поучать паству, совершать торжественные богослужения и оказывать добро ближним. Тебя, посвятившего с себя с юных лет священнослужению в диких, отдаленных краях, местные жители любят и уважают за проповеди о Христе, за добрые дела.
Иди же на вверяемое тебе высокое служение! В надежде на помощь Божию твори дело Божие, дело архипастыря, со всяким усердием. Ты не новый человек на Камчатке, ты ее и людей, ее населяющих, хорошо знаешь, любишь, а это в значительной степени облегчит для тебя трудность твоего архипастырского служения.
Осенив себя крестным знамением, возьми в свои руки жезл сей как символ вверяемой тебе власти и передай свое архипастырское благословение ожидающим благословения людям».
16 октября 1916 года по милости Божией совершилось посвящение меня в сан епископа Петропавловского, второго викария Владивостокского и Камчатского епископа с пребыванием в г. Петропавловске.
Это большое для Владивостока церковное торжество было весьма радостно воспринято всеми – как православным, так и иноверным населением, сердечно и ласково приветствовавшим новопосвященного епископа камчадальским хлебом-солью – свежей рыбой. А для меня было сугубо радостно то, что на посвящение меня в архиереи прибыла во Владивосток моя любимая, дорогая мамочка, Антонина Евлампиевна, и участвовала во всех церковных торжествах.
Город Владивосток и все военно-морские и гражданские власти оказали большое внимание устройством в адмиральском доме парадного обеда в честь большого события, впервые совершавшейся архиерейской хиротонии.
После торжества, уже к вечеру, все пять архиереев поехали на Седанку, к месту жительства архиепископа Евсевия. Владыка пригласил всех гостей и мою маму в свой большой кабинет, откуда открывался дивный вид на Амурский залив, окаймлявший выход архиерейского дома. Сам Владыка Евсевий сел в кресло к своему письменному столу, чтобы прочесть последнюю почту. И вдруг в полной тишине Владыка огласил Указ Святейшего Синода:
«Архиепископу Евсевию Владивостокскому и Камчатскому о бытии архиепископом Приморским и Владивостокским, а епископу Петропавловскому о бытии епископом Камчатским и Петропавловским с самостоятельным управлением Камчатской епархией и с жительством в г. Петропавловске-Камчатском».
Владыка Евсевий, прочитав Указ Синода, всплеснул руками:
– Вот так так! Утром посвящал своего викария, а сейчас уже я его потерял вместе с моим любимым титулом «Камчатский»! Но я искренне рад, что сей титул перешел именно Владыке Нестору, настоящему Камчатскому епископу, с чем я радостно и поздравляю моего дорогого молодого владыкочку Нестора.
Я же все равно на всю мою жизнь оставался сыновне преданным моему Авве и рад, что нам пришлось вместе быть членами Всероссийского Поместного Церковного Собора в 1917-м и 1918 годах в г. Москве.
Благодарно вспоминаю счастливые дни, когда моя дорогая мама присутствовала и молилась на посвящении в епископа ее родного сына, которому, как и старшему сыну, преподала самые лучшие религиозно-нравственные назидания, показав добрый пример родительского воспитания и направив на путь служения Церкви и Родине.
Когда пришло время маме возвращаться на родину из Владивостока, я попросил начальника владивостокской таможни осмотреть ее чемоданы и опечатать пломбой, чтобы маме не пришлось тревожиться на двух попутных таможенных остановках. Начальник любезно позвонил в таможню, чтобы чемоданы осмотрели и запломбировали прямо на квартире, и позаботился о том, чтобы на мамину фамилию заготовили свидетельство об осмотре и пломбировании ручного багажа, каковое и вручили маме для предъявления на таможенных остановках поезда.
Возвратившись домой, мама написала мне письмо. В нем мама рассказывала о том, что, когда чиновник таможни вошел в купе, она достала из сумочки свидетельство, которое сама раньше не посмотрела. Чиновник прочел бумагу и, всматриваясь в мамино лицо, спросил: «А вы кто такая?» – «Я – Антонина Евлампиевна Анисимова, мать епископа Нестора, только что посвященного в архиереи». Тогда чиновник прочитал свидетельство маме и вернул ей, и мама вместе с ним посмеялась. В свидетельстве написано: «Чемодан Ея Преосвященства Госпожи Нестеровой осмотрен во владивостокской таможне и запломбирован; ничего запретного или требующего налога в вещах нет». Все это было скреплено подписью таможенного чиновника. О, малограмотная Русь!
В 1916 году, после посвящения меня в сан епископа Камчатского и Петропавловского, я возвращался на Камчатку уже архиереем.
Архиепископ Японский Сергий, бывший в числе архиереев, посвящавших меня во епископа, поехал в Японию, в г. Хакодате на острове Хоккайдо, куда пригласил и меня по пути следования моего в епархиальный город Петропавловск. В Хакодате мы совместно освящали новый японский храм.
После торжественного освящения храма в честь святителя Николая, Мирликийского чудотворца, в Хакодате было многолюдное собрание православных японцев в честь восстановления церкви на острове Хоккайдо. На собрании произносились речи и приветствия православным японцам.
Мне также пришлось выступить с приветствием, в котором я сообщил, что впервые был в г. Хакодате в 1907 году. Когда пароход «Амур», на котором я направлялся на Камчатку, вошел в порт Хакодате, то нам, пассажирам, представилось весьма грозное зрелище. Накануне над Японским морем пронесся жестокий тайфун, весьма опасный для нас – маленький пароходик «Амур» бросало и било гигантскими волнами, как щепку. И проплыви мы еще сутки по морю, пароход мог просто не выдержать и развалиться, потому что то и дело с него срывало ветром то катер, то лодки, хотя они и были закреплены на палубе. А когда вечером мы вошли в гавань, то нам, пассажирам, представилось жуткое зрелище. Весь город Хакодате, расположенный на склоне высокой горы, был охвачен огнем. В пожаре тогда сгорело 11 000 домов. Причиной его и был тайфун, разметавший буйным ветром ураганом горящие легкие деревянные постройки. Тогда же сгорел и православный японский храм.
И вот через девять лет православные японцы построили роскошный каменный храм, который Владыка архиепископ Сергий совместно со мной и освящал в 1916 году на месте пепелища прежней церкви.
Среди многих приветствий мне запомнилась небольшая, но весьма трогательная речь одного мальчика лет 9–10. По-детски быстро он взбежал на эстраду и, поклонившись всем присутствующим, громко сказал:
– Я видел сегодня «Дай сикис сан», освященный господами архиереями Сергием и Нестором наш новый и красивый большой храм. Его построили христиане-японцы на свои пожертвования, они и сейчас вносили свои деньги на этот храм. Я еще маленький и не имею своих денег, но когда вырасту и буду работать, то обещаю, что тогда внесу на мой храм заработанные мною деньги. Всех присутствующих заверяю моей честностью, что я это исполню, а сейчас свой вклад внесли мои родители. Меня зовут Николай Тагикучи.
В 1916 году, 9 ноября, в день моего рождения, в 9 часов утра я прибыл на пароходе в г. Петропавловск, ставший с того дня моим кафедральным городом. Власти города и население устроили мне торжественную встречу. Непосредственно с парохода я в сопровождении губернатора, всей администрации и представителей населения от самой пристани до собора проходил с крестным ходом под торжественное «Коль славен наш Господь в Сионе».19 Учащиеся петропавловских школ и народ по-праздничному радостно встретили первого на камчатской земле архиерея камчадальским хлебом-солью – свежей рыбой. Раньше же епископы могли только раз в десять лет и даже реже посещать часть Камчатской области проездом на пароходе.
Было много ласковых приветствий и подношений, врученных мне с истинной любовью и с такой же любовью принятых. Помню представителей китайской колонии г. Петропавловска, от имени которых выступил китаец-буддист Сун-Интун. Он поднес мне архиерейский жезл (посох) из Мамонтова клыка, выточенный в корякской юрте, и сказал по-русски, но с чисто китайскими оборотами речи:
– Твоя первосвященства, с приехал ом тебя! Наша китайська колония тебя шибко любит и снает. Наши китайськи люди шибко радуются, что тебе теперь «Таада лама» (большой лама – священник). Наша хоче подари тебе эта хороша палка. Ваша называй его зизла (жезл), а наша зови «богата палка». Твоя игаян (все равно) пастуха твоя многа есть люди – паства, и его нада слушай тебе, чего твоя учи их кароша жизня. Пастух, который имеет овечка, оленя, собачка, его если не слушай, то пастуха бери палка и бей животная. Твоя не могу зизлом бей твоя паства. Твоя только покажи им зизла, его тогда боись. Наша не говори, не нада спасиба. Наша любит тебе.
Конечно, за такой трогательный подарок и доброе отношение я сердечно благодарил китайскую колонию.
По окончании богослужения первой моей архиерейской службы бывшие в соборе губернатор с женой и камчатские представители администрации с семьями пришли в мою скромную небольшую квартиру на чашку чая.

Митра из бивня мамонта, принадлежавшая Владыке Нестору Государственный исторический музей
В ожидании моего возвращения в Петропавловск все добрые гости мои прислали мне из вновь открытой кондитерской Петропавловска множество тортов, так что моему эконому Николаю негде было их ставить. В маленьком моем кабинете с боков письменного стола стояли стулья, на которых также стояли торты. Гости наполнили кабинет, а губернаторша, не оборачиваясь к столу, села на стул – прямо на сливочный торт. Раздался испуганный визг, а гости рассмеялись, потому что торт, словно взорвавшийся вулкан, разлетелся по комнате.
Казус этот заставил губернаторшу срочно уехать на собаках переодеваться, и она долго оплакивала свое новое платье, сшитое специально к этому дню.
Туземцы, особенно коряки и чукчи, очень умело и даже высокохудожественно вырезали из мамонтового или моржового клыка разные вещи – например, копировали полную упряжь собак, везущих нарту, или оленей, или семью туземцев за ловлей рыбы или охотой на зверя. Самое интересное, что все предметы вырезывались простым рабочим ножом, которым режут собакам корм и даже колют дрова.
Однажды в корякской юрте хозяин-коряк увидел впервые мою митру из золотой парчи с вышитыми по ней цветами и красивыми узорами. Я рассказал ему о значении этого головного убора для моего священнослужения и спросил, может ли он принять от меня заказ на изготовление точно такой же митры из стоявшего в юрте огромного Мамонтова клыка, который был величиной выше человеческого роста. Коряк ответил:
– Могу точно сделать. Только прошу не торопить, тогда обещаю сделать через сорок-пятьдесят дней.
Мне этот срок показался слишком маленьким, но он заверил, что этого времени вполне достаточно.
Этот клык коряк распарил в горячей воде, затем своим рабочим ножом разрезал на части и без всякого другого инструмента придал этим частям определенную форму, скругляя, где надо, и вставляя в фаску (углубление в середине кости) края кости. Любовно вырезал он на митре иконки с четырех сторон, скопировал весь вышитый на ней узор, а борт опушил собольим мехом. В этой митре я впоследствии совершал церковные службы в Москве и крестные ходы, а потом подарил ее Московскому археологическому институту. Сейчас она находится в каком-то музее в Москве и постоянно приводит в восхищение посетителей.
15 . Всероссийский поместный церковный собор
Времени и лет земных Творец!
Источник благости и света!
Ты Сам благослови венец
Наступающей эпохи 1917 лета!
По избрании моего недостоинства в высокий и ответственный перед Богом, Церковью Христовой и паствой сан епископа Камчатского и Петропавловского суждено было мне вступить в продолжение моего служения. После переезда в Петропавловск и исполнения текущих дел зиму я провел в разъездах на собаках по восточному побережью Камчатской области. О том, что было дальше, я уже писал (черная оспа и землетрясение).
Прошло всего лишь полгода, и вместе с моей Родиной суждено было мне перешагнуть рубеж совершенно новой, революционной эпохи.
В 1917 году постепенно в корне изменялась как внутренняя жизнь Российского государства, так и всего церковного аппарата, основанного на строгих церковно-канонических началах, кои были нарушены в 1700-х годах властью преобразователя всех порядков – императора Петра I Великого.
В конце февраля 1917 года беспроволочный телеграф ежедневно приносил из Петербурга большие новости и тревожные известия о неспокойствии на войне, на наших фронтах, о нежелании наших воинских частей воевать, о революционных настроениях в столице и других городах и об отречении от престола Государя Императора Николая II, а также об организации Государственной думой Временного правительства и о созыве в 1917 году, 15 августа, Всероссийского Поместного Собора в Москве на выборных началах при участии только епархиальных архиереев и выборного по епархиям духовенства и мирян в соответствующих пропорциях. Участвовали на Соборе все епархиальные епископы, немногим более 100 человек, и вместе с выборными членами Собора – духовенством и мирянами – около 770 человек.
Члены Собора разбились на различные секции, и периодически оформленные постановления по церковным вопросам рассматривались на пленарных общих собраниях и решались общим голосованием.
Временное правительство не смогло в своем составе выполнить с пользой дело управления государственным кораблем и в конце октября было сметено.
В этот период Церковный Всероссийский Собор, продолжая реформу Православной Всероссийской Церкви, отделенной от государства при строго церковном и соборном соблюдении канонических установлений, на общем пленарном заседании всех членов подавляющим большинством голосов решил после ряда прений восстановить законное патриаршество в Русской Православной Церкви, бывшее 200 лет тому назад на Руси, но уничтоженное Императором Петром I. Вместо патриаршества тогда был учрежден Святейший Синод, возглавляемый светским человеком в лице обер-прокурора Синода и докладчика Государю по всем церковным делам, что было неканонично и незаконно. Все постановления обер-прокурор рассматривал и отрицал или утверждал, вплоть до назначения епископов на свободные или вновь открываемые архиерейские кафедры. Все сие не соответствовало соборному каноническому установлению.
В настоящее время Всероссийская Православная Церковь имеет Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, приветствуемого всеми братскими Вселенской Православной Церкви патриархатами.
До реформы Петра I патриархов было десять, а через 200 лет на церковном Соборе был избран в порядке очереди Патриарх Тихон, затем – Патриарх Сергий и ныне здравствующий Патриарх Алексий.
Владыка Евсевий Патриархом Тихоном был назначен митрополитом Крутицким, патриаршим наместником. Скончался в 1922 году. Могила его – в Новодевичьем монастыре, и я посещаю ее с благоговением, благодаря доброго Авву, молюсь о его упокоении: «Архиерейство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем».
Всероссийский Поместный Собор, канонически обязательный не менее одного раза в год в каждой автокефальной Церкви, не собирался в православной России со времен уничтожения Императором Петром I Собора и замены его Святейшим Синодом во главе с обер-прокурором – светским лицом, назначаемым Императором, чем значительно умалено было церковное каноническое установление.
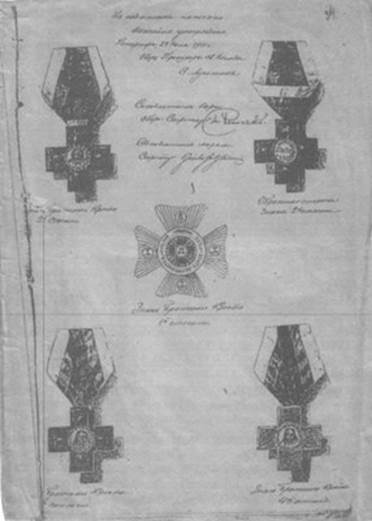
Эскизы знаков Братского креста 4-х степеней. Ксерокопия. Архив ПСTIУ
Революция 1917 года, давшая свободу совести и отделившая Церковь от государства, предоставила Российской Православной Церкви возможность снова стать на законный путь управления Церковью Всероссийским Собором, избравшим церковно законного главу Русской Православной Церкви в лице Святейшего Патриарха по тайному жребию из среды всех иерархов. Собор также имел возможность ввести в жизнь некоторые назревшие церковные вопросы и реформы.

Отец Нестор в миссионерской поездке. Архив А. К. Караулова и В. В. Коростелева
Всероссийский Церковный Собор, происходивший в Москве, длился с 1917-го до 1918 года, пока позволяла мирная международная обстановка. В 1918 году, когда главнейшие реформы были введены в церковную жизнь, некоторые епископы, выборное духовенство и миряне, особенно из окраинных мест, возвратились в свои епархии.
Как епископ Камчатский и Петропавловский, я представительствовал на Соборе в Москве, а вместе со мной в его работе участвовал, имея голос от мирян, камчадал П. Новограбленный.20
Осенью 1918 года мы выехали в свою епархию, на Камчатку, но так как прямой путь через Сибирь до Владивостока был нарушен междоусобицами атаманов Семенова, Дутова, Колчака и других повстанцев, то мне пришлось ехать кружным путем – через Киев, Одессу, Крым, Константинополь, Александрию, Египет, Суэцкий канал, Порт-Саид, Гонконг, Шанхай.
В Константинополе я растерялся, так как у меня с собой было всего несколько бумажных денег-керенок, нигде не признаваемых. А на дальний путь у меня не было ни гроша. В Турции над моими керенками менялы только посмеялись. Но неожиданно счастье мне улыбнулось. Я случайно узнал, что в Константинополе находился в то время главный представитель Российского Добровольного флота – директор Беклемишев. Я обратился к нему с просьбой взять меня на пароход «Томск», отплывавший вскоре на Камчатку, в счет уплаты в Петропавловске. Но директор категорически мне возразил:
– Вы, Ваше Преосвященство, всегда, будучи на Камчатке, без отказа исполняли все, даже сложные, просьбы Добровольного флота, и весьма много пользы приносили нам во время зимних поездок по Камчатской области, а посему не может быть иного разговора – отведем вам каюту на «Томске» со столом. И не считайте себя должником Добровольного флота.
Я от глубины души поблагодарил Господа Бога и директора, оказавшего мне содействие в непредвиденном путешествии домой на Камчатку.
«Томск» плыл восемьдесят четыре дня с небольшими остановками в попутных портах, но с трудными задержками в отчаянном, страшном и длительном шторме в Индийском океане.
Все же я, благодарный всем и за все, добрался до Петропавловска-Камчатского, где исполнил все епархиальные дела, много служил и на следующем пароходе, прибывшем в Петропавловск, имел возможность пройти вдоль восточного побережья Берингова моря, посетив камчатские селения, где меня радостно встречала моя паства. Снова я имел возможность удовлетворить все церковные нужды, крестить давно приготовленных к принятию православия дорогих моих детей природы, а также оказал посильную помощь походной аптекой больным. Обратно в Петропавловск наш пароход не пустили, потому что там началось восстание.
Так и не пришлось мне больше вернуться на мою любимую, дорогую Камчатку. Но сердце мое осталось там, среди насельников Камчатской области, и неугасима моя молитва за эту землю со всеми ее камчадалами и туземцами.
Я отправился через Японию в Харбин (Маньчжурия), где некоторое время служил и управлял Камчатским миссионерским подворьем и Домом Трудолюбия и Милосердия.
Впоследствии Святейшим Патриархом Алексием и Священным Патриаршим Синодом был назначен епархиальным архиереем Харбинским и Маньчжурским с возведением в сан митрополита и Экзархом по Восточной Азии (27 июля 1946 года).
Молитвенно и смиренно благодарю Тебя, Господи, даровавшего моей скудости пронести ниспосланные Тобою три креста послушания моего пастырско-иноческого и миссионерского служения в предопределенный Тобою период служения в камчатском крае.
Слава Богу за все!
При всех недостатках и немощах моих я по совести, укрепляемый верою и любовью, исполнял вверенное мне служение во имя Господа Иисуса Христа. И моим бывшим духовным чадам Камчатской области оставляю я то же завещание апостольское, какое было положено мною в основу моей проповеди:
«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвизаясь единодушно за веру Евангельскую» (Флп.1:27).
«Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами» (Флп.4:9).
* * *
Примечания
Печ. по: Архив ПСТБИ. Копия. Машинопись. Опубликовано: Митрополит Нестор (Анисимов). Мои воспоминания: Материалы к биографии, письма / Подг. текста и публикация М. И. Одинцова. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1995 (Матер, по ист. Церкви. Кн. 7); Митрополит Нестор. Моя Камчатка: Записки православного миссионера / Публ., фотографии, предисл. и коммент С. В. Фомина. Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995; Божией милостью архиерей Русской Церкви: Три жизни митрополита Нестора Камчатского. М.: Правило веры, 2002 / Автор-сост. С. Фомин; Митрополит Нестор (Анисимов). Моя Камчатка / Послесл. А. И. Белашова. Петропавловск-Камчатский: Изд-во Камчатского печатного двора, 2003.
Из повести Л. Н. Толстого «Детство».
«Иван Сусанин» – опера М. И. Глинки.
«Руслан и Людмила» – опера М. И. Глинки.
«Мазепа» опера – П. И. Чайковского.
Великое славословие – молитвословие, начинающееся с евангельского стиха: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк.2:14), включающее стихи, посвященные прославлению Святой Троицы, и стихи псалмов. Входит в состав богослужения утрени и повечерия.
«Покаяния отверзи ми двери...» – песнопение, поемое на воскресной утрене подготовительных к великому посту и первых пяти его недель.
Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья». У Тютчева: «Удрученной ношей крестной...»
Первая и последняя строки на утрене Недели о блудном сыне, входящего также в чинопоследование монашеского пострижения: «Объятия Отча отверсти ми потщися, блудно мое иждих житие, на богатство неиждиваемое взираяй щедрот Твоих Спасе, ныне обнищавшее мое сердце да не презреши. Тебе бо Господи умилением зову: согреших, Отче, на небо и пред Тобою».
Перефразирована молитва праведного Симеона Богоприимца, встретившего и принявшего на руки Младенца Христа в Иерусалимском храме (Лк.2:29–32). Первые строки этой молитвы: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение Твое...»
«Помощник и Покровитель бысть мне во спасение...» – начальная строка ирмоса канона св. Андрея Критского, читаемого на повечерии первых четырех дней и на утрене четверга пятой недели Великого поста.
Соединение русского и церковно-славянского переводов. Точный текст на русском языке: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
Картина В. В. Верещагина. Хранится в Третьяковской галерее.
Это облачение мне вышили тунгусы оленьими жилами, окрашенными в разные цвета; краску они сами добывают из разных трав. Так же художественно они украшают и свой наряд. А коряки вышили орлец, который был вложен в гробницу с мощами св. Иоасафа, когда в 1911 г. я принимал участие в г. Белгороде в прославлении мощей св. Иоасафа Белгородского.
Тайная канцелярия – центральное государственное учреждение в России, орган политического следствия и суда. Создана царем Петром I в феврале 1718 г. для следствия по делу царевича Алексея Петровича. Впоследствии к тайной канцелярии перешли следствие и суд по делам чрезвычайной важности (покушение на царя, попытки политического переворота, государственная измена и т. д.). Следствие в проходило обычно с применением пыток. В мае 1726 г. Тайная канцелярия была ликвидирована с передачей всех ее дел Преображенскому приказу. В марте 1731 г. была восстановлена под названием Канцелярия тайных розыскных дел, которая была ликвидирована в 1762 г., а ее функции перешли к Тайной экспедиции при Сенате.
Суда эти по тому времени были большие – по 80 футов длиною – и поднимали до 6000 пудов груза.
Проект ордена свт. Николая был представлен Императору Николаю II для награждения ветеранов первой мировой войны. В 1929 г. Великий князь Кирилл Владимирович учредил Орден Святителя Николая Чудотворца. Этим орденом и был награжден Владыка Нестор, находясь в эмиграции.
«Коль славен наш Господь в Сионе» – гимн на слова М. М. Хераскова (1733–1807), положенный на музыку композитором Д. С. Бортнянским (1751–1825). Этот гимн являлся гимном Российской империи вплоть до замены его на «Боже царя храни». Предположительно мелодия гимна была написана между 1790 и 1801 гг. «Коль славен...» входил в ритуал производства юнкеров в офицеры, звучал после артиллерийского залпа и сигнала горнистов «на молитву, шапки долой!». С 1856 г. по октябрь 1917 г. Спасская башня Московского Кремля вызванивала гимн Д. С. Бортнянского ежедневно в 15 и 21 часов.
Автор ошибся. В Соборе участвовал И. Т. Новограбленов, брат П. Т. Новограбленова.
