Миниатюры греческой рукописи псалтири IX века из собрания А. И. Хлудова в Москве Д. Чл. Н. П. Кондакова
Замечательная рукопись греческой Псалтири IX века с современными миниатюрами, прежде принадлежавшая покойному А.Н. Лобкову1, а ныне составляющая одно из лучших украшений известного рукописного собрания А.И. Хлудова в Москве, занимает по праву весьма важное место в истории византийского искусства и его иконографии. Принадлежность рукописи IX веку2 доказывается столько же ее древним уставным письмом (которое, впрочем, целиком, но на том же пергаменте и по древнему почерку переписано в XII веке), сколько стилем ее миниатюр и разными историческими указаниями, в них содержащимися. Такая древность и сама по себе дает Хлудовскому списку первое место в среде греческих лицевых кодексов Псалтири3, по крайней мере тех, которые, как напр. список Барберинской Библиотеки, Лондонской и пр., относятся к одной и той же редакции, но, будучи позднее этого списка, могут считаться как бы его копиями. Эта редакция, нося на себе характер Псалтири «Толковой» в самом содержании своих миниатюр, и будучи, поэтому, явно богословского происхождения, по художественному характеру примыкает к периоду VII–IX веков. Именно к этой эпохе падения античной манеры относится разряд рукописей, иллюстрированных по полям малыми виньетками и еще не украшенных ни заставками, ни живописной формы заглавными буквами4.
Такова же в общих чертах и вся внешность Хлудовского списка. Художественная манера его миниатюр, легкая и простая, владеет древнею моделлировкою, хотя несколько огрубелою, но все еще изящною и натуральною; она сама в себе заключает все необходимые условия для широкой иллюстрации кодекса. Миниатюра довольствуется здесь композицию краткою и ясною, не ища сложного натуралистического перевода; очерк фигуры дается немногими ясными контурами и, при богатстве теней и переходов, не нуждается еще в той мучительно-мелкой механической штриховке, которая появляется в византийском искусстве уже с начала X века. Рисунки исполнены не каллиграфом, но художником, мастером своего дела; правда, иные миниатюры наложены слишком обще и даже небрежно, местами видна торопливость5; но повсюду свежесть античного стиля, достоинство и изящество манеры выкупают недостатки исполнения; самая манера указывает даже более на VIII век, нежели на IX, когда в искусстве вырабатывается поздневизантийский мертвенный пошиб и ремесленная схема рисунка заменяет отсутствие жизни блеском красок и условною правильностью фигур. Художественное воспитание миниатюриста Хлуд. Псалтири проявилось, однако же, всего более в том чувстве меры и красоты, которое дало ему прежде всего пластически краткую и ясную композицию: в ней только три-четыре фигуры, из них главная легко выступает на первый план; сюжет развить легко и свободно, может быть, – иногда даже поверхностно; изображение события, хотя бы сцены из страстей Господних, чуждо вполне болезненного, аскетического лиризма, который выступает в позднейших редакциях Лицевой Псалтири и в позднейших византийских миниатюрах является элементом разложения античных преданий, а, вместе с ними, и самого византийского искусства. Здесь, напротив того, сам выбор предпочтительно юных образов и фигур составляет всецело наследие могущественного и оригинального развитая искусства в предыдущую эпоху.
В этих рисунках, напоминающих еще живопись античных ваз, характерность и простота типов простирается даже и на бесцветные обыкновенно изображения толпы; среди нее выдаются особенно часто две фигуры: старика, с массивною плешивою головою и пучками волос на висках и щеках, красным вздутым лицом и толстым дряблым телом – образ Силена, по прямой линии сюда перешедший, – и нежного круглолицего юноши, полуребенка, с ясным взглядом и розовыми щеками – тип, которого прелестью любуешься в Венском кодексе Бытия IV–V века. Привычка к этим типам так сильна у рисовальщика, что в одной сцене Распятия силенообразным стариком он изобразил сотника Логина, а в сцене сделки с Фарисеями (л. 40 об., Пс.40:8) таким юношею или ребенком представлен даже Иуда, тогда как рядом, в сцене Тайной Вечери, он уже является со всеми натуралистическими чертами дикой всклокоченной фигуры: с рыжими волосами и бородою и лицом еврейского типа. Но если затем, в этом же юношеском возрасте представляются воины, служители, апостолы (кроме Петра, Павла, Андрея и др.), особливо Матфей, мученики вообще и св. Георгий в частности; то византийский миниатюрист, в своем качестве иконописца, преследует также и историческую правду и личную характеристику в среде типов, доселе отмеченных в искусстве только общими чертами.
Отсюда особенною оригинальностью и разнообразием отличаются в рукописи типы Евреев, и самые ветхозаветные лица представляют против искусства VI–VII века натуралистическое разнообразие. Таков тип Давида, с его маленькою опушающею бородкою, в полном цвете мужества, с типичными еврейскими чертами лица; пророков Аггея и Захарии, которые изображены седыми и с длинною бородою; Аввакума, который представлен с легкою бородкою6 и пр. Пусть вариации были только колебание и не получили особенного значения в самой иконографии. Но, взамен того, тип Христа в этой Псалтири, строго развивая традицию, представляет важнейшее звено в истории его перехода от мозаического образа VI в. к поздне-византийскому, канонизованному типу X столетия. Христос неизменно одет в голубой хитон с золотыми клавами и пурпурный гиматий, оставляющий открытыми только правую руку и плечо; левая держит свиток, а правая благословляет всегда троеперстно, или греческим перстосложением, получившим позднее название именословного. Красивое лицо Христа обрамлено черными густыми волосами и маленькою бородою, начинающеюся от ушей и у подбородка слегка раздвоенною; еврейский тип выставлен с особым ударением в этих чертах, а на лбу отделяются две пряди волос, составляющие в последующую эпоху странную и неизменную принадлежность ветхозаветных типов. Другие иконографические типы удержали также древнехристианские черты: Богородица представляется юною, полною девою, а Иоанн Предтеча имеет много сходства с типом миниатюр сирийского Евангелия, Лавр. б. 586 г.
Если, таким образом, наш памятник по типам представляется стоящим на рубеже двух исторических эпох искусства, древней и поздневизантийской, разделенных друг от друга художественною манерою, то и его содержание еще полно воспоминаниями знаменательных событий VIII столетия и рисует нам характер религиозного и умственного настроения эпохи иконоборцев.
В самом деле, эта редакция Псалтири, «толковой» в самом выборе своих рисунков, составившаяся непосредственно после эпохи иконоборства, дает нам все характерные признаки излюбленного богословского произведения, назначенного для действования на массу; как, с одной стороны, оно приурочено к наглядному выражению догмы и политической ее стороны, так в целом направлено к благому нравственному поучению. А эти признаки отличают собой всю богословскую литературу эпохи иконоборства IX века. Борьба с ересями отныне уже не ограничивается духовною иepapxиею и соборами, но переходит в народ и общественную жизнь: политические сочинения против ересей принимают с VII века форму изложения их истории, оглашения и подробного объяснения для всех7. И, конечно, наиболее выдающуюся роль в развитии общего богословского интереса играла иконоборческая ересь, борьба с которой велась слабым против сильного, – монашеством и народом против императоров, администрации и солдатчины. В этой полемике созрели и получили значение сочинения И. Дамаскина, Феодора Студита (особенно письма его), патриархов Германа, Никифора, Мефодия и друг.; вся их литературная деятельность носит на себе отпечаток общественно-полемический, широкий и сводится к выяснению и утверждению нравственных прав церкви, попираемых деспотическою силою. В такую эпоху всеобщего колебания и борьбы за самые заветные догмы весьма понятно отсутствие сочинений по собственно-нравственному богословию: их роль исполняют творения Отцов Церкви, которых чтение отныне особенно распространяется между мирянами, жития Святых (к X в. относится первое уложение их редакций Симеоном Метафрастом) и поучительные послания и письма. И. Дамаскин составляет изборник в 300 слишком глав или титулов, названный им «Священными параллелями»8, в котором он сводит изречения Библии и Отцов церкви по всевозможным житейским, церковным и социальным вопросам: о благочестии, милостыни, суде и правосудии, чистоте жизни, мудрости житейской и пр., а также о лекарях, пьяницах и злых женщинах и т. д. Пусть история церкви видит в этом писателе великого догматика: подобные сочинения его играли в свое время не менее важную роль, как и полемико-схоластические.
Отсюда, в частности, Псалтирь, игравшая в Византии роль практического нравственного кодекса, распевавшаяся благочестивыми людьми за работою, – иными каждый день, с начала до конца, – или же монахами переписывавшаяся в Великий пост (таково сведение о патриархе Мефодии) целиком за каждую его неделю, должна была особенно выдаваться в разряде этих поучительных сочинений. В толковой Псалтири не только находила себе обширное применение любимая богословская задача – искать прообразов Нового Завета в Ветхом (τύποι τῶν νέων в τὰ παλαιά), но и само богословие из отвлеченной науки догматов переходило в живое исповедание веры и православия. Миниатюры, украсившие отныне кодексы Псалтири, являются нам наглядною заменою философских и нравственных апоффегм, и выражают собою весьма чувствительно общее направление мысли. Так, редакция Хлудовской Псалтири с ее дальнейшим развитием в кодексах Барберинском, Лондонском, Афонском и др. выставляет как принцип, не чистое богословское направление в своем толковом содержании, но широкую задачу – придать богословскому поучению общегодность и наглядную убедительность.
Пользуясь неукоснительно всеми пригодными местами, миниатюры этих редакций переносят целиком события Нового Завета в объяснение Псалмов, хотя бы ни один толкователь не указывал в данных местах пророческих указаний на будущее: благие цели вполне оправдывали эту меру. Для иллюстратора Псалтири «зверь, живущий в тростнике» (Пс. 67:31, мин. на л. 65) – свиное стадо, в которое вошли бесы, изгнанные Христом; выражение: «ревность моя по доме Твоем», Пс.68:10, л. 66, представляется в образе Христа, изгоняющего из храма мытарей и продающих; «нет скудости боящимся Его», Пс.33:10 – миниатюра на л. 30 представляет чудесное умножение хлебов; «источник жизни», Пс.35:10 л. 33, есть Христос, беседующий с Самарянкою; слова: «окропиши мя иссопом и очищуся», Пс.50:9, л. 50, являются в сцене умовения ног ученикам (по толкователям, крещение); осторожность на слова и обещания, Пс.38:2, представлена в поучительном примере Ап. Петра клянущегося, и весь псалом 38-й с слезным молением Давида, ст. 13, след., представлен в образе раскаяния Апостола, и множество других случаев произвольного воплощения евангельских сюжетов в простейших словах Псалтири, которых не находим ни у одного толковника ее. Понятно, что также и все подходящие к такой цели толкования этих последних вносятся предпочтительно в иллюстрацию, что мы и будем наблюдать постоянно ниже; возьмем один мелкий случай: Пс.67, особенно выдающейся между пророческими изречениями, в Пс.67:27 называет младшего Вениамина, владыку Иудеев; и Афанасий Александрийский, и Феодорит9 единогласно указывают, что здесь должно разуметь ап. Павла (б. из племени Вениаминова), призванного после всех Апостолов, младшего между ними, – образ язычников, принявших христианство и владычествующих над Иудеями. Миниатюра рисует к этому стиху икону Апостола с подписью: «Вениамин».
Еще ярче выступает общественная роль богословской полемики и таких ее орудий, как Лицевая Псалтирь, – в нескольких ее миниатюрах, относящихся к иконоборству. Перед нами явно, хотя и нет надписей, заседание «нечестивых» (л. 23 об., Пс.25:5) иконоборцев во Влахернах, в эпоху гонений Льва Армянина (815 год): император, окруженный телохранителями в париках, сидит на троне выслушивая рядом сидящего и вновь посвященного иконоборческого патриарха Феодота: патриарх Никифор уже был в это время в ссылке, а заключение в темницу Ф. Студита последовало скоро после этого собора. Фигура императора отличается почти портретною натуральностью и типичностью восточной физиономии: дикие глаза, сверкающие из-под насупленных бровей, густые локоны черных, как смоль, волос охвачены тоненьким ободком диадемы; рядом группа двух иконоборцев занята поруганием иконы Христа в круглом медальоне: один одетый в пенулу, насадив икону на древко, намерен окунуть ее в вазу с кипящею смолою: это софист и пособник Льва Иоанн; его отличают дыбом подымающееся волосы; другой, подражая Иудею, подносит к лику иконы губку: это второй пособник Льва, епископ Игнатий; повсюду пятна и потоки крови (αἷμα). Тех же двух лиц и за подобных занятием (без надписей) встречаем внизу изображения распятия на Голгофе (к Пс.68:22): сцены поругания иконы и распятия самого Христа представлены в параллель друг другу: Иудей подносит к устам Христа губку, напитанную уксусом из близь стоящей вазы, а седой сотник Логин, держа копье, дивится чуду. Оригинальная мысль сравнить злых иконоборцев с Иудеями, распявшими Христа, заимствована из известного сказания о «Страстях Господней иконы», приписанного Афанасию Александрийскому10, но заведомо подложного, хотя оно и было уже читано на 2-м Никейском соборе. Это предание рассказывает, как однажды Иудеи в Берите ругались над иконою Христа, плевали в нее и били, и, пробив гвоздями руки и ноги изображенного, тростью ударяли по голове Господа, подносили к устам лика губку, напитанную уксусом, и наконец, пронзив бок Его копьем, дали совершиться новому чуду, ибо из бока истекла кровь и вода чудотворной силы. Рассказ этот долгое время читался в Воскресение недели православия (первой недели Великого Поста, в которую праздновалось возобновление иконопочитания), и был весьма распространен в эпоху последующую за иконоборством11: его передает Ф. Студит в известном письме к Императорам Михаилу и Феофилу, которое, как исповедание православия, было послано от лица всех иереев12. Тот же Ф. Студит13 приписывает, наконец, Иоанну и Игнатию два акростиха: Иоанна – Χριστοῦ τὸ πάθος ἐλπὶς Ἰωάννῃ; Игнатия – σταυρὸς Ἰγνατίῳ αἴνεσις, и миниатюра видимо обращает это в пародию.
Торжество православия является в образе патриарха Никифора, в нимбе, держащего в левой руке образ Христа (к Пс.25:4, на л. 23): полное восстановление иконопочитания или только что совершилось во время составления этой лицевой редакции, или даже еще совершалось, почему в Псалтири рядом с Никифором нет еще Ф. Студита, как в ркп. Лондонской, в которой этот наставники православия изображается еще к Пс.63, 88:49 и др. Но также нет и св. патриарха Тарасия, и сокровенные тому причины находим как в миниатюрах, так и в современной истории церкви. В памяти рисовальщика должна была еще свежа быть прикосновенность Тарасия к Симонианству, хотя бы как невольное участие Tapacия в рукоположении епископов и пресвитеров за деньги. Хотя сам Феодор Студит и примирился с Тарасием не только по прежнему его проступку в согласи на прелюбодейный брак Константина Копронима, но и в послаблениях патриарха симонианам14, и убеждал учеников и последователей-«Студитов» (в IX в. называвшихся акоймитами) не отступать от церкви, однако же, по его смерти, в церковной иepapхии явилась заметная рознь. Студиты считали все «священство» церкви оскверненным, искали отложиться от нее и управляться самими, по своей воле – τῷ οἰκείῳ θελήματι. Так что патриарх Мефодий (842–846), в виду явного стремления Студитов «отщепенцев» – судить патриархов и самим властвовать в церкви, вынужден был пригрозить ими соборно анафемою, если они сами, образумившись, не анафематствуют прежнего разногласия Ф. Студита с великими патриархами15. Видно также, что в самом монастыре Студийском было несогласие, и более благоразумные монахи осуждали увлечения посторонних Студитов16. Прямое указание на эти события дают нам две замечательный миниатюры: к Пс.68:28, на л. 67 об. видим две параллельные сцены: Фарисеи подкупают двух воинов, стоящих на страже Гроба, кругом надписи из текста Псалтири и Евангелия; ниже Симон волхв в епископском облачении, держа в левой руке чашу с деньгами, рукополагает две фигуры, протягивающая к нему кошели; сзади Симона дьявол (φιλαργυρὸς δαῖμων), нашептывающий ему в ухо. Отношение сцены к иконоборцам указывается остатком подписи: καὶ τὴν τοῦ Χῦ εἰκόνα ἀτιμάζοντ' προσθήκην τῆς ἀνομίας αὐτοῦ ἐργάζοντες, а также другою подобною же миниатюрою к Пс.51:9, на л. 51 об. и опять состоящею из двух параллельных изображений: Апостол Петр стоит на поверженном волхве Симоне, проклиная его сребролюбие; внизу упавшая кружка с рассыпанными монетами.
Ниже Никифор, держа в левой руке образ Христа, «указывает» на поверженного Иоанна, второго «Симона и иконоборца». Имя Ианна не даром также заменяет здесь Иоанна; этот ученый софист или грамматик, правая рука Льва, «его уста», но шут и волшебник «Леканомант» – в глазах современников (изображается поэтому в миниатюрах с волосами дыбом, как одержимый бесом), родом из Ассирии, действительно, носит имя Ианниса в полемических сочинениях начала IX века17, будучи недостоин называться Иоанном, по перифразу апостольского изречения. На л. 35 об. к Пс.36, этот Ианн изображен вновь как сребролюбец и симонианин: он держит в руках большой кошель; возле него дьявол, дыхание которого выходит пламенем.
Итак, эти исторические миниатюры вводят нас непосредственно в самую среду знаменательного духовного и общественного движения VIII–IX века, но вместе с тем рисуют его видимо с узкомонашеской точки зрения. Иконоборство изображается нам наущением диавола, иудейским предательством церкви и Христа, исходившим из гнусного сребролюбия и алчного симонианства; все выгодные стороны этого реформационного движения, его блестящие военные и административные успехи, строго моральные задачи иконоборства, пытавшегося возвысить разлагающееся общество, искоренить суеверие в народе, одним словом, нравственно-политический характер борьбы исчезает и стушевывается в этой односторонней оценке. Но, признавая ее крайнее пристрастие, можем ли мы поставить в вину и осудить этот взгляд противной партии, еще живо чувствовавшей страшные раны, нанесенные церкви и обществу? И само иконоборство, исходя, быть может, из разумных политических и административных целей, было только бесплодною реформаторскою попыткою, с самого начала утратившею свои истинные задачи и превратившеюся в узкую религиозную борьбу.
Задавшись целью всеобщего преобразования Империи, иконоборство сосредоточилось, однако, исключительно на борьбе с клерикализмом и ограничении монастырей и их привилегий «просвещенное и либеральное направление»18 кончило тем, что занялось «искоренением всего, отвлекающего подданных Империи от исполнения их гражданских обязанностей, прежде всего суеверия, а затем и самого образования, как «бесполезного в государственном отношении» (слова Зампелия), и превратилось в дикую солдатчину. И в то время, как клерикальная партия, хотя действуя из личных и сословных интересов, опиралась на вековую культуру Византии, наследницы римской Империи, ничтожество политического знамени иконоборцев не было в состоянии дать этой партии той внутренней силы и нравственного права, которые одни способны дать движению истинный успех.
Ряд фактов, нами встреченных в анализе исторических намеков Псалтири, недаром, наконец, сосредоточивается на истории важнейшего монастырского центра православия в данную эпоху – знаменитого Студийского монастыря. И если к этому ряду побочных доказательств Студийского происхождения нашей редакции Лицевой Псалтири мы пожелали бы иметь прямое, то дальнейшая копия этой редакции, заключающаяся в Лондонском кодексе, рядом с патриархом Никифором, изображает и «преподобного отца» Ф. Студита.
При этом предположении монастырского происхождения редакции и непосредственного ее появления по окончании периода иконоборческого, объясняется и относительная бедность ее в употреблении привычных форм античного искусства, – по крайней мере, сравнительно с редакциею Парижского кодекса. Есть положительные известия, что иконоборство фактически сочетало с своею тенденцию общую вражду против науки и классического образования; преувеличенные, конечно, слухи утверждали, будто Михаил II (820–9) даже вовсе запретил обучение детей.
Но и победа православия, как справедливо замечает о. Герасим, не повела за собою реформы внутренней; светская образованность и ученость пали перед прерогативами клерикалов; ханжество и святошество обвиняли науку в волшебстве и, ссорясь из-за привилегий, не нуждались в просвещении. Таким образом, задача поднять классические основы образования выпала в последующем периоде на долю светской власти, и, действительно, нигде мы не находим такой привязанности к античным формам искусства, в особенности к олицетворениям, аллегорическим фигурам, которыми нередко переполняется сцена, как в пышных рукописях Македонских императоров, каковы: Парижская псалтирь, Григорий Богослов той же библ. № 510, Библия Ват. библ. Christ. № 1 и другие, представляющие миниатюры сходного стиля. Как ни блестящи античные прикрасы, в них рассыпанные, но они не должны подкупать нашего суждения об истинном их значении: они мало или почти вовсе не влияют на композицию, спутанную и бесхарактерную; их изящество как то странно уживается с изможденною уродливостью и бездушно черствыми фигурами грубо натуралистического типа. Эти античные сцены и формочки всего ближе напоминают обильные классические обороты и фигуры среди беспорядочного и крикливого хаоса речей позднейших византийских писателей; они держались за такие книжные хитрости, как за последний обломок античной образованности, на которой воспитались великие учители церкви и которая стала теперь мертвою пережитою схемою.
Но эта относительная бедность античных деталей вознаграждается в Хлудовской рукописи ясностью античной мысли и художественного представления; она обусловлена вместе с тем обилием иконографического материала, отложенного богатым движением религиозным и художественным. Ибо мы имеем в лицевой Псалтири столько же произведение вообще художественное, но прошедшее сквозь богословское горнило, сколько памятник эпохи наиболее важной в истории византийской иконографии, когда искусство, занявшись исключительно разработкою созданных прежде идеалов и образов, стремилось к установлению полной иконографической системы.
Уже первая выходная миниатюра, изображающая Давида с хором музыкантов в арке портика, в своде которого помещен образ Спаса19, указывает нам, какой почвы держится иллюстратор. Древнехристианская идея представлять символически дело искупления и нового откровения Бога человекам в библейских событиях развилась здесь в целую систему мистического параллелизма лиц и фактов Ветхого и Нового Завета, как приноровленную к народному поучению. Такое мистическое откровение смысла священного писания сообщает изображениям восторженный лирический характер: мнимый произвол иных богословских толкований является по существу выражением идеальных помыслов и религиозного одушевления живописца на пользу общего назидания. Истощая прилежно запас богословских толкований, он и сам творит далее в данном направлении и нередко создает образы высокие и мысли увлекательные; оставаясь простым и ясным, он избегает многоглаголания, а чувство эстетическое дает ему пластическую форму для выражения наиболее трудных сочетаний. Между этим жизненным мистицизмом мыслящего и образованного грека и болезненными хитросплетениями позднейшей византийской иконописи и средневекового искусства на западе такая же разница, как между изящною фигурою этой Псалтири и поздневизантийскими типами, пережившими свое содержание. Тем выше историческое значение этого мистического направления, что оно касалось иконографии евангельских событий, ослабляя в ней сухость новой исторической объективной манеры субъективною жизнью и воспитывалось современною литературою. Первая в ряду евангельских событий сцена Благовещения (Пс.44:11, л. 45, к словам: «слыши, дщерь» и пр.) дает нам изящную миниатюру мистического содержания; над головою Девы спускается прилетевший голубь20; слева подходит Архангел, держа лабарум, а справа Давид обращается к дщери Сиона; его мистическое присутствие, как «прародителя Девы и Бога», в сценах Благовещения и Введения во храм и др. рисуется в красноречивых тирадах бесед21 о Богородице патриарха Германа.
Еще замечательнее миниатюра, изображающая на л. 85 «Целование» или встречу Марии с Елисаветою, как прототип известной композиции этой сцены с преклонением Младенца Иоанна; сюжет дает не только буквальное воспроизведение текста, как понимает Пипер, издавший рисунок сцены из Лондонского списка Псалтири22, но и новую вариацию мысли о преклонении Ветхого Завета перед Новым, по поводу соответствующего текста Пс.84:11: «милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» – Афанасий в истине указывает Деву, а Феодорит замечает, что милость также дает правду, как Елизавета рождает Иоанна, а истина производит мир, как Мария – Христа. Сцена Рождества (л. 2 об. Пс.2:7) представляет обычную, со временем Феодорита, пещеру-вертеп, и Младенец являет собою свет, воссиявший в нем, как говорит Лев Мудрый в речи на Рождество. Сретение (л. 163 об., к гимну Симеона) происходит у престола, за которым Симеон принимает Христа, как новую жертву Евхаристии. Также и Бегство ее в Египет изображено в обычном переводе, тождественном с мозаикою св. Марка; в принятой форме представлено и Искушение от диавола (л. 92 об., Пс.90:11).
Важнее в символико-мистическом направлении иконографии двух миниатюр Крещения Иисуса: в одной (л. 117, Пс.113:5) видим «Иордан, обратившийся вспять» –фигуру старика в конической шапке, с жестами страха; в другой слова: «стерл еси главы» 11 пр. (Пс.73:13, л. 72 об.) послужили основанием к изображение двух обезглавленных водных чудищ; эта сцена представляется, последовательно, оригиналом позднейших мистических изображений Крещения, как победы над змием23. В обеих миниатюрах наконец Креститель воздевает руки, моляся, согласно с переводом сюжета, как «Богоявления» – Епифании. В общем характере своем рисунок обнаруживает замечательное сходство с миниатюрами Сирийского Евангелия VI века.
Всепрощающая любовь Христа представлена разом в сводной сцене: Христос обращается к мытарю Закхею, поместившемуся на дереве, а внизу, припав к ногам Христа, блудница и истекающая кровью получают от Него прощение и исцеление (л. 84 об., Пс.83:12).
Оставляя в стороне немногие миниатюры со сценами чудесной жизни Иисуса: Преображения (л. 88 об., Пс.88:13), Умножения хлебов, Утишения ветра и моря (Пс.88:10), Исцеления болящих (Пс.101:4), Изгнания из храма торгующих, беседы с Самаритянкою (л. 33, Пс.35:10), при которой также присутствует Давид, – и др., обратим внимание на миниатюры Страстей, которым рисовальщик посвятил особенно много рисунков.
«Страсти» всегда занимали собою миниатюристов, и сам ряд сцен этого содержания целиком сложился в лицевых рукописях. В самом деле, монументальное искусство в древнюю эпоху знает лишь очень немногие сюжеты из Страстей Господних, как видно в равеннских мозаиках церкви св. Аполлинария Нового, иллюстрирующих Евангелие. Вот почему композиции этих сюжетов в мозаиках св. Марка в Венеции явно копируют мелкие оригиналы миниатюрного производства и отличаются в подробностях сильным натурализмом, позднее присущим именно этому производству. В миниатюрах Хлуд. Псалтири многие сцены отличаются жизненною и историческою правдою, но общий характер их слишком вспоминает старые схемы и набросан поверхностно.
Так, в первой миниатюре этого ряда – Умовение ног на Вечери (л. 50 об., Пс.50), Христос (надпись: ὀ νηπτήρ) является в одном хитоне и подвязан передником, согласно с своим служением и самым текстом. Следуют сцены: Моления Христа (т. 68, 10), беседы с Петром (л. 37 об., Пс.38:2), изображение Петра кающегося, пред петухом (л. 38 об., Пс.38); двух лжесвидетелей на Христа перед судом (Пс.34:11, л. 31 об.); уговора Иуды с старейшинами (Пс.40:8, л. 40 об.); взятие Иисуса воинами, в двух миниатюрах: одна представляет воинов павших (Пс.35, л. 33 об.), другая (Пс. Исаии, 38, 10, л. 38) – Исаию пророчествующего и Христа, уводимого воинами (Пс.55:7, л. 51 об.) и пр. Ближайшая характеристика этих рисунков заключается в близости с изящными античными эскизами упомянутых равеннских мозаик.
Напротив того, две миниатюры Тайной Вечери дают двоякий, исторический и символический перевод этого сюжета. В первой миниатюре (Пс.109:4, л. 109) изображен момент открытая предателя; тесно сидящие за столом (в виде сигмы С) фигуры Апостолов обращены к Христу и видны только по грудь; Христос сидит в профиль, обращаясь к Иуде, помещенному на противоположном конце стола и опускающему руку в солонку; Иоанн с боку Христа; посреди стола, в большой патере, на подножке, символическая рыба24; в стороне – большой античный светильник. Другая миниатюра (л. 111, Пс.109:4) изображает Причащение Апостолов, под двумя видами: Христос, стоя под киворием за престолом, раздает куски благословенного хлеба, а слева стоит другая группа, причащающаяся из потира; по сторонам – Давид и Мельхиседек, последний приносит хлебы и вино. Таким образом, мы встречаем здесь древнейшее изображение символического сюжета, перешедшего в X и XI веках в мозаики алтарей Сицилии, Киево-Софийского собора и пр.25, и миниатюра26 служит посредницею между чистым символизмом равеннских церквей (мозаики в конхе или алтарной нише св. Виталия, Аполлинария во Флоте изображают священнодействие Мельхиседека, трапезу Авраама и пр.) и позднейшими литургическими формами. Основанием для этого перехода послужили: Иерусалимского патриарха Софрония Толкование на литургию27 и Германа Константинопольского Церковная практика и мистическая теория28.
Символика в изображении Распятия, кроме описанной выше сцены с иконоборцами, дает две столь же любопытный композиции: к Пс.73:12, спасение среди земли представлено в сцене смерти Спасителя на Кресте, утвержденном на Голгофе – «средоточии земли», который и представлен буквально под крестом в виде большого пупа. «Что Лобное место, говорить Андрей Критский29, находится в центре земли, в том никто не сомневается; ибо было необходимо, чтобы спасительное знамя было утверждено в средине всей земли» и пр. Сама смерть Иисуса Христа представляет сотника, прободающего бок, но Христос изображен живым и с открытыми глазами. На Христе запона на чреслах, а не обыкновенный длинный колобий, в котором Иисуса изображают другие миниатюры, и эту черту, пожалуй, можно бы было отнести к позднейшей переделке30.
Другая миниатюра предлагает сцену Распятая в развитой исторической обстановке, среди двух разбойников31, в момент уже наступившей смерти Христа (к Пс.45:3, «поколебалась земля» и пр., л. 45 об., по Ев. Луки Лк.23:45, Мф.27), землетрясение и затмение солнца; два воина подходят перебить голени у разбойников; возле – толпа старейшин в широких одеждах, с лоронами, и Иудеев в страхе, а в стороне и двое эллинов: учитель философ – благообразный мужчина в пурпурной хламиде, держа на левой руке свитки своих сочинений, беседует с Апостолом, выражая изумление, а рядом молодой и впечатлительный ученик мудреца указывает ему на чудо. Оригинальная и живая мысль грека – в сцене Распятия совместить и начало истории церкви, и ее развитие в среде языческой.
В этой же Псалтири впервые встречаем и Положение во гроб32 (Пс.87:7, л. 87) спеленатого Христа, и три интересный миниатюры Воскресения: в двух (л. 6, Пс.7:8) Давид стоит перед полулежащим Христом (л. 9 об., Пс.9), или наивно прислушивается у запертых дверей Гроба; в третьей (л. 26 об., Пс.30:5) Христос, уже воскресший, стоит возле Гроба; сзади Давид, а внизу двое павших на землю воинов.
Как сцена, утвердившаяся в иконографии с значением Воскресения, – Сошествие Христа во ад33 изображено в Псалтири дважды, с надписью: ἀνάστασις τοῦ Ἀδάμ: Христос представлен в голубом ореоле с лучами, а Адам и Ева стоят на поверженном аде – колоссальной человеческой фигуре, с волосами дыбом и уродливыми чертами лица (Пс.67:7, л. 63 об.).
Наконец оригинальная миниатюра к Пс.101:14 изображает воскресшего Христа спешно идущим в «святой Сион», по поверженному в саркофаге диаволу – образу попранной смерти; Сион представлен в виде храма с тремя абсидами, из за которого видна фигура олицетворения города в типе Богородицы, но без нимба. Сюжет, сколько известно, мало повторявшейся.
Между последующими евангельскими событиями: посланием учеников на проповедь (Пс.95, л. 96 обор.), сценою Вознесения (Пс.17, л. 14; Пс.56, л. 55 об., и Пс.46, л. 46 об.), изображенного несколько раз в установленном типе, с 4 ангелами, несущими Христа в ореоле, Богородицею среди Апостолов, в масличном саду и пр., или в виде Христа восседящего на престоле (л. 90, Пс.88) – изображение известное в эту эпоху под именем «Агонофета», и пр., –наиболее интереса предлагает сцена Сошествия св. Духа (Пс.65:10, л. 62 об.). Апостолы, с Петром и Павлом во главе, сидят, благословляя, в ряд по сторонам престола, на котором находится раскрытое Евангелие и почивающий на нем св. Дух; огненные языки сходят с неба в лучах. Символическая обстановка сцены изображает, следовательно, Церковь уготованную на земле, в виде «гетимасии» – престола с Духом в Церкви пребывающим после Христа34, и сохраняет, таким образом, идеи, выработанные древнейшими мозаиками.
Псалтирь Хлудовская, как выше было замечено, еще не вносит после Апостольской проповеди (л. 17, Пс.18 – Апостолы учащие: крещение евнуха Филиппом л. 65, Пс.67) в свои параллели последующей истории христианской церкви на земле: древнехристианские религиозные воззрения еще остаются во всей силе. Так «Святые» изображены (л. 11 об., Пс.15) как праведные без нимбов, в хламидах и пенулах, тогда как «Святые мученики» (Пс.67, л. 66 об.) в пышно широких хламидах, с крестами все юные, имеют сияния. Вот почему вместо разнообразных изображений Святых в Лонд. кодексе, в нашей рукописи встречаются лишь фигуры Столпника (Пс.4, л. 3 об.), Пантолеона, мучение юного Георгия на колесе (Пс.44, л. 44) и чудо св. Евстафия Плакиды. Мученическая судьба этого Траянова полководца, его обращение в христианство явлением ему Лика Христа между рог оленя, бедствия, уподобившие прежнего счастливца страдальцу Иову, и романическая история долгой разлуки с близкими и свидания с ними перед кончиною, делали из этого жития, редактированного в течении VIII-IX стол. (приписывалось И. Дамаскину) трогательную повесть35. Миниатюрист (Пс.96, л. 97 об.) воспользовался намеком Псалтири, чтобы сопоставить «свет» Лика со светом, воссиявшим Петру в темнице. Из деятелей христианства миниатюра (Пс.59, л. 58) изображает Константина на разубранном коне, повергающего врагов, одетых во фригийские шапки; фигура императора замечательна римским костюмом и рыжеватым париком; общее впечатление отличается античным изяществом.
Св. И. Златоуст (Пс.48, уста мои, л. 47 об.) является представителем Отцев Церкви и замечателен своим типом, чуждым аскетической худобы позднейшей иконографии.
Миниатюры Псалтири, берущие свое содержание из Ветхого Завета, или иллюстрируют историческую канву Псалтири в жизни самого Давида, или предлагают подобный же ряд параллелей, как и сцены Нового Завета; но и те и другие немногочисленны. Жизнь Давида взята с ее романической и вместе поучительной стороны: его возвышение, по произволению Бога, из пастыря на царство, его благочестие и пророческий дар (в миниатюрах к Пс.17, л. 13 об. помазание к Пс.88, битва с Голиафом – л. 148, жизнь среди стад – л. 24, Пс.26, л. 147 и пр.), чудесное хранение его на всех путях (жизнь юноши близ Саула и преследования Саула в мин. на л. 51, 52, 55, 56, 58 и пр.; история Авессалома к Пс.3), его заблуждения и искреннее покаяние (Пс.6, л. 5). Миниатюры отличаются античною краткостью. Тип самого Давида представляет интересное выражение добродушия; лицо с широкими скулами и большими глазами, маленькая черная борода, густые волосы шапкою; на голове высокая диадема или стефанос.
Ближайшею параллелью к истории Давида представляется жизнь Иосифа (Пс.104, л. 106), а их сопоставление в византийском искусстве IX–ХIII стол. есть любимая мысль церковной росписи и украшений домашней утвари36. К псалмам 75, 81, 104, 105 ряд сцен иллюстрирует исход Евреев из Египта в кратких схематических рисунках, не имеющих особенного значения; любопытнее других сцены поклонения и жертвоприношения Евреев Белу, на л. 109, 117: идол представлен в виде Юпитера, стоящего со скипетром в руке; гиматий полуприкрывает нагое тело. Столпотворение (Пс.95, л. 96) представляет античную многоэтажную стою из колонн; немногие сцены из истории Патриархов и Пророков интересны по типам и тому же параллелизму с новозаветными событиями. Таковы сцены: послушания Авраама и жертвоприношения Исаака (л. 105, Пс.104), гостеприимства Авраамова (л. 49, Пс.49)37, Вознесения Илии, которое, при живописной манере расположения сцены, отличается всеми чертами и подробностями древнехристианского представления38, с олицетворением старца – Иордана, пускающего изо рта воду. Далее: Даниил, лежа на пышном античном ложе, пророчествует о великой горе – Сионе (см. ниже), на которой утвержден образ Знамения, а справа, около озера (λίμος) под горою, Давид воздевает руки к образу. Изображение Анны, с Самуилом на руках, по богословским мотивам прообразует высшее рождение: Деву с Младенцем. Пророк Аввакум – лицо специально интересующее византийское богословие и искусство – вместе с Давидом (49, л. 78) покланяется образу Спаса, и в знаменательной сцене, которая может служить лучшим образцом древней иконописи, как одна из самых удачных ее мыслей, пророчествует о Христе: указывая вверх на образ Спаса, «приходящего с полудня», – ἀπὸ μεσεμβρίας ὁ ΧС он стоит и на божественной страже между солнцем восходящими (ἀνατολή) и заходящими за гору (δύσις). Кроме любопытного типа Аввакума (см. выше), Аггея седого и пр., мы встречаем, между (Пс.98, л. 98 об.) священнослужителями библейскими, как будто скопированными с миниатюр ркп. Ватик. б. Космы Индикоплова, Моисея с бородою,– что ясно оттеняет нам символическую идею юного Пророка как доброго пастыря.
В общем, и вся символика Хлудовской Псалтири следует канве, сотканной еще древнехристианским искусством на античном предании; мы встречаем здесь и олицетворения: рек39 Иордана, также Иора, Дана (л. 75 об, Пс.76); Вавилонских рек, льющих воду из сосуда или изо рта, ветров (юноша дующий в трубу на нечестивого, л. 2); в сцене утишения бури Христом (Пс.88, л. 88), ветер изображен с трубою, закрывающим себе рот, это юноша в рубашке и колпаке; к Пс.134, четыре ветра (образ 4 Евангелий), моря (женская фигура в той же сцене к Пс.88), Святого града Иерусалима (в сцене с Давидом, женская фигура в императорской тунике с лоронами и диадеме). Но изображение милосердия в виде женской фигуры и вместе широковетвистого древа, раздающей деньги монахам и нищим (Пс.36, л. 35), уже отличается поздне-византийскою манерою.
Важнее образ ада: в виде античного Силена, колоссальная фигура плешивого старика, с обрюзглым, тучным телом, с саркастическою улыбкою, забирающего толпы грешников (л. 8, Пс.9); любопытная миниатюра (л. 102 об., Пс.105) представляет освобождение ангелом души из поверженного ада – прямо из его оскаленной пасти40. Также изображаются и прислужники ада, οἱ ἐχθροὶ τοῦ Θεοῦ, – черти, хотя рядом с человеческою фигурой демона видим уже мохнатых и крылатых страшилищ (л. 63, Пс.67).
Но богословская тенденция воспользовалась этою символическою струею для своих особых целей и превратила ее в широкий поток аллегорий. Правда, и в этой сфере находим местами древнехристианскую простоту и ясность: образ крещеная, построенный на изречении Псалтири об олене, «стремящемся к источнику водному», представляет нам (Пс.41, л. 41) Давида и оленя по сторонам купели, – также как в мозаиках Равенны встречаем оленей по сторонам сосуда; но и в катакомбе Понциана41 олень, пьющий воду из Иордана в сцене Крещения Христа, представляет аллегорию позднего книжного производства.
Древне-христианскою свежестью отличается также известная по позднейшим копиям сцена42 изведения воды в пустыне Моисеем, в которой на скале, источающей воду, изображен Иисус, и надпись (Пс.81, л. 82) поясняет, что скала и есть Христос.
Книжное велеречие с пространными аллегориями и частыми уподоблениями, господствовавшее в течении VIII-IX стол., особенно останавливается на образе священной горы Сиона, как мысленного града Божьего (νοητὴ Σιών), нового небесного рая. Патриарх Герман43, Андрей Критский44 согласно прославляют, по пророкам: Даниилу, Аввакуму и Давиду, Святую Деву, которая сама и есть эта великая, тучная и тенистая гора, поднявшаяся и укрепившаяся не башнями, но чистотою Девы. Вот почему, и миниатюра, вместо обычного олицетворения града, помещает на Сионе (л. 79, Пс.77) образ Знамения – Девы с Младенцем на лоне или на руках, ибо говорит Герман45, «рай, который закрыла для нас Ева, вновь отворила Мария». Под этою горою миниатюрист изобразил и озеро или стан водный (λίμος),–пользуясь вновь лирическими уподоблениями Девы-Матери у Андрея Критского и современников.
В ту же эпоху ставшее любимым сказание о единороге является и в нашей Псалтири (л. 93 об., Пс.91) в виде фантастического леопарда с высоким рогом, покойно кладущего свою ногу на лоно девы; но дева, сидящая перед ним на стуле, еще не Богородица, как представляют эту аллегорию средневековые памятники46.
Ряд аллегорий, построенных отчасти на буквенном воспроизведении поэтических сравнений Псалтири, отчасти же иллюстрирующих поучительный тенденции и фигуры книжно-монашеского сочинения, разбросаны по всей Псалтири с самым разнообразным содержанием. Наиболее интересные миниатюры в этом ряду те, которые пользуются еще символикою, или народными поверьями и фантастическими образами Востока. Христа обступили кинокефалы, и воин тащит его за одежды в то время, как он благословляет врагов (л. 19 об., Пс.21); надпись говорит: ἑβραῖοι οἱ λεγόμενοι κύνες. Известная фигура изображает земную сферу с антиподами (л. 101, 103, к Пс.100, 101), – миниатюра, перешедшая из Христианской Космографии Космы Индоплова; такого же происхождения рисунок затмения солнечного δύσις47.
Иллюстрация особенно останавливается затем на судьбах жизни праведника и грешника, блаженного мужа и нечестивого еретика. Сидя под лучами света, проливающегося от лика Божьего, блаженный муж (л. 2) углубился в чтение божественной книги; праведника преследуют стрелами нечестивцы (л. 10, Пс.10), но на него льются спасительные лучи света (л. 30 об.); еретики влачат по земле свои языки (л. 70 об.), или же ангел рвет клещами язык у богохульца «против святой божьей церкви», или, по повелению Христа, ангел копьем гонит грешников (л. 31, Пс.34) и т. д.
Во всяком случае, этот аллегорический элемент Псалтири еще не многосложен, занимает второстепенное место и не в силах преодолеть разумно-ясного, чистого художественного чувства миниатюриста, как то напр. является в Варберишевской копии нашего оригинала.
Известно, как гибельно влияло на искусство падение литературы, в течении IX–X веков, приходившей к полному разложению, в бездельной риторике и пышном многоглаголании утратившей чувство меры, простоту и ясность образов. Византийское искусство с своей стороны подчинялось этому направлению, само покрываясь риторическою шелухою, но в тоже время было бессильно, по самой своей античной т. е. пластической основе, воспринимать и перерабатывать сложный дидактизм византийского средневековья, как напр. в XIV в. шеннская школа, которая в обширных фресках могла разрабатывать мистические догматы доминиканской школы. И однако же, хотя византийское искусство с этой эпохи было поставлено в тесные рамки и должно было отчасти довольствоваться мелкими изделиями, повторяя в них казенные, заученный Формы, оно сохраняло жизнь и движете мысли еще в течении трех столетий слишком, в чем ярким свидетельством нам служить история миниатюр за этот период. Такою жизненною силою искусство было целиком обязано миниатюре, и в этом главное историческое значение таких высоких ее образцов, как Хлудовская Псалтирь.

Выходная миниатюра Псалтири (без Давида)
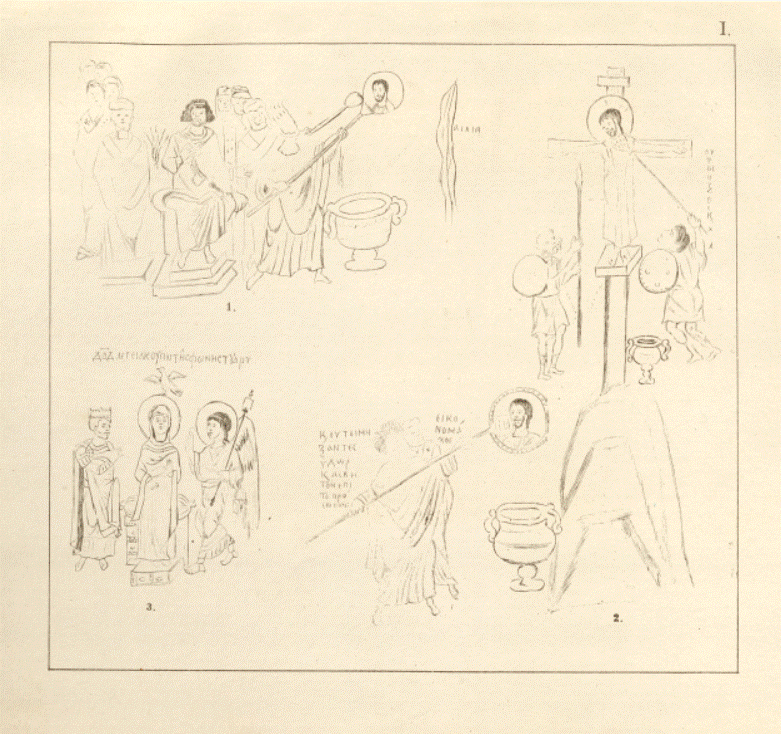
I.
1. Иконоборческий собор при Льве Армянине. Лист 23 ркп., на обороте. К Пс.25:5: καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω.
2. Символическое уподобление иконоборцев (Иоанна и Игнатия) Евреям, распинающим Христа. Миниатюра л. 67, Пс.68:22: Καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος.
3. Благовещение. Л. 45, Пс.44:11: Ἄκουσον, θύγατερ.
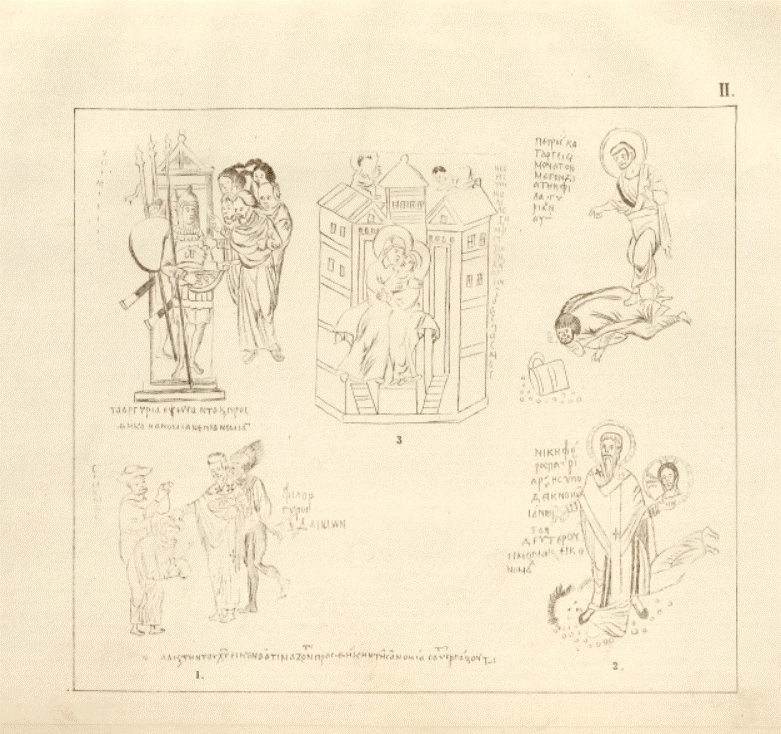
II.
1. Иудейские первосвященники подкупают воинов, и Симониане. Л. 67 об., Пс.68:28: Πρόσθες ἀνομίαν ἐπὶ τῇ ἀνομίᾳ.
2. Апостол Петр, попирающий Симона волхва и патриарх Никифор, стоящий на поверженном иконоборце Ианне (Иоанне). Л. 51 об., Пс.51:9: ’Iδοὺ ἄνθρωπος, ὃς... ἐπήλπισεν ἐπὶ τὸ πλῆθος τοῦ πλούτου αὐτοῦ.
3. Целование Елисаветы. Л. 85, Пс.84:11: Ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν.
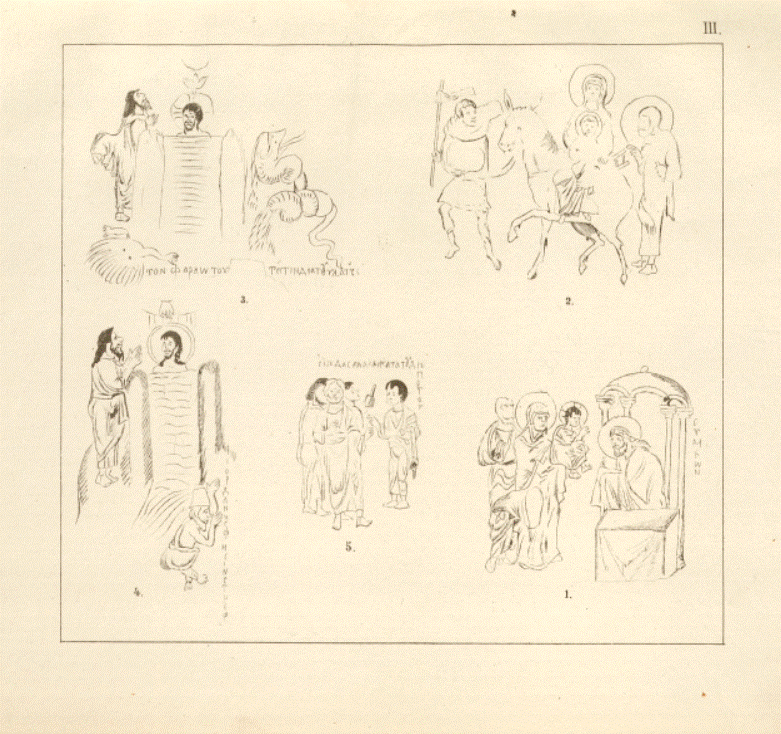
III.
1. Сретение. Л. 163 об., к гимну Симеона.
2. Бегство в Египет. Л. 92, Пс.90:2: καὶ καταφυγή μου ὁ θεός μου.
3. Крещение. Л. 72 об., Пс.73:13: Σὺ συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος.
4. Крещение. Л. 117, Пс.113:3, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω.
5. Иуда предает Христа. Л. 40 об., Пс.40:9: λόγον παράνομον κατέθεντο κατ᾿ ἐμοῦ.
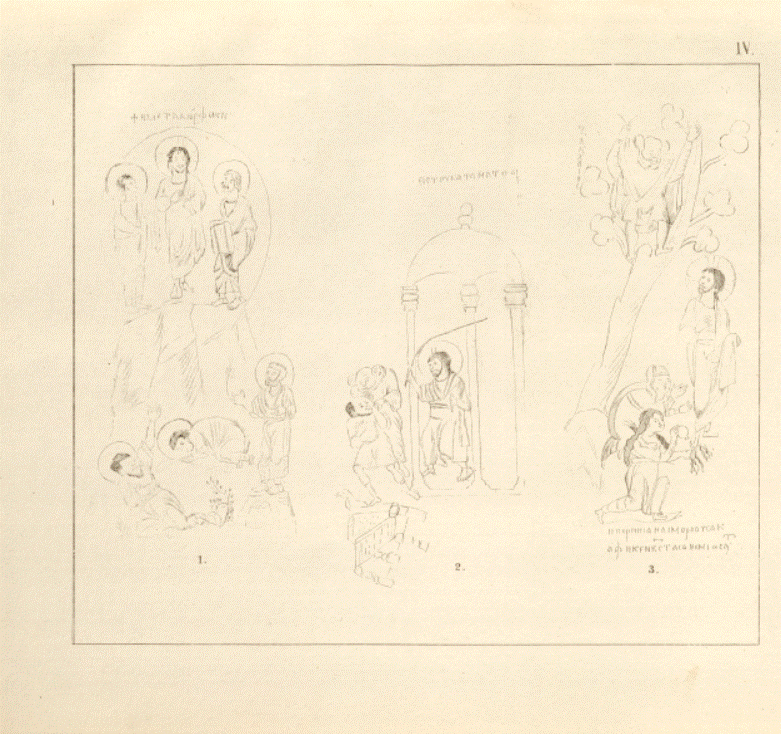
IV.
1. Преображение. Л. 88, Пс.88:13: Θαβωρ καὶ Ερμων ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται.
2. Христос изгоняет из храма мытарей и продающих. Л. 66,
Пс.68:10: ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου.
3. Христос и Закхей, блудница и истекающая кровью. Л. 84 об., Пс.83:12: Ὅτι ἔλεος καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ κύριος.
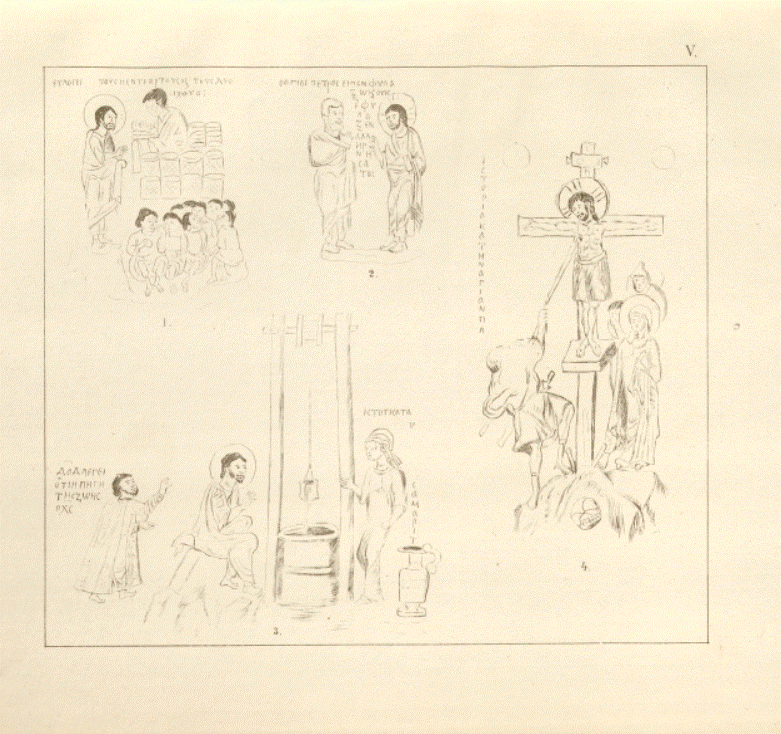
V.
1. Умножение хлебов. Л. 30, Пс.33:9: Γεύσασθε καὶ ἴδετε..
2. Христос и Петр. Л. 37 об., Пс.38:2: Εἶπα φυλάξω τὰς ὁδούς μου.
3. Христос с Самаритянкой. Л. 33, Пс.35:10: Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς.
4. Распятие. Л. 72 об., Пс.73:12: Εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς.
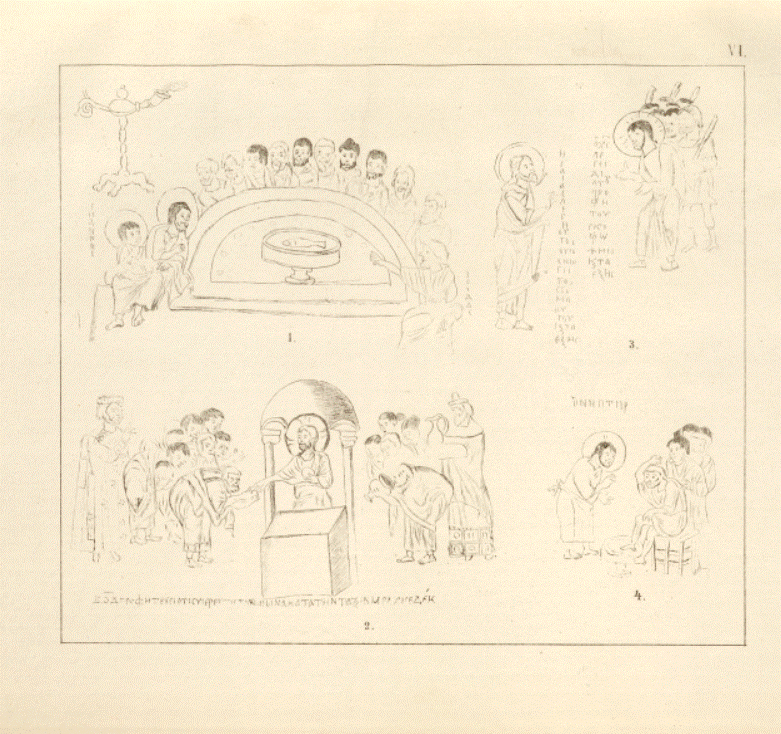
VI.
1. Тайная Вечеря. Л. 40, Пс.40:10: Ὁ ἐσθίων ἄρτους μου.
2. Причащение Апостолов. Л. 111, Пс.109:4: Σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.
3. Воины уводят Христа, и Захария. Л. 38, Пс.38:10: Ἐκωφώθην καὶ οὐκ ἤνοιξα τὸ στόμα μου.
4. Умовение ног ученикам. Л. 50 об., Пс.50:9: Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι.
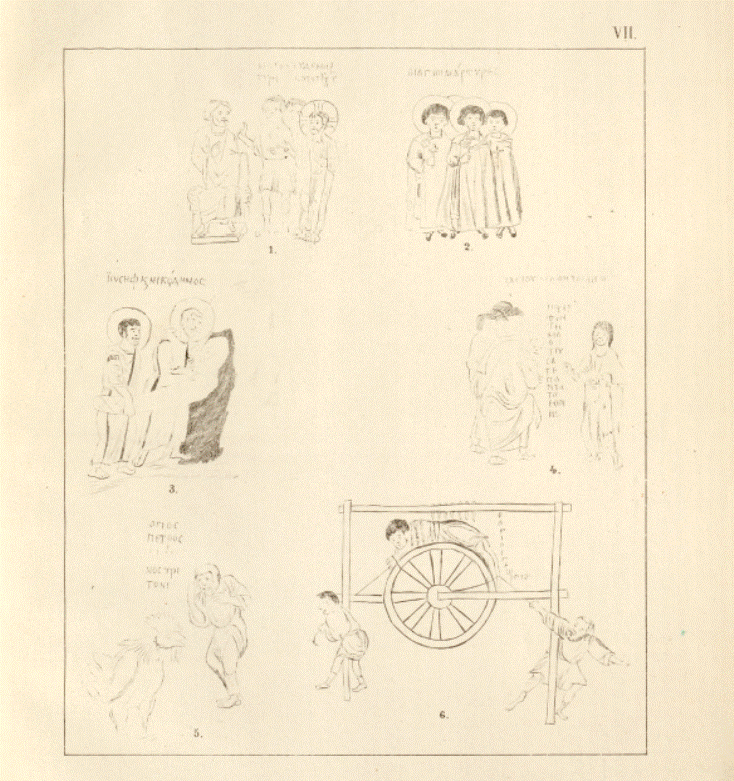
VII.
1. Два лжесвидетеля и Христос на суде. Л. 31 об., Пс.34:11: ’Aναστάντες μοι μάρτυρες ἄδικοι...
2. Мученики. Л. 66 об., Пс.67:36: Θαυμαστὸς ὁ θεὸς ἐν τοῖς ἁγίοις.
3. Положение во гроб. Л. 87, Пс.87:7: Ἔθεντό με ἐν λάκκῳ.
4. Христос посылает учеников на проповедь. Л. 96 об., Пс.95:10: Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν.
5. Петр кающийся и петух. Л. 38 об., Пс.38:13: Ἐνώτισαι
τῶν δακρύων μου.
6. Колесование Георгия. Л. 44, Пс.43:23: Ὅτι ἕνεκα σοῦ θανατούμεθα.
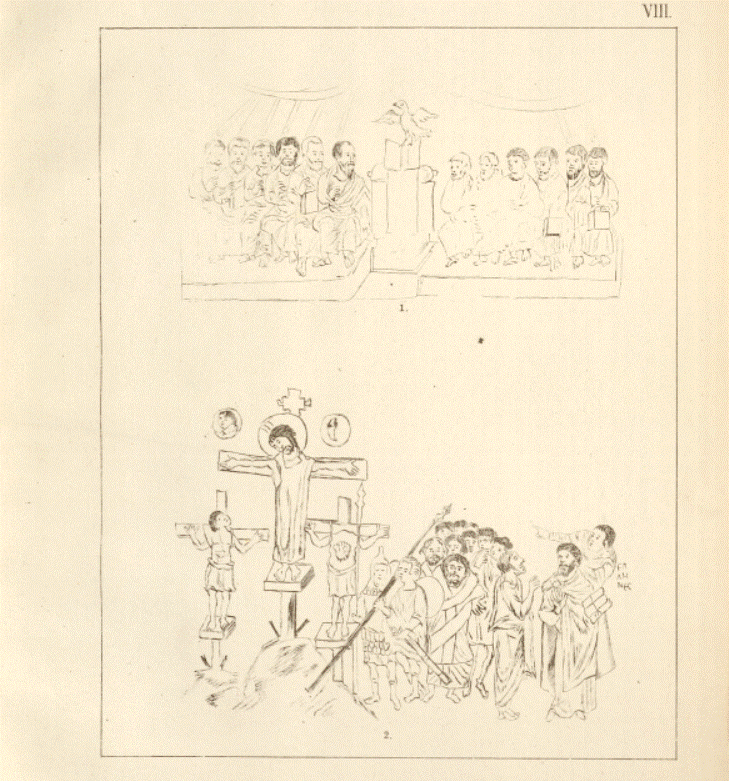
VIII.
1. Сошествие Св. Духа. Л. 62 об., Пс.65:8: Καὶ ἀκουτίσατε τὴν φωνὴν τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ.
2. Распятие Л. 45 об., Пс.45:4: ’Еταράχθησαν τὰ ὄρη.
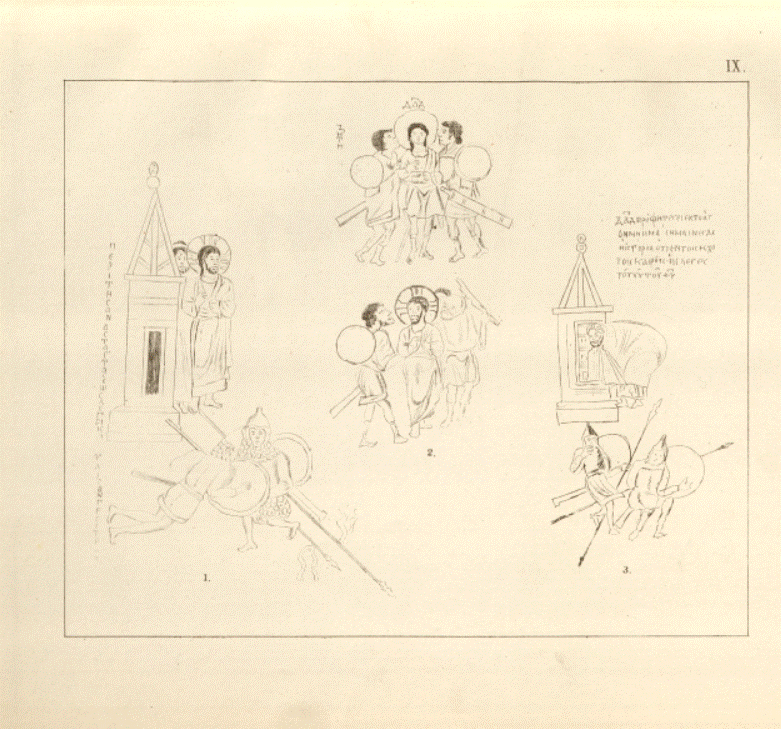
IX.
1. Воскресение. Л. 26, Пс.30:15: Ἐγὼ δὲ ἐπὶ σὲ, Κύριε, ἤλπισα.
2. Давид и воины Саула, Христа берут воины. Л. 54 об., Пс.55:6: Κατ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶν εἰς κακόν.
3. Давид у Гроба и воины. Л. 6, Пс.7:7: Καὶ ἐξεγέρθητι, Κύριε.
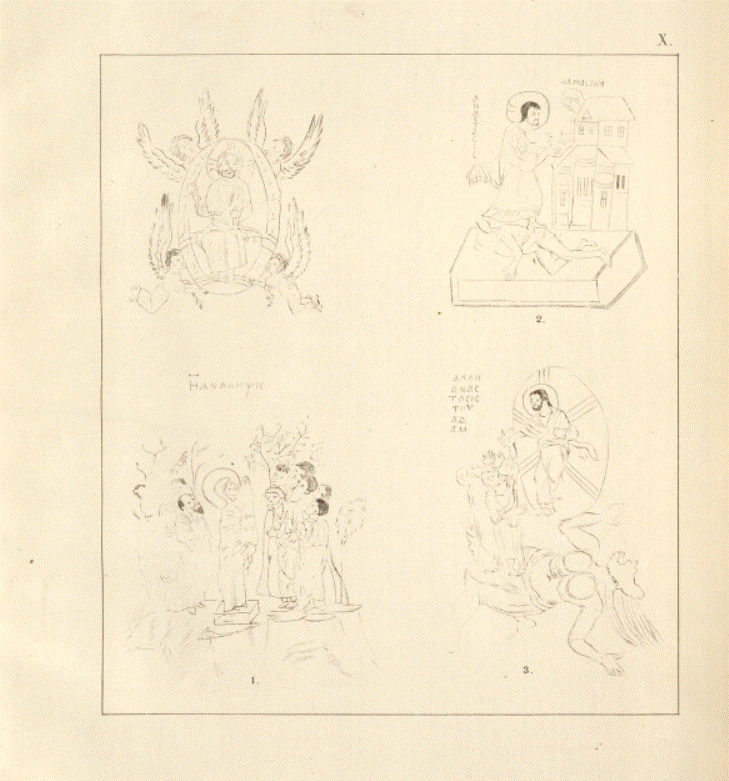
X.
1. Вознесение. Л. 46 об., Пс.46:6: ’Аνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ.
2. Христос воскресший у Сиона. Л. 100 об., Пс.101:14: Σὺ ἀναστὰς οἰκτειρήσεις τὴν Σιων.
3. Христос извлекает Адама и Еву из ада. Л. 63 об., Пс.67:7: ἐξάγων πεπεδημένους ἐν ἀνδρείᾳ.
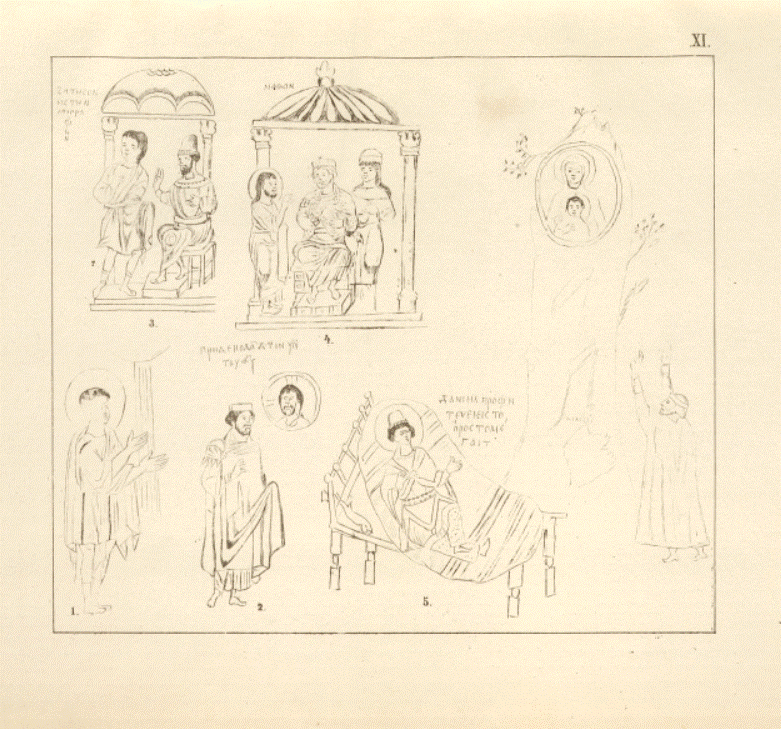
XI.
1. Давид юноша под лучами. Л. 13 об. Пс.16:2: Ἐκ προσώπου σου τὸ κρίμα μου ἐξέλθοι.
2. Давид, царь и пророк, перед иконою Спаса. Л. 13, Пс.15:8: Προωρώμην τὸν κύριον.
3 Саул и Давид. Л. 29, Пс.33:21: Φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστᾶ.
4. Кающийся Давид и Нафан. Л. 50, Пс.50:3. Ἐλέησόν με, ὁ Θεός.
5. Даниил на ложе и Давид пророчествуют о Сионе Л 64, Пс.67:16: Ὄρος τοῦ Θεοῦ, ὄρος πῖον.
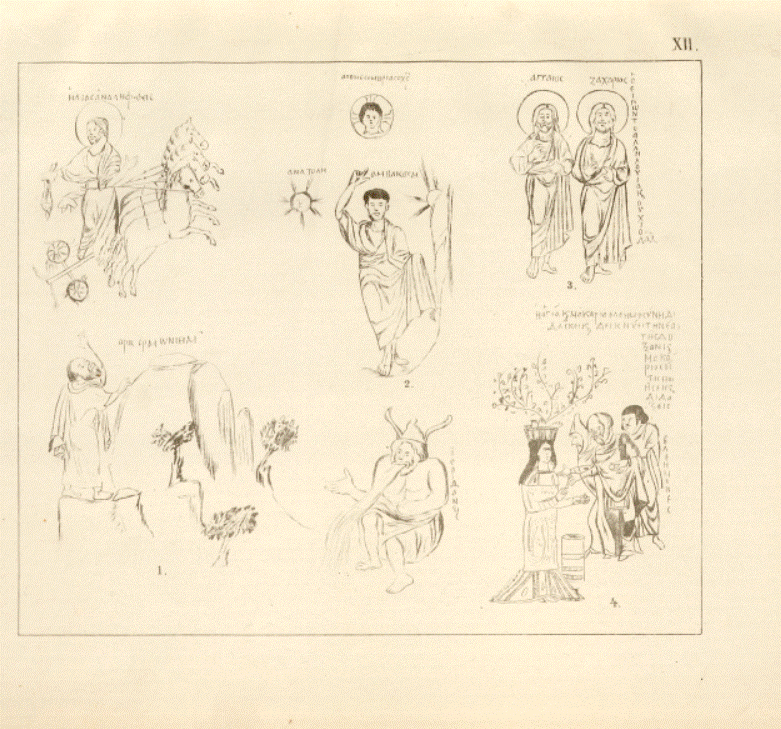
XII.
1. Вознесение Илии. Л. 41 об., Пс.41:7: Μνησθήσομαί σου ἐκ γῆς Ἰορδάνου καὶ Ἐρμωνιείμ, ἀπὸ ὄρους μικροῦ.
2. Аввакум и икона Спасителя. Л. 154, гимн Аввакума.
3. Пророки Аггей и 3axapия. Л. 144, Пс.145:1: Ἀλληλούια Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου.
4. Милосердие. Л. 35, Пс.36:26: Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλεεῖ καὶ δανείζει ὁ δίκαιος.
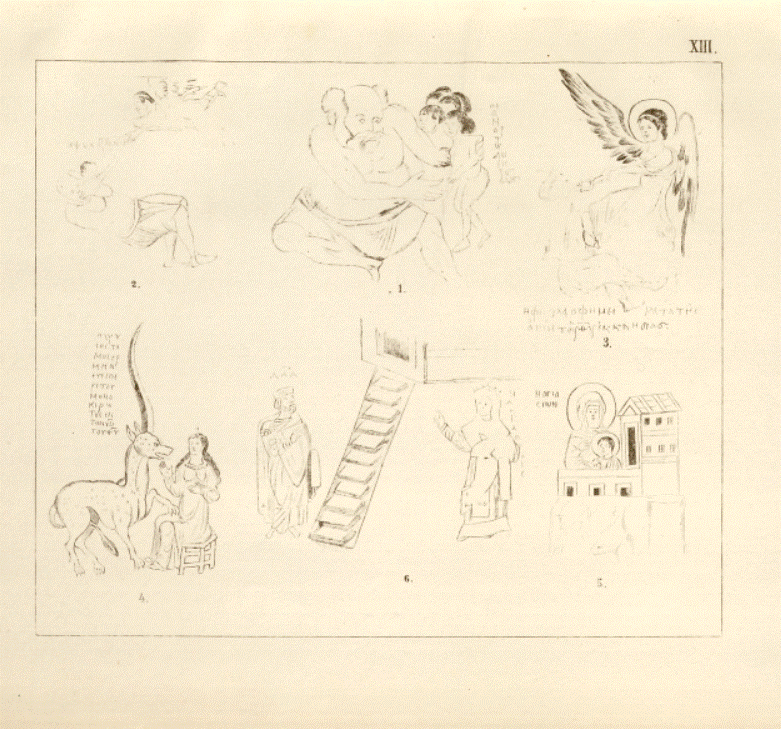
XIII.
1. Ад и грешники. Л. 8, Пс.9:4: ’Eν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου.
2. Ангел извлекает душу из ада. Л. 102 об., Пс.102:4: Τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου.
3. Ангел рвет язык у богохульца Л. 10 об., Пс.11:4: Ἐξολεθρεύσαι κύριος πάντα τὰ χείλη τὰ δόλια καὶ γλῶσσαν μεγαλορήμονα.
4. Единорог и дева. Л. 93, Пс.91:11: Καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου.
5. Сион и Богоматерь с младенцем Л. 79, Пс.77:54: Kαὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὅρος ἁγιάσματος.
6. Давид и женский образ «Святаго града» – ἡ ἁγία πόλις.. К Пс.50:20, л. 51.
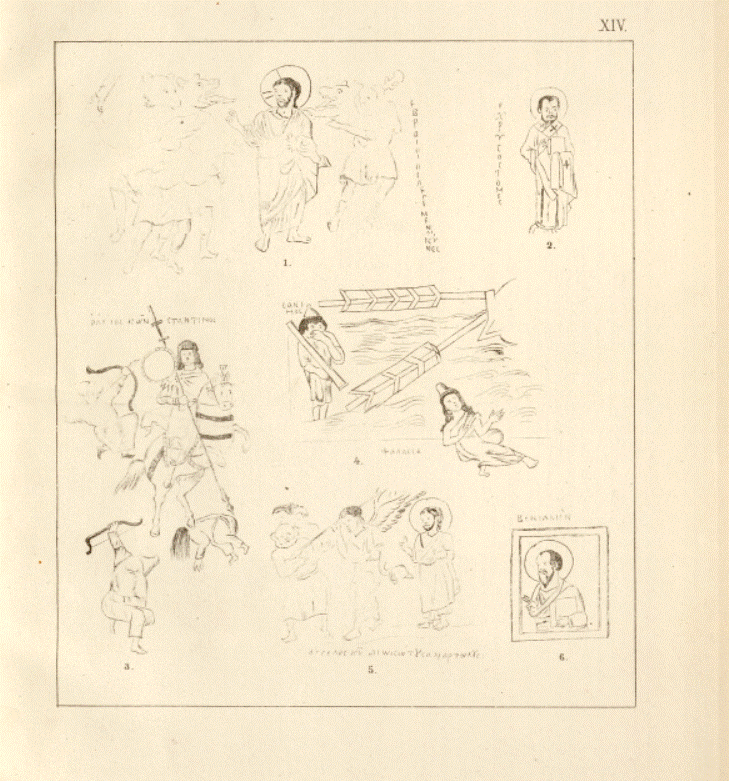
XIV.
1. Христос и Кинокефалы. Л. 19 об., Пс.21:17: Ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί.
2. Иоанн Златоуст. Л. 47 об., Пс.48:4: Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν.
3. Царь Константин поражает Максентия. Л. 58 об., Пс.59:6: Ἔδωκας τοῖς φοβουμένοις σε σημείωσιν τοῦ φυγεῖν ἀπὸ προσώπου τόξου.
4. Ветер и море в сцене утешения бури. Л. 88, Пс.88:10: Σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης.
5. Ангел гонит грешников, и Хрпстос. Л. 31, Пс.34:5: Kaὶ ἄγγελος Κυρίου ἐκθλίβων αὐτούς.
6. Икона апостола Павла. Л. 65, Пс.67:28: Ἐκεῖ Βενιαμὶν νεώτερος ἐν ἐκστάσει..

«На реках Вавилонских», к Пс.136, и Давид среди стад – л. 146, заключит. мин. к пс. Давида
* * *
Примечания
Рукопись эта в малую четвертку, 169 л., привезена с Афона покойным В. И. Григоровичем в 1847 г., и в нужде продана Лобкову за небольшую, сравнительно с ее ценностью, сумму. Кстати заметим, что это происхождение рукописи с Афона нисколько не указывает на место ее написания, ибо художественная деятельность Афона развилась гораздо позднее.
Т. е., не позднее IX века, потому что палеографические признаки лишь обще указывают на эпоху VIII–IX в. Известно также, что Монфокон, установивший историю этих признаков, условно принимает IX век, как границу древнего письма. О письме рукой, см. подробнее «Археологические заметки о гр. Пс» Арх. Амфилохия, М. 1866, с 14 табл. палеографических снимков.
Другой разряд лицевых Псалтирей с немногими, но пышно-широкой манеры миниатюрами, представляется древнейшим в этом ряду кодексом Парижской Псалтири № 139, который по происхождению своему или несколько позднее IX века, или современен нашей рукописи. О различии этих редакций, сходившихся только в позднейших списках, см. в соч. «История византийского искусства по миниатюрам греческих рукописей». 1876, стр. 111–131, 146 сл.
Другой разряд лицевых Псалтирей с немногими, но пышно-широкой манеры миниатюрами, представляется древнейшим в этом ряду кодексом Парижской Псалтири № 139, который по происхождению своему или несколько позднее IX века, или современен нашей рукописи. О различи этих редакций, сходившихся только в позднейших списках, см. в соч. «История византийского искусства по миниатюрам греческих рукописей». 1876, стр. 108.
В указанном, описании арх. Амфилохий на стр. 4 говорит: «Изображения, в сей Псалтири помещенные, почти все поновлены, по вторичном написании рукописи в XII веке, очень грубо» и пр. Это поновление мы нашли только в двух, трех местах, и считаем также, что знаки сносок на текст первоначальны. Не говоря о том, что подобные поновления ясно были бы видны и придавали бы совсем иной вид миниатюрам, их крайняя разрушенность, именно на первых страницах и свежая сохранность второй половины свидетельствуют против догадки почтенного описателя.
См. под. же типы в мин. ркп. Космы Индикоплова Ват. Библ. в указ. «Истории виз. искус, и иконографии», стр. 96. Ср. иные типы традиционного характера в изображении пророков Туринской библиотеки – рис. к сочин. проф. Буслаева, в Сборнике Общ. древнерусского искус., за 1866 г. к стр. 86.
Леонтия схоластика ок. 610 г. – история ересей, И. Дамаскина руководство к различению их, Фотия о Манихействе; под. же частные сочинения Максенция, Феодора, Германа, Максима Исп., Анастаса и пр.
Patrol. cursus compl. ed. Migne, Ser. gr. t. 95.
Афанасия толкование на Пс. в Patrol, с. compl. cd Migne, ser. gr. t. 28. Феодорита кир. еп. там же т. 80.
Изд. в соч. Афанасия, Patrol. с. с. ser. gr., ed. Migne, t. XXVIII, p. 798–824 в четырех списках.
См. Предисловие к издание спурий Афанасия, ib. стр. 18.
См. Письма Ф. Студ., изд. С. Петер. Дух. Академии, 1867 г., стр. 514.
В соч. Ф. Студита, Patrol, graec. Migne t. 99, p. 477: ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τῶν ἀσεβῶν ποιημάτων.
См. письма Ф. Студита, указ, изд., стр. 310 след., где Преподобный советует своим следить только за исповеданием веры, и принимать рукоположенных епископами симонианами, коль скоро не было ведомо первым происхождение их священства.
См. любопытное послание п-ха Мефодия к Студитам в Patrol. ed. Migne. t. 100, p. 1298, 1295 etc. Исторически важные слова патриарха: «ты монах, и не прилично тебе судить дела иереев, и ты должен повиноваться, а не подчинять себе других и судить их», в прим. к указ. стр. Рукопись наша могла быть составлена после 846 г., в котором перенесены в К-поль мощи Никифора.
См. житие Ф. Студита, составленное его учеником Михаилом, С. Петерб. изд., стр. 38–39.
В житии Феодора, Patrol. с. с. ed. Mjgne t. 99, р. 177: Ἰάννης, ἀλλ' οὐχὶ Ἰωάννης, καλεῖσθαι ἄξιος; тоже в летописи Симеона, биографии патриарха Мефодия и пр.
См. оценку иконоборства в этом смысла в соч. Шлоссера Geschichte der bildersturmenden Kaiser, греческом соч. Зампелия и статьях О. Иеромонаха Герасима: «Отзывы о св. Фотии, п-хе К-ском, его современников, в связи с историею политических партий Виз. Империи» Спб. 1874 г. из Христ. Чтения за 1872 и 3 г, стр. 46, 49, 50 и пр.
Эта арка назначена символически представлять триумфальную арку древней церкви, которая, отделяя пресвитериум от лона церкви, обыкновенно украшалась в смычке свода изображением Христа в медальоне, окруженном 4 евангелистами, или же 24 апокалипсическими старцами. Впоследствии этот образ Славы торжествующего Христа в миниатюрах византийских и карловингских был перенесен на Давида, а от него и к изображению самих императоров Востока и Запада; см. миниатюры в изданиях Даженкура, Лабарта, Луандра и др.
Заметим кстати само положение голубя – горизонтальное, как вообще в виз. иконографии (хотя далее укажем и изображение птицы летящей головою вниз), представившее графу Уварову (в его письме к акад. Кунику) любопытные доводы против истолкования известного знака на древнерусских монетах, как голубя слетающего головою вниз.
Patrol, ser. gr. t 98, p. 298.
В ст. «Joh. d. Taufer in d griech. Kunstvorstellungen» в «Evangel Kalender» . 1867, p. 59–68.
Та же мысль ранее выражена в изображении победного креста в виде пальмы, утвержденной на головах двух драконов, см. ампуллы Монцского собора, изд. у Frisi, Меmorie storiche di Monza, т. I, tav. 5, p. 30.
Ср мозаику ц. Аполл. Нов. в Равенне: Иуды нет; Христос благословляющий – лицом к зрителю; и Он, и Апостолы возлежат; но тот же стол сигмою, рыбы на блюде и пр. Рис. в изд. Rohault de Fleury, L’ Evangile t. II, 73 pl. Копия в миниатюре Лат. код. Пизы XII в., ibid. pl. 74, 3.
См. в изд. Gravina, Marzо, Вuseemi и пр.; изд. Киевских мозаик.
Миниатюра Париж. греч. Ев. .№ 74, Rohault de Flеury, ib. pl. 74, 1. «История виз. иск. и иконографии», стр. 239.
Изд. в Spicil. Roman. Кард. А. Маи, т. 4.
Patrol, gr. ed. Migne, т. 98, стр. 383–454. Словом «практика» переводим по необходимости выражение «Ἱστορία Ἐκκλησιαστική».
Гомилия на Успение, Migne Patrol, gr. t. 97, p. 1043.
Ср., впрочем, замечательную греческую филенку слоновой кости, с тою же сценою Распятия и древнехристианским переводом Воскресения, по стилю относящуюся в VI или VII стол. Слепок Арундел. Общ. каталог Ольдфильда, IV с.
Странная и непонятная подробность, быть может, случайного происхождения: бородатая голова злого разбойника помещена у него на груди, как бы отрубленная. Игра ли рисовальщика, или случайно сдвинувшаяся краска?
Ср. речь Германа, изд. в Patrol, с. с. s. gr. ed. Migne, t 98, p. 288, особенно похвалу Иосифу и Никодиму – истинным гостеприимцам Бога, славнейшим Авраама, в миниатюре оба имеют нимбы.
Дидрон, Manuel de l’iconographie, р. 199, прим., указывает, что сюжет сложился по Евангелию Никодима. Вообще, это апокрифическое Евангелие имело значительное влияние на христианскую, и особенно византийскую иконографию.
Мозаика Софии Константинопольской: Salzenberg, Die altchr. Denkm. in Const. Bl. 31. «История виз. иск. и иконогр.» стр. 180.
Ср. современные и позднейшие романы и повести сантиментального направления в Византии: сказание о Варлааме и Иоасафе, Аполлоний Тирский, Роданта и Досикл XII в., Дросил и Хариклея и пр.
Ср. средневековые виз. мозаики в Италии, а также любопытные барельефы ларца в Сан, VII-III стол., из слоновой кости, проводнице в подробной параллели жизнь Давида и Иосифа. Изд. Арундельским общ. в слепке, каталог Ольдфильда, VIII А.
Верх миниатюры срезан, – к сожалению, самое изображение Троицы; но одна подробность указываете нам, как близка эта сцена к древнейшим мозаикам: в С. Витале в Равенне Авраам несет жаркое – целого быка: эта наивность, вызванная какими-то потребностями иконописи и преданию, здесь заменена лежащим быком.
Ср. особенно сцену на саркофаге, миниатюр Космы Инд. Ват. б., изд. у Даженкура, и барельеф дверей баз. Сабины, в моей статье, в Revue Archeol., 1877 г. Июнь.
Реки изображаются также в причудливых шапках с лентами – из которых позднее миниатюристы сделали рога.
Так как в Ев. Никодима, изд. у Thilo Codex apocryphus, I п. 710, та же самая сцена с образом ада описывается при воскрешение Лазаря, то в Барберин. кодексе встречаем перевод воскрешения с этими же подробностями.
Рис. у Bosio, Roma sotterranea, изд. 1632 г., стр. 131.
Основанием символической сцены послужило место в толковании Феодорита на книгу Исход, гл. 16, вопр. 28: скала называется Христом, как его тип или образ, как море Чермное и Переход Евреев были прообразом крещения. Аллегорическая тенденция VIII и IX века уподобляет (у Германа в речи на Положение во гроб, Patrol, gr. ed. Migne, т. 98, стр 262) этой чудесной скале и тот камень, который был привален ко Гробу, как камень, источающей воду бессмертия.
В Гомилии о Поясе Св. Девы, изд. у Migne, Patrol, gr. с. с. t. 98, р. 374.
Гомилия на Благовещение, ib. t. 97, стр. 900
Беседа на Успение, lib. t. 98, р. 362.
Напр. изд. в учебнике Крауса Die altchr. Kunst. 1871.
См. миниатюры Космы в «Истории византийского иск. и иконографии».
