Часть вторая. Эстетика блаженного Августина вводные замечания
Вводные замечания
Когда мы думаем о закате античного мира на Западе и обращаемся мысленным взором к последним десятилетиям римской культуры, перед нами невольно встает образ крупнейшего мыслителя поздней латиноязычной античности Аврелия Августина, вписавшего заключительные страницы в историю духовной культуры Рима и, пожалуй, всей античности и заложившего своими трудами прочный фундамент новой культуры – средневековой. Вряд ли имеет большой смысл полемика на тему, кому больше принадлежит Августин – античности или Средним векам. С одинаковым успехом его можно считать последним в ряду больших мыслителей античности и первым крупным идеологом Средневековья. Однако, если говорить более строго, поле его духовной культуры значительно шире того достаточно устойчивого стереотипа, которым мы привыкли определять античную культуру, и еще плохо вписывается в абрис культуры средневековой. Августин, может быть, более чем кто-либо иной, принадлежал своему времени, уже не античному, но еще и не средневековому. Он был человеком и мыслителем одного из сложнейших и интереснейших в истории культуры переходных периодов. При этом, как показывает историческая ретроспектива, он оказался на гребне последней волны античной культуры, которая вот-вот должна была обрушиться и уступить место новой, уже набирающей силу в ее недрах и под ее прикрытием волне грядущей культуры – средневековой. Сам Августин, однако, не осознавал этого своего пограничного положения. Он не предвидел падения античной культуры, жил и думал как человек античный, а не как один из главных идеологов «господствующей по всему миру церкви Средних веков»401. Это не помешало ему тем не менее стать для нового западного христианства авторитетнейшим Отцом Церкви, одним из основоположников схоластического метода мышления402, заслужить с легкой руки Абеляра титул «excellentissimus doctor Augustinus» (Introd. ad theol. 1, 2). В области философии Августин, опираясь на традиции античных философских систем (прежде всего платоновско-неоплатонической), сохраняя многие элементы этих систем, заложил фундамент новой философии403 и даже, как полагает современный историк философии, «создал христианскую философию в ее предельном латинском варианте»404. В Средние века августинизм повсеместно господствовал в западной философии. Только с XIII в. у него появился серьезный соперник – томизм, но последний был авторитетен только у католиков, в то время как августинизм находил активных сторонников и среди протестантов405.
Если обратиться к августиновской эстетике, то все сказанное вполне правомерно отнести и к ней, но с некоторыми коррективами, которые вытекают из особенностей индивидуального духовного развития Августина406. В то время, как многие основные положения его философии сформировались в зрелый и поздний периоды его жизни, когда он весь был погружен в духовный и социально-практический мир христианства, его эстетические взгляды в своей основе сложились в раннем возрасте, в период активных духовных исканий, находок, сомнений и разочарований. Это отнюдь не означает, конечно, что эстетика Августина не развивалась по мере его духовной эволюции, но изменения в ней были менее заметными и менее существенными, чем в его философских взглядах. Ядро эстетики латинского Отца Церкви сложилось значительно раньше, чем основные представления его философии. В трактатах зрелого периода, посвященных главным образом проблемам философско-религиозного характера, экскурсы в эстетику часто представляют собой почти дословное повторение идей, высказанных в ранних сочинениях.
Получив от природы дар обостренной эмоционально-эстетической восприимчивости, Августин с раннего возраста был чуток и к художественной культуре своего времени, и к эстетическим теориям античности, которые он знал достаточно хорошо и в полной мере использовал в своих многочисленных эстетических экскурсах. И не просто использовал, но определенным образом и синтезировал, приводя в систему многое из того, что почерпнул из античности. В своей эстетике Августин в значительно большей мере, чем в философии, предстает античным мыслителем, завершителем многовековой истории античной эстетики. Здесь мы могли бы почти согласиться с выводом исследователя августиновской эстетики, который более полувека назад писал: «Таким образом, можно сказать, что эстетика Августина является синтезом и венцом античной эстетики; более того, Августин почти ничего не почерпнул в иудеохристианских идеях, кроме, быть может, тех случаев, когда он идентифицировал высшую идею Платона с Богом, когда он называл Бога создателем всякой красоты, когда высоко оценивал аллегорию и когда не доверял театру и классическим искусствам»407. Однако эта оговорка К. Свободы не случайна: новая духовная культура IV в. наложила свой отпечаток и на эстетику Августина, отпечаток не слишком рельефный и не сразу усмотренный историками эстетики. Только пристальное вглядывание позволяет выявить его достаточно ясно.
Творчество Аврелия Августина – конечно же венец античной эстетики, но оно же – и прочный фундамент эстетики средневековой, ее основополагающие начала. Ибо сам венец собирался из античных ценностей, но уже по новой мерке. Из античных эстетических теорий Августин воспринял и развил прежде всего то, что было созвучно новым духовным исканиям эпохи. И библейский угол зрения играл здесь далеко не последнюю и не второстепенную роль. Венец античной эстетики складывался уже sub specie Scripturae Sacrae, определяя тем самым непрерывность эстетической традиции. Августин, писал Вл. Татаркевич, «чувствовал себя римлянином так же органично, как и христианином; он принадлежал еще к античной культуре, но уже принадлежал и к христианской; он в полной мере пользовался древней культурой и создавал новую. В его сочинениях сталкиваются две эпохи, две философии, две эстетики: он воспринял эстетические принципы древних, но преобразил их и в преображенном виде передал Средним векам. Он был узловым пунктом истории эстетики: к нему сходятся все линии древней эстетики, от него идут пути средневековой»408.
Августин конечно же сознательно не ставил перед собой задачи обобщить достижения античности и создать на их основе новую эстетическую теорию. Он, как и вся античность в целом, вообще не знал, что такая теория возможна. Более того, он и не стремился к сознательному созданию какой-либо философской системы. Активно участвуя сначала в мирской, а затем в религиозной жизни своего времени, он просто пытался осмыслить основные проблемы человеческого бытия и помочь людям найти правильный путь в жизни. Ясно, что, как человек своего времени, он и мыслил и действовал в духе этого времени. За исключением небольшого ряда ранних философских сочинений (386–391 гг.), почти все его многочисленные работы (а писал он практически ежедневно в течение сорока лет) написаны Августином на злобу дня – по поводу конкретных событий церковной или культурно-исторической жизни тех лет – или как подробные ответы на вопросы знакомых и незнакомых людей, постоянно обращавшихся к нему, как к видному церковному авторитету. В его работах исследователи обнаруживают массу противоречий и тем не менее приходят к выводу о системности его мышления в целом и даже об определенной философской системе, хотя и не упорядоченной самим Августином, но достаточно ясно, при некоторых частных вариациях, вычитываемой из его работ409. Эстетические идеи занимают большое место в общей мировоззренческой системе Августина, хотя разбросаны они по его работам еще более хаотично, чем философские суждения. Однако и они, при внимательном изучении, складываются в некоторую достаточно целостную систему, в которой, пожалуй, ни одна из главных эстетических проблем не оказалась забытой. С сожалением следует отметить, что именно эта сторона августиновского наследия до сих пор остается наименее изученной. В поистине бескрайнем море «августинианы», насчитывающей многие тысячи работ410 по самым различным аспектам мировоззрения крупнейшего представителя латинской патристики, исследования, посвященные его эстетике, в буквальном смысле слова можно пересчитать по пальцам.
Среди старых работ, оказавшихся мне недоступными, следует указать на штудии А. Берто (1891), В. Тимме (1908) и И. Грубана (1920)411. В 1909 г. в Германии были защищены сразу две диссертации по эстетике Августина – К. Эшвайлером и А. Викманом412. Оба соискателя ограничились рассмотрением отдельных аспектов проблемы прекрасного у Августина. При этом первого из них интересовали не столько суждения Августина о прекрасном, сколько влияние его представлений о прекрасном на его религиозную философию. А. Викман, напротив, заостряет внимание на собственно эстетической проблематике Августина, справедливо упрекнув исследователей в том, что они совершенно просмотрели всю раннехристианскую и средневековую эстетику413. Викман, пожалуй, первым из историков эстетики почувствовал всю глубину и широту эстетических представлений Августина, рассматривая свою, серьезную и интересную для того времени, работу лишь как небольшой фрагмент еще не осуществленных исследований в области августиновской эстетики414. В своей работе Викман пытался выявить общее понимание прекрасного Августином, анализировал его классификацию прекрасного по видам и ступеням, показал его отношение к чувственной красоте. Интересным, хотя и достаточно частным, эстетическим исследованием можно считать работу Г. Эдельштейна о музыкальных воззрениях Августина415. По трактату «De musica» здесь анализируются представления его автора о числе, ритме, музыке, чувственном суждении.
Все эти работы подготовили появление специального и до наших дней остающегося наиболее полным исследования К. Свободы «Эстетика св. Августина и ее источники», увидевшего свет в 1933 г.416. Эта монография до сих пор сохраняет свое значение в качестве единственного и достаточно подробного источниковедческого исследования. В ней проанализированы практически все сохранившиеся произведения Августина под углом выявления в них эстетических суждений и соотнесения их с аналогичными или близкими взглядами античных авторов. Основное внимание К. Свобода направил на конкретный анализ источников, показав, что наряду с прекрасным, которое и здесь стоит на первом месте, Августин размышлял о числе, порядке, некоторых видах искусства, о проблемах художника, эмоционального восприятия, образа, аллегории, удовольствия и т. п. В этой работе затрагиваются практически все реальные проблемы августиновской эстетики. Однако сама монография является лишь первым серьезным шагом на пути к исследованию эстетических взглядов Августина в целостном их виде. К. Свобода ограничился лишь краткими обобщающими выводами, заметив, что из сочинений Августина вырисовывается целостная эстетическая система417, но самой этой системы он так и не изложил. В книге К. Свободы совершенно оставлен в стороне вопрос о месте эстетики в мировоззренческой системе Августина.
Вышедшая в 1939 г. работа Э. Чепмена418 посвящена в основном проблеме прекрасного у Августина. Только частично затрагивается в ней вопрос о таких «эстетичеких компонентах», как число, форма, единство, порядок, и несколько страниц отведено вопросам искусства.
В 1969 г. появилась небольшая, но интересная монография Т. Манфердини419, в которой эстетика Августина рассматривается в проблемном плане. Наряду с анализом августиновского понимания красоты автор поднимает вопросы рационализации чувства у Августина, чувственного восприятия, эстетической аксиологии, критерия эстетического суждения и т. п., т. е. уделяет особое внимание психологической стороне августиновской эстетики, намечая новые подходы к анализу эстетического наследия латинского богослова.
Кроме этих монографических исследований, можно было бы указать на ряд статей по отдельным проблемам эстетики Августина. В процессе изложения материала на них сделаны ссылки в соответствующих разделах книги.
В общих историях эстетики Августину до сих пор уделяется (если уделяется вообще) незаслуженно мало внимания. Исключение составляют лишь некоторые труды. Это, во-первых, многотомное исследование по богословской эстетике Г. У. фон Бальтазара, во втором томе которого 50 страниц посвящено эстетике Августина420. Поднимая ряд фундаментальных проблем этой эстетики (таких, как видение, свет, единство, иллюминация, прекрасное и его связь со светом, образ, аналогия и др.), автор рассматривает их в контексте общей истории христианской эстетики. Другой работой, знаменующей собой новый шаг в исследовании августиновской эстетики, является небольшая по объему, но емкая по содержанию глава в «Средневековой эстетике» В. Л. Татаркевича421. В этой главе польский ученый сделал то, на что не хватило времени его чешскому коллеге – он обобщил все, что до него было сделано на путях изучения эстетики Августина, опираясь прежде всего на материалы К. Свободы, но анализируя их уже с позиций теоретической эстетики середины XX в. В. Татаркевич впервые определил место Августина в истории эстетики и показал значение его эстетических взглядов для развития последующей, прежде всего средневековой, эстетики.
Глава I. Жизнь как зеркало истории
Культура поздней античности знаменательна своим переходным характером. Здесь подводился определенный итог многовековому развитию сложных и противоречивых культур древности и намечались черты нового этапа истории – средневекового. Особо болезненно этот переход осуществлялся в сфере духовной культуры. Традиционная античная духовность, предельную концентрацию которой можно усмотреть в античной философии, отнюдь не без боя сдавала свои позиции. Соответственно и новая идеология, которой суждено было господствовать в Средние века, далеко не спокойно и последовательно вырастала из предшествующей культуры. Для поздней античности характерен предельный накал духовной борьбы – острая схватка нового со старым422. В IV в. с признанием христианства официальной религией Римской империи исход этой борьбы был уже предрешен, однако страсти не утихали и борьба стала принимать иные формы. Если апологеты II-III вв. активно противостояли всем формам и проявлениям античной культуры, то в IV-V вв. фронт борьбы в целом сузился до чисто религиозной сферы и конфликт начал развиваться вглубь, превращаясь, в частности, в борьбу официальной церковно-государственной идеологии с бесчисленными отклонениями от нее – ересями.
В этот богатый и напряженнейший период культурно-исторического развития греко-римского мира в латинской части Империи явилась фигура выдающегося мыслителя, не уступавшего по силе ума и высоте духа таким крупнейшим философам древности, как Платон и Аристотель; личность сильная и глубокая, но предельно противоречивая в своем развитии, как бы сконцентрировавшая в себе сущность всего сложного пятивекового пути духовного развития поздней античности. Речь идет об авторе первой в истории культуры «Исповеди» – Аврелии Августине.
Будущий епископ Гиппона423 и один из известнейших представителей западной патристики родился в 354 г. в небольшом африканском городке Тагасте (ныне Сук-Арас в Алжире) в небогатой семье. Отец его, член городского совета патрициев, в жилах которого, как практически и всякого уроженца Северной Африки, текла доля берберской крови, был типичным представителем среднего слоя населения африканской провинции, со всеми присущими ему привычками, потребностями, непритязательными интересами. Жил он, как сказали бы христиане, которых уже много было в то время в Африке, «по плоти», а не «по духу». Только перед самой смертью он принял крещение, видимо, по настоянию своей глубоко верующей жены Моники. Естественно, что такой отец мало чем мог способствовать духовному развитию сына, поэтому Августин почти и не упоминает о нем в «Исповеди» – истории своего духовного становления. Тем не менее будущий столп западного христианства взял от отца многие черты его горячего африканского темперамента, любовь к яркой, полнокровной жизни, к плотским радостям и земным удовольствиям. От него он унаследовал все то «просто человеческое», во что был с головой погружен в годы своей юности, в чем искренне и глубоко раскаивался, осознав себя христианином, и что продолжало бурлить в нем до последних дней его многотрудной жизни.
Напротив, матери Аврелий уделяет много великолепных, наполненных искренним и глубоким чувством страниц своей «Исповеди». Будучи последовательной и искренней христианкой, она прилагала немало усилий, таланта и воли, чтобы приобщить к истинной церкви и своего равнодушного к какой-либо духовности мужа, и пылкого как в чувствах, так и в духе сына. Долгие годы стремилась она «выправить» извилистый путь духовных исканий своенравного сына, рано ощутившего, не без ее влияния, конечно, глубокое обаяние духовности, устремившегося к ней со всей необузданностью берберского потомка и, наконец, ворвавшегося галопом туда, куда следовало бы входить бесшумно, с благоговейным трепетом. Трудно представить себе что-либо более далекое от темпераментного, чувственно обостренного, себялюбивого и честолюбивого характера юного африканца, чем философию смирения и предельной униженности. Поэтому так труден и мучителен был путь Августина к христианству и, может быть, именно благодаря этому он смог так много сделать в нем, переключив всю мощь своей столь трудно управляемой энергии в русло созидания и защиты здания новой духовности.
В одном были едины отец и мать юного Аврелия – это в стремлении дать сыну хорошее образование. Начальный курс обучения он прошел в Тагасте и в расположенном неподалеку от него Мадавре. Затем по настоянию отца, хотя семье это было явно не по средствам, и с полного согласия матери Августин был отправлен для получения высшего по тем временам образования в риторскую школу Карфагена, где провел три года. Родители понимали, что образование откроет сыну путь к служебной карьере, и ограничивали себя во всем, чтобы позволить ему закончить обучение.
Уже в 15 —16—летнем возрасте в Августине активно заговорили позывы плоти, что радовало отца и очень беспокоило мать (Conf. II, 3, 6)424. В Карфагене, не уступавшем в те времена Риму своей индустрией развлечений, наслаждений, нескучного проведения досуга, Августин прежде всего погрузился в стихию любовных наслаждений. «Любить и быть любимым, – писал он, – было мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мутил источник дружбы грязью похоти; я туманил ее блеск адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей я жадно хотел быть изысканным и светским. Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. Боже мой милостивый, какой желчью поливал Ты мне, в благости Твоей, эту сладость. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры» (III, 1, 1). В первый же год своего пребывания в Карфагене он сблизился с женщиной, которой оставался верен в течение пятнадцати лет. Уже в 373 г. она родила ему сына Адеодата, умершего в 390 г. О сильном влиянии матери на Августина можно судить хотя бы по тому, что она настояла на разрыве сына с этой женщиной, к которой он был сильно привязан на протяжении всех лет совместной жизни. Но мать убедила его, что для его будущей карьеры ему необходим официальный брак с девушкой из богатой и знатной семьи, до которого дело так и не дошло, ибо, приняв христианство, Августин пришел к мысли, что всякая связь с женщиной греховна.
С детства Аврелий больше всяких наук любил игры, зрелища, театральные представления; поэзию он предпочитал в начальной школе другим занятиям. В Карфагене его страсть к театру и зрелищам еще более усилилась, ибо нашла богатую пищу.
Курс наук в риторской школе давался ему легко, и он не был лишен честолюбивых мечтаний. «Тянули меня к себе и те занятия, которые считались почтенными: я мечтал о форуме с его тяжбами, где бы я блистал, а меня осыпали бы похвалами тем больше, чем искуснее я лгал... Я был первым в риторской школе: был полон горделивой радости и надут спесью» (III, 3, 6).
В соответствии со школьной программой в 373 г. Августин изучает диалог Цицерона «Гортензий»425, который поразил его не красотой языка, но глубиной содержания, страстным призывом к мудрости, к духовной деятельности: «Любовь к мудрости по-гречески называется философией; эту любовь зажгло во мне это сочинение. <...> я наслаждался этой книгой потому, что она увещевала меня любить не ту или другую философскую школу, а самое мудрость, какова бы она ни была; поощряла любить ее, искать, добиваться, овладеть ею и крепко прильнуть к ней» (III, 4, 8). За этой мудростью сын ревностной христианки обратился, естественно, к Св. Писанию, хотя с детства почитал религию матери за «бабушкины сказки». Увы, и прямое знакомство с библейскими текстами только укрепило его детскую неприязнь к христианству. Содержание прочитанных текстов показалось ему непонятным или «нелепым» (VI, 4, 6), а язык – грубым и примитивным. Он не мог идти ни в какое сравнение с красноречием Цицерона. Юный слушатель риторской школы оставался верным сыном культуры, взрастившей и воспитавшей его. Однако жажда духовности, подспудно копившаяся в нем и под влиянием материнских увещаний, и в процессе естественного развития юного духовно одаренного организма, – эта жажда, разбуженная теперь «Гортензием» и получившая, наконец, материализацию в магическом слове мудрость, требовала конкретной реализации. Ее-то Августин и обрел на долгие годы в учении манихеев. Риторская школа того времени знакомила своих учеников только с ограниченным кругом римских писателей и не Могла дать никакой пищи философски настроенному уму. Поэтому Августин и вынужден был искать духовность за стенами своего карфагенского «университета».
Манихейство было популярным в то время космополитическим философско-религиозным учением426. Его основатель, персидский проповедник и мыслитель Мани (216–277), соединил в нем многие типичные для восточного позднеантичного мира духовные искания. Мани использовал в своем учении как образы вавилонской и персидской мифологии, так и многие христианские идеи, стремясь соединить в некоем универсальном философско-религиозном синтезе иррационализм мифологии с формально-логическими объяснениями и доказательствами, что импонировало самым широким слоям населения как на Востоке, так и на Западе. Принципиальный дуализм этой системы – бескомпромиссная борьба между Добром и Злом (двумя началами мира), Светом и Тьмой, Духом и Материей, – стал естественной ступенью развития человеческого духа, только что осознавшего себя и сразу же окончательно отгородившегося от бренной материи. Христианство было уже следующим шагом духовного развития человечества, когда активно встал вопрос если не о равенстве материи и духа, то по крайней мере о реабилитации материи, оправдании плоти, о признании de facto материально-духовного синтеза, противоречивого единства этих присущих миру человеческого бытия начал. Хронологически манихейство появилось, когда христианство уже активно формировало свою систему, однако типологически оно тяготело к более древним системам восточного дуализма, как бы подводило итог их многовековому развитию с учетом пришедших с Запада тенденций и потребностей нового времени. Аналогичную роль играл и возникший в III в. в греко-римском мире неоплатонизм. Он как бы суммировал опыт многовекового развития греческой духовной культуры, опираясь на некоторые восточные тенденции и потребности того же времени. И манихейство, и неоплатонизм претендовали на мировое господство в сфере духа и в период поздней античности во многом достигли этого. Но принципиальный дуализм материи и духа, а также излишний спиритуализм и интеллектуализм в неоплатонизме и причудливая мифологическая фантастика в манихействе обрекали эти системы на поражение (хотя далеко и не полное) в борьбе с христианством, поставившим одной из главных задач оправдание материи при безусловном приоритете духа.
Конечно, юному Августину, вкусившему от плода духовности, было далеко до этих тонкостей; многое в безбрежном море духа было тогда ему просто неизвестно. Поэтому не случайно, как и многие неискушенные, но алчущие духовных откровений души, он и обратился к манихеям, высоко ценившим разум в человеке, как частицу Божественного Света. Они обещали «всякого, кто пожелает их слушать, привести к Богу и освободить от всех заблуждений, руководствуясь одним только разумом, отказываясь от авторитета и его угроз... Они никого не принуждали к вере, не обсудив и не разъяснив прежде истины. Кого не соблазнили бы подобные обещания, тем более юношу, жаждавшего истины?..» (De util. cred. 1, 2).
Около девяти лет Августин был ревностным манихеем, водил дружбу с видными его представителями, обратил в манихейство и ряд своих друзей427. Позже он красочно опишет свою духовную незрелость того времени. «Я не знал... того, что есть воистину, и меня словно толкало считать остроумием поддакиванье глупым обманщикам... Я не знал еще тогда, что зло есть не что иное, как умаление добра, доходящего до полного своего исчезновения. Что мог я тут увидеть, если глаза мои не видели ничего дальше тела, а душа дальше призраков? Я не знал тогда, что Бог есть Дух, у которого нет членов, простирающихся в длину и в ширину, и нет величины... А что в нас есть, что делает нас подобными Богу, и почему в Писании про нас верно сказано: «по образу Божию», это было мне совершенно неизвестно» (Conf. III, 7, 12). Жажда знаний, стремление к истине заставляют Августина читать и изучать все относящееся к наукам, мудрости, философии. Он проштудировал многие тома манихейских сочинений, «прочел и понял все книги, относившиеся к так называемым свободным искусствам, какие только мог прочесть» (IV, 14, 30). Науки легко давались ему, и Августин гордился тем, что сам без помощи учителей справился с «запутаннейшими книгами». На двадцатом году жизни он самостоятельно изучил считавшиеся в его среде труднейшими «Категории» Аристотеля и пытался приложить их к познанию Бога (IV, 14, 26–29).
С 375 г. началась его преподавательская деятельность. В течение 8 лет он, по его собственному выражению, «продавал за деньги искусство победоносной болтливости» (IV, 2, 2), т. е. риторику в Карфагене и – короткое время – грамматику в Тагасте. В этот период он, будучи от природы одаренным психологом, на практике освоил психологию педагогики, положив ее впоследствии в основу своей теории христианского красноречия.
К карфагенскому периоду относится и начало литературной деятельности Августина. Примечательно, что его первая проба пера связана с проблемой эстетического: в 380/381 г. он пишет в античных традициях трактат «О прекрасном и соответствующем» (De pulchro et arto), который, однако, был вскоре утерян. Обостренную любовь к прекрасному Августин пронес через всю свою жизнь, хотя специально больше никогда не возвращался к этому вопросу.
К концу карфагенского периода Августин все больше начинает ощущать неудовлетворенность манихейством. К этому времени он изучил уже многие науки, был начитан в философии. Сравнивая положения философских учений «с бесконечными манихейскими баснями», он понял, что первые значительно ближе к истине, ибо основаны на разумном исследовании видимого мира (Conf. V, 3, 3). Особенно вопиющим было противоречие между астрономическими знаниями того времени и фантастическими построениями манихеев (V, 3, 6). Окончательно подорвали веру Августина в манихейство его знакомство и беседы с кумиром манихеев – епископом Фавстом, который оказался милым человеком, красноречивым проповедником, но совершенно неосведомленным в свободных науках и философии. Фавст сам начал с большим рвением учиться у Августина, а последний устремился на поиски новых духовных горизонтов.
В 384 г. не без помощи своих друзей он перебрался в Рим и по ходатайству римских манихеев получил должность учителя красноречия в риторской школе Милана. Все еще пользуясь поддержкой манихеев, Августин уже ищет новых путей к истине, с тем чтобы изоблачить заблуждения своих бывших наставников (V, 14, 25). У него появилась даже мысль, что наиболее разумным из всего, ему известного, является скептицизм «академиков», утверждавших, что истина вообще недоступна человеку и поэтому во всем следует сомневаться (V, 10, 19). Позже Августин писал, что, будучи в Италии, он часто вел беседы с самим собой о способе нахождения истины и часто ему казалось, что найти ее невозможно, и в своих мыслях он уносился к Академии. «С другой стороны, – писал он, – часто всматриваясь, насколько я был в состоянии, в человеческий ум, такой стремительный, такой проницательный, такой глубокий, я начинал полагать, что скрыта не истина, а метод ее нахождения; метод же этот может быть получен от некоего божественного авторитета. Оставалось только найти этот авторитет после того, как его обещали в постоянных спорах между собой столько учителей. Здесь предо мной вставала непроходимая чаща, пробиться через которую мне не удавалось; однако вопреки этому дух мой без устали подгоняло желание отыскать истину» (De util. cred. 8, 20).
Нередко Августину приходили на ум и мысли о христианстве, но он еще никак не мог уловить его сути, ибо даже в своих представлениях не мог отрешиться от телесности, не мог представить себе ничего бестелесного, чисто духовного. И Бог, и мысль, и зло понимались им как наделенные определенной телесностью субстанции.
По приезде в Милан Августин сразу же посетил знаменитого на всем Западе миланского епископа Амвросия О жизни, деятельности и взглядах Амвросия см.: Адамов И. И. Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад, 1915; Homes-Duddon F. The Life and Times of St. Ambrose. Oxford, 1935, v. 1–2; Paredi A. Saint Ambrosë His Life and Times. Notre Dame, 1964., который принял его радушно, но особого внимания не уделил. Августин начинает регулярно слушать проповеди Амвросия, сначала подходя к ним лишь с точки зрения красноречия; но постепенно его захватывает и содержание речей знаменитого Отца Церкви, в которых христианство представало отнюдь не примитивной, грубоватой религией, но сложным и глубоким учением. Амвросий толковал все события ветхозаветной истории не в буквальном, но «в духовном смысле». Он находился под сильным влиянием аллегорически-символического метода толкования Ветхого Завета, восходящего еще к Филону Александрийскому и его христианским последователям Клименту и Оригену. Этот прием был нов для Августина и явился своего рода откровением. Он понял, что все смущавшие его ветхозаветные события и высказывания имеют не только буквальное, но и глубокое духовное значение.
Амвросий, как и его духовный наставник Симплициан, находился под сильным влиянием неоплатонизма428, который был распространен тогда как среди язычников, так и среди христиан. В ряде проповедей Амвросия, относимых к 386 г. (цикл на «Шестоднев», «Об Исааке и душе» и др.), особенно сильно ощутимо влияние плотиновских идей о прекрасном. В Милане существовал целый кружок «платоников»; широко читались латинские переводы «Эннеад», сделанные известным философствующим ритором Марием Викторином429. Эти тексты скоро попали в руки Августина и поразили его своей духовной силой и глубиной. Они-то и дали ему представление о бестелесной, т. е. нематериальной, духовности; неоплатонизм указал ему путь внутрь себя, ориентировал на поиск истины не во внешнем мире, но в сокровенных тайниках души. Сильное влияние неоплатонизма на Августина430 ощутимо практически во всех его работах, во всех частях его философско-религиозной системы. Позже, став одним из главных идеологов христианства, Августин постоянно сохранял глубокое уважение к неоплатоникам, считая, что они подошли ближе остальных философов к христианству. По его мнению, стоит лишь изменить отдельные слова и мысли в текстах неоплатоников, и они превратятся в христианские. Однако Августин не стал чистым платоником. «Восприняв в себя, таким образом, – писал русский исследователь его мировоззрения, – неоплатонические элементы, Августин, однако, и в этом периоде не был вполне неоплатоником. Для него на первом плане стоит жизненная, практическая задача и умозрительный, мистический идеал неоплатонических философов не удовлетворяет его по своей отвлеченности»431.
В это время в Милан приезжает мать Августина и с помощью Симплициана опять пытается направить сына к христианству, к которому он и сам уже тяготел все больше и больше. Мучительные внутренние искания истины и духовности, аллегорически-символргческий подход Амвросия к библейским текстам, личный пример и мольбы матери, беседы с Симплицианом, чтение «Эннеад», услышанный им рассказ о жизни христианского отшельника Антония и других монахов, чтение посланий ап. Павла – все это приводит в конце концов Августина к мысли о том, что христианство является единственно истинным учением. Он бросает службу, удаляется с группой друзей и родственников на виллу своего друга в Кассициаке (близ Милана), где предается духовным размышлениям, беседам с друзьями и активно готовится к принятию христианства. 24 апреля 387 г. он принимает крещение вместе с сыном Адеодатом и другом Алипием от рук Амвросия Медиоланского. Уже в Кассициаке Августином были написаны первые философские трактаты: «Против академиков», «О жизни блаженной», «О порядке», «Монологи», «О бессмертии души», начат трактат «О музыке». Принятие христианства Августин понимал как уход от суеты житейской в гавань истинной философии и глубокой духовной жизни432. Поэтому и начало регулярной литературной деятельности практически связано у него с окончательным приходом к христианству (386 г.). Деятельность эта будет очень плодотворной. По подсчетам самого Августина, до 427 г. он написал 93 трактата общим объемом в 232 книги, не считая огромного количества писем и проповедей (из последних – 500 сохранилось до наших дней). До нас не дошло только 10 из перечисленных Августином сочинений. В первых трактатах он предстает перед читателем христианствующим античным философом. В дальнейшем собственно христианские мотивы усиливаются в его творчестве, но дух и горение философа, искателя и защитника истины всегда были живы в нем.
После принятия крещения Августин направляется в родную Африку. По дороге умирает мать. Августин задерживается на некоторое время в Риме, пишет здесь еще несколько книг и осенью 388 г. прибывает на родину. Там он распродает свое скромное имущество и организует в Тагасте небольшую общину монастырского типа, состоявшую всего из шести человек. Три года, прожитые в Тагасте, полностью посвящены духовной жизни. Пост, молитва, добрые дела, размышления о Боге, беседы с друзьями и работа над книгами составляют основное содержание этих лет433. Имя его становится широко известным в среде местных христиан, и вскоре по их настоянию епископ Гиппона (расположенного в 25 км от Тагасты) Валерий посвящает его в сан священника (391 г.).
Следует вспомнить, что в конце IV в. африканская церковь переживала тяжелый внутрицерковный кризис, связанный с борьбой двух течений – католического, опиравшегося на императорскую власть, и донатистского434. Раскол африканской церкви официально оформился в 312 г. избранием второго карфагенского епископа Майорина. Одним из главных идеологов раскола был нумидийский епископ Донат из города Казы Нигры. После кончины Майорина в 312 г. он и занял его место, ведя непримиримую борьбу против римско-католической церкви. В основных богословских вопросах донатисты ничем не отличались от католиков. В борьбе за церковную власть в Африке нумидийские епископы воспользовались некоторыми социальными и религиозно-нравственными противоречиями внутри церкви IV в. Донатисты опирались на широкие слои обездоленных христиан, поддерживавших строгие, даже аскетические традиции древней гонимой церкви, считавшей мученичество главным и необходимым подвигом христианина. После признания церкви государством отпала необходимость в мученичестве. В церковь пришло (уже с III в.) много знатных и обеспеченных граждан (они и заняли основные места в руководстве церкви), которыми не поощрялись идеалы нищенства, аскезы, мученичества. Из религии обездоленных масс, стоявшей в оппозиции к государству, христианство все более превращалось в официальную религию Империи, утверждавшую интересы ее господствующих классов. Против этой религии и выступили достаточно широкие круги обездоленных христиан. Одно из таких движений оформилось в Северной Африке в начале IV в. в донатизм, который к концу века стал религией подавляющего большинства населения Африки435. Донатисты преследовали католиков во многих районах, устраивали на них вооруженные нападения, захватывали храмы. Католическая церковь испытывала острый недостаток в клириках436. Ясно, что в такой атмосфере церковь не могла позволить вести уединенную созерцательную жизнь одному из наиболее образованных в Африке католиков. Августина призывают к активной церковной деятельности. В 395 г. Валерий делает его своим преемником, и уже в следующем году, по смерти Валерия, Августин занимает епископскую кафедру в Гиппоне, на которой он пробыл 34 года – до конца своих дней. В качестве епископа Августин потратил много сил на укрепление католической религии в Африке, на углубление христианской догматики в борьбе с еретическими движениями – донатизмом и пелагианством437 прежде всего. Августин пережил разгром Рима войсками Алариха в 410 г. и скончался 28 августа 430 г. в Гиппоне, осажденном вандалами438.
Для нас Августин интересен в первую очередь как крупнейший мыслитель своего времени, долгий жизненный путь которого отразил перипетии духовной и культурной жизни сложного переходного периода от античности к Средним векам. Августин был последним и самым крупным представителем античного христианства на Западе. Он завершил линию активного развития латинской христианской мысли, связанной с Северной Африкой (Тертуллиан, Минуций Феликс, Киприан, Арнобий, Лактанций)439. При этом он ушел значительно дальше своих предшественников в ряде философско-религиозных вопросов, был мыслителем более крупного масштаба, но начал он свое духовное развитие не с того, что было достигнуто ими. Христианство того времени (особенно западное) еще не имело своей школы, своей разработанной системы духовного воспитания. Поэтому любой человек, имеющий призвание к духовной деятельности, должен был начинать с классического античного образования440. Он должен был как бы в миниатюре пройти весь тот путь духовного становления, которым прошла греко-римская культура от времен Гомера до поздней античности. Августин не только «прошел» эту школу духовного воспитания: он глубоко пережил его основные вехи как этапы личной, глубоко интимной жизни. «Великий епископ Гиппона, – писал автор одной из известных «Патрологии», – объединял в себе творческую силу Тертуллиана и духовную широту Оригена с церковным духом Киприана, диалектическую остроту Аристотеля с идеалистическим воодушевлением и глубокими спекуляциями Платона, латинский дух практицизма с одухотворенной подвижностью греков. Августин был крупнейшим философом патриотического периода и, пожалуй, самым значительным и влиятельным церковным богословом вообще, чьи выдающиеся достижения сыскали ему уже при его жизни немалое количество восторженных поклонников».441С другой стороны, затянувшийся путь духовного становления будущего столпа западной церкви, его удивительная привязанность к материальному миру с его плотскими удовольствиями, суетой и бесчисленными грехами свидетельствуют, что Августин, может быть, как ни один из его предшественников и современников (как язычников, так и христиан), был плоть от плоти позднеантичной культуры, сыном своей эпохи, до предела заострившей противоречия между духом и материей. Языческое (а скрытно и часть христианского) население Империи стремительно погружалось в плотскую жизнь с ее чувственными удовольствиями. Духовная же элита, т. е. представители основных мыслительных течений того времени (неоплатонизма, неопифагорейства, стоицизма, всех разновидностей гностицизма), и идеологи христианства ратовали за жизнь «в духе», полный или частичный отказ от увлечений благами преходящего и суетного мира. Августин начал свою жизнь как полнокровный «соматик», вкусил удовольствий «телесной жизни» и только затем, ощутив неудовлетворенность этой жизнью, устремился на поиски высшей истины. Но и когда перед ним начали уже раскрываться горизонты духовной жизни, он еще долго и крепко держался за удовольствия материального мира и продолжал «ходить путями века сего, избитыми и торными» (Conf. VI, 14, 24). Особо трудным для него было отказаться от связи с женщиной, от удовольствий плотской любви. Libido прочно удерживало тело и душу Августина.
Две тенденции раздирали позднеантичный мир – абсолютная духовность и предельная чувственность442. Две воли, по выражению самого Августина, разрывали его душу – плотская (старая) и духовная (новая). Научившись у неоплатоников всматриваться в свой внутренний мир (ср.: VII, 10, 16) и обострив эту способность до предела, Августин дает великолепные по своей глубине и художественной выразительности описания своего внутреннего драматического состояния и душевных борений того времени. «От злой же воли, – пишет он, – возникает похоть (libido); ты рабствуешь похоти – и она обращается в привычку; ты не противишься привычке – и она обращается в необходимость... А новая воля, которая зарождалась во мне и делала, чтобы я чтил Тебя ради Тебя и утешался Тобой, Господи, единственным верным утешением, была еще бессильна одолеть прежнюю, окрепшую и застарелую. И две мои воли, одна старая, другая новая, одна плотская, другая духовная, боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась душа моя. Я понимал, что сам являюсь доказательством того, о чем читал, как «тело замышляет против духа, а дух против тела» (Гад 5, 17). Я жил и тем и другим...
Мирское бремя нежно давило на меня, словно во сне; размышления мои о Тебе походили на попытки тех, кто хочет проснуться, но. одолеваемые глубоким сном, вновь в него погружаются. И хотя нет ни одного человека, который пожелал бы всегда спать, – бодрствование, по здравому и всеобщему мнению, лучше, – но человек обычно медлит стряхнуть сон: члены его отяжелели, сон уже неприятен, и, однако, он спит и спит, хотя пришла уже пора вставать» (VIII, 5, 10–12).
Духовное пробуждение Августина длилось долго. Начинает он с эклектической философии Цицерона, затем увлекается манихейством, изучает и стремится практически использовать «Категории» Аристотеля; разочарование в манихействе приводит его на пути скептической философии, и, наконец, его увлекает неоплатонизм и неоплатонически-аллегорический аспект христианства, проповедуемый Амвросием Медиоланским, за которым стоят Филон и вся александрийская школа ранней патристики. Сложный и тернистый путь, но это, по сути, путь развития всей позднеантичной духовной культуры последних пяти веков ее существования. Последний крупный представитель этой культуры на Западе прошел его весь, от начала до конца, показав историческую закономерность именно такого его завершения, знаменующего новый этап культурно-исторического развития443. Интересно, что будучи, особенно в первый период своей литературной деятельности, мало начитанным в христианской литературе и находясь под сильным гнетом телесных представлений, он бился над решением многих из тех вопросов, которые уже были решены его предшественниками – христианами, прежде всего Тертуллианом, а также Киприаном, Арнобием, Лактанцием. Некоторые из них так и остались для него закрытыми. В частности, типичный для раннего христианства гуманизм444 как всеобъемлющее человеколюбие во многом чужд Августину. В системе его упорядоченного божественным Провидением космоса и социума все, в том числе гибель и страдания людей, подчинено божественному Порядку, в котором нет места ни человеколюбию (в раннехристианском смысле этого слова), ни состраданию. Если ранние христианские апологеты (как греческие, так и латинские) много страниц в своих работах уделяли страданиям людей, то Августин часто, особенно в «Граде Божием», равнодушен к ним, увлеченный своими социоэкклесиологическими исследованиями. С холодным спокойствием пишет он о бедствиях отдельных людей и целых народов, полагая, например, что божественное Провидение «войнами исправляет и выравнивает испорченные нравы людей» (De civ. Dei I, 1, 5); и далее: «Так одна и та же сила, обрушивающаяся бедствиями, добрых испытывает, очищает, отбирает, а злых отсеивает, опустошает, искореняет» (I, 8, 14). «Рассуждая о бедствиях, кровопролитиях, казнях, неравенстве состояний и положения в обществе, он нередко кажется жестоким», – писал русский исследователь Августина в начале нашего века445. Конечно, Августин знал и христианскую заповедь любви к ближнему (и ставил ее выше всех остальных постулатов), и много писал о любви к людям446, но эта любовь понималась им чаще в античном, чем в собственно христианском смысле. Можно было бы назвать и ряд других частных проблем, более глубоко решенных его предшественниками.
Здесь нет возможности специально останавливаться на художественной значимости «Исповеди» Августина, этого выдающегося шедевра мировой литературы, который представляет автора не только глубоким мыслителем, тонким психологом, духовно богатой личностью, но и большим художником слова. Однако уже сам факт существования этого произведения увеличивает ценность и значимость эстетических взглядов Августина, показывая, что его теория основана на глубокой и результативной личной художественной практике.
Отразив своей жизнью и своим творчеством целую эпоху с ее социальными, политическими, культурными и духовными противоречиями, исканиями, заблуждениями, Августин дал своими трудами духовную пищу, пожалуй, для всех последующих эпох, но прежде всего для Средних веков и Возрождения.
Глава II. Два града
Когда войска Алариха в 410 г. опустошили Рим, в среде язычников вспыхнула очередная волна антихристианских возмущений. Бедствия Рима ставились в вину христианскому государству, поправшему древних богов, которые и мстят теперь за нанесенное им оскорбление. Давно вроде бы миновали времена христианской апологетики, но перед фактом, видимо, достаточно сильных нападок на христианство со стороны, казалось бы, уже совсем побежденной античности, Августину, всегда живо откликавшемуся своими работами на актуальные идеологические движения времени, приходится взяться за перо, чтобы написать еще одну (в длинном ряду) апологию христианства, последнюю в позднеантичный период и самую грандиозную, подводившую итог раннехристианской апологетике.
Завоевание Рима варварами послужило важным толчком к созданию «Града Божия» (De civitate Dei)447, над которым гиппонский епископ работал с 413 по 426 г.448. Однако появление этой грандиозной, во многом итоговой работы Августина закономерно вытекало и из его внутренних философских устремлений. Мыслителю, долго не принимавшему христианство, высмеивавшему его с позиций язычника, слишком хорошо знавшему всю языческую антихристианскую аргументацию, – этому мыслителю, наконец-то пришедшему к Христу, конечно, необходимо было не только обосновать свою веру, но и аргументированно разбить доводы бывших единомышленников, а также еще раз в процессе написания опровержения глубже пережить свою новую позицию; еще раз убедить самого себя на уровне ratio в истинности избранного пути. Таким же образом в свое время он выступил против учений скептиков и манихеев, которыми увлекался в юности. Эти частные опровержения нашли место и на страницах итоговой работы. Кроме того, жанр апологии давал ее автору возможность для широких
философских обобщений, для изложения практически всей своей мировоззренческой системы. Уже раннехристианские апологеты поняли это, явившись создателями первой философии культуры449. Августин, продолжая их традицию, в деталях повторяя какие-то их положения, дал в целом законченную систему своей, основанной на христианском миропонимании, философии истории и культуры450. Многие идеи, сведенные в «Граде Божием» в единую систему, более подробно разрабатывались автором на протяжении всего предшествующего периода и в той или иной форме были выражены во многих его работах, проповедях, письмах.
Основу августиновской философии культуры составляет идея существования двух общин, двух «государств» или «двух градов» – божественного (civitas Dei) и земного (civitas terrena). К первому относятся все духовные силы и верные Богу существа, добрые ангелы, истинные христиане и добродетельные люди. Все же, отягощенные грехами, бесчестными делами, плотскими и суетными влечениями, идущие путями заблуждений и т. п., составляют граждан земного, преходящего града. «Два града, – писал Августин, – нечестивцев и праведников – существуют от начала человеческого рода и пробудут до конца века. Теперь граждане обоих живут вместе, но желают разного, в день же Суда поставлены будут розно»451. Для жителей земного града, т. е. для большинства людей, град Божий должен служить всеобъемлющим идеалом, в том числе, как мы увидим, и в сфере эстетического. К граду Божию относятся все те, кто стремится жить «по духу» (secundum spiritum), а к земному – живущие «по плоти» (secundum carnem); к тому – живущие по законам Бога, к этому – по человеческим установлениям (De civ. Dei XIV, 1; 4). Два града явились следствием двух родов любви – «земной создан любовью к самим себе, доведенной до презрения к Богу, небесный – любовью к Богу, доведенной до презрения к самому себе» (XIV, 28). Град Божий странствует внутри града земного, как civitas peregrina, и подвергается постоянным гонениям со стороны последнего. Их тесная переплетенность (до такой степени, что один человек может носить в себе начала и того и другого) не мешает им находиться в постоянной борьбе, которая и составляет основу мирового исторического процесса, драматически развивающегося от грехопадения Адама до грядущего Страшного суда. В этой концепции, как мы видим, отразилось, хотя и в христианизированном виде, языческое, в частности и манихейское, дуалистическое мировоззрение452. По манихейским и другим гностическим теориям в мире тесно перемешаны частицы Добра и Зла, Света и Тьмы, которые ведут нескончаемую борьбу. У Августина они переосмыслены в два града. Небесный град представляется ему идеальным вечным царством блаженства (II, 29), тем раем, о котором постоянно мечтал многострадальный человек древнего мира, влача беспросветную материальную жизнь. «Тот град вечен; там никто не рождается, потому что никто не умирает; там истинное и полное счастье – не богиня [счастья], а дар Божий. Оттуда мы получили залог веры на то время, пока, странствуя, воздыхаем о красоте его» (V, 16).
В Послании к Галатам апостола Павла (Гал 4, 21 – 31), напоминает Августин, дан прообраз града Божия – Иерусалим. Но это лишь тень, «служебный образ» для обозначения «горнего Иерусалима». Ветхозаветный закон и организованное на его основе общество выполняли в представлении Августина лишь служебную функцию обозначения града Божия. «Так, некоторая часть земного града стала образом града небесного, ибо обозначала не себя, а другой [град]; и потому была служебной» (De civ. Dei XV, 2). Основателем земного града, подчеркивает Августин, был братоубийца Каин; ему соответствует и братоубийца Ромул – основатель Рима. Мир и Рим основаны на крови и преступлении – в этом главное зло земного града. Авель явился прообразом странствующего и гонимого небесного града (XV, 15), который наиболее зримо и полно реализовался в этом эоне с приходом в мир христианской церкви, полномочно представляющей град Божий, который восторжествует лишь с концом «века сего». Земной град – это вся история человечества, история «земных царств». Она насчитывает «семь веков: первый – от Адама до потопа; второй – от потопа до Авраама; третий – от Авраама до Давида; четвертый – от Давида до переселения в Вавилон; пятый – от вавилонского переселения до Рождества Христова; шестой – длится сейчас от Рождества Христова и седьмой – будущий век» (XXII, 30). Вся вторая половина трактата Августина (кн. XI-XXII) посвящена истории земного града в его борьбе с небесным градом. В будущем веке все граждане земного града, если не успеют приобщиться к жизни «по духу», будут осуждены на вечные муки, а скитальцы града Божия обретут покой и вечное несказанное блаженство.
Все ли отрицательно, с точки зрения Августина, в граде земном? И каким образом его граждане могут прийти к знанию града Божия? Оказывается, есть сложное и противоречивое образование, порожденное самим земным градом (конечно, не без участия Бога), и внутри него (града) существующее; развивающееся по мере движения человеческой истории и способствующее отдельными своими частями переходу граждан земного града от жизни «по плоти» к жизни «по духу». Таким образованием предстает в теории Августина культура. Августиновское понимание культуры во многом строится на культурологических взглядах древних римлян (прежде всего на концепции Цицерона453), увиденных в свете раннехристианского историзма и эсхатологизма.
В истории только мировые катаклизмы, стихийные бедствия, войны способствовали «очищению», или духовному прозрению, какой-то части бесчисленного населения земного града. Здесь действовал «бич Божий». Но, кроме него, есть еще и «глас Божий», материализующийся на уровне земного града в различных формах культуры, доступных восприятию человеческой душой, имеющей от природы духовную основу. В культуре много сторон и аспектов, но в целом она должна быть направлена на улучшение человека, его возвышение к духовным идеалам.
Ко времени написания «Града Божия» Августин неплохо для своего времени знал историю духовной культуры и рассматривал ее под определенным утлом зрения, опираясь в основном на библейские тексты и сочинения римских писателей. В крупнейшей христианской апологии цитируется не менее 35 античных авторов, из них Варрон – не менее 210 раз, Вергилий – не менее 85, Цицерон – не менее 55, Платон – 20 раз, Апулей – 27 раз; в трактате множество античных реминисценций и пересказов отдельных идей античных писателей (в частности Плотина)454. Библия цитируется в «Граде Божием» не менее 1400 раз. На апологетов Августин, как правило, не ссылается, но черпает у них многие факты и аргументы.
Здесь не место заниматься всесторонним рассмотрением философии культуры Августина. Это предмет специального исследования. Однако историку эстетики нельзя без ущерба для своей темы не остановиться хотя бы кратко на отдельных положениях этой философии, имеющих отношение к эстетике.
Культура, как и весь земной град, существует, по мнению Августина, во времени, имеет определенное историческое развитие от сотворения человека до конца мира. Град Божий – пребывает в вечности. Перейти из одного града в другой – значит осуществить переход от временного бывания к вечному бытию. И перед Августином со всей остротой встает проблема времени. Quid sit tempus (что есть время)? – один из главных вопросов его философии455.
В кн. XI «Исповеди» мы можем проследить, как мучительно билась мысль Августина в поисках ответа на него. Нет вроде бы более понятного для людей слова, чем «время». Мы хорошо понимаем, о чем идет речь, когда слышим его или употребляем сами. «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему, – нет, не знаю. Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю: если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени; если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени; если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? и если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность; настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет! Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть?» (Conf. XI, 14, 17).
До творения мира Богом времени не было. Бог пребывал во «всегда неизменной вечности». Творение вызвало некое движение; моменты этого движения и изменения в мире и образуют время (De civ. Dei XI, 6), т. е. время – следствие движения сотворенного. До создания твари оно не существовало. Следовательно, заключает Августин, легкомыслен вопрос, почему Бог ничего не делал в течение бесчисленных веков, предшествовавших творению, ибо самих этих «веков» не было, они еще не были созданы. «Если же раньше неба и земли вовсе не было времени, зачем спрашивать, что Ты делал тогда. Когда не было времени, не было и «тогда» (Conf. XI, 13, 15). Бог всегда пребывает в вечности, а в ней «ничто не преходит, но пребывает как настоящее во всей полноте; время, как настоящее. в полноте своей пребывать не может» (XI, 11, 13).
Что же тогда это самое время? Как понимать долготу или краткость времени? Где существует это «долгое» или «краткое» время? В прошлом? Но его уже нет. В будущем? Но его еще нет. Значит, в настоящем. Но если мы возьмем отрезок настоящего времени любой длины – в сто лет, в год, в месяц, в день, в час и т. д., то увидим, что он состоит как бы из трех участков. Один из них находится в прошлом, другой еще в будущем и третий, кратчайший, неделимый уже даже на мельчайшие части, миг и составляет собственно настоящее время. Он так краток, что длительности в нем нет. «Если бы он длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего; настоящее не продолжается» (XI, 15, 20). Но где же тогда мы можем измерять время, сравнивать временные отрезки и т. п.? Где же существует это неуловимое время, которому все подчинено в материальном мире?
После длительных рассуждений Августин приходит к выводу, что время существует только в нашей душе. Прошлое – в памяти; будущее – в ожидании. Его можно предвидеть по некоторым признакам, существующим уже в настоящем. Сущность настоящего времени составляет созерцание (intuitus). «Правильнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени – настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего. Некие три времени эти существуют в нашей душе, и нигде в другом месте я их не вижу: настоящее прошедшего – это память; настоящее настоящего – его непосредственное созерцание; настоящее будущего – его ожидание» (XI, 20, 26). Августин, таким образом, сознает, что время лишено онтологического статуса, и усматривает его только в душе субъекта как определенную характеристику тварного бытия.
Рассматривая вопрос измерения времени, он приходит к выводу, что звук не измеряется ни тогда, когда он уже отзвучал, и ни тогда, когда он еще не прозвучал, и ни в момент самого звучания: и все-таки он измеряется. Где же? Августин находит решение опять внутри субъекта познания: «В тебе, душа моя, измеряю я время. <...> В тебе, говорю я, измеряю я время. Впечатление от проходящего мимо остается в тебе, и его-то, сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его оставило. Вот его-то я измеряю, измеряя время. Вот где, следовательно, время, или же времени я не измеряю» (XI, 27, 36). Августин приходит к субъективно-психологическому решению проблемы времени. Быстротечность времени, неуловимость момента перехода от будущего к прошедшему заставляют его заняться психологией восприятия времени, предельно субъективизировать это понятие. «Каким же образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет? каким образом растет прошлое, которого уже нет? Только потому, что это происходит в душе, и только в ней существует три времени. Она и ждет, и внимает, и помнит: то, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она вспоминает» (XI, 28, 37). Время, таким образом, созданное, по Августину, в момент сотворения мира, является мерой прохождения тварного мира во всех его формах и находится и измеряется в душе человека. Время – производная сотворенного мира. «Там же, где нет никакой твари, чрез изменяющиеся движения которой образуются времена, там совершенно не может быть времен» (De civ. Dei XII, 16).
Для Августина, как и для всего раннего христианства, время (как и пространство, что хорошо показано в гл. 7 «Исповеди») является одной из характеристик мира явлений и немыслимо вне и без него. До сотворения этого мира времени не было, и оно исчезнет вместе с ним. Поэтому время само по себе мало интересовало христианских теоретиков. Главное внимание их было приковано к самому миру явлений, его происхождению, существованию и развитию.
Относительно самого человека время понимается Августином как «путь к смерти, на котором никому не позволяется остановиться даже на малое время или идти несколько медленнее» (XIII, 10). И только на этом временном пути человек может приобщиться к граду Божию и достичь вечности, которая во всем противоположна времени. Сам Бог обитает в ней. Она и есть истинное бытие. Она неизменна и непреходяща. В ней назначено пребывание града Божия; Августин отождествляет ее с Богом: «Умственным взором я отделяю от вечного всякую изменчивость и в самой вечности не различаю никаких промежутков времени; так как промежутки времени состоят из прошедших и будущих изменений предметов. Между тем нет преходящего в вечном и нет будущего; ибо что проходит, то уже перестает существовать, а что будет, то еще не начало быть; есть только вечность; она ни была, как будто ее уже нет; ни будет, как будто ее еще нет. Поэтому только она сама могла вполне истинно сказать человеческому уму: «Я есть сущий», – и только о ней одной могло быть вполне истинно сказано: «Сущий послал меня»456. Время же «является знаком, т. е. как бы следом вечности» (De Gen. ad lit. imp. 13, 38). Град Божий видит свою цель в вечности: град земной пребывает в быстронесущемся потоке времени.
Развивая библейскую традицию, Августин представляет время линеарным и конечным. Тварный мир движется от своего сотворения к концу «века сего» и измеряется равномерно текущим временем. Движение человечества во времени составляет содержание истории, борьба и существование двух градов протекает в истории, и философия культуры Августина предельно исторична. Из всех греко-римских писателей поздней античности Августин был, пожалуй, самым чутким к истории и историзму. Два главных произведения гиппонского мыслителя по сути своей две своеобразные истории – история духовного развития и становления самого Августина и история духовной и культурной жизни человечества на протяжении всех «семи веков» его существования. Историзм Августина отличен от историзма в его современном понимании. В основе его лежит провиденциализм457 и телеологизм. Ряд сил управляет извилистым, но тем не менее поступательным движением истории. Одна из них (главная в земном граде) основывается на свободной воле падшего человечества и направлена на приобретение всеми правдами и неправдами максимума земных благ (таких, как богатство, плотские удовольствия, почести, слава, власть и т. п.). Эта сила движет как отдельными людьми, так и земными царствами, постоянно ввергающими человечество в бесчисленные войны, массовые убийства, грабежи, насилия и всяческие несправедливые деяния. Другая сила, внешне достаточно слабая в масштабе земной истории, но постоянно действующая, исходит из града Божия, стремящегося всеми доступными ему средствами исправить пути града земного, остановить злодеяния, прежде всего путем нравственной проповеди, воспитания и просвещения заблудшего человечества. Именно в этом усматривает Августин одну из главных функций католической церкви, которая должна в идеале направлять государство по пути истины458.
Движение истории поступательно (раннее христианство верило в исторический прогресс), ибо божественным Провидением определена цель, к которой придет человечество в конце своей истории. От воли людей зависит лишь количество и характер исторических зигзагов, которые еще сделает человечество до этой предопределенной цели – Царства Божия, да и они все известны божественному Провидению. Августиновская философия истории основывается здесь на одной из главных антиномий христианской теории – свобода воли и провиденциализм, – в которой нашли отражение реальные противоречия социальной истории. Полностью осознать их мыслители того времени, естественно, не могли, но почувствовали их достаточно ясно.
Августин начиная с 396 г. (трактат «Ad Simplicianum») разрабатывает концепцию предопределения (praedestinatio), которая вступает в острое противоречие как с христианским учением о свободе воли человека, так и с рядом главных положений его же теории культуры. По этой концепции Бог изначально по своей «безграничной милости» предопределил вполне конкретное число (соответствующее числу «отпавших» ангелов) людей (каждого персонально) к вечной блаженной жизни. Только эти «избранные» (electi) независимо от их образа жизни и мышления в этой жизни, достигнут Царства Божия. Остальные же, независимо от их заслуг или прегрешений, обречены на вечную гибель (praedestinati ad sempiternum interitum – In Ioan. ev. 48, 4, 6). Кто попал в число «избранных», известно только Богу. Людям остается лишь с трепетом ожидать исполнения своей судьбы459.
Несмотря на то, что концепция предопределения противоречит гуманистическому пафосу новозаветной и раннехристианской литературы, фактически обесценивает или вообще перечеркивает многие позитивные стороны учения самого Августина, да и, по сути дела, обессмысливает саму идею Церкви, он упорно держался за нее в поздний период своей деятельности. Для этого он вынужден был даже прибегать к весьма искусственным превратным толкованиям достаточно ясной мысли апостола Павла о том, что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Tim. 2, 4) (см.: De corr. et grat. 14, 44; 15, 47). Здесь не место заниматься этим феноменом августиновского мировоззрения, но о нем следует помнить как о реальном противовесе многим излагаемым нами идеям Августина, свидетельствующем о глубоких противоречиях, постоянно терзавших душу этого мыслителя.
Историзм Августина последовательно телеологичен и, соответственно, остротенденциозен. Августин, как истинный христианин, знает конечную цель социальной истории – торжество града Божия и рассматривает всю реальную и мифологическую историю как путь к этой цели. Поэтому только события и явления истории, культуры, идеологии, способствующие осуществлению этой цели, признаются Августином как положительные и прогрессивные. Все остальное воспринимается им как негативное, греховное, составляющее основу преходящего земного града. С этих позиций и рассматривает он историю духовной культуры, философии, искусства.
Как мы помним, Августин с юности полюбил мудрость, философию. С годами он достаточно хорошо освоил античное философское наследие и до конца своих дней сохранял любовь и уважение к нему. Однако далеко не все в античной философии было принято христианским мыслителем. К философам материалистической ориентации он относился с презрением, считая, что с ними нет смысла и толковать (De vera relig, 4, 6). Начатки истинной философии и зерна мудрости усматривал Августин только у античных идеалистов. Он высоко ценил многие идеи Платона, «мудрейшего из философов» (Contr. acad. III, 17, 37), с почтением относился к автору «почти божественного» учения – Пифагору (De ord. Π, 20, 53), Плотина почитал за выдающегося философа и вообще полагал, что платоники ближе других философов подошли к истине (De civ. Dei VIII, 1). Много интересного нашел он у «первого латинского философа» Цицерона, которого, как бы раскаиваясь за свое излишнее увлечение его идеями в молодости, наградил в зрелом возрасте титулом «лжефилософа» (philosophaster) (II, 27).
В качестве примера остротенденциозного историзма Августина можно сослаться на его краткий историко-философский очерк в VIII кн. «Града Божия».
Августин указывает на две философские школы – италийскую, родоначальником которой был Пифагор, первый назвавший себя не мудрецом, но «любителем мудрости» – философом, и ионийскую с основателем Фалесом Милетским. Фалес и его исследователь Анаксимандр не знали божественного начала и пытались объяснить мир исходя из материальных оснований. Поэтому они не интересуют Августина. Зато их последователи Анаксимен, Анаксагор, Диоген, Архелай связывали творение мира с божественной силой и даже пытались ее исследовать. Учеником Архелая считают Сократа, который направил всю философию из натурфилософского русла на пути морального улучшения и совершенствования человека. Видимо, он считал, что нечистые от земных страстей души не должны касаться вещей божественных. После славной жизни и смерти Сократа осталось много его последователей, направлявших свои усилия на изучение нравственных вопросов, открывавших человеку путь к блаженной жизни. Каждый из них понимал благо по-своему. Аристипп видел его в наслаждении, Антисфен – в добродетели, другие – в чем-либо ином.
Стремление к мудрости, считал Августин, бывает деятельным и созерцательным. Деятельная (in actione) философия имеет своей целью улучшение нравов в обществе, организацию правильного порядка жизни; созерцательная же (in contemplatione) – занимается исследованием причин и первооснований всех явлений, поисками истины. Типичным представителем этой философии считается Пифагор, а превзошедшим других в деятельной философии – Сократ. Платону, самому талантливому ученику Сократа, отмечает Августин, ставят в заслугу соединение этих двух типов философствования в более совершенную философию (De civ. Dei VIII, 4). Показательно, что в качестве одной из главных заслуг Платона Августин выделяет именно этот факт. Как известно, христианство возникло и развивалось на основе синтезирования греческой умозрительной философии и ближневосточной (древнееврейской прежде всего) деятельной (направленной на активную организацию и регламентацию всей жизни общества и каждого индивида) религиозной мудрости. Августин уже у Платона усматривает начала этого жизненно важного для всего христианства синтеза. Здесь носителем деятельно-нравственной философии выступает Сократ, но Августин хорошо знает, что Платон посещал Ближний Восток. И хотя, замечает Августин, это было примерно 100 лет спустя после жизни Иеремии и задолго до перевода Библии на греческий язык, тем не менее Платону, видимо, были известны библейские книги, о чем Августин заключает прежде всего на основании «Тимея» (VIII, 11).
Другую важную заслугу Платона Августин видит в том, что он разделил философию на три части: нравственную (деятельную), натуральную (натурфилософию) и рациональную (логику) (VIII, 4).
Самого Августина интересуют только религиозные идеи Платона и его последователей. Прежде всего его внимание привлекают платоновские мысли о Боге как о причине всякого бытия, разумном начале и порядке жизни, ибо они легли в основу и его собственной философии. Платон, по Августину, называл мудрым человека, подражающего Богу, любящего и познающего его. Эта мысль лежит в основе и христианской философии. Высоко ценит Августин и логику платоников, полагая, что в ней они добились больших успехов, чем эпикурейцы или стоики, ибо последние в своих логических исследованиях опирались на телесные чувства, а платоники только на «умственный свет» (VIII, 7). Неприязнь Августина к материалистическим тенденциям в философии приводит к тому, что он (вольно или невольно) представляет мысли стоиков или эпикурейцев в огрубленном виде. Напротив, взгляды Платона и его последователей он стремится максимально приблизить к христианским, т. е. «очистить» от присущей им тяги к материальности, телесности, приписывая даже иногда Платону чисто христианские идеи. Особенно близок Платон христианам, полагает Августин, в этике, ибо, по Платону, человек обретает блаженство не в теле и не в душе, а в Боге. Философию Платон отождествляет с любовью к Богу. Только любящий Бога и подражающий ему может достигнуть познания его, т. е. наслаждения предметом своей любви или блаженной жизни. Бог, по Платону в интерпретации Августина, – высшее благо (VIII, 8).
После Платона Августин переходит к платоникам, из которых наиболее известными считает Плотина, Ямвлиха, Порфирия и африканца Апулея, писавшего как по-гречески, так и по-латыни (VIII, 12). Главный недостаток их воззрений он видел в том, что они допускали культ греко-римских богов. Вслед за раннехристианскими апологетами Августин потратил немало сил, развенчивая традиционных богов греко-римского пантеона. Именно на этом поприще ему пришлось скрестить перо с платониками, стремившимися дать новое истолкование мифологии и тем самым спасти традиционные ценности античной культуры, и попытаться противопоставить их христианству. Здесь идеолог новой религии был неумолим даже по отношению к столь уважаемым им языческим авторитетам. Интересно, что их он пытается победить не своей собственной аргументацией, а апеллируя к текстам почитаемого в позднеантичном языческом мире Гермеса Трисмегиста (VIII, 23–24), в которых говорится о том, что античные боги не что иное, как создания людей. Изобретя искусство делать статуи, люди создали изображения богов и вложили в них с помощью магического искусства души демонов. Они-то и творят мелкие чудеса, заставляя людей поклоняться этим статуям как богам. В других местах Августин с помощью уже платонических идей будет бороться с античными суевериями. В этом суть августиновского историзма – не беспристрастное изложение фактов истории культуры или философии, но активное использование их в своих идеологических целях, доходящее подчас До, пожалуй, внесознательной, фальсификации отдельных фактов или идей. Августин видит себя идеологом града Божия и стремится осмыслить всю социальную историю и историю духовной культуры как тернистый путь к торжеству этого града. Соответственно, вся дохристианская культура рассматривается им под углом выявления в ней тех идей, которые будут приняты затем христианством. Именно наличие этих идей служило христианским идеологам, с одной стороны, критерием оценки тех или иных культурно-исторических явлений, этапов, отдельных учений, а с другой – использовалось в качестве аргумента в пользу истинности самого христианства. Вся история духовной культуры человечества (как в ее ближневосточном, так и в греко-римском направлениях) предстает у Августина как путь к христианству и, соответственно, к признанию и принятию града Божия. Все заблуждения и отклонения от этого пути суть уступки граду земному, отклонение от истины и от конечной цели. В истории человечества на земной град больше работала греко-римская культура, а на град Божий – ближневосточные народы. Поэтому, будучи последовательным приверженцем греко-римской мудрости, Августин все же вынужден отдавать приоритет в сфере духовной культуры не античным философам, но библейским пророкам (De civ. Dei XVIII, 37 и др.).
Итак, земной град в процессе своего исторического существования создает, не без божественной помощи конечно, культуру, лучшие достижения которой (прежде всего в сферах философии и религии) направлены на приобщение людей к граду Божию. С приходом христианства град Божий получает в человеческом обществе свой официальный институт – Церковь, которая и должна, по мнению Августина, последовательно направлять человечество к истине. Правители земного града, и прежде всего монархи, наделенные властью от Бога, должны руководствоваться в своей деятельности указаниями Церкви. Ибо только под руководством Церкви жители земного града могут приобщиться к граду Божию и достичь по прехождении «века сего» высшего блага.
Августин много внимания уделял вопросу блага (добра) (bonum) и зла, стремясь отыскать истинное решение вопроса, на который еще Варрон нашел у античных философов 288 вариантов различных ответов (см. XIX, Г). Высшим благом, по Августину, является вечный, простой, неизменяемый и не подверженный порче Бог460. От него происходят все остальные блага. Весь сотворенный мир благ, все существующее – благо. Бог не создал ничего злого, неблагого. Зло несубстанциально. Оно состоит в отклонении от блага, т. е. от бытия, в нарушении божественного онтологического порядка. Полное уменьшение блага приводит к прекращению бытия. «...Следовательно, – заключает Августин, – все, что есть, – есть доброе (благое), а то зло, о происхождении которого я спрашивал, не есть субстанция» (как долгое время считал Августин в юности. – В. Б.). (Conf. VII, 12, 18). «Зло (malum) не обладает никакой природой; но утрата блага получила название зла» (De civ. Dei XI, 9). Зло – это отсутствие или недостаток блага, порча (corruptio) блага, и поэтому без блага, делает диалектический вывод Августин, не было бы и зла. Рассмотрим подробнее эти суждения Августина, ибо частным случаем их является диалектика прекрасного и безобразного в природе, так как в мире природных явлений Августин отождествлял благое с прекрасным, а безобразное со злым.
«Итак, – рассуждает африканский мыслитель, – сколько бы природа ни подвергалась порче, в ней [всегда] остается благо, которого она может лишиться; поэтому если в природе останется что-либо, что уже не может быть испорченным, то она станет совершенно не могущей быть испорченной, и этого высокого блага она достигнет с помощью порчи. И если не перестанет подвергаться порче, не перестанет также иметь благо, которого могла бы лишить ее порча. А если она истребит природу целиком и полностью, то не останется никакого блага, так как не будет и никакой природы. Поэтому порча не может уничтожить добро кроме как с уничтожением самой природы. Итак, вся природа есть благо – большое благо, если не может подвергаться порче, и малое, если – может» (Enchirid. 12). Порча поэтому может существовать только вместе с благом, ибо при отсутствии последнего исчезает и природа, в которой только и может существовать порча. Соответственно и злым может стать только благое, а там, где нет никакого добра, не может возникнуть и зло. Здесь Августин развивает диалектические идеи посланий ап. Павла461, сознательно доводя их до предельной остроты. «Следовательно, ничто не может стать злым, кроме как некоторого блага. И хотя это кажется абсурдным, однако вывод из всего рассуждения принуждает нас неизбежно утверждать это». Нельзя, конечно, упрощать этот вывод, называя зло благом, а благо – злом. «Итак, вся природа, хотя и порочная, добра, поскольку есть природа, и зла – поскольку порочна» (13). Здесь Августину приходится допустить исключение из основного закона античной диалектики, которую он так почитал, – закона непротиворечия. «Благо и зло, эти противоположности, могут быть одновременно в одной и той же вещи. Зло из блага и во благе. Вот почему к этим противоположностям, которые называются злом и благом, неприложимо диалектическое правило, гласящее, что две противоположности нигде не существуют вместе». Ни один предмет не может быть одновременно белым и черным, прекрасным и безобразным, пища – горькой и сладкой и т. п. Почти все они несовместимы, и только такие бесспорные противоположности, как добро и зло, не только могут быть вместе, но помимо добра и кроме как в добре зло вообще существовать не может, хотя добро может обходиться и без своей антитезы (14).
Внимательное наблюдение за социальной историей, за реальными процессами и явлениями в современном ему обществе привели Августина к уточнению (пока на уровне исключения) античного правила «противоречия». Оказывается, важнейшая социальная закономерность не подчиняется этому правилу, противоречит ему; жизнь природы и общества развивается далеко не всегда по законам формальной логики. Позднеантичная мысль и наиболее последовательно христианская (вспомним хотя бы первого латинского апологета Тертуллиана) с разных сторон и в различных аспектах все чаще и чаще приходит к этому важному в истории диалектики выводу462. Для христиан он являлся лишним доказательством ограниченности человеческого разума, покоящегося на законе непротиворечия, и весомым аргументом в пользу религиозного иррационализма. Августин стремился объяснить с помощью сделанных выводов закономерность сложной переплетенности в социальной истории злых и справедливых деяний, града земного и града небесного. В реальной истории град Божий терпит от града земного, но без первого не было бы и второго.
Благо, таким образом, бывает, по Августину, разных градаций. Человек до грехопадения, т. е. до нарушения запрета, обладал вечным благом; совершив первородный грех, он был отрешен от высшего блага и допущен к благу же, но преходящему, от духовного блага к благам телесным, т. е. к благам града земного (De vera relig. 20, 38). Однако, погрузившись в эти блага, лучшие представители человеческого рода сохранили тоску по высшему благу и стремление к нему. Они осознали, что «высшее благо есть вечная жизнь, а величайшее зло – вечная смерть», поэтому для достижения первой и избежания второй людям необходимо вести добродетельную жизнь (De civ. Dei XIX, 4), т. е. стремиться приобщиться к граду Божию. В другом месте Августин уточняет, что высшее благо для человека состоит не просто в вечной жизни, но в жизни блаженной (VIII, 16). Поэтому все усилия града Божьего направлены на приведение грешного человечества к конечной и желанной цели – блаженной жизни. Блаженство, блаженная жизнь (beatitas, beatitudo, vita beata) – важнейшие понятия в мировоззрении Августина, без которых не может быть правильно понята ни его философия, ни его эстетика. Но, прежде чем подробнее заняться ими, необходимо сделать одно важное отступление.
В XI кн. «De civitate Dei», рассуждая о предметах и явлениях тварного мира, Августин подчеркивает, что существует ряд критериев для их оценки. Предметы могут оцениваться как по их месту и роли в универсуме, в природе, так и по пользе, приносимой человеку, или с позиции чувственного удовольствия. «Таким образом, – пишет Августин, – при свободе суждения существует большое различие между разумным основанием (ratio) мыслителя и потребностью нуждающегося или удовольствием желающего: ...первое ищет того, что открывается истинным для умственного света, а удовольствие ищет того, что приятно ласкает телесные чувства» (XI, 16). В зависимости от оценивающего субъекта возможны как минимум три критерия оценки предметов и явлений нашего мира: с позиций пользы (т. е. утилитарный), с позиций истины (т. е. философский) и с позиций наслаждения (т. е. эмоционально-эстетический). Неоднократно возвращаясь в различных работах к этим критериям, и чаще всего к утилитарному и эстетическому, Августин приходит к выводу, что утилитарный подход к вещам присущ только земному граду, появился после грехопадения в связи с возникшей немощью человеческой и упразднится в «грядущем веке» с исчезновением материальных потребностей у людей. Небесному граду и людям духовным свойствен только критерий неутилитарного духовного наслаждения, т. е. практически эстетический подход к миру. Философский подход тоже преходящ, так как искание истины и истинных отношений нужно только на путях ко граду Божию.
Таково видение вещей с точки зрения оценивающего субъекта. Кроме того, сами вещи по своему экзистенциальному назначению делятся на три группы. Одними из них человек должен только наслаждаться, другие служат только для его пользы, а есть и такие, которые и полезны, и приносят удовольствие. «Предметы наслаждения (fruendum) делают нас блаженными, а предметы пользы (utendum) помогают нам в достижении блаженства и как бы способствуют овладению теми предметами, которые делают нас блаженными, и тесному соединению с ними» (De doctr. chr. I, 3, 3). Что касается людей «наслаждающихся» и «пользующихся», то они поставлены посредине между предметами пользы и наслаждения и должны по естественному закону стремиться ко вторым, как более высоким. Таким образом, у Августина намечается ценностная иерархия универсума по критерию неутилитарности или специфического гедонизма. Внизу находятся чисто утилитарные предметы, вверху – предметы абсолютного духовного наслаждения. Люди же иногда сбиваются с истинного пути и делают объектом наслаждения сугубо утилитарные, низкие предметы, что уводит их от истинных предметов наслаждения. «Наслаждаться» (frui), – поясняет далее Августин, – означает не что иное, как сильно любить некую вещь ради нее самой. Пользоваться (uti) же [вещью] – значит употреблять ее в качестве средства для достижения предмета любви, поскольку он является достойным любви» (I, 4, 4).
Те же, кто начинает наслаждаться низкими утилитарными предметами, уподобляются страннику, много страдавшему на чужбине и стремящемуся обрести счастье в родном отечестве. Для достижения его ему нужны были средства передвижения – колесницы, корабли и т. п., но, получив их, странник увлекся путешествием и стал наслаждаться самой поездкой, кораблями, колесницами, забыв о конечной цели пути – своем отечестве, где он мог бы обрести не преходящее удовольствие, но истинное блаженство. Соответственно и все мы, заключает Августин, странствующие в этом мире вдали от отечества, если желаем возвратиться в него и обрести истинное блаженство, «должны [только] пользоваться этим [земным] миром, а не наслаждаться, чтобы невидимое божественное стало видимым для нас сквозь сотворенные вещи, т. е. чтобы посредством телесных и временных вещей мы приобрели познание о вечном и духовном» (I, 4, 4). Таким образом, чистое наслаждение связывается Августином с познанием высших абсолютных истин, т. е. с чисто духовной сферой (ср.: De divers. quaest. 35). Он разъясняет далее, что «из всех вещей вообще только теми следует наслаждаться, которые мы назвали вечными и неизменяемыми; остальными же следует [только] пользоваться, чтобы достичь наслаждения первыми» (De doctr. chr. I, 22, 20).
Главным «предметом наслаждения является Отец и Сын и Дух Святой, то есть Троица, некий единый высочайший предмет, общий для всех наслаждающихся ею». Ничто чувственное не должно быть предметом самодовлеющей любви, если мы желаем свободного погружения души в наслаждение небесным светом (I, 10, 10). Это ясно относительно предметов материального мира, т. е. чисто утилитарных, а как быть с самим человеком? Ведь он, наслаждающийся и пользующийся предметами, и сам является вещью, притом созданной «по образу и подобию Божию», т. е. вещью весьма важной и значимой в универсуме. Здесь возникает трудный вопрос: должны ли люди наслаждаться собой, или только пользоваться, или и то и другое одновременно? Нам дана заповедь, рассуждает Августин, взаимно любить друг друга. Но, спрашивается, должны ли мы любить человека ради него самого или для чего-то иного? Если ради него самого, то мы должны наслаждаться им, т. е. обрести в нем свое блаженство. Августин уверен, что это неистинное наслаждение и блаженство и, следовательно, человеком, в том числе и самим собой, как и другими объектами чувственного мира, можно пользоваться для достижения высшего предмета наслаждения – Бога. Только в нем достигается полное и нескончаемое наслаждение (I, 22, 20–21).
Существует ряд ступеней наслаждения, соответствующих своим предметам любви. Августин насчитывает четыре таких предмета: «первый – выше нас; второй – мы сами; третий – рядом с нами или равен нам; последний – ниже нас». Относительно первого и третьего даны божественные заповеди (любви к Богу и любви к ближнему); второй и четвертый не нуждаются в заповедях, так как человек, как бы ни удалялся он от истины, по естественному природному закону всегда любит себя и свое тело (I, 23, 22).
Итак, истинным наслаждением Августин считает любовь к духовному предмету ради него самого, т. е. бескорыстную любовь, единственной целью которой является удовольствие, что Августин хорошо разъясняет в следующем месте: «Однако [понятие] наслаждаться (frui) употребляется [в смысле] ближайшем к [выражению] «пользоваться с удовольствием» (cum delectatione uti). Ибо, когда присутствует (adest) то, что мы любим, оно необходимо приносит с собой удовольствие; и если ты от него приходишь к чему-то иному, что пребывает неизменным, то ты пользуешься им [для какой-либо цели] и говоришь о наслаждении (frui) в несобственном, небуквальном смысле. Если же ты истинно предан [только ему] и останавливаешься [на нем], усматривая в нем (удовольствии. – В. Б.) цель своей радости, то, верно, и в собственном смысле называешь ты это наслаждением (frui)"· И чтобы не прослыть апологетом чистого гедонизма, Августин тут же добавляет: такое понятие наслаждения, в собственном смысле, может быть отнесено только к Троице, ибо она одна есть «благо высочайшее и неизменное» (I, 33, 37). Однако и это ограничение отнюдь не мешает уже сделать вывод, что Августин теснейшим образом связал область высших духовных ценностей со сферой того, что современная наука дефинирует как эстетическое, т. е. являющееся предметом неутилитарного самодовлеющего созерцания и доставляющее субъекту духовное наслаждение.
Удовольствие, наслаждение, блаженство оказываются у Августина взаимосвязанными понятиями, определяющими смысл человеческого существования, т. е. решение главных проблем человеческого бытия перенесено Августином в сферу религиозно-эстетического. Именно здесь осуществляется единение двух градов, один из которых целиком принадлежит к уровню пользы, а другой – к области духовного наслаждения, вершину которого составляет блаженство. Присмотримся к специфике этой важной религиозно-эстетической проблемы августиновской философии.
В постановке проблемы блаженства Августин, конечно, не оригинален. Сущность блаженной, или счастливой, жизни интересовала до него многих античных философов, и они решали эту проблему так же преимущественно, как и проблему добра и зла. Опираясь на своих предшественников, Августин стремится дать свое решение этого вопроса, приемлемое для христианской идеологии. Еще в Кассициаке в 386 г., готовясь к принятию христианства, он под сильным влиянием античной философии написал трактат «О блаженной жизни», основные идеи которого обдумывал, развивал и уточнял на протяжении всего своего последующего творчества.
Уже в трактате «Против академиков» Августин поднимает проблему блаженной жизни в философско-гносеологическом аспекте. Полемизируя со скептиками и стремясь осмыслить их агностицизм, Августин в основных своих положениях еще полностью находится в русле античной мысли. Он увлечен философией как высшим достижением человеческого разума и убежден, что «нет блаженной жизни, кроме той, которая проводится в философии» (Contr. acad. II, 2, 4). Однако идее академиков о том, что блаженство заключается уже в самом процессе исследования истины (по их мнению, постигнута она быть не может), он противопоставляет утверждение, что подлинное блаженство состоит только в познании истины (I, 2, 6), или более осторожное: блаженная жизнь – это жизнь согласно наилучшей господствующей части души – уму или разуму (I, 2, 5). В другом сочинении того же времени Августин пишет, что изучение «свободных наук» приближает человека к истине, т. е. к блаженной жизни, «ибо изучение свободных наук, благоразумное и строгое, ободряет любителей истины в стремлении к ней, делает их более настойчивыми и более подготовленными, так что они и пламеннее ее желают, и с большим постоянством ищут, и, наконец, с большим удовольствием прилепляются к ней; это... и называется жизнью блаженной» (De ord. I, 8, 24). Над всеми свободными науками господствует философия. Она-то и ведет непосредственно к блаженной жизни. Из двух частей складывается предмет философии: «первая – учение о душе, вторая – о Боге. Одна приводит нас к познанию самих себя, другая – к познанию нашего происхождения, та приятнее нам, эта дороже; та делает нас достойными блаженной жизни, а эта – блаженными; первая – предмет исследования для учащихся, последняя – для ученых уже» (II, 18, 47).
Дальнейшее развитие эти идеи получают в трактате «О блаженной жизни». Здесь, продолжая разговор, начатый в «Contra academicos», Августин стремится уточнить предмет философии и соответственно сущность блаженной жизни. Он вынужден опять погрузиться, с одной стороны, в вопросы гносеологии, а с другой – эстетики. Блажен тот, кто обладает истиной, а таковым является только мудрец, таким образом, быть мудрым и значит быть блаженным (De beat. vit. 4, 33). Мудрость, в свою очередь, «есть мера (modus) духа» (4, 32), т. е. то, что держит дух в равновесии. «Итак, – заключает Августин, – всякий, кто имеет свою меру, т. е. мудрость, блажен» (4, 33). Мудрость – это мудрость Бога, а по евангельской традиции (1Кор 1, 24) Христос является премудростью Божией, следовательно, «всякий, имеющий Бога, блажен». Истина же имеет бытие от «некой высшей меры, от которой она происходит и к которой, совершенная, возвращается»: истина и есть Бог (ср.: Ин 14, 6). Абсолютное бытие состоит в тождестве Бога, истины и меры, а поэтому «блажен, кто приходит к высшей мере через истину. А это значит иметь в душе Бога, то есть наслаждаться (frui) Богом» (4, 34). «Итак, – завершает свою мысль Августин, – полное душевное изобилие, т. е. блаженная жизнь, состоит в том, чтобы благочестиво и совершенно знать, кем направляешься ты к истине, какою истиною питаешься, чрез что соединяешься с высшей мерой» (4, 35). Таким образом Августин приходит к единению гносеологии и эстетики. Блаженство выступает основой этого единения и целью устремлений духовного человека, философа и мудреца. Находясь в этот период под сильнейшим влиянием античной философской мудрости, Августин видит путь к блаженству, т. е. полному обладанию истиной, только через науки, философию, знание, считает блаженство уделом исключительно ученых людей, философов. Это, конечно, еще не христианское представление, однако сущность блаженной жизни как обладания и наслаждения Богом он уже нащупал окончательно и именно на ней строил в дальнейшем свою философию. В трактате «Об учителе» Августин писал: «Любить и знать Его [Бога. – В. Б.] составляет блаженную жизнь, о которой все кричат, что ищут ее, но не многие могут порадоваться тому, что нашли ее действительно» (De mag. 14, 46). В другом месте он отмечает, что душа должна наслаждаться (fruor) Богом, а не телом (De vera. relig. 12, 24).
Углубляясь в христианство, в котором вера играет большую роль, чем знание, Августин наконец приходит к выводу, что блаженная жизнь не может являться привилегией только ученых мудрецов, но должна быть достоянием и самых широких слоев темного и необразованного населения, т. е. всех, кто искренне встал на путь истинной веры. Поэтому теперь уже в чисто церковных традициях он заявляет, что нет надобности в светских научных знаниях для достижения блаженной жизни. Блажен только тот, кто знает Бога, хотя бы ничего иного он не знал, пишет Августин в «Исповеди» (Conf. V, 4, 7), т. е. не знания, но религиозная вера ведет к блаженной жизни. Пути веры отличаются от путей науки и философии тем, что на них главным и значимым является не тот или иной объем абстрактных знаний, но умение «правильно жить».
Известно, что «все хотят быть блаженными, но не [все] могут; ибо, имея одно лишь желание блаженной жизни, не хотят правильно жить (recte vivere)» (De lib. arb. I, 14, 30). Истинная мудрость (на этом важном понятии мы еще остановимся подробнее) поэтому состоит не столько в знании, сколько в умении «жить правильно», чтобы не заблуждаться на жизненном пути, удаляясь от истины, но стремиться к высшему благу (II, 9, 26).
Отойдя от своего раннего философского понимания блаженства как чисто интеллектуального наслаждения от обладания истиной, Августин переносит теперь основное внимание на эмоционально-эстетическую сторону этого понятия, которая была более доступна необразованному и далекому от философии большинству членов христианского общества, т.е. больше соответствовала религиозному мировоззрению. Теперь блаженная жизнь может быть объяснена, к примеру, через всем доступное понятие радости (gaudium): «Есть радость, которой не дано нечестивцам, но только тем, кто чтит Тебя бескорыстно: их радость – Ты сам. И сама блаженная жизнь состоит в том, чтобы радоваться Тобой, о Тебе, ради Тебя; в этом подлинно [блаженная жизнь], и нет другой. Те, кто полагает ее в другом, гонятся за другой радостью – ненастоящей» (Conf. X, 22, 32); «блаженная жизнь – это радость, даруемая истиной, т. е. Тобой, Господи. <...> Этой блаженной жизни все хотят, этой жизни, единственно счастливой, все хотят; радости от истины все хотят» (X, 23, 33).
Августин не забывает при этом постоянно подчеркивать, что далеко не все достигают этой радости, ибо она духовна, возвышенна и далека от обыденных потребностей обитателей земного града. «Высшее счастье, – утверждает он, – есть полное видение» неизреченной красоты (Enchirid. 5). Ниже мы сможем убедиться, что Августин понимал «высшее счастье» в «чувственном» смысле, связывая его с восприятием видимой красоты. Последняя, по его мнению, услаждает Душу «ложными удовольствиями» (De vera relig. 20, 40). Люди часто считают себя счастливыми, когда после долгой разлуки с любимой Могут прижать к себе ее прекрасное тело; когда в жару и зной находят источник с прохладной водой; когда вдыхают аромат чудесных цветов. Но что может быть блаженнее, когда утоляешь голод и жажду истины, вдыхаешь ее аромат? – риторически вопрошает Августин. Люди радуются пению и музыке, но какое блаженство сравнится с тем, когда тобой овладевает «мелодичное и красноречивое молчание истины». Люди радуются блеску золота и серебра, драгоценных камней и красок, свету огня, звезд, луны и солнца. Блаженная же жизнь заключена в свете истины (De lib. arb. II, 13, 35).
Августин испытывает явное затруднение в окончательном определении блаженства. Он не желает свести его к чувственному удовольствию, ибо считает последнее, как мы увидим далее, низким, но в то же время полагает невозможным и лишить его совершенно чувственно-эмоциональной окраски, ограничить только интеллектуальным наслаждением, полным бесстрастием, бесчувствием. К философскому бесстрастию (άπάθεια, impassibilitas) Августин, как и все христианство, относится настороженно, если не отрицательно вообще. По его мнению, гражданин небесного града, странствуя в этом эоне и живя по божественным законам, страшится и желает, скорбит и радуется, т. е. живет нормальной эмоциональной жизнью; он не бесстрастный мудрец, созерцающий жизнь извне, но ее активный участник, находящийся в самом потоке жизни. Августин отнюдь не считает пороком человеческие чувства и переживания, если они, конечно, направлены на благое дело, ибо и сам Иисус имел их (De civ. Dei XIV, 9), хотя и уверен, что они проистекают от слабости и немощи человеческой. Поэтому, считает он, бесстрастие никак не может быть уделом подлинной жизни. Более того, если под άπάθεια понимать отсутствие всякого движения чувства, то эта оцепенелость хуже всякого порока, «ибо нельзя себе представить блаженства без любви и радости» (XIV, 9). Даже о первых людях, живших в раю до грехопадения, вряд ли уместно думать, что они не испытывали никаких душевных волнений. Они жили с чувством бесконечной любви к Богу и друг к другу, ощущая несказанную радость (XIV, 10). Августин приходит к выводу о необходимости избегать άπάθεια (XIV, 9) и не отказываться от эмоционально-эстетической сферы.
Размышляя о блаженной жизни, Августин не раз задумывался о ее критериях. Практически все стремятся к блаженной (или счастливой) жизни, но откуда они знают о ней? Уже в трактате «О свободном выборе» он приходит к выводу, что основы таких понятий, как «мудрость», «истина», «блаженство», изначально заложены в нашей душе и, не умея, как правило, словами описать их, человек тем не менее имеет некое представление об их сущности (De lib. arb. II, 9, 26). В «Исповеди» Августин добавляет, что понятие о блаженной жизни, видимо, хранится в памяти с древнейших времен, когда человек еще был блаженным (Conf. X, 20, 29).
Перед смертью Моники Августин неоднократно беседовал с ней о вечном блаженстве, стремясь извлечь представление о нем из глубин как своей души, так и прежде всего души матери, находившейся уже у врат Царства и обладавшей большим опытом духовной жизни. В «Исповеди» он пытался описать эти совместные представления: «...Если в ком умолкнет волнение плоти, умолкнут представления о земле, водах и воздухе, умолкнет и небо, умолкнет и сама душа и выйдет из себя, о себе не думая, умолкнут сны и воображаемые откровения, всякий язык, всякий знак и все, что проходит и возникает, если наступит полное молчание... и заговорит Он Сам, один – не через них, а прямо от Себя, да услышим слово Его, не из плотских уст, не в голосе ангельском, не в грохоте бури, не в загадках и подобиях, но Его Самого, которого любим в созданиях Его; да услышим Его Самого – без них, – как сейчас, когда мы вышли из себя и быстрой мыслью прикоснулись к Вечной Мудрости, над всем пребывающей; если такое состояние могло бы продолжиться, а все низкие образы исчезнуть, и она одна восхитила бы, поглотила и погрузила в глубокую радость своего созерцателя – если вечная жизнь такова, какой была эта минута постижения, о которой мы вздыхали, то разве это не то, о чем сказано: «Войди в радость господина твоего» (Мф 25, 21)?» (Conf. IX, 10, 25). Таково одно из образных представлений Августина о сущности блаженной жизни, приближающееся к философскому «экстазу безмыслия», но не лишенное еще ряда эмоционально-эстетических характеристик. В этом специфика и своеобразие августиновского эвдемонизма.
Грядущее вечное блаженство града Божия описывается Августином в конце «De civitate Dei» уже исключительно в эстетической терминологии. Тогда отпадает необходимость в какой-либо телесной деятельности, «наступит полное, несомненное безмятежное и вечное счастье. Не будут уже скрыты все те, расположенные внутри и вне по всему составу тела, числа телесной гармонии... которые в настоящее время скрыты, и вместе с прочими великими и удивительными предметами, которые мы увидим там, будут воспламенять наш разумный дух в похвалу такому Художнику наслаждением разумной красоты (retionabilis pulchritudinis delectatione)» (De civ. Dei XXII, 30). Это наслаждение Августин не забывает постоянно отграничивать от чувственных удовольствий и от наслаждения чувственно-воспринимаемой красотой, ибо хорошо ощущает, что граница эта, проходящая где-то в глубинах души, весьма расплывчата и что определить, где кончаются наслаждения чувств и начинается наслаждение духа, как правило, достаточно трудно.
Чувственные удовольствия, которые так цепко держали в своих сладостных оковах душу и тело юного Августина, в зрелом возрасте расцениваются им в целом как явление негативное и греховное, квалифицируются как похоть и обозначаются обычно термином voluptas; хотя иногда этот термин употреблялся им и для обозначения позитивного удовольствия. Так, в раю до грехопадения первый человек «занимался земледелием не как рабским трудом, но с благородным духовным удовольствием (honesta animi voluptate)» (De Gen. ad_lit. VIII, 9, 18). Со ссылкой на Варрона, а через него и на Эпикура463, Августин указывает, что удовольствие (voluptas) наряду с покоем (quies) лежит в основе тех природных начал, к которым люди стремятся чисто физиологически, без всяких знаний, наук, без обучения (De civ. Dei XIX, 1). Причина удовольствий находится как в теле, так и в душе. Вожделение (concupiscentia) «происходит от них обоих: от души потому, что без нее не ощущается удовольствие (delectatio), от тела же потому, что без него нет самого удовольствия» (De Gen. ad lit. X, 12, 20).
Удовольствия могут возникать на основе всех органов чувств. Особенно греховными и порочными, по мнению Августина, являются тактильные удовольствия, возникающие в результате полового общения, которые в юности представлялись ему верхом блаженства и от которых его так долго не могли оторвать ни поиски истины, ни философия, ни религия. И днем и ночью, и во сне и наяву преследовали его эти удовольствия (Conf. VI, 6, 10). Плотские искушения на протяжении всей жизни не оставляли гиппонского епископа. Исповедуясь в них, Августин разбирает практически все виды чувственных удовольствий.
Прежде всего, пишет он, по ночам его преследуют образы плотских наслаждений и он часто не может удержаться во сне от общения с женщинами; осуждая эту свою слабость, Августин просит Бога освободить его от нее (X, 30, 41–42). Угнетает его и чревоугодие. Пища, особенно после длительного воздержания, доставляет ему большое удовольствие. Еда и питье необходимы для поддержания здоровья, но к ним порой примешивается и удовольствие. А мера у здоровья и удовольствия не одна и та же: что достаточно для здоровья, того мало для удовольствия. При этом бывает трудно определить, где кончаются потребности здоровья и начинаются вожделения чревоугодия (X, 31, 44).
Существуют удовольствия обоняния, но они не очень распространены и не столь опасны для души, поэтому Августин и не уделяет им особого внимания.
Главными из чувственных удовольствий являются, по Августину, удовольствия слуха и зрения. Их он разбирает достаточно подробно, ибо они находятся на границе между чисто плотскими и собственно духовными удовольствиями и бывают как негативными, так, отчасти, и позитивными, когда содержат «следы разума».
Много внимания уделил Августин слуховым удовольствиям в трактате «De musica», и мы еще остановимся на этом в соответствующем месте. Здесь мы затронем лишь рассуждения Августина об этом предмете в «Исповеди».
В молодости его сильно увлекали музыка и пение. Затем он осудил доставляемые ими удовольствия как чувственные и постарался отказаться от них, хотя, исследуя на предмете стихосложения и музыки закономерности их возникновения, он пришел к выводу, что они основываются на «разумных» основаниях, содержат «следы разума». Тем не менее отношение к «удовольствиям слуха» у него постоянно оставалось настороженным, даже когда речь заходила о церковном пении, доставлявшем ему особое удовольствие. «Иногда, мне кажется, я уделяю им (духовным песням. – В. Б.) больше почета, чем следует: я чувствую, что сами святые слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты; плохое пение такого действия не оказывает». Августин начинает осознавать здесь, что эстетическое наслаждение может способствовать благочестию. Однако слишком хорошее знание языческого гедонизма и раннехристианский ригоризм побуждают его осторожно подходить к этому вопросу. Сначала пример Афанасия Александрийского, заставлявшего, по его мнению, «произносить псалмы с такими незначительными модуляциями, что это была скорее декламация, чем пение», представлялся Аврелию более уместным в церкви, чем пение, введенное в Медиолане его духовным кумиром Амвросием. Однако в конце концов эстетическая чуткость берет верх в Августине и он убеждает себя одобрить храмовое пение: «...я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки церковного пения, когда только что обрел веру мою; и хотя теперь меня трогает не пение, а то, о чем поется, но вот – это поется чистыми голосами, в напевах вполне подходящих, и я вновь признаю великую пользу этого установившегося обычая. Так и колеблюсь я, – и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Склоняясь к тому, чтобы не произносить бесповоротного суждения, я все-таки скорее одобряю обычай петь в церкви: пусть душа слабая, упиваясь звуками, воспрянет, исполнясь благочестия» (X, 33). Опасаясь музыкального гедонизма, Августин тем не менее отдает себе отчет, что античная теория музыкального этоса содержит рациональное зерно и в какой-то мере опирается на нее в своих рассуждениях. Она помогает ему отчасти понять причины воздействия церковной музыки на верующего. «Каждому из наших душевных движений, – в лучших пифагорейских традициях пишет Августин, – присущи и только ему одному свойственны определенные модуляции в голосе говорящего и поющего, и они, в силу какого-то тайного сродства, эти чувства вызывают» (X, 33, 49).
Таким образом, «удовольствия слуха» в религиозно-эстетической области, хотя и с осторожностью, принимаются Августином как способствующие в конечном счете достижению блаженной жизни.
Далее автор «Исповеди» переходит к «удовольствиям глаз». Эти удовольствия возбуждаются при созерцании красивых и разнообразных форм, ярких и приятных красок, блеска света в его различных проявлениях, т. е. при созерцании видимой красоты, о которой у нас предстоит еще специальный разговор. Здесь следует только указать на Двойственность отношения Августина и к этим удовольствиям. С одной стороны, он считает их порочными – как удовольствия чувственные и ориентированные на преходящую внешнюю красоту, уводящие человека от истинной красоты; а с другой – ясно сознает, что красота материального мира создана Богом и отражает в какой-то мере божественную невидимую красоту, напоминает нам о ней. Поэтому наслаждение чувственной красотой, если оно является не самоцелью, а лишь путем к абсолютной красоте, может быть допущено и даже поощрено. Это прежде всего относится к природной красоте. Красота искусства ценится Августином меньше, ибо он усматривает в деятельности художника некую конкуренцию с божественным Творцом, но к этому вопросу мы еще будем иметь случай вернуться специально.
Итак, чувственные удовольствия, как отвлекающие человека от духовного служения, в целом не поощряются Августином. Удовольствия слуха и зрения принимаются им только в той мере, в какой они способствуют приобщению к духовным наслаждениям, т. е. помогают человеку от града земного перейти к граду Божию и достичь вечного блаженства, которое по сути своей является также удовольствием или наслаждением, но несравненно более высоким и духовным.
Таким образом, культурология и социология Августина, реализованные в теории двух градов, выдвинули в качестве главного идеала и предела человеческого существования идею блаженства, которая по сути своей является религиозно-эстетическим идеалом. Сущность блаженства, по Августину, составляет бесконечное ничем не ограниченное наслаждение абсолютной духовностью, включающей в себя высшую Истину, высшее Благо и высшую Красоту как нечто единое, неделимое, абсолютно простое. Это не чисто интеллектуальное, но возвышенно-эстетическое наслаждение, высшая степень радости и любви земного человека к духовному абсолюту, воплощенному в его представлении в личностном божестве, с которым возможно интимное глубоко человеческое общение. Блаженство у Августина – главная цель человеческого существования вообще, к которой ведут все пути правильной духовно-практической деятельности человека, и прежде всего пути нравственной, добродетельной жизни, познания истины и постижения красоты. Идеал этот имеет у Августина ярко выраженную эстетическую окраску. Утилитарная, связанная с пользой деятельность граждан земного града – одна из самых нижних ступеней на пути к этому идеалу. Все утилитарное по сути своей и по своему происхождению чуждо миру блаженства. Только абсолютно не заинтересованная в бытовых выгодах высоконравственная жизнь (нравственно-практический путь), чистое познание истины (философский путь) и созерцание красоты (эстетический путь) ведут к блаженной жизни. Богословие, гносеология, этика, эстетика и другие компоненты августиновской теории – не что иное, как всестороннее исследование путей к достижению этого идеала. Исследователь любой из сторон теоретической деятельности крупнейшего представителя западной патристики не должен забывать это, тем более историк эстетики. Эстетизм всего мировоззрения Августина определяется не в последнюю очередь этим идеалом.
Глава III. Не ratio единым
В своем обширном литературном наследии основное внимание Августин уделял главным путям достижения блаженной жизни – философскому (особенно на раннем этапе) и нравственно-практическому, постоянно наполняя и тот и другой эстетическими элементами. Философский путь, как мы уже видели, сводился к познанию Первопричины, нравственно-практический – к организации «правильной», или праведной, жизни.
Здесь нет возможности подробно излагать гносеологию, этику или теологию Августина. Все эти проблемы всесторонне проанализированы в огромной специальной литературе464. Мы ограничимся лишь отдельными аспектами этих проблем, необходимыми для историко-эстетического исследования.
Одной из главных проблем, постоянно занимавших Августина, особенно в ранний период творчества, была проблема познания. Она волновала многих мыслителей поздней античности, но решали они ее по-разному. Ко времени написания своих первых работ Августин, как мы помним, находился одновременно под влиянием двух сильнейших духовных течений того времени – неоплатонизма (Плотина прежде всего) и христианства. От неоплатонизма он уже активно шел к христианству, однако неоплатоническими идеями наполнены все его ранние (да и не только они) трактаты465. Именно неоплатонизм, как считал и сам Августин, указал ему выход из агностицизма скептиков, и под его влиянием он написал свой первый из дошедших до нас трактатов, опровергавший учение скептиков («академиков»), пафос которого сводился к утверждению возможности практически неограниченного познания мира (а отчасти и его первопричины) разумом466.
Однако Августин был человеком своего времени. Характерной же тенденцией всего периода поздней античности являлся кризис рационального мышления, кризис разума как главного инструмента познания. В духовной культуре того времени спекулятивные философские системы уступают место иррациональным течениям, различным религиозным учениям, среди которых религия откровения занимала одно из видных мест. Возрастает интерес к психологии, к эмоционально-эстетической сфере человека. Учение о познании умонепостигаемой Первопричины все чаще покидает сферу дискурсивного мышления, включая в свой арсенал различные непонятийные приемы передачи, хранения и возбуждения самой разнообразной информации, среди которой эстетическая занимала далеко не последнее место467. Конечно, и в античности теория познания никогда не была принципиально разведена с эстетикой468, но теперь этот союз приобретает особый, качественно новый характер, обусловленный сознательным подрывом авторитета разума в период укрепления христианской идеологии.
Не случайно гносеологию раннего Августина венчает красивая притча о философии и филокалии, о которой он позже, правда, отзывался критически (см.: Retr. I, 1, 3), но в которой хорошо выразился дух его философии469. Собственно, и в «Retractaciones» Августин осуждал слишком уж нехристианскую форму притчи, но не отказывался от идеи «филокалии», если под ней понималась любовь к истинной, т. е. духовной, красоте470.
Философия и филокалия имеют сходные названия, т. е. они являются как бы родными сестрами. «Ибо что есть философия?» – спрашивает Августин и отвечает: «Любовь к мудрости. А что такое филокалия? – Любовь к красоте. Спроси у греков. А что такое мудрость? Разве не сама истинная красота? Итак, они поистине родные сестры, рожденные от одного отца; и хотя филокалия совлечена силками сладострастия со своего неба и заперта простонародьем в клетку, сходство имени она все-таки сохранила для напоминания ловцу, чтобы он не презирал ее. И ее-то, бескрылую, опозоренную и нищую, свободно парящая сестра узнает часто, но освобождает редко; ибо филокалия и не знала бы, откуда ведет род свой, если бы не философия» (Contr. acad. Π, 3, 7). Мудрость отождествляется Августином с красотой и возводится в создатели как философии, так и науки «любви к прекрасному» – филокалии. Следуя платоновской традиции, Августин при всем своем уважении к филокалии полагает, что она, как жаждущая лишь чувственной красоты, стремится, как и опирающаяся на нее поэзия, к ложной красоте. Истинная же красота доступна только философии.
Ранние трактаты Августина дышат пафосом поиска и обретения «истинной философии»471. Еще в юности, как мы видели, прочитав «Гортензия» Цицерона, он воспылал любовью к философии, но приятная сердцу юноши житейская суета – любовь прелестной женщины, успехи по службе, светские развлечения долгое время не позволяли ему, как он пишет, полностью отдаться занятиям философией. Когда же он устремился наконец «на всех парусах и веслах в гавань философии», корабль его стали сотрясать не только житейские, но и философские бури. Волны манихейства, скептицизма и платонизма изрядно поиграли им. «И вот, – заключает Августин, – меня охватила такая сердечная боль, что, не имея уже сил переносить тяжесть профессии, которая, может быть, унесла бы меня к сиренам, я бросил все и привел разбитый, весь в щелях корабль в желанное затишье» (De beat. vit. 1, 4), которым оказалась некая «идеальная» философия, созвучная христианству. Эта философия впитала в себя находки всех философских школ древности472. Нашлись, по мнению Августина, проницательные мужи, которые своими рассуждениями показали, что «Аристотель и Платон так между собою согласны, что кажутся противоречащими друг другу только людям несведущим и непроницательным. Таким образом, хотя и за многие века, и в продолжительных спорах, однако, как я думаю, наконец выработана (дословно – отцежена. – В. Б.) единая наука истиннейшей философии». Конечно, это не философия материального мира, которую не принимает христианская религия, но философия мира идеального, интеллигибельного (Contr. acad. III, 19, 42), к которому Августин относит такие общие понятия различных наук, как истина, ложь, единство, вечность, подобие, мудрость, благо, праведность, целомудрие, красота, а также математические понятия. Особое место в нем, как главное его содержание, занимают числа473. Таким образом, «единая система истиннейшей философии» Августина – это эклектическая философия, составленная на основе главных философских систем античности. Особенно активно созданием этой философии занимались греческие христианские предшественники Августина: Климент Александрийский, Ориген, Григорий Нисский. Высоко оценивает Августин и вклад Цицерона в создание этой системы.
Тройственен предмет этой философии. Он заключается в познании порядка и единства универсума, своей души и Бога. Первое и второе – лишь путь к третьему. Но постижение Бога – цель и предмет религии. Соответственно Августин усматривает и два пути из «мрака окружающих явлений» к истине – путь разума (философский) и путь веры, или авторитета (религиозный). «Разум обещает философия, но она освобождает от мрака весьма немногих». Эта «истинная философия» учит тому, что является «безначальным началом» (principium sine principio) всех вещей, и она не пренебрегает тайнами веры, но всячески укрепляет их (De ord. II, 5, 16). Вера, в свою очередь, является важным условием для достижения знания. Как подчеркивает один из современных исследователей, вера понимается ранним Августином не в узкорелигиозном смысле, но скорее как некий «акт воли и знания», предшествующий познанию истины, особый способ гносеологического предвосхищения, задающий направление процессу познания474.
Путь философии – это путь избранных. Он труден и мало кто достигает цели. Проще идти путем авторитета. При изучении наук, безусловно, имеет первенство авторитет, но в отношении существа предмета – разум. Авторитет бывает божественный и человеческий. Первый, естественно, выше и истиннее (9, 26–27). Для необразованных авторитет – единственная сила, ведущая к истине, для образованных – путь к знаниям, к преодолению скепсиса, сила, очищающая Душу, и т.п.475. «Авторитет, – пишет Августин, – требует веры и готовит человека к разуму. Разум же приводит его к пониманию и познанию. Хотя и разум не обходится совершенно без авторитета, когда речь заходит о предмете веры; и совершенно ясно, что высшим авторитетом является познанная и постигнутая истина» (De vera relig. 24, 45). Августин, таким образом, особенно в ранний период, не видит принципиального различия между верой и разумом, полагая их Двумя тесно связанными и взаимопереплетенными механизмами (или инструментами) познания единой истины. У гиппонского мыслителя «разум и вера не являются двумя началами, которые, будучи длительное время разделенными, затем снова встречаются. Разум в вере, вера в разуме. Августину неизвестен конфликт, который должен закончиться порабощением разума. Ему чужды sacrificium intellectus, credo quia absurdum Тертуллиана»476.
Августин раннего периода любит философию так же сильно, как и своего Бога, и верит, что на ее путях можно достигнуть истины. В этом его укрепляет евангельская мысль: «Ищите, и найдете» (Мф 7, 7) (Contr. acad. II, 3, 9)477. За великое счастье почитает он иметь досуг для философствования и, как мы помним, жизнь, «проводимую в философии» называет блаженной (II, 2, 4). Философский оптимизм Августина еще так велик, что он пытается даже защищать скептиков от их собственного агностицизма. Он считает, что и сами «академики» не очень серьезно относились к своему утверждению, что абсолютную истину познать невозможно, но выдвигали его, чтобы сохранить знание в тайне от недостойных. Последователи Платона Полемон и Аркесилай, по мнению Августина, скрыли учение своего учителя от Зенона как недостойного, ибо он признавал существование только материального мира. В народе укрепились эти материалистические тенденции, и «академики» решили, что в такой неблагоприятной обстановке их истины не могут быть усвоены. Поэтому они считали своей главной задачей критику материалистических теорий стоиков, а не изложение «позитивной» философии (см. III, 17, 38).
Этот историко-философский миф, отражавший реальную борьбу материалистических и идеалистических тенденций в античной философии, необходим Августину для укрепления авторитета его философии интеллигибельного, берущей начало в глубинах греческой мысли. Непрерывность философской традиции выступает у Августина важным критерием истинности философии. Поэтому, в целом не разделяя скепсиса «академиков», он в то же время и не желает исключать их теорию из общей картины развития идеалистической философии, но пытается объяснить ее борьбой философских направлений. Вслед за раннехристианскими апологетами Августин, для которого почти вся античная философия была уже историей, сознательно отмечает борьбу в ней материалистического и идеалистического направлений. Вся его неприязнь, конечно, направлена против материализма стоиков. Однако при определении мудрости, любовь к которой Августин ценит выше всего, он использует традиционную стоическую формулу (Arnim. Stoic. vet. fragm. II, 35; 36), заимствуя ее у Цицерона (De fin. Π, 37; De orat. I, 212): «мудрость – это знание дел человеческих и божественных» (Contr. acad. I, 6, 16), способствующее достижению «жизни блаженной» (I, 8, 23). В приобретении мудрости усматривает ранний Августин жизненный идеал, следуя в этом лучшим традициям античной философии. Здоровье, добрые друзья, жизненное благополучие и. наконец, сама жизнь необходима ему лишь для создания наиболее благоприятных условий к приобретению мудрости (Solil. I, 12).
С другой стороны, он хорошо сознает, что и прекрасные женщины, и служебная карьера преграждают путь к истинной мудрости. Быть мудрым, замечает он в одном из писем, значит «умереть для этого мира» (Ер. 10, 3), уйти из мира, чтобы созерцать истину о нем со стороны. Здесь Августин находится еще всецело под влиянием античных традиций. Мудрость для него – это «отыскание истины, ведущее к достижению блаженной жизни» (Contr. acad. I, 9, 24). Истина же (заключена в мире духовном, и мудрость поэтому прежде всего – постижение вещей интеллигибельных478, ведущее в последней инстанции к познанию Первопричины. Мудрость, заявляет Августин, «является не чем иным, как истиной, в которой познается и достигается высшее благо» (De lib. arb. II, 9, 26), или Первопричина. Но так как путь к высшему благу начинается с самопознания, то в ранний период Августин уделял особое внимание sapientia «как пониманию своего собственного способа бытия»479.
В философской системе Августина мудрость является центральным, ключевым понятием480. Она тесно связана у него с такими категориями, как истина (veritas), блаженство (beatitudo), высшее благо (summum bonum), знание (scientia). Относительно последнего понятия интересно заметить, что у раннего Августина scientia выступала составной частью sapientia и ее необходимой предпосылкой481. При этом под scientia имелось в виду дискурсивное познание (ratiocinari), опирающееся на эмпирические данные, а под sapientia – духовное видение (intelligere) неизменных предметов вечного интеллигибельного мира482. Это гносеологическое различие Августин сформулировал позже (De Trin. XII, 15, 25; De div. quaest. II, 2, 3), отделив scientia от sapientia. Мудрость относится им к высшему уровню разума (ratio superior), а scientia – к низшему (ratio mferior)483. Scientia как знание «дел человеческих» лежала в основе всех наук. Но если на раннем этапе Августин считал, что без знания наук мудрость, познание истины и блаженная жизнь недостижимы, то позже он отказался от этой идеи484. Теперь sapientia – знание только божественных предметов, которое возможно без scientia. Таким образом, Августин-теолог, стремясь максимально дифференцировать предмет религиозного знания, фактически намечает путь к секуляризации культуры.
Мудрость, с другой стороны, как мы помним, тождественна высшей красоте, и эстетическая окраска мудрости характерна для всех философских трактатов Августина. Призывая любить «чистейшую красоту» мудрости, он сравнивает ее с прекрасной женщиной, которая отвечает взаимностью только тому, кто любит лишь ее одну. Мудрость, как и красоту, любят не ради какой-либо утилитарной цели, но только ради нее самой (Solil. I, 13, 22). Она – «единственное и истиннейшее благо», некий «невыразимый» и непостижимый умственный свет» (I, 13, 23), особая «мера духа» (modus animi) (De beat. vit. 4, 32). Красота, свет, мера также тесно связаны с мудростью, как истина или знание. Эстетика и гносеология нашли у Августина в этом понятии общий знаменатель.
Итак, философ занимается поиском истины и, став мудрым, может ее достигнуть. В этом, как подчеркивает Августин, состоит различие между ним и скептиками. Последние считали, что истину познать нельзя, Августин же полагает, что хотя она лично им еще и не найдена, «но может быть найдена мудрым» (Contr. acad. III, 3, 5). Этим гносеологическим оптимизмом пронизано все творчество раннего Августина. Вторая книга «Монологов» начинается молитвой: «Боже, пребывающий всегда одним и тем же, пусть я узнаю себя, пусть я узнаю Тебя! Я помолился» (Solil. II, 1, I)485. Истина пребывает вечно (II, 2), но не в преходящих вещах, а в предметах бессмертных, поистине существующих (I, 15, 29). Принадлежностью же тварного, преходящего мира, полагает Августин, является не сама истина (veritas), но ее производная – истинное (verum). Истинное не может существовать без истины, но оно рождается и гибнет, никак не влияя на нее. Весь тварный мир истинен, но не вечен и, следовательно, не содержит, но только отражает истину. Последняя пребывает в сфере божественной мудрости486, «множественной в простоте и единообразной в многообразии» (De civ. Dei XII, 18)487, которую Августин понимал как платоновскую страну идей – «невидимые и неизменяемые смыслы (идеи) предметного мира» (XI, 10; De div. quaest. 46, 2)488. Истина поэтому будет существовать и после гибели материального мира.
Августин объединяет истину с сущностью (essentia). Она является «первой сущностью» и как таковая не имеет ничего противоположного себе. «Ибо всякая сущность есть сущность не почему-либо иному, как потому, что она существует. Существованию же противостоит только несуществование. Поэтому сущности противоположно ничто (nihil)» (De immort. anim. 12, 19). Соответственно и «ложность» (falsitas) не имеет истинного бытия. Это онтологический аспект истины.
В гносеологическом плане Августин оперирует больше понятием «истинное» (verum), которому противопоставляет «ложное» (falsum) или «истиноподобное» (verisimile). Именно «в подобии истинному обитает ложность» (Solil. II, 6, 12). Во внешнем сходстве с истинным заключается суть ложного суждения. Ложным, по мнению Августина, называется лишь то, что «или выставляет себя тем, чем оно не является, или всеми силами стремится быть, но не есть» (II, 9, 16). Первый вид ложного имеет два подвида – «лживый» (fallax) и «неистинный» (mendax). Под fallax Августин имеет в виду намеренную ложь, стремление обмануть или скрыть истину, любое ложное суждение. Это негативная категория в его гносеологии. Mendax – тоже ложь, но производимая не с целью обманывать, а, скажем, для возбуждения чувства удовольствия. Она не носит негативной окраски в системе Августина и практически полностью помещается им в эстетическую сферу, в сферу искусства, которое основывается на «неистинном», с точки зрения формально-логического мышления. Вплетая в свою гносеологию эстетическую проблематику, Августин поднимает здесь ряд важных для истории эстетики вопросов, в том числе проблему вымысла и истины в искусстве, на которых подробнее мы остановимся в главе «Искусство».
Частичное перенесение решения проблемы истины в область эстетического позволило Августину выйти в теории познания за узкие рамки дискурсивного мышления. Показав, что ложное, с точки зрения формальной логики, может оказаться «истинным» в другом отношении именно благодаря своей формально-логической «ложности», Августин одним из первых в истории философии сознательно поставил вопрос об особых, отличных от дискурсивных формах если не мышления, то, во всяком случае, передачи и хранения знания. К подобной трактовке проблемы он смог прийти прежде всего на основе анализа искусства, как особой формы отображения действительности. И именно этот подход позволил Августину, как мы увидим, впервые в истории эстетики найти общее между различными видами искусства – изобразительными искусствами, театром и литературой.
Возвращаясь к теории познания Августина, вспомним, что мудрость есть знание истины. Знание же это в конечном счете абсолютно, так как объект познания вечен и неизменен и является источником и первопричиной всего преходящего и изменяющегося. Гносеология Августина имеет две основные ступени – подготовительную, на которой познаются «дела человеческие», и главную, ориентированную на познание абсолюта, «таинственнейшего Бога». Первая ступень включает формально-логическое, научное познание мира и морально-нравственное совершенствование человека, ибо «знанием дел человеческих является то, которое знает свет благоразумия, красоту умеренности, силу мужества, святость справедливости» (Contr. acad. Ι, 7, 7, 20). На второй – и главной – ступени Августину приходится перейти в область религиозно-эстетического познания и заменить философскую терминологию на эстетическую. Философский агностицизм поздней античности рано привел Августина к убеждению, что «высший Бог... лучше познается незнанием» (scitur melius nesciendo) (De ord. II, 16, 44), т. е. показал ему ограниченность дискурсивного мышления и направил в сферу иррационального опыта, что привело в свою очередь к эстетизации процесса познания, которой подверглась также и первая его ступень.
Интересными в этом плане представляются нам наблюдения над соотношением чувственного и духовного у раннего Августина. Он традиционно различает чувственное (sensibilia), или «телесное» (carnalia), познание и умственное (intelligibilia), или духовное (spiritualia) (De mag. 12, 39; ср.: Solil. I, 3, 8). В душе, соответственно, имеются две части, высшая из которых связана с умом, а низшая – с чувствами и памятью (De ord. Π, 2, 6). Чувством или чувственным восприятием, по определению Августина, является испытываемое телом состояние, не укрывающееся, однако, благодаря все тому же телу и от души (De quant. anim. 25, 48; 30, 58)489. Чувственное познание мало интересует христианского мыслителя, и здесь он во многом разделяет плотинорские идеи. Оно выступает рабом интеллигибельного познания, на которое и устремляет все свое внимание Августин. Именно посредством разума (ratio) и знания, «которые несравненно превосходнее чувств», как полагает он, душа возвышается над телом (De quant. anim. 28, 54). Разум возносит человека над всем животным миром и предоставляет ему возможность общения с Богом.
Августин дает много определений разума, но, с точки зрения гносеологии, пожалуй, наиболее значимым является следующее: «Разум (ratio) есть взор души, которым она сама, без посредства тела, усматривает истинное; или он есть самое созерцание истинного без посредства тела; или он есть само истинное, которое созерцается» (De immort. anim. 6, 10). Это тройственное определение разума, как инструмента, процесса и объекта познания, показывает, что Августин понимает под разумом некую всеобъемлющую неизменную интеллигибельную сущность души, имеющую практически единственную функцию – гносеологическую. По отношению к уму разум предстает тем же, чем взгляд по отношению к глазам, т. е. познавательной, или умозрительной, способностью. Но если зрительное, как и любое чувственное, созерцание направлено во внешний мир и объект этого созерцания определен конкретным пространством и временем, то объект интеллигибельного познания заключен в самом познающем уме и не ограничен определенным местом (6, 10). Таким образом, чувственное познание направлено вовне (foris), а «умственное» (cognitio intellectualis) – внутрь (intus) субъекта познания490. Отсюда более важным для Августина, как и для всего христианства, является познание не внешнего материального мира, но познание человеком самого себя, своего внутреннего мира. Ведь разум – это и само «истинное», заложенное Богом в человека. А следовательно, лучший путь поиска истины заключается в ответах самому себе на свои же вопросы (Solil. II, 7, 14), к чему часто и прибегает Августин. Его «Исповедь» представляет собой великолепный образец вдохновенного самопознания, самопостижения. Однако это самопознание принципиально отлично от психологически-субъективистской рефлексии человека Нового времени, хотя и является ее прообразом. Погружаясь в глубины своего внутреннего мира, августиновский субъект познания ищет там не оригинальные, неповторимые черты и стороны своей личности, но следы объективной истины. Погружаясь в себя, он должен преодолеть все индивидуальное, относящееся к его личной неповторимости; в самопогружении он должен «превзойти самого себя» и выйти к абсолютной, трансцендентной истине. Августиновский призыв: «Превзойди самого себя!» (Transcende teipsum – De vera relig. 39) – становится лейтмотивом его концепции самопознания.
Чувства, как правило, являются источником ложных суждений, ибо люди, обольщаемые внешним сходством, нередко принимают «истиноподобное» за истинное. Поэтому Августин предостерегает излишне доверять чувственному познанию даже в постижении внешнего мира (Solil. II, 6, 12). Лучший результат дает «разумное познание» (cognitio rationalis) (De Trin. XII, 25) внешнего мира, которое основывается как на данных чувственного познания, так и на опыте «умственного» познания491.
Чувственное восприятие располагается у Августина на одной из низших ступеней, по которым дух, постигая материю, поднимается к божеству. Он различает семь таких ступеней, или степеней (gradus), «могущества души». Первая ступень – «одушевление» (animatio), присущее растениям. Вторая – чувство (sensus), связанное с ощущением; иногда душа, отделившись от «чувства», произвольно перебирает полученные образы вещей, создавая сновидения, образы памяти; эта ступень соответствует животному миру (включая и человека). Остальные пять ступеней относятся только к душе человека. Третья – искусство (ars) – некая творческая потенция души, способствующая созданию всего запаса культурных достижений человечества: наук, искусств, государственного устройства и т. п. Эта ступень – общая для душ ученых и неученых, добрых и злых. Четвертая – добродетель (virtus): здесь берет начало доброта и все, достойное похвалы; душа начинает осознавать себя и отделять от всего телесного. Пятая – покой (tranquillitas): душа очищается, освобождается от тления и, уверившись в себе, устремляется к Богу, т. е. «к самому созерцанию истины». Шестая – вступление (ingressio): душа приступает к созерцанию истины, вступает в область божественного; и, наконец, седьмая – созерцание (contemplatio): высшее состояние души, когда она пребывает в видении и созерцании истины, достигая «виновника бытия, или высочайшего начала всех вещей».
Восходя последовательно, ступень за ступенью, от чувственного восприятия к созерцанию, душа достигает наконец единения с абсолютной истиной, обретая радость и «наслаждение высшим и истинным благом, дыханием его безмятежности и вечности». И наслаждение это неописуемо словами (De quant. anim. 33, 70 – 35, 79). Таким образом, последняя ступень (или «степень могущества») души близка к тому, что мы сегодня назвали бы эстетическим наслаждением, а в терминологии Августина именуется блаженством. Она описывается им в эстетических терминах и фактически представляет собой непонятийную, неформализуемую ступень его гносеологии. Наслаждение, испытываемое душой на этой ступени, – результат обретения особого высшего знания, по сравнению с которым любое другое знание – ничто: «В созерцании истины, насколько каждый в состоянии ее созерцать в ее частях, такое наслаждение, такая неподдельность, такая несомненная Достоверность вещей, что каждый полагает, что, кроме этого, он никогда ничего не знал, хотя и казался самому себе знающим» (33, 76). Связав высшую ступень с эстетической сферой, Августин и всю лестницу познания осмысливает в эстетической терминологии, полагая, что всем ступеням присуща своя «определенная и своеобразная красота» (distincta et propria pulchritudo) (34, 78). Под этим углом зрения и семь ступеней могут быть последовательно обозначены так: «прекрасное из другого; прекрасное через другое; прекрасное относительно другого; прекрасное к прекрасному; прекрасное в прекрасном; прекрасное к красоте; прекрасное перед красотою» (35, 79)492. Высшая истина и божество предстают здесь в облике красоты (pulchritudo), и познание сводится к постижению красоты. Отсюда понятно и наслаждение на седьмой ступени.
В другом раннем трактате у Августина намечается концепция иерархической передачи прекрасного от высших ступеней к низшим. «Внешний» вид, облик (species) любой ступени души отражает соответственно в той или иной мере высшую красоту: «Считается, что, по естественному порядку, вид, принятый от высочайшей красоты, слабейшим передают сильнейшие» (De immort. anim. 16). Таким образом, объект познания у Августина практически постоянно493 отождествляется с высшей, истинной красотой, а познание сводится к эстетическому созерцанию.
Сама проблема ratio рассматривается Августином в различных аспектах, среди которых интеллектуальный и эстетический преобладают и тесно переплетены между собой.
В собственно гносеологическом плане Августин, опираясь на цицероновскую традицию, различает разум (ratio) и умозаключение, или рассудочное суждение (ratiotinatio). Разум всегда присущ здравому уму, а умозаключение – не всегда, ибо «разум есть своего рода взгляд ума, а умозаключение – разумное исследование, т. е. движение этого взгляда по всему подлежащему обозрению» (De quant. anim. 27, 53). Когда ум с помощью разума видит предмет, это называется знанием (scientia), если не видит, хотя и напрягает взор, – незнанием (27, 53). Разум является основой мыслительной деятельности человека, это «движение ума, способное разделять и объединять то, что подлежит изучению» (De ord. Π, 11, 30), т. е. разум прежде всего – основа дискурсивного мышления (ratiocinari). Но Августин не ограничивается этим и показывает, что разум лежит в основе всей сознательной или разумной деятельности человека. При этом он, ссылаясь на традицию, восходящую «к ученейшим мужам прошлого», различает два вида разумного: rationale и rationabile. Первый относится к субъекту и показывает, что субъект обладает разумом, который может быть использован в его деятельности. Второй вид означает свойство объекта, созданного с помощью разума; это нечто «разумно организованное». У раннего Августина этот термин удобнее всего переводить как «рациональное» или «целесообразное», имея в виду разумную организацию объекта494. Так, бани или наша речь могут быть обозначены как целесообразные (rationabiles), а строители их или мы, говорящие, – как разумные (rationales). «Итак, разум от разумного души переходит в рациональное [объекта], т. е. в то, что делается или говорится» (П, 11, 31).
Августин различает три рода предметов, в которых обнаруживается рациональное. Во-первых, – в действиях, направленных к какой-либо цели, во-вторых, – в любых формах словесного выражения и, в-третьих, – в удовольствиях (in delectando). Первое связано с морально-нравственной стороной человеческого бытия, второе и третье – с широким кругом наук и искусств; при этом третий аспект подразумевает «блаженное созерцание» (II, 12, 35), наиболее последовательно связываемое Августином с высшими ступенями познания и с эстетической сферой. Поэтому, что характерно для всего стиля мышления раннего Августина, он переносит свои рассуждения в плоскость эстетического, хотя и понимает rationabile в более широком плане. Рациональное – это отражение в структуре вещи творческого разума, следы разума в чувственно воспринимаемых предметах. К таким предметам он относит, однако, лишь произведения людей, воспринимаемые зрением или слухом. Так, «когда мы видим что-либо образованным из взаимно соответствующих (congruentibus sibi) частей, мы не без основания говорим, что оно является рациональным (rationabiliter). Точно так же, слыша какое-нибудь стройное пение, мы без колебаний заявляем, что оно звучит целесообразно (rationabiliter sonat)» (Π, 11, 32)495. Однако было бы смешным, считает Августин, сказать: «рационально пахнет», «имеет рациональный вкус» или «рациональную мягкость». Rationabile имеет отношение только к предметам зрительного и слухового восприятия и, более того, является источником удовольствия (voluptas), возникающего при таком восприятии. «Что касается предметов зрительного восприятия, то все, в чем наблюдается рациональное соответствие частей, обычно называется прекрасным. Относительно же звуковых предметов, когда мы находим созвучие рациональным и размеренное пение построенным разумно, то [возникающая] приятность (suavitas) называется уже своим собственным именем. Но ни о прекрасных вещах, пленяющих нас только цветом, ни о звонком и чистом звуке струны не принято говорить, что они рациональны. Остается, следовательно, сказать, что в наслаждении, доставляемом этими чувствами (зрением и слухом. – В. Б.), мы признаем относящимся к разуму то, в чем проявляется некоторая размеренность и стройность (dimensio... atque modulatio)» (II, 11, 33).
Таким образом, рациональное в творениях рук человеческих сводится у Августина к чисто эстетическим характеристикам объекта – размеренности, стройности, соответствию частей, ориентированным на возбуждение чувства удовольствия, наслаждения у субъекта восприятия. Это понимание распространялось Августином на все виды искусства. В архитектуре ratio имеет связь с симметрией и пропорциональностью, в поэзии – с соразмерностью и т. п. Но не только формальные достоинства произведений искусства отражают в них Деятельность разума. В тех видах творчества, которые имеют не только гедонистическую ориентацию, но направлены и на воплощение какого-то содержания, смысла, рациональным (rationabile), по мнению Августина, в первую очередь является их содержательный компонент. Так, «когда пляшет актер пантомимы, то хотя различные движения его членов радуют глаз все той же размеренностью, однако если все его жесты представляются внимательным зрителям знаками тех или иных предметов, то его танец называется рациональным потому, что он хорошо означает и показывает нечто, без всякого отношения к доставляемому наслаждению чувств» (II, 11, 34).
Форма и содержание, по мнению Августина, должны соответствовать друг другу. Если изобразить Венеру крылатой, а Купидона одетым в плащ, то при всей размеренности и согласованности движений и целостности композиции зрелище будет оскорблять глаз. Ибо глаз передает информацию духу, который и осознает смысл изображенного, в данном случае – его нелепость. «Итак, одно – ощущение, другое – то, что получается посредством ощущения; красивое движение услаждает ощущение, а посредством ощущения красивый смысл движения услаждает дух». Подводя итог своим рассуждениям о рациональном в искусстве, Августин на примере поэзии показывает, что, хотя содержание в ней передается только с помощью формы, тем не менее мы с различных точек зрения хвалим размер и смысл «и не в одном и том же значении говорим: разумно звучит и разумно сказано».
Разум у Августина изобретатель всех наук и искусств, и rationabile составляет их основу, при этом, как было показано, в большой степени эстетическую. Посредством находящегося в людях rationale разум изобрел, в частности для передачи мыслей и чувств, слова, т. е. «некоторые служащие знаками звуки» (II, 12, 35). И в своей знаковой теории, как мы увидим далее (см. гл. IX), Августин сближает гносеологию и эстетику, что представляется вполне закономерным в системе его познания. В период поздней античности именно эстетическое сознание предоставляло ищущему разуму наиболее оптимальный выход из тупиков понятийного мышления.
В зрелый период с углублением Августина в христианство философско-эстетическая окраска его гносеологии постепенно сменяется на религиозную, в которой преобладающую роль продолжают играть эмоциональные моменты. Меняется понимание им ряда основных гносеологических проблем и категорий; складывается окончательное представление о главном и высшем объекте познания – Боге.
Идея Бога как высшего духовного начала с детства жила в душе Августина. В процессе его духовного развития менялись конкретные представления о Боге, но сама идея оставалась неколебимой. В бурных перипетиях жизни, в период юношеского горения чувств, буйства страстей и игры честолюбивых помыслов где-то в глубинах его души жила тоска по высокой духовности, жажда чистого и абсолютного духа. Она и гнала его по извилистым дорогам позднеантичной духовности в поисках абсолютной истины.
Мы помним, что неоплатонизм помог Августину отказаться от чувственных представлений о божестве, а символически-аллегорический подход Амвросия к ветхозаветным текстам показал ему путь к духовному пониманию библейского Бога. Развитие понятия Бога продолжалось на протяжении всей его духовной деятельности. Отметим некоторые характерные моменты эволюции этого главного понятия августиновской философии.
На раннем этапе литературной деятельности у Августина преобладал философский подход к проблеме Бога, опиравшийся прежде всего на идеи Плотина и Цицерона, хотя и прилагаемый к христианскому Богу. В «Монологах» Бог выступает «отцом истины, отцом мудрости, отцом истинной и высшей жизни, отцом блаженства, отцом добра и красоты, отцом интеллигибельного света» (Solil. I, 1, 2). «Бог, по Августину, есть блаженство, в котором и чрез которое блаженно все, что блаженно. Бог – добро и красота, в котором, от которого и чрез которого добро и прекрасно все, что только добро и прекрасно. Бог – умный свет, в котором, от которого и чрез которого разумно сияет все, что сияет разумом» (I, 1, 3). Удалиться от Бога – значит умереть, а обитать в нем – жить. Это «единый Бог, единая вечная истинная сущность, где нет никакого различия, никакого смешения, никакого перемещения, никакого недостатка, никакой смерти; где – высшее согласие, высшая очевидность, высшее постоянство, высшая полнота, высшая жизнь» (I, 1. 4). Абсолютно неизменная и постоянная сущность Бога стремится привести к этому состоянию (ибо в нем истина и блаженство) и весь подвижный и изменчивый мир явлений. Постоянным круговращением веков Бог придает ему «подобие неподвижности» (I, 1, 4). Бог является «безначальным началом» всех вещей (De ord, Π, 5, 16) и «высшей мерой» всего существующего (De beat. vit. 4, 34); он – причина всего существующего, «всякого соответствия и согласия» (De mus. VI, 8, 20), высшая истина и единство, абсолютная неописуемая красота (De ord. Π, 19, 51) и т. п.
Этот философский трансцендентализм в понимании Бога, восходящий к неоплатоникам496, сохранится у Августина и в дальнейшем. Однако уже в ранних его трактатах начинают звучать и новые ноты в определении Бога, присущие только христианству, – это ощущение Бога как личности, в чем-то очень близкой и родственной человеку, с которой можно поговорить по душам, перед которой можно излить все свои горести, сомнения, рассказать о своих сокровенных помыслах и быть уверенным, что тебя услышат, поймут, пожалеют и простят. Особой силы звучания эта интимно-личностная сторона Бога достигает в «Исповеди», этом откровенном разговоре души с Богом.
Вот один из типичных примеров обращения Августина к своему высокому собеседнику: «Разве это не великое несчастие не любить Тебя? Горе мне! Скажи мне по милосердию Твоему, Господи. Боже Мой, что Ты для меня? «Скажи душе моей: я – спасение твое». Скажи так, чтобы я услышал. Вот уши сердца моего пред Тобой, Господи: открой их и скажи душе моей: «Я спасение твое» (Пс 101. 28). Я побегу на этот голос и застигну Тебя. Не скрывай от меня лица Твоего: умру я, не умру, но пусть увижу его.
Тесна храмина души моей, чтобы Тебе войти туда: но Ты расширь ее. Вся она – в развалинах: но Ты восстанови и обнови ее. Знаю и сознаюсь, что много в ней нечистот, которые могут оскорбить Твой взор; но кто очистит ее? ...Позволь все-таки говорить: к милосердию Твоему, не к человеку, который осмеет меня, обращаюсь я. Может быть, и Ты посмеешься надо мной, но, обратившись ко мне, пожалеешь меня» (Conf. I, 5, 5 – 6, 7). Бог, способный пожалеть обездоленного горемыку, – это, конечно, новый мотив в духовной культуре, чуждый античным философским представлениям о Боге.
В «Исповеди» Августин продолжает сознательно развивать и образ абсолютного Бога, как предел всех мыслимых идеалов; Творца всего и Вседержителя, вмещающего в себя и все человеческое, даже «слишком человеческое»: «Высочайший, Благостнейший, Могущественнейший, Всемогущий, Милосерднейший и Справедливейший; самый Далекий и самый Близкий, Прекраснейший и Сильнейший, Недвижный и Непостижимый; Неизменный, Изменяющий все, вечно юный и вечно старый, Ты обновляешь все и старишь гордых, а они того и не ведают; вечно в действии, вечно в покое, собираешь и не нуждаешься, несешь, наполняешь и покрываешь; творишь, питаешь и совершенствуешь; ищешь, хотя у Тебя есть все. Ты любишь и не волнуешься; ревнуешь и не тревожишься; раскаиваешься и не грустишь; гневаешься и остаешься спокоен; меняешь Свои труды, и не меняешь совета; подбираешь то, что находишь, и никогда не теряешь; никогда не нуждаешься и радуешься прибыли; никогда не бываешь скуп и требуешь лихвы. Тебе дается с избытком, чтобы Ты был в долгу, но есть ли у кого что-нибудь, что не Твое?» (I, 4, 4). «Ты создаешь нас, Господи, Ты, для которого нет разницы между бытием и жизнью, ибо Ты есть совершенное Бытие и совершенная Жизнь. Ты совершенен, и Ты не изменяешься: у Тебя не проходит сегодняшний день, и, однако, он у Тебя проходит, потому что у Тебя все; ничто не могло бы пройти, если бы Ты не содержал всего. И так как «годы Твои не иссякают» (Пс 101, 28), то годы Твои – сегодняшний день. Сколько наших дней и дней отцов наших прошло через Твое сегодня» (I, 6, 10).
Августин дает сложный, внутренне антиномичный образ Бога, который одновременно предельно недосягаем и абсолютен и, с другой стороны, максимально близок миру, присущ ему, пронизывает его во всем, постоянно печется и заботится о каждой его мелочи, и прежде всего, конечно, о спасении грешного человечества, удалившегося от своего Творца, забывшего его. Стремление объединить в Боге все идеальное, предельно духовное и возвышенное с чем-то очень человечным, интимным, до слез родным и близким побуждает Августина и глубинную сущность Бога писать земными красками: «Что же, любя Тебя, люблю я? Не телесную красоту, не временную прелесть, не сияние вот этого света, столь милого для глаз, не сладкие мелодии всяких песен, не благоухание цветов, мазей и курений, не манну и мед, не члены, приятные земным объятиям, – не это люблю я, любя Бога моего. И, однако, я люблю некий свет и некий голос, некий аромат и некую пищу и некие объятия – когда люблю Бога моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека – там, где душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, который время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром, где пища не теряет вкуса при сытости, где объятия не размыкаются от пресыщения. Вот что люблю я, любя Бога моего» (X, 6, 8). Христианство уже до Августина нашло определенное разрешение проблемы трансцендентальности и имманентности Бога в образе Христа и в идее триединства Бога, и Августин с «Исповеди» начинает все более последовательно обращаться к христологическому и тринитарному вопросам.
На долю Христа выпало реализовать приобщение грешного человечества к вечной жизни, спасение его, и Августин остро переживает этот важнейший мистический акт религиозной истории: «Сюда спустилась сама Жизнь наша и унесла смерть нашу и поразила ее избытком жизни своей. Прогремел зов Его, чтобы мы вернулись отсюда к Нему, в тайное святилище, откуда Он пришел к нам, войдя сначала в девственное чрево, где с Ним сочеталась человеческая природа, смертная плоть, дабы не остаться ей навсегда смертной, и «откуда Он вышел, как супруг из брачного чертога своего, радуясь, как исполин, пробежать поприще» (Пс 18, 6). Он не медлил, а устремился к нам, крича словами, делами, смертью, жизнью, сошествием, восшествием, – крича нам вернуться к Нему. Он ушел с глаз наших, чтобы мы вернулись в сердце наше и нашли бы Его. Он ушел, и вот Он здесь; не пожелал долго быть с нами и не оставил нас. Он ушел туда, откуда никогда не уходил, ибо «мир создан Им» и «Он был в мире» (Ин 1, 10) и «пришел в этот мир спасти грешников» (1Тим 1, 15) (IV, 11, 19).
На спасение мира было направлено творческое начало Бога – его «вечно пребывающее в безмолвии Слово», которое является «вечным разумом» и началом всего, главной истиной и Учителем. Оно «совечно Богу» и бессмертно. Этим Словом все вызывается из небытия к бытию, им сотворен мир. Именно Слово воплотилось и благовествует нам в Евангелиях, т. е. стало доступным для чувственного восприятия людей (XI, 6, 8–8, 10). Августин хорошо сознает, что только «воплотившийся» Бог становится действительно доступен людям, ибо, пишет он, на чисто духовную «пищу» даже у него не хватало сил, но Христос «смешал ее с плотью, ибо «Слово стало плотью» (Ин 1, 14), дабы мудрость Твоя, которой Ты создал все, для нас, младенцев, могла превратиться в молоко» (VII, 18, 24).
Иисус Христос, неоднократно отмечает Августин, со ссылкой на ап. Павла (1Тим 2, 5), потому и был истинным и единственным посредником между Богом и людьми, что имел «нечто подобное Богу и нечто подобное людям». Он – праведен как Бог и своей праведностью умертвил смерть и, одновременно, – смертен как люди (X, 43, 68). Более того, Христос явился среди грешных и подверженных смерти людей в «зраке раба», смиренным и униженным. Беспредельную возвышенность Бога он объединил в себе с глубочайшим смирением (humilitas) и полным уничижением (infirmitas). Долго не понимал Августин смысла и значение этого удивительного и почти непостигаемого для греко-римского мышления поступка Бога: «Я, сам не смиренный, не мог принять смиренного Иисуса, Господа моего, и не понимал, чему учит нас Его уничиженность. Он, Слово Твое, Вечная Истина, высшее всех высших Твоих созданий, поднимает до Себя покорных; на низшей ступени творения построил Он себе смиренное жилище из нашей грязи, чтобы тех, кого должно покорить, оторвать от них самих и переправить к Себе, излечить их надменность, вскормить в них любовь; пусть не отходят дальше в своей самоуверенности, а почувствуют лучше свою немощь, видя у ног своих Божество, немощное от принятия кожной одежды нашей; пусть, устав, падут ниц перед Ним, Он же, восстав, поднимет их» (VII, 18, 24). Глубины уничижения, таким образом, потребовались Богу для более тесного и полного контакта с людьми. При этом «образ раба» (forma servi) (Флп 2, 7) отнюдь не умалил в нем «образа Бога» (forma Dei) (Enchirid. 35), но способствовал тому, что Христос взял на себя всю вину и весь грех и искупил их своей позорной смертью на кресте (Enchirid. 49 – 50; De civ. Dei X, 24). Именно в силу этого «образа раба» Христос и мог стать истинным посредником497, совмещая в себе одновременно и жертву, и священника, приносящего эту жертву Себе самому (De civ. Dei X, 6). Для верующих он является и целью – как Бог, и путем к этой цели – как человек (Conf. XI, 2).
В своих главных работах зрелого периода, письмах и проповедях Августин много внимания уделял тринитарной проблеме. Все последние тридцать лет жизни он размышлял над этим вопросом, что нашло отражение практически во всех его основных трудах того времени, и прежде всего в специальном фундаментальном исследовании «О Троице», над которым он работал не менее двадцати лет. Находясь долгое время под сильным влиянием плотиновских идей о Едином и о начальной Триаде498, Августин последовательно стремился объединить их с библейским понятием личностного Бога. Особенно тяжело давалось ему христианское представление об одновременном единстве и троичности простого и неделимого Бога. Верность античной логике долго не позволяла ему принять эту антиномию в ее принципиально противоречивой данности. Чтобы убедить самого себя в ее истинности. гиппонский мыслитель всесторонне изучил под этим углом зрения Св. Писание и сотворенный мир, и особенно внимательно – внутренний мир человека, его духовную сферу. На многих страницах «De Trinitate» он приводит цитаты из Библии, часто не очень убедительные, в доказательство триединства Бога (кн. I-IV), затем подробно исследует догматическую формулу триединства (кн. V-VII) и, наконец, весь материальный и особенно духовный мир представляет в виде бесконечной совокупности триединств, являющихся, по его мнению, наглядными образами и неопровержимым доказательством изначального триединства Первопричины (кн. VIII-XV).
Духовный мир человека в силу его духовности значительно ближе стоит к Богу, чем материальный, и является поэтому близким (более похожим) образом божественной Троицы. Путем длинных, порой достаточно утомительных объяснений Августин стремится представить все процессы человеческой психики (восприятие, познание, мышление и т. п.) состоящими из трехчленов, объединенных некоторым внутренним единством. В акте любви: любящий, любимое и любовь; в человеческом духе: дух, самопознание и самолюбовь; память, понимание и воля; в акте зрительного восприятия: объект зрения, само видение и внимание души; в акте представления: память, внутреннее видение и воля; в способности человеческого духа: помнить, созерцать и любить Бога – во всех этих и им подобных триединствах499 усматривает Августин следы и образы божественной Троицы, стремясь убедить и себя, и своих читателей в том, «что Отец, Сын и Св. Дух – один Бог, творец и управитель созданного мира, что Отец – не Сын, и что Св. Дух – не Отец и не Сын, и что это – Троица соотносимых друг с другом лиц и единство равной сущности» (De Trin. IX, 11).
Отмечая в «Исповеди», что быть, знать и желать (esse, nosse, velle) в человеке являют собой некое подобие Троицы, он подчеркивает, что этот образ все же очень далек от оригинала, который не может быть постигнут разумом: «Троичен ли Бог по причине этих трех свойств, или в каждом Лице имеются эти три свойства, так что троично каждое Лицо, или, в том и другом случае, Троица, дивным образом простая и многообразная, закончена в Себе и бесконечна, и потому Она и есть и знает Себя и неизменно полна в обилии и величии своего единства? Кому это легко понять? Как рассказать? Кто осмелится объяснить каким бы то ни было образом эту тайну? (Conf. XIII, 11, 12). Сам Августин очень желает все же хоть как-то понять это (не зря же nosse и velle составляют для него основу человеческой жизни); но ох как трудно постигать умонепостигаемое! Мысль о том, что божественное триединство, христианская Троица – одновременно «неслиянна и нераздельна) (neque confusam, neque separatam) (De Gen. ad lit. VIII, 19, 38), долго усваивается гиппонским приверженцем античной мудрости и требует от него длинных объяснений и многочисленных примеров – аналогий500.
Неугомонный разум христианского философа не дает покоя его религиозной вере и требует постоянных объяснений и доказательств, которые принципиально чужды вере. Одна из окончательных формул Бога сводится у Августина к следующему: «Троица – это единый Бог, из которого все, чрез которого все, в котором все (Rm. 11, 36), это Отец и Сын и Дух Святой – каждый в отдельности Бог и все вместе – единый Бог; каждый в отдельности полная сущность и все вместе – единая сущность. Отец не есть ни Сын, ни Дух Святой; Сын не есть ни Отец, ни Дух Святой; Дух Святой не есть ни Отец, ни Сын; но Отец есть только Отец, и Сын – только Сын, и Дух Святой – только Дух Святой. Все три равным образом есть вечность, есть неизменяемость, есть величие, есть сила. В Отце – единство, в Сыне – равенство, в Святом Духе – согласие единства и равенства (unitatis aequalitatisque concordia); и эти три – все едины благодаря Отцу, все равны благодаря Сыну, все соединены благодаря Св. Духу» (De doctr. chr. I, 5, 6). Это, конечно, формула умонепостигаемого (т. е. описываемого на формально-логическом уровне) божества, но составлена она (как и многие другие у Августина) все-таки с ориентацией на разум, на предельно возможное в рамках антиномизма понимание ее сути человеком. Крайний алогизм и предельный иррационализм веры, так рельефно продемонстрированные на латинской почве еще Тертуллианом, остались чужды гиппонскому мыслителю. Однако и он должен был выйти далеко за пределы ratio, чтобы утвердить окончательную истину: эта предельно простая, но умонепостигаемая Троица обитает внутри каждого человека. «Ты же был во мне глубже глубин моих и выше вершин моих» (interior intimo meo et superior summo meo) (Conf. III, 6, 11).
Узрение внутри себя Бога побудило Августина особенно пристально вслушиваться в еле уловимые движения души, в труднодоступные для наблюдения процессы внутренней жизни человека. В дальнейшем мы еще не раз будем иметь случай использовать результаты этих наблюдений, ибо они оказались значимы как для августиновской гносеологии, так и для его эстетики. Здесь имеет смысл остановиться только на одном доказательстве бытия Божия Августином, отличном, как отметил еще И. В. Попов, от традиционных в раннем христианстве доказательств и имеющем прямое отношение к эстетике. Красота и целесообразность мира заставляют его думать не только о причине этой красоты (что можно наблюдать у большинства философов и церковных писателей), но дают своеобразный ход его мыслям. «Красота и разумность природы, – писал И. В. Попов, – служит для него лишь поводом обратиться к своему внутреннему миру, чтобы в нем узреть Бога. Одобряя одни вещи и порицая другие, мы производим их оценку. Это обстоятельство побуждает нас подумать, на чем основана эта оценка. Углубляясь с этой целью в область своего мышления, мы находим, что колеблющаяся и изменяемая деятельность нашего ума в оценке вещей опирается на неизменяемые и вечные принципы. Эти последние и есть та Божественная Истина, бытие которой нужно было доказать»501.
Определяя так сложно и так многоразлично главный объект религиозного ведения, Августин вносит в зрелый период и существенные дополнения, и изменения в свою теорию познания.
Прежде всего, происходит постепенная трансформация представлений Августина о мудрости.
Если на раннем этапе у него преобладало философское понимание человеческой мудрости, сводящееся к «поиску истины, в которой достигается блаженная жизнь» (Contr. acad. I, 9, 24), или к самой «истине, в которой познается и постигается высшее благо» (De lib. arb. Π, 9, 26), то с началом его церковной деятельности на первый план выступают новые, религиозно-библейские аспекты мудрости, ориентированные уже не на знание и разум, но на иррациональные уровни человеческого духа. Не вдаваясь в подробности, тщательно исследованные в специальной литературе, и в частности в цитированной работе В. Штейна, отметим, что теперь в своем понимании мудрости Августин все больше использует ветхозаветные представления, не отказываясь при этом от гносеологических идей греко-римской античности. Мудрость понимается им как «страх Божий» (timor Dei)502, как «благочестие» (pietas) (Conf. V, 5, 8; VIII, 1, 2; Aduct. in Job 5; Enchirid. 2), как «богопочитание» (cultus Dei) (De Trin. XIV, 1, 1; Ep. 155, 5). Cultus Dei включает в себя познание Бога и любовь к нему (Ennar. in Ps. 135, 8; De Trin. XIV, 12, 15). Любовь к Богу (caritas Dei, amor Dei) становится главнейшим признаком мудрости. Мудрец – это прежде всего amator Dei, человек, посвятивший всего себя Богу. «Умереть для этого мира» ради высокой любви к идеалу становится важной препосылкой мудрости (Ер. 10, 3). Любовь же к Богу неразрывно связана с «подражанием» ему (imitatio Dei) (De util. cred. 15, 33), т. е. с определенным образом жизни, ведущим к достижению мудрости, усматриваемой Августином в «созерцании вечных вещей» (contemplatio aeternorum) (De Trin. XII, 14, 22; 15, 25; XV 3,5). Мудрость, таким образом, переносится постепенно Августином из философской сферы в религиозную, где главными ее атрибутами становятся этически-эстетические принципы – почитание, любовь, подражание, созерцание. По-новому осмысливаются им теперь и семь ступеней подъема к высшей мудрости (De doctr. chr. II, 7, 9 – 11).
Первой ступенью в соответствии с известной библейской мыслью (Пс 110, 10) Августин полагает страх Божий, который возбуждает в людях мысли о смерти, смиряет их гордость. Второй ступенью выступает благочестие (pietas), прививающее людям кротость и побуждающее их верить учению Писания. Третья ступень – знание (scientia), основу которого составляет изучение библейских текстов, прежде всего на предмет изыскания в них и усвоения двух главных заповедей: любви к Богу ради самого Бога и любви к ближнему ради Бога.
Любить Бога следует всем сердцем, всей душой, всем разумом; а ближнего – как самого себя, т. е. таким образом, чтобы эта любовь, как и любовь к самому себе, вела к Богу, а не являлась самоцелью.
Страх, принятый на первой ступени, располагает человека к скорби и слезам, и, чтобы не впасть в отчаяние, он путем молитв с божественной помощью стремится достичь четвертой ступени – силы (fortitudo), которая наполняет его жаждой праведности. В этом расположении духа он отрешается от смертоносного наслаждения преходящими чувственными благами и обращает всю любовь свою на блага вечные, т. е. к «неизменяемому единству в Троице».
Троица предстает верующему неким дальним лучезарным сиянием, и человек начинает ощущать, что по слабости своего зрения он не в состоянии объять этот свет во всей его полноте. Он стремится очистить свою душу, еще обуреваемую чувственными помыслами, и достигает этого на пятой ступени, в совете милосердия (consilium miserocordiae). Здесь его любовь к ближнему достигает такой силы, что он обретает способность любить своего врага. Духовные совершенства его настолько возрастают, что он поднимается на шестую ступень – чистоты сердца (purgatio cordis), где очищается его внутреннее зрение и он обретает способность видеть Бога в той мере, которая доступна всем, порвавшим с земным миром, т. е. с обыденными заботами земного бывания; ибо «Бога можно видеть... постольку, поскольку мы умираем для этого мира, и нельзя видеть постольку, поскольку мы живы для этого мира. И поэтому [по мере удаления от мира] видение того света (сияния) начинает казаться более знакомым, и не только более терпимым, но и более приятным». Но и на этой ступени божественный свет усматривается как бы сквозь темное стекло, ибо полное видение недоступно жителям этого мира. На шестой ступени искатель мудрости так очищает свое внутреннее око, что выше всего (даже выше своего ближнего и, соответственно, себя самого) начинает любить истину. В этом состоянии его можно уже считать святым, ибо он не уклоняется от истины ни ради угождения людям, ни из желания избежать невзгод земной жизни. Только такой человек достигает высшей, седьмой, ступени – самой мудрости, которой он наслаждается в мире и покое503.
Эти семь ступеней, как мы видим, существенно отличаются от «лестницы», описанной в трактате «О количестве души». Если там главный акцент делался на эстетически-гносеологическом характере духовного совершенствования (по ступеням прекрасного), то здесь – на нравственно-религиозном. Однако сущность восхождения к высшей мудрости остается в принципе той же. Основу ее составляет достижение абсолютной истины, притом достижение, как и там, отнюдь не на путях разума и философского мышления, но внутри особым образом организованной экзистенции, где главное значение имеют моральная и духовная чистота и любовь504. Эти с древних времен важнейшие понятия человеческой культуры заняли теперь видное место в августиновском мировоззрении и прежде всего в его теории познания.
Процесс познания представляется Августину состоящим в целом из трех этапов: 1. Чувственное познание; 2. Разумное (рациональное) познание и 3. Сверхразумное постижение505. Объект познания при этом складывается из двух частей: тварного мира во всей его полноте и его Первопричины, творца и управителя – Бога. Чувственное познание (подробнее на нем мы остановимся в гл. X) имеет отношение только к сотворенному миру, сверхразумное постижение – в основном только к Богу, а рациональное познание – как к миру, так и к Богу.
На раннем этапе духовного развития Августин, как мы помним, был твердо уверен, что путь к постижению Бога лежит через познание мира, т. е. основывается на усвоении совокупного опыта всех наук. В гиппонский период он убеждается, что светские науки, особенно естественного цикла, мало способствуют религиозному познанию. Соответственно и познание «физического» мира излишне для человека веры. Ему «нет надобности исследовать природу вещей, наподобие тех, кого греки называют физиками» (Enchirid. 9; ср.: Ер. 147). На основании такого рода высказываний некоторые исследователи склонны считать, что у Августина познание мира и познание Бога – пути диаметрально противоположные506. Однако с этим вряд ли можно согласиться. При всей своей высокой духовности Августин был все-таки слишком сильно привязан к миру, в котором он видел великолепное произведение божественного Художника. Поэтому он был просто не в силах противопоставить путь познания произведения познанию самого художника или оставить без внимания это совершеннейшее произведение.
Конечно, рядовому христианину можно и не вникать в тонкости физики или медицины. С него достаточно и простой веры в Бога. Более того, как мы видели, мудрец должен умереть для мира, но «умереть» – в смысле отказаться от суетных влечений, забот и потребностей мира, но не от его разумного постижения и усмотрения в нем Первопричины. «Ведь не может быть познания, – пишет Августин в одном из своих главных трактатов позднего периода (явно не без платоновского влияния), – если ему не предшествует познаваемое, которое существует в Слове, которым все сотворено прежде, чем во всем том, что имеет быть. Поэтому человеческий ум сначала исследует с помощью телесных чувств то, что существует (facta sunt), и составляет о нем представление в соответствии с человеческой слабостью; а потом отыскивает его причины, если только в состоянии дойти до них, первоначально и неизменно пребывающие в Слове Божием, и таким образом видит разумом невидимое в том, что имеет бытие» (De Gen. ad lit. IV, 32, 49). Здесь Августин руководствуется известной мыслью ап. Павла: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим 1, 20). На эту же мысль Павла Августин ссылается и в другом месте: «Апостол сказал, что мы приходим к постижению невидимого присутствия Творца чрез созерцание всего видимого нами в творении» (De spirit. et lit. 2, 12).
Отказываться от познания тех или иных явлений физического мира иногда приходится не из-за бесполезности такого познания, но исключительно в связи с его большой трудностью. И здесь мы сталкиваемся с интересным парадоксом религиозной гносеологии. Бог, как духовная сущность, оказывается нам более близким, чем многое в материальном мире, ибо по причине своей материальности это «многое» слишком удалено от нашего ума, очень «несходно» с ним. А еще в античной гносеологии общим местом было утверждение, что «сходное познается сходным». Многие же явления материального мира оказываются недоступными нашему восприятию, и для нас закрыто познание их в идеях Бога. «Отсюда происходит, что постижение [созданных вещей] труднее, чем Того, от кого они имеют бытие, хотя чувствовать благочестивым умом Его присутствие в самой малейшей частице бесконечно блаженнее, чем познать всю вселенную. <...> Ибо основания земли неизвестны для глаз наших, а основавший землю близок нашему духу» (De Gen. ad lit. V, 16, 34). Поэтому у Августина, как практически и во всей патристике, возникает двойственное отношение к познанию мира. С одной стороны, мир греховен, и надо бежать его и всех его соблазнов; он трудно познаваем и далек от Бога, так что вроде бы нет смысла в трудах по его постижению. С другой же – он творение Бога, плод его мудрости и организован по законам этой мудрости, познав которые можно приблизиться и к познанию самого Творца. Мысль Августина постоянно колеблется между этими крайностями, не отлетая слишком далеко в мир трансцендентных абстракций, но и не увязая в трясине бытовых мелочей. В частности, он регулярно обращается к наблюдениям за окружающей действительностью и делает нередко интересные обобщающие выводы507.
Так, к примеру, рассматривая законы логического мышления, он приходит к заключению, что они вытекают из закономерностей развития природы: «Сама же истина соединения [мыслей] не изобретена людьми, но только подмечена и воспринята ими для того, чтобы с ее помощью можно было учить и учиться; [сама] же она заложена в вечной идее (ratione) вещей и установлена Богом» (De doctr. chr. II, 32, 50). Так же и математические законы не установлены людьми, но только найдены ими как существующие объективно независимо от человеческой воли (II, 38, 56). Истина не создается мыслью человека. Она существует объективно, в частности в законах, по которым организован материальный мир. Разум человека только находит эту истину в мире. При этом разобраться в истинности найденных законов ему помогает «свет истины», заложенный в его «внутреннем человеке» самим Богом (ср.: In Ioan. 3, 15). Сомнения, возникающие в человеке при суждении о том или ином предмете, и являются, по мнению Августина, важным указателем нахождения критерия истинности внутри него самого: «всякий, кто сознает себя сомневающимся, сознает истинное и уверен в том, что в данном случае сознает: следовательно, уверен в истинном. Отсюда всякий, кто сомневается в существовании истины, в самом себе имеет нечто истинное, на основании чего он не должен сомневаться; ибо истинное бывает истинным не иначе, как от истины. Итак, тот не должен сомневаться относительно истины, кто почему бы то ни было мог сомневаться. Там, где видим мы это, действует свет, не ограниченный пространством и временем и свободный от любых подобных призраков» (De vera relig. 39, 74).
Эмпирический способ познания мира – лишь один из путей приобретения знаний. Помимо него человек может получить их от других людей (обучением), из глубин своей памяти и непосредственно от Бога (Conf. I, 6, 9). В последнем случае знания являются наиболее истинными, если человек оказывается в состоянии их воспринять.
Августин различает познание вещи в ней самой и ее познание в вечной Истине. Идеальным является второе (De Trin. IX, 6, 11). Оно осуществимо только с помощью божественной благодати. Полученные таким образом от вечной Истины знания содержатся внутри нас в виде некоего «внутреннего слова», которое лежит в основе любого произнесенного слова и в основе любого действия (IX, 7, 13).
Здесь нет смысла останавливаться на всех моментах сложной гносеологии Августина. Этому вопросу посвящено много специальных работ508. Для нас важно, что Августин видел всю сложность этой проблемы и понимал, что познание как мира, так и его Первопричины осуществляется далеко не только на путях дискурсивного мышления. Практически все самые сложные компоненты человеческого духа участвуют в этом важнейшем духовном процессе. При этом информация приобретается не только в словесной форме, а, как правило, вообще не связана с ней. Слова – лишь один из классов знаков (см. подробнее гл. IX) для обозначения «внутреннего слова», которое у Августина выступает отнюдь не подобным словам нашего языка, но скорее некоторым образом. Знания, и особенно глубинные, априорные, содержатся внутри нас, полагает Августин, не в словесной форме, но в особых образах, для которых далеко не всегда удается подобрать адекватное словесное выражение. Как правило, в непонятийной форме приходит к людям и божественное знание. Поэтому Августин вынужден в своей теории познания постоянно обращаться к непонятийным и чаще всего к эмоционально-эстетическим элементам.
В частности, важную роль в процессе выяснения истинности, адекватности и возможности усвоения знания играет у Августина античное понятие подобия, сходства, ибо сопоставление образов возможно прежде всего по этому принципу. Отсюда становится ясным, почему «подобное познается подобным». Ведь при отсутствии какой-либо степени конгруэнтности между объектом и субъектом познания отсутствует и возможность образной коммуникации, т. е. возникновения знания. «Каждое знание, – утверждает Августин, – по сути подобно (similis) предмету, который оно знает». Процесс познания в какой-то мере отождествляется с процессом уподобления. Так, душа наша по Мере постижения Бога становится подобной ему. Но это подобие никогда не достигает полного совпадения, равенства, так как человек Никогда не может познать Бога, как Бог знает себя. При познании Бога мы становимся лучше, чем были до того, особенно если это знание нам нравится. Внутри нас возникает «подобие Бога», которое и возвышает нас. Подобие это, естественно, ниже Бога, так как оно проявилось в более низкой природе. Когда же мы с помощью органов чувств познаем предметы материального мира или вспоминаем о них, то в нашей душе также возникают «подобные» образы, которые являются отображением реальных вещей. В силу того, что они реализуются в душе и их природа более высока, чем сами предметы, эти образы лучше самих предметов. Наконец, возможен случай, когда дух наш познает самого себя, т. е. имеет дело с природой не низшей и не высшей себя. «А если знание имеет подобие с той вещью, которую знает, т. е. чьим знанием оно является, то при таком [знании], когда познающий ум знает себя самого, подобие становится совершенным равенством», а знание – образом и словом (IX, 11, 16). Сходство или подобие образов становится теперь важным критерием истинности знания.
Видное место в теории познания Августина занимает, как мы уже указывали, понятие любви (caritas, amor, dilectio)509.
Задаваясь вопросом, что движет человеком, когда он стремится к познанию того, что он еще совершенно не знает, Августин приходит к выводу, что таким двигателем выступает любовь к знанию и к той действительности, которую он стремится познать. Конечно, он ее еще совершенно не знает, а любить неизвестное невозможно. Возникает же эта любовь на основе знания других предметов и любви к ним и, главное, – знания «красоты знания», которое живет практически в каждом разумном человеке (X, 1, 1–3). О силе любви к знанию говорит Августин и в другом месте: «А как велика любовь к знанию и насколько природа человеческая не желает обманываться, можно понять из того, что всякий охотнее желает горевать, владея здравым умом, чем радоваться в состоянии помешательства» (De civ. Dei XI. 27).
В целом понятие любви у Августина, как и вообще в патристике, достаточно далеко выходит за рамки собственно гносеологии и традиционно составляет основу христианской этики, но если вспомнить, что христианство выдвигает главной целью человеческой жизни вечное блаженство (см. гл. II), которое есть не что иное, как постижение, познание высшего блага или Первопричины, а любовь выполняет главные функции на пути к этой цели, являясь основой самого блаженства, то вряд ли будет так уж неуместно рассматривать эту категорию в гносеологическом контексте.
Раннее христианство, как и Августин, в определенном смысле его завершитель, видит новое отношение к миру и новое мировоззрение пронизанными идеей любви. Толкуя слова псалма: «Воспойте Господу песнь новую» (Пс 95, 1), Августин указывает, что эту песнь петь можно молча, ибо она есть любовь: «...любовь сама есть голос к Богу: сама любовь есть новая песнь. Слушай, что есть новая песнь: Господь говорит: «Новую заповедь даю я вам, чтобы вы любили друг друга» [In. 13, 34] (Enar. in Ps. 95, 2). Есть два вида любви, разъясняет Августин в толковании на другой псалом, одна земная, нечистая, плотская, увлекающая человека ко всему преходящему, а в результате – в глубины ада. Другая – любовь святая, которая поднимает нас к высотам, воспламеняет жажду вечного, непреходящего, неумирающего. Она возвозит нас из глубин ада на небо. Каждая любовь обладает своей силой. Земная, как клей на крыльях, не позволяет летать. Надо очистить крылья от этого клея и взлететь с помощью двух заповедей: любви к Богу и любви к ближнему, – в небо, в обители горнего Иерусалима. В Песни Песней есть великолепные слова: «Сильна как смерть любовь», но любовь, полагает Августин, в некотором смысле сильнее смерти, так как она умерщвляет нас, грешных, и возрождает для новой жизни (Enar. in Ps. 121 praef.).
В предшествующей главе мы уже видели, что любят, по Августину, или для пользы, или ради удовольствия. Первая любовь – путь ко второй. Только бескорыстная любовь доставляет истинное наслаждение – к ней-то и должен стремиться человек в своей жизни. Две главные заповеди, утверждает Августин, составляют основу всего христианского закона: любовь к Богу и любовь к ближнему. Он многократно цитирует те места из Нового Завета, где сформулированы эти заповеди (см.: De Trin. VIII, 7, 10). «Иисус сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим»; сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Мф 22, 37–40). «Но кто любит Бога, тому дано знание от Него» (1Кор 8, 3). «Ибо весь закон в одном слове заключается: «люби ближнего твоего, как самого себя» (Гал 5, 14). «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал 6, 2). «Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от Бога; и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога; кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог есть любовь... Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1Ин 4, 7 – 8; 20). Именно эти новозаветные идеи убеждают Августина в том, что всеобъемлющая любовь должна составлять основу жизни и главный стимул познания мира и его Первопричины. Истинная любовь ведет к познанию Бога, а такой любовью, вторит Августин Новому Завету, «является то, что мы, держась истины, праведно живем и презираем все смертное, кроме любви к людям, в которой мы желаем, чтобы они вели праведную жизнь» (De Trin. VIII, 7, 10).
В другом месте он соединяет любовь к ближнему с состраданием: «... в чем бы ни выражалась наша деятельность среди людей, она Должна быть проникнута состраданием и самой искренней любовью» (De cat. rud. 17, 1). Любовь к людям у Августина не довлеет себе, она лишь путь к Богу, и он постоянно подчеркивает это. В период поздней античности человечество пришло к идее гуманизма практически в современном смысле этого слова510. Однако совершенно бескорыстная любовь к человеку была еще не доступна и не понятна людям того сурового времени. Идея гуманизма была понята и принята, однако, далеко не всеми и не сразу (процесс этот длится уже многие столетия), да и то лишь как освященная божественным авторитетом, как путь к высокой духовной цели. Христианство призывает любить себя самого и своего ближнего, как самого себя. Но ведь человек изначально любил себя, да и некоторых из своих ближних. Однако это была любовь эгоистическая, корыстная, плотская, лишенная высокого духовного идеала, гуманизма. Августин классифицирует такую любовь как вожделение (cupiditas) и противопоставляет ей любовь духовную и добродетельную, любовь, имеющую возвышенную устремленность. «Любовью (caritas), – пишет он, – я называю стремление души наслаждаться Богом ради него самого, а собою и ближними – ради Бога; вожделением же – стремление души любить себя и ближнего, и всякий иной предмет не ради Бога. <...> Чем более разрушается царство вожделения, тем более укрепляется царство любви» (De doctr. chr. III, 10, 16). Вожделение – это любовь, направленная на тварный мир ради него самого, а чистая любовь (caritas) имеет своей конечной целью Творца (De Trin. IX, 8, 13).
В истории человеческой культуры настал момент, когда человек осознал себя настолько высоко, что мог почувствовать, что главным двигателем человеческих взаимоотношений должна стать любовь, и он начал активно внедрять эту идею в практику социальной жизни, что возможно только под эгидой божественного авторитета. Старые боги греко-римского пантеона не годились для этой цели. Нужен был новый бог, значительно более возвышенный и авторитетный, чем древние боги, и одновременно обладающий всеми эмоционально-психологическими характеристиками человека, – нужен был Богочеловек, который бескорыстно полюбил бы всей глубиной своего человеческого сердца ненавидящих его людей, погрязших в своих страстях и преступлениях; безвинно претерпел бы ради этих людей и от их рук страдания; пошел бы, наконец, ради любви к ним на позорную смерть от их же рук и этой любовью искупил бы их грех; нужен был Иисус Христос – материальное воплощение бескорыстной, духовной любви к людям, чтобы их черствые сердца возгорелись бы наконец этой любовью, почувствовали ее красоту и силу. Эта любовь, чтобы утвердиться в сердцах людей, должна была заполнить собой все существо человеческое, все сферы его практической жизни и духовной деятельности. Теория и практика многих раннехристианских деятелей была направлена на реализацию этой великой идеи, оставшейся на многие века мечтой и утопией человечества, пребывающего в постоянной вражде с самим собой. Социальная действительность поздней Римской империи никак, естественно, не могла способствовать развитию идеала всеобъемлющей любви. Августину, как и другим христианским идеологам, находившимся на службе у Империи, приходилось прилагать немало усилий, чтобы приспособить этот идеал к несовместимой с ним жестокой действительности. Чаще, однако, его приходилось оставлять в сферах чистой теории, собственно идеальной духовной жизни, уповая на его реализацию лишь в грядущем Царстве блаженной жизни. На уровне человеческого бытия христианская философия нередко ставила понятие любви значительно выше разума. У Августина эти две категории стоят, пожалуй, на одной, но самой высокой ступени, дополняя друг друга.
Разум, как известно с древнейших времен, был связан в представлениях философов (и Августин здесь не исключение) с умом, любви же отводилась сфера сердца, под которой имели в виду не мыслящую, но «чувствующую» часть человеческого духа. Она никак не связана с органами чувств, но составляет как бы некие тайные глубины духа – чрево духа. Сердце (сог) поэтому активно вводится Августином в его теорию познания, причем как главный орган богопознания. Ведение Бога возможно не разумом, но любящим сердцем (см. Ер. 147; In Ioan. ev. 74, 4). Для того, чтобы сердце было способным к постижению Творца всего, оно должно быть очищено. «Очищение сердца» (purgatio cordis) – первый этап на пути к абсолютному знанию511. И. Ратцингер проследил эволюцию этого важного понятия в процессе духовного развития Августина512, в ранних трактатах которого оно носит ярко выраженный неоплатонический характер и, по сути дела, мало чем отличается от того духовно-душевного «очищения», которое греки называли катарсисом. У Августина под влиянием неоплатонизма это понятие глубоко спиритуализировалось и стало означать очищение души ото всяческих материальных устремлений и побуждений, ее одухотворение (De ord. II, 19, 50)513, восхождение от материального мира к духовному, наконец, – путь духовной аскезы.
В период священнической деятельности Августин, не отказываясь от своего раннего понимания очищения, разрабатывает как бы его следующую ступень уже в чисто христианском духе. Истинную чистоту сердца Августин усматривает теперь не в духовной свободе от материи и не в ритуальной культовой чистоте (как у древних евреев), а в духовном смирении, уничижении (humilitas) и в послушании (oboedientia). Мы помним, что эти новые черты духовного склада принес людям, вернее, показал их величие, сам Богочеловек, и они теперь осознаются как важнейшие факторы purgatio cordis. «Humilitas u oboedientia, – пишет И. Ратцингер, – два новых мотива, которые начинают звучать теперь и заступают место голого спиритуализма. Бедственное положение человека также понимается теперь несколько по-иному: беду человека Августин видит уже не просто в том, что он, стоя на одной из нижних ступеней эманации, обременен материей, а в том, что в нем скрыт образ Бога, и скрыт прежде всего под superbia (высокомерием. – В. Б.), которое выступает главной характеристикой философов, являющихся, несмотря на их духовность, нечистыми перед Богом из-за их гордости, так что Бог противостоит им. Так произошло одно из значительных изменений в картине мира и [в понимании] человека. Место онтологического дуализма материи и духа занял теперь этически-исторический дуализм: superbia – humilitas»514. Главное несчастье человека заключается не в его обремененности материей, но в невзыскательности его духа. Ему нужна теперь не духовная аскеза, но аскеза послушания515.
Полное очищение осуществляется с помощью божественной благодати, схождение которой возможно лишь на путях бескорыстной любви к Богу (caritas Dei). Очищение способствует переходу веры в знание. Рассуждая о «символе веры», Августин пишет: «Немногие слова символа внушены верным, чтобы чрез веру они повиновались Богу, [и], повинуясь, праведно жили, очищали сердце, а очистив сердце, понимали то, во что верят» (De fid. et symb. 25). Таким образом, очищение сердца является необходимым этапом на пути религиозного познания. В целом оно включает у Августина три ступени: 1) обращение от «внешнего человека» к внутреннему; 2) уничижение и смирение духа; 3) любовь к Богу516. На этих ступенях максимально выявляется желание человека постигнуть Первопричину, и она сама может снизойти к нему, «просветив» его своим светом.
Здесь, на высшей своей ступени, теория познания Августина далеко отходит от философского ratio и опять теснейшим образом переплетается с эстетикой и замыкается ею, ибо понятия света и просвещения (иллюминации) в христианском мировоззрении в не меньшей мере принадлежат эстетике, чем гносеологии.
Метафизика света занимала видное место в мировоззренческих системах практически всех древних народов как на Востоке, так и в греко-римском регионе. Для нас важно, что в эстетическом ключе она рассматривалась уже в библейских текстах, Филоном Александрийским, гностиками и ранними христианами. Много внимания метафизике света уделил Плотин и другие неоплатоники, важную роль свет играл и в манихейской теории. Поэтому Августину не требовалось что-либо изобретать в этой области. Ему достаточно было выбрать из богатого, разнообразного материала предшествующей культурной традиции то, что больше всего подходило к его теории.
Августин различает два рода света (см.: De Gen. ad lit. imp. 5, 19–25): сотворенный и несотворенный. Последний – это божественный свет, от которого произошел весь тварный мир. Сотворенный делится, в свою очередь, на три вида: 1) видимый свет; 2) свет души, благодаря которому осуществляется чувственное восприятие материального мира, и 3) умственный, или духовный, свет разума. Видимый свет, прежде всего свет солнца и других небесных светил, способствует выявлению красоты видимого мира, доставляя человеку несказанное удовольствие. «И сам царь красок, – исповедуется Августин, – этот солнечный свет, заливающий все, что мы видим, где бы я ни был днем, всячески подкрадывается ко мне и ласкает меня, хотя я занят другим и не обращаю на него внимания. И он настолько дорог, что если он вдруг исчезнет, то его с тоской ищешь, а если его долго нет, то душа омрачается» (Conf. X, 34, 51).
Видимый свет лежит в основе зрительного восприятия, ибо лучи света, достигая глаза, способствуют возникновению зрительного образа. Более того, Августин считает, что свет лежит в основе и четырех других видов чувственного восприятия, но там он выступает не в чистом виде, но в смеси или с «чистым воздухом», или с «воздухом мрачным и туманным», или с «плотной влагой», или с «земляной массой» (De Gen. ad lit. XII, 16, 32). Однако для чувственного восприятия недостаточно только этого видимого света. Оно осуществляется только при встрече его со светом, исходящим из души воспринимающего субъекта (подробнее на этом моменте мы останавливаемся в гл. X). Этот свет постоянно находится в душе человека независимо от наличия у него тех или иных органов чувственного восприятия (зрения, слуха и т. п.). В его отсутствие наступает полная бесчувственность (insensualitas) (De Gen. ad lit. imp. 5, 24; ср. также: De Gen. ad lit. III, 5, 7; VII, 15, 21).
Третий, и самый высокий вид тварного света, присущий только людям и ангелам, – духовный свет, лежащий в основе всей духовной жизни человека. Он постоянно интересовал Августина как особый свет разума и мудрости, которым обладали все великие мудрецы, как библейские, так и греко-римские. Это высший дар Бога, которого жаждет всякий стремящийся к истине и в котором только и открывается Первопричина.
Мудрость, по определению раннего Августина, «есть некий невыразимый и непостижимый свет умственный» (Solil. I, 13, 23), и к этому свету страстно желал «воспарить» юный африканский учитель красноречия из тьмы обыденной жизни (I, 14, 24). Мысленный свет – это «свет истины», его «нельзя ни видеть чувственным зрением, ни мыслить в связи с каким-либо пространственным протяжением, но он нигде не покидает ищущих и нет ничего несомненнее и яснее его» (De vera relig. 49, 96; ср. также: 39, 73). В этом свете человек созерцает все духовные истины, им он просвещается (illuminare) и наслаждается (De mag. 12, 40). Все духовные истины, в частности законы чисел, сияют этим светом (De ord. II, 14, 41). Люди представляются Августину светильниками, в которых с большей или меньшей силой горит духовный свет (In Ioan. ev. 23, 3), а ангелы – самим духовным светом, ибо, «просвещенные светом, которым сотворены, они сделались светом и названы днем по причастности неизменному свету и дню, который есть Слово Божие» (De civ. Dei XI, 9)517.
Духовный свет присущ не только людям и ангелам – он составляет творческую и одновременно познавательную силу Сына Божия, его Слова, которым все было сотворено. Так, библейский акт шестидневного творения мира в одном из толкований Августина предстает единым процессом творения-познания мира первоначально сотворенным духовным светом. При этом вечер и день творения трактуются как особые этапы познания. Вечер понимается как познание светом себя самого, некоторых своих свойств и сотворенной части мира в ней самой, а день – как прославление Бога, получение от него знания новых родов творения (познание в Слове Божием), сознание их; вечер – это и познание созданной твари в ней самой, а новый день – хвала за нее Богу и т. д. в течение шести дней (De Gen. ad lit. IV, 22, 39).
Духовный свет явился жизнью для людей. «Итак, та жизнь, через которую все получило бытие, сама жизнь есть свет, и не всех живых существ, но «свет человеков», – поясняет Августин евангельскую фразу о божественном Слове: «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин 1, 4). Именно этот свет, полагает Августин, видели библейские праотцы и пророки. «О Свет, который видел Товит, когда с закрытыми глазами указывал сыну дорогу жизни и шел впереди него ногами любви, никогда не оступаясь; который видел Исаак очами, отяжелевшими и сомкнутыми от старости: ему дарована была милость не благословить сыновей, узнав их, но узнать, благословив; который видел Иаков, лишенный в преклонном возрасте зрения, когда лучами света, наполнявшего его сердце, озарил в сыновьях своих предреченные племена будущего народа; когда возложил на внуков своих от Иосифа руки, таинственно перекрещенные; отец их, смотревший земными глазами, пытался поправить его, но Иаков действовал, повинуясь внутреннему зрению. Вот он, настоящий свет, единый, и едины все, кто его видит и любит. Этот же земной свет... приправляет своей соблазнительной и опасной прелестью мирскую жизнь слепым ее любителям» (Conf. X, 34, 52).
Свет этот исходит от самого Бога, который является высшим нетварным светом (Contr. Faust. XX, 7).
Божественный свет понимается Августином в смысле, близком к плотиновскому, и он сам указывает на это (De civ. Dei X, 2). Это труднопостигаемый свет, который может быть лишь изредка усмотрен внутри души в минуты высшего экстатического озарения. «Я вошел (в глубины свои. – В. Б.), – пишет Августин в «Исповеди», – и увидел оком души моей, как ни слабо оно было, над этим самым оком души моей, над разумом моим. Свет немеркнущий, не этот обычный, видимый каждой плоти свет и не родственный ему, лишь более сильный, разгоревшийся гораздо-гораздо ярче и все кругом заливший. Нет, это был не тот свет, а нечто совсем-совсем отличное от такого света. И он не был над разумом моим так, как масло над водой, не так, как небо над землей: был высшим, ибо создал меня, а я стоял ниже, ибо был создан Им. Кто узнал Истину, узнал и этот Свет, а кто узнал Его, узнал вечность. Любовь знает Его. О вечная Истина, Истинная Любовь, Любимая Вечность!» (Conf. VII, 10, 16). Просвещение этим светом в минуты высшего озарения и венчает, по Августину, длинный и сложный путь познания высшей Истины518, приобщает человека к Истине, сливает субъект познания с объектом в едином море духовного света. Истинное блаженство обретает тогда человек в единстве света, истины и бытия (lux esse-verum esse-esse)519.
Итак, рассмотрение ряда богословских, философских, социо-культурных аспектов теории Августина показывает, что почти все они в той или иной степени связаны у него с внеразумной, внепонятийной сферой, с иррациональным опытом и, в частности, со сферой эстетического. Главный идеал человеческой жизни в ее социальной и личностной основах, на путях обыденного бытия, религиозного служения или философского созерцания – всюду этот идеал остается одним и тем же – блаженством, т. е. высшей ступенью неутилитарного, духовного наслаждения. Семь ступеней совершенствования человека на пути достижения им высшей мудрости носят, как мы видели, калокагатийный характер – в одном случае они описываются в чисто эстетической терминологии (восхождение по ступеням прекрасного), в другом – имеют этико-религиозную окраску. Сама религия у Августина выступает не самоцелью, но путем к достижению высшего идеала. Конкретные формы достижения этого высшего идеала (духовное очищение, любовь, уподобление, просвещение, озарение, созерцание) носят ярко выраженный этико-эстетический характер. При этом их этическая часть во многом подчинена эстетической.
История культуры встречает в лице Августина, пожалуй, первого мыслителя, у которого степень эстетизации мировоззренческой системы достигла предельной высоты и была реализована с достойной удивления последовательностью. Главные закономерности универсума у Августина, по сути дела, – закономерности эстетические, ибо универсум представляется ему произведением Великого Художника (см. также гл. VII), выражающим совокупностью всех своих компонентов и законов их организации идеи Творца. Поэтому у Августина практически все эти закономерности распространяются как на универсум, так и на художественные произведения. Главное место среди онтологически-эстетических универсалий Августина занимает, пожалуй, емкая категория порядка, к более подробному рассмотрению которой мы и приступаем.
Глава IV. Порядок
Идее порядка (ordo) Августин посвятил один из первых своих трактатов и много внимания уделял ее осмыслению на протяжении всего своего творчества. На основе изучения трудов греко-римских философов (прежде всего Плотина и Цицерона) и библейских текстов, а также личных наблюдений, Августин еще до принятия христианства пришел к выводу, что в мире нет ничего хаотичного, что все в нем
подчинено системе закономерностей, которую он обозначил термином ordo. Ясно, что у него, как религиозного мыслителя, порядком всего бытия управляет божественный Промысел (см.: De Gen. ad lit. V, 21–22), а мера порядка (ordinis modus) заключена в вечной Истине, которой является Сын Божий (De vera relig. 43, 81). Однако камнем преткновения в решении этого вопроса являются все бесполезные, с точки зрения человека, явления и предметы, все ничтожные существа, и особенно все вредное, злое, безобразное мира сего. Именно негативные факторы бытия заставляют африканского мыслителя постоянно обращаться к идее порядка, вникать в суть сложной взаимосвязи природных, социальных и художественных явлений. При этом последние часто служат наиболее доступной и очевидной парадигмой, на которой Августину удается подметить более общие закономерности организации всего универсума.
Трактат «О порядке» Августин начинает с рассуждений о том, что стремление исследовать и познавать «порядок вещей» свойственно многим, однако «постигнуть и объяснить тот общий порядок, которым держится и управляется этот мир, для людей дело весьма трудное и редко осуществимое» (De ord. Ι, 1, 1). Неудобопостигаемость всеобщего универсального порядка для людей, не отягощенных «балластом» знаний, приводит к тому, что они начинают хулить мир и даже его Творца, указывая на те или иные отрицательные, с их точки зрения, явления. Августин неодобрительно относится к этим критикам, уподобляя их тем «ценителям» искусства, которые, не в состоянии охватить взглядом всю мозаичную картину, выложенную на полу дворца, начинают оценивать художника на основе небольшого, к тому же неправильно понятого фрагмента мозаики, между тем как отдельные фрагменты складываются «в одно прекрасное целое»520.
При сотворении мира Бог все упорядочил в нем, так что все элементы и явления тварного бытия имеют свое вполне законное и определенное место в общей картине универсума. Отсюда одно из определений порядка: «Порядок есть то, посредством чего Бог управляет всем» (II, 1, 2), т. е. система закономерностей, управляющих бытием тварного мира во всех его проявлениях.
Бесчисленное множество элементов, предметов, вещей, представителей растительного и животного мира, человек со всем его личным и общественным бытием, несчетное число событий, явлений, процессов – все это составляет некую целостность, прекрасную и гармоничную в совокупности всех своих частей, некое единство, вне которого нельзя рассматривать и оценивать ни один элемент, ни одно даже самое незначительное явление и событие в мире. Эта универсальная космическая целостность включает в себя мир во всей полноте его времен и явлений.
Порядок у Августина выступает следствием деятельности разума (божественного и человеческого). Только там можно говорить об упорядоченности (в частности, об «упорядоченном человеке»), где «разум господствует над остальными силами» (De lib. arb. I. 8, 18). Подчинение разуму ведет к правильному занятию места в порядке (в чине), что, в свою очередь, способствует красоте данной вещи (I, 16, 35). Красота, таким образом, неразрывно связывается Августином с порядком521. Упорядоченное бытие прекрасно.
Сама целостность совершеннее и прекраснее любых совершенных и прекрасных ее частей (Conf. IV, 11, 17), хотя и включает в себя наряду с ними несовершенные, безобразные и вредные элементы и явления, которые, однако, чему не устает восхищаться Августин, служат общему совершенству и большей красоте целого. И змея, и червяк, и нечестивые люди имеют свое вполне определенное место в универсуме (на низших его ступенях) и не могут быть оценены отрицательно (VII, 16, 22). Не правы те, кто осуждает эти существа. Просто они не видят их функции в общей прекрасной и целостной картине мира. «Они не обращают внимание на то, какое значение имеют эти вещи в своем месте и по своей природе, в каком прекрасном порядке располагаются и насколько каждая вносит свою долю красоты как бы в своего рода общую республику, или достаточно выгод доставляют и нам, если мы пользуемся ими соответствующим образом и со знанием дела, как, например, ядами, которые при умелом применении оказывают целительное действие» (De civ. Dei XI, 22).
Истина и красота мира выявляются только в том случае, когда он понимается как целостность, общим законам которой подчинены все его части. «Итак, по своим обязанностям и целям все подчинено (ordinantur) красоте целого (pulchritudinem universitatis), так что то, чему мы ужасаемся в частях, нравится нам по большей части рассматриваемое в целом; ибо при суждении о здании мы не должны же принимать во внимание один только угол, в прекрасном человеке – одни только волосы, в хорошем ораторе – одно только движение пальцев, в фазах луны – только тот или иной ее трехдневный облик. Все то, что представляется нам низким потому, что при несовершенных частях оно совершенно в целом, находим ли мы его прекрасным в спокойном состоянии или в движении, – все это мы должны рассматривать в целом (tota), если только хотим составить о нем правильное суждение» (De vera relig. 40, 76). И хотя плачущий человек, к примеру, лучше весело дергающегося червячка, но и этот хорош в своем роде и на своем месте в универсуме.
Идея прекрасного космического целого, в котором любая, даже самая незначительная вещь имеет свое, только ей предназначенное место, заставляет Августина всмотреться в эту вещь и увидеть ее упорядоченность и своеобразную красоту. «Без всякого преувеличения, – пишет он, – я могу с похвалой говорить о червячке, имея в виду блеск его окраски, цилиндрическую форму тела, соответствие передних частей средним, а средних – задним, в чем выражено стремление к единству, возможное для его незначительной природы, так что ни в одной его части нет ничего такого, чему не нашлось бы подобного соответствия в другой» (41, 77). Упорядоченность придает красоту невзрачным, незначительным и даже безобразным предметам. Именно глобальному порядку обязан, по мысли Августина, мир своей красотой. Здесь не место останавливаться подробнее на вопросах красоты и прекрасного. К их анализу мы еще будем иметь возможность обратиться специально. Однако понятие порядка у Августина неразрывно связано с представлениями о красоте, поэтому и умолчать о них совершенно тоже не представляется возможным. Именно идея порядка навела Августина на открытие интересной структурной закономерности красоты – закона оппозиции, аналогию которому он усмотрел в упорядоченном функционировании добра и зла в общественной жизни.
Представляя зло как нечто противоположное добру, как отсутствие добра, Августин отнюдь не всякое зло считал явлением отрицательным. Если мир устроен по законам порядка и зло допущено в нем, то, следовательно, и зло выполняет в нем свои функции, необходимые для поддержания и достижения блага всего универсума, и в частности человеческого общества.
В обществе, которое представляет собой смесь двух градов, добро и зло перемешаны в самых различных формах и соотношениях. Более того, даже в Церкви, которая по идее должна быть идеальным местом обитания добра, – даже здесь зло находит для себя достаточно простора (De fid. et oper. 2). При этом оно часто не только выступает против добра, но нередко и способствует ему. Прежде всего, зло служит в мире наказанием зла же. И хотя, скажем, нет ничего отвратительнее палача, преступного по своей натуре, тем не менее зло, творимое им, служит правосудию, необходимо в благоустроенном обществе, т. е. находится «в порядке» (De ord. II, 4, 12). Более того, само наказание обладает, по мнению Августина, определенной степенью красоты, «ибо нет ничего упорядоченного, что не было бы прекрасным» (De vera relig. 41, 77).
Далее, зло по контрасту выгодно подчеркивает и усиливает позитивные стороны добра: «Так называемое зло (malum), надлежаще упорядоченное и расположенное на своем месте, сильнее оттеняет добро для того, чтобы оно более привлекало внимание и подлежало большей похвале в результате сравнения со злом» (Enchirid. 11). Некоторые виды зла позитивны даже сами по себе, ибо выполняют в структуре целого необходимые функции. Что может быть гнуснее и позорнее, спрашивает Августин, красоты и недостойнее бесстыдства продажных женщин, сводниц и им подобных людей? Однако и они необходимы в обществе, полагает он: «Устрани распутниц из человеческих обществ, и вожделение повсюду внесет беспорядок» (De ord. II, 4, 12).
Любопытство расценивается Августином как несомненный порок, но и оно не бесполезно, ибо часто побуждает людей к поиску истины и нередко может привести к добродетели (De vera relig. 49, 94; 52, 101). Даже еретики, эти заклятые враги ортодоксальной веры, по здравому рассуждению, оказываются полезными, ибо своей полемикой, заблуждениями, постановкой острых вопросов побуждают к более энергичным поискам истины (8, 15). Конечно, это не значит, что люди должны специально культивировать пороки, злодеяния и лжеучения. Бог не создавал зла, не любит его – так же должны к нему относиться и все, стремящиеся попасть во град Божий и обрести блаженную жизнь. Однако жизнь града земного протекает по таким законам, которые не исключают и злых деяний, и с этим уж ничего не поделать: их нужно принять как неизбежность522.
И здесь за примерами Августин снова обращается к эстетической сфере. Из поэтики и риторики он хорошо знает о законе контраста – применении неожиданных фигур и оборотов речи, противоречивых выводов, солецизмов, варваризмов, грубых словечек в структуре поэтического образа или художественной речи. И там они вполне уместны и способствуют большей выразительности и красоте образа (De ord. II, 4, 13). Так и Бог, полагает Августин, «любит любить добро и не любит зло; а это – принадлежность великого порядка и божественного установления. Этот порядок и установление, поскольку охраняют согласие универсума в его различии, производят то, что и самое зло становится необходимым. Так, как бы в некотором роде из антитез, что бывает приятно нам в речи, т. е. из противопоставлений (ех contrariis), образуется красота всех вместе взятых вещей» (I, 7, 18)523.
В «Граде Божием» Августин опять обращается к вопросу о диалектике добра и зла в структуре мира, и здесь он снова опирается на эстетику, а также на опыт библейской этики: «Бог не создал ни одного – не говорю, ангела – но человека, относительно которого не знал бы, что он будет злым, равно, как Бог знал заранее, к каким благим целям люди будут им предопределены, – и так цепь веков, словно прекраснейшую поэму, он украсил некими антитезами. Ведь то, что носит название антитез, весьма уместно как украшение речи; по-латыни они называются opposita, или, еще выразительнее, contraposita (противоположностями). Термин этот у нас не в ходу, хотя латинская речь, больше того, языки всех народов пользуются теми же самыми украшениями речи.
Этими антитезами и апостол Павел во Втором Послании Коринфянам приятно изъясняет свою мысль: «В слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2Кор 6, 7–10). Итак, подобно тому, как эти противоположности, противопоставленные [другим] противоположностям, придают красоту речи, так путем некоего красноречия, но уже не слов, а вещей, посредством противопоставления противоположностей слагается красота мира сего. И совершенно ясно сказано о том в Книге Екклесиаста: «Против злого – благо, и против смерти – жизнь, против праведника – грешник. Итак, взирай на все дела Всевышнего, беря попарно, одно против другого» (Сир 33, 14) (De civ. Dei.XI, 18)524.
Описывая в трактате «О порядке» петушиный бой и отмечая безобразный вид побежденного петуха, Августин дважды подчеркивает, что от этого безобразия непонятно каким образом красота боя становится совершеннее (De ord. Ι, 8, 25; Π, 4, 12).
Таким образом, наблюдая за явлениями природы, событиями социальной и личной жизни человека и прослеживая законы организации художественных произведений, Августин приходит к двум интересным выводам. Во-первых, все эти три сферы составляют единое целое – универсум тварного бытия, подчиненный некоторым общим закономерностям, и прежде всего закону порядка, – это упорядоченное целое, в котором каждая часть находится в определенной зависимости от остальных частей.
Во-вторых, при всем различии этих трех сфер у них есть нечто общее – им всем присуща определенная красота и одним из главных законов их организации выступает закон контраста, или оппозиции.
В сфере эстетики этот закон, как мы увидим далее, явился важным открытием Августина, позволив найти ему нечто общее между искусством и красотой и открыв путь к постижению законов организации художественного образа. Важна и параллель, усмотренная Августином между реальными противоречиями природной и общественной жизни – и оппозиционной структурой красоты и произведений искусства.
В сфере социологии выявление на основе реальных общественных противоречий упорядоченного функционирования единства добра и зла позволило Августину частично принять и узаконить социальное зло525, что объективно вело к оправданию и социальной несправедливости, чем в дальнейшем активно пользовалась католическая церковь и средневековые европейские государства. Августин освятил божественным авторитетом и субординацию власти, которая после некоторой трансформации составила основу средневековой социальной иерархии. Божественное провидение подчиняет, пишет Августин, прежде всего все себе. Затем телесную тварь – духовной, неразумную – разумной, земную – небесной, женскую – мужской, слабую – сильной, несовершенную – более совершенной (см. De Gen. ad lit. VIII, 23, 44). Нетрудно заметить, что эти идеи составили основу феодального церковно-государственного законодательства.
Окончательная формулировка порядка как важнейшего структурного принципа универсума дана Августином в «Граде Божием»: «Итак, мир (рах) тела есть упорядоченное расположение частей: мир души неразумной – упорядоченное успокоение позывов; мир души разумной – упорядоченное согласие знания и действия; мир тела и души – упорядоченная жизнь и благосостояние существа одушевленного; мир человека смертного и Бога – упорядоченное в вере под вечным законом повиновение; мир людей – упорядоченное единодушие; мир дома – упорядоченное относительно управления и повиновения согласие сожительствующих; мир града – упорядоченное относительно управления и повиновения согласие граждан; мир небесного града – самое упорядоченное и единодушное общение в наслаждении Богом и взаимно в Боге. Мир всех вещей – спокойствие порядка. Порядок есть расположение равных и неравных вещей, дающее каждой ее место». Несчастны те, кто не соблюдает порядка, но и они находятся в определенном порядке и мире, так как и само нарушение порядка составляет неотъемлемую часть порядка вещей (De civ. Dei XIX, 13).
Одним из позитивных «нарушений порядка в самом же порядке» является чудо. При этом Августин стремится показать и доказать, что евангельские чудеса в общем-то не «чудеснее», чем многие природные явления. То, что находится «в привычном порядке» универсума, представляется людям делом обычным и не удивляет их. Чудеса же – единичны и выходят за рамки привычного для людей порядка вещей. И в этом их значение. Так стоит ли удивляться превращению воды в вино на брачном пире в Кане, совершенном Христом? Более удивительным, по мнению Августина, является творение мира во всем его разнообразии, сила зерна, чудо каждого семени. Но люди привыкли к этим явлениям и не удивляются им. Поэтому Бог дает им иногда нечто необычное, чтобы пробудить их от духовной спячки и направить дух к Богу. Один умерший воскрес – это удивляет людей, а тому, что ежедневно рождается множество людей, никто не удивляется. Но если всмотреться внимательнее, то второе, конечно, более удивительно, ибо вдруг возникает тот, кого никогда не было, а в первом случае восстает лишь тот, который уже был недавно и всем хорошо знаком. Люди удивляются тому, что совершил Иисус – вочеловеченное Слово, и не удивляются тому, что создал Иисус – Бог – Слово, т. е. всему упорядоченному миру (In Ioan. ev. 8, 1). Сам Августин не устает поражаться и восхищаться чудесами этого мира во всей его полноте и многообразии. Это не означает, конечно, что он игнорирует или принижает значение библейских или других чудес, связанных так или иначе с христианством. Все чудеса подчинены, по его мнению, порядку, но чудо материального мира больше волнует его с эстетической стороны, чудеса же библейские служат ему знаками божественного откровения.
Чудеса бывают различной природы. Одни имеют чисто физическое происхождение и слывут чудесами только потому, что природа этих явлений плохо известна человеку. В качестве примера Августин приводит гашение извести, действие магнита и т. п. (De civ. Dei XXI, 4). Некоторые чудеса изобретены демонами или хитроумными людьми – специалистами в области механики. Последние нередко используют свое искусство в религиозных целях, и люди несведущие принимают их за божественные. Августин указывает, что в одном из храмов в полу и под сводами были установлены на определенном расстоянии друг от друга магниты, так что между ними в воздухе парил железный истукан, что выдавалось за действие божественной силы (XXI, 6). Настоящие же чудеса происходят от Бога, и величайшим из его чудес является сам мир и его природа. Чудеса, как правило, противоречат не природе, но нашим недостаточным представлениям о ней. «Чудо противоречит не природе, а тому, как нам известна природа» (XXI, 8).
Чудеса играют первостепенную роль в христианстве, как и в любой другой религии, ибо поддерживают веру. Без чуда нет религии, поэтому для религиозной жизни сама невероятность чуда находится в порядке вещей.
Бог сам, отмечает Августин, предрек два невероятных события – воскресение нашего тела для вечной жизни и то, что мир уверует в эту невероятную истину. Осуществил он последнюю акцию также невероятным образом, послав в мир безыскусных, неграмотных рыбарей, уловивших в свои сети души всего мира, в том числе и души многомудрых философов. «Мир потому и поверил малому числу незнатных, униженных, несведущих людей, что в [лице] таких презренных свидетелей тем удивительнее говорило о себе само божество. Ибо красноречивы были чудесные дела убеждавших, а не слова, которые они говорили» (XXII, 5). Августин приводит много чудес, в частности исцелений, которые творили христианские подвижники не только в апостольские времена, но и в его время в том же Карфагене (XXII, 8). Религиозное чудо для Августина не только важный аргумент в пользу истинности христианской веры. Главное значение чуда заключалось для него, пожалуй, в его знаково-предзнаменовательной функции.
В цитированном выше «Tractatus in Ioannis evangelium» Августин дает предзнаменовательные знаково-символические толкования всем рассматриваемым там евангельским чудесам и рассуждает опять о знаковой функции чуда. С его помощью Бог управляет миром, упорядочивает его. Чувственно воспринимаемое чудо побуждает человеческий дух познавать Бога в видимых предметах. Удивляясь видимым чудесам, дух человека обращается к их причине и поднимается к ее познанию. Подобную же эстетическую функцию на греческом Востоке позже будут выполнять в системе Псевдо-Дионисия Ареопагита образы и символы, а у иконопочитателей VIII – IX вв. – живописные изображения (иконы).
Смысл чуда, однако, доступен далеко не каждому. Оно обладает своим особым, отличным от понятийного знаково-образным языком. понимать который дело отнюдь не простое. Сам факт чуда – только внешняя форма этого языка, его «слова», под которыми скрыто глубокое содержание. Важно, что Августин склонен видеть в чуде при всей его образности больше знаковую информацию, чем образную. Он сближает его скорее с языковым текстом на незнакомом наречии, чем с живописным изображением. «Спросим, – предлагает гиппонский епископ, – однако, у самого чуда (miraculum), что оно скажет нам о Христе; ибо оно, если его понимают, имеет свой язык. А так как Христос сам является Словом Бога, то дело Слова для нас также будет словом. Итак, относительно этого чуда, о котором мы слышали, как оно велико, исследуем теперь, насколько оно глубоко; ибо мы желаем не только радоваться его факту, но и исследовать его глубину. Именно внутри содержится нечто, чему мы удивляемся, [видя] внешнее проявление». Мы видим, мы усматриваем нечто великое, нечто чудесное, и в этом – нечто божественное; мы восхваляем деятеля по его делу. «Но подобно тому, как если бы мы увидели где-то прекрасные буквы, для нас было бы недостаточно хвалить пальцы писца за то, что они вывели буквы одинаковыми, ровными и прекрасными, если бы мы не прочитали также и то, что он нам с их помощью указал, – также [недостаточно] лишь видеть это деяние (чудо. – В. Б.), наслаждаться его красотой, удивляться его мастеру, но не понимать его, не прочитать его. Одно дело, однако, смотреть картину, и другое – рассматривать буквы. Когда ты смотришь картину, единое целое заставляет смотреть и хвалить ее; когда же ты смотришь на буквы, то здесь – не одно целое, так как ты призываешься также читать. Ибо ты говоришь, когда видишь буквы и не можешь их прочитать: что же это, однако, такое, что здесь написано? Ты спрашиваешь, что это, в то время, как ты уже видишь нечто. Иное ведь покажет тебе тот, у кого ты стремишься узнать, что ты увидел. Одни глаза имеет он, другие – ты. Не одинаковым ли образом видите вы оба линии [букв]? Но не одинаково знаете вы знаки. Ты – видишь и хвалишь, тот – видит, хвалит, читает и понимает» (In Ioan. ev. 24, 2). Сам Августин полагал, что он постиг язык чудес, и посвятил много страниц в своих работах разъяснению этого языка. Данные им символико-аллегорические толкования библейских чудес стали традиционными для европейской средневековой культуры, нашли воплощение в ее изобразительном искусстве.
Являясь нарушением обыденного порядка вещей, чудо, таким образом, выступает у Августина важным элементом божественного порядка, в целом недоступного человеческому пониманию, и направлено на приближение человека к этому порядку.
В мировоззренческой системе Августина категория порядка занимает одно из главных мест, способствуя осмыслению единства и целостности всего универсума, включающего божественные деяния, природу, общество, человека и творения рук его. Вся сфера эстетического с ее проблемами выражения, красоты, искусства, наслаждения включена Августином в сферу действия закона порядка.
Глава V. Ритм
Одной из главных и наиболее общих закономерностей, содействующих возникновению порядка, которому подчиняется все в универсуме, выступает у Августина число, или ритм (numerus). Рационалистический подход африканского мыслителя к миру позволяет ему, опираясь на идеи древних пифагорейцев, математиков и на плотиновское понимание числа526, усмотреть во всех предметах, явлениях и процессах числовую организацию. Число представляется Августину основным подтверждением разумной организации мира и относится им, как и сама идея порядка, исключительно к интеллигибельному миру. Сущность чисел и их законы принадлежат к области вечной и неизменной истины, поэтому они могут быть восприняты только разумом (De lib. arb. II. 8, 21). Заблуждаются те, кто считает, что числа могут быть постигнуты телесными чувствами в предметах материального мира.
Все числа возникли из единицы, которую в принципе нельзя воспринять органами чувств. Ни одно тело не может быть образом истинной и чистой единицы, ибо тела не единичны, но состоят из множества частей. Следовательно, заключает Августин, единицу нельзя постигнуть с помощью телесных чувств, а вслед за ней и ни одно из чисел: «мы познаем числа только с помощью духовного видения» (II, 8, 22). Не случайно поэтому в Екклесиасте число стоит рядом с мудростью (II, 8, 24). И мудрость и число истинны и неизменны. Мудрость приближает человека к пониманию законов чисел, но обладание числом (им обладает все бытие) еще не гарантирует приобщение к мудрости. Как от пламени лампы тепло ощущается только на близком расстоянии, а свет летит далеко, так и в интеллигибельном мире тепло мудрости распространяется недалеко – только на одаренные разумом души, а свет чисел пронизывает все, даже предельно удаленные предметы (II, И, 31–32).
Числа пронизывают и высшие интеллигибельные сферы, и весь мир природы, включая жизнь человека, и все творения рук его. включая все виды искусств. И очаровательное пение соловья, и все другие соразмерные движения живых существ происходят «в силу неизменного закона чисел», руководящего ритмом жизни (De vera relig. 42, 79). Числа управляют движением космических тел, и начала жизни, заложенные в семени растений и живых существ, обязаны «весьма сильным числам», заключающим в себе потенции божественных дел (De Gen. ad lit. V, 7, 20). В числе заключен «архитектонический принцип вселенной»527. Числа лежат в основе всех наук и искусств (см.: De ord. II, 14, 41–43), и знание их мистической сущности позволяет понять многие образные и таинственные выражения в тексте Св. Писания (De doctr. chr. II, 25). Числа, наконец, составляют структурную основу красоты и, соответственно (об этом подробнее речь в гл. X), эстетической способностью суждения: «Тогда ты увидишь, что все, что тебе нравится в теле, что является в нем привлекательным для чувств, – все подчинено закону числа (esse numerosum); и [если] ты спросишь, откуда это, и вернешься в себя самого и постигнешь, что все то, с чем соприкасаются телесные чувства, ты не мог бы ни одобрять, ни порицать, если бы не имел у себя определенных законов красоты, на основе которых ты судишь, что воспринимаешь извне прекрасное» (De lib. arb. II, 16, 41).
В трактате «О свободном выборе», откуда мы привели указанную цитату, Августин рельефно выразил свои мысли о неразрывной связи числа, формы, красоты, удовольствия и искусства (в современном понимании этого слова). При этом число, числовая закономерность выступают здесь общим законом, на основе которого организованы как материальный мир, так и духовный, как создания природы, так и творения рук человека. «Рассмотрим небо, землю и море, – призывает Августин, – и все, что в них и над ними светит или внизу ползает, летает или плавает: все имеет форму, ибо все пронизано числом. Отними от них это [число], и они превратятся в ничто. Итак, откуда происходят они, если не оттуда же, откуда происходит число; ибо они имеют бытие постольку, поскольку они пронизаны числом (numerosa esse). И все художники, создающие телесные образы, имеют в своем искусстве числа, в соответствии с которыми они и создают свои произведения; и до тех пор двигают они своими руками и инструментами, формируя [произведение], пока то, что создается снаружи, не будет, насколько это возможно, казаться правильным в свете сияющих внутри чисел и пока через посредство чувства оно не понравится внутреннему судье, который рассматривает высшие числа. Тогда спрашивается, кто движет члены самого художника: это числа; ибо члены движутся соразмерно числам. И если руки откажутся от ремесла, а дух – от намерения создавать что-либо и движение членов будет направлено только на достижение удовольствия [от движения], то можно будет говорить о танце. Итак, если спросить, что в танце доставляет радость, число ответит тебе: это я. Рассмотрим красоту созданного тела: [она не что иное, как] числа, заключенные в пространство. Рассмотри красоту телесного движения – это числа движутся во времени». И если подняться выше тех чисел, которые находятся в творческом духе художника, то попадешь в царство «вечных чисел», в которых заключен свет мудрости и тайна истины (II, 16, 42). Здесь отчетливо намечена полная числовая схема универсума, в которой числа красоты, искусства, творческого разума занимают срединное положение и играют роль посредника между преходящими числами природного материального мира и «вечными числами» высшей истины.
Мы, таким образом, вплотную подошли к эстетической значимости числа-ритма у Августина.
Античная, и особенно средневековая, эстетическая мысль много внимания уделяла числовой, ритмической организации искусства. Именно ритм уже в период греческой классики одним из первых начал осознаваться как собственно эстетическая категория. Он составлял основу всех мусических искусств, к которым греки с древности относили танец, музыку, поэзию, а позже, со времен Платона528, и изобразительные искусства. Именно осознание ритма как одной из главных закономерностей живописи и пластики позволило грекам ввести их в состав мусических искусств и распространить на них многие принципы, разработанные общей теорией мусических искусств – музыкой. Ученик Аристотеля Аристид Квинтиллиан писал о ритме в скульптуре (De mus. I, 13), что современный исследователь античной эстетики считает типичным для античности529. Таким образом, многие проблемы ритма и числа, поднимаемые по античной традиции в связи с поэзией и музыкой, оказываются применимыми ко всем видам искусства.
Проблеме ритма Августин посвятил специальный трактат «О музыке» – по сути дела, единственный его дошедший до нас собственно эстетический трактат. В нем в связи с числом и ритмом затрагиваются и другие проблемы эстетики. Поэтому есть смысл остановиться на нем подробнее.
Трактат «О музыке» оказался этапным и в творчестве самого Августина, и в эстетической литературе того времени. Это второй из двух его трактатов (первый, как указывалось, был утерян самим автором), специально посвященных эстетической проблематике.
В IV в. в составе корпуса «свободных наук» еще не значилось дисциплины, близкой к эстетике, или науке о прекрасном, поэтому, естественно, никто и не посвящал несуществовавшей науке специальных трактатов. Тем не менее сочинение, замыкающее небольшой ряд ранних философских работ Августина, оказалось практически полностью посвященным тем вопросам, которые сейчас относятся к компетенции эстетики. Начав свою писательскую деятельность с эстетического трактата («De pulchro et apto»), Августин и первый этап этой деятельности завершил подобным же сочинением. Но если первый трактат был традиционным сочинением, во многом повторявшим идеи других греко-римских писателей, то «De musica» носит уже совсем иной характер. В нем подводится итог античной эстетической традиции и открывается новый этап в истории эстетики. Знаменательно, что именно этим трактатом Августин практически подытожил свои духовные искания, которые в миниатюре отражали многовековой путь перехода позднеантичной культуры от языческого миропонимания к христианскому.
Августин начал работу над ним в 387 г. незадолго до своего крещения и закончил где-то между 389 и 391 гг., став уже сознательным пропагандистом и теоретиком христианства530. Этот важнейший шаг в его жизни наложил на трактат «О музыке» (его структуру и содержание) существенный отпечаток. Первые пять книг его написаны в традициях античной музыкально-теоретической мысли и являются как бы завершением ее исторического пути. Шестая книга, хотя и вытекает логически из первых пяти и опирается на античные традиции, – практически новая страница в истории эстетической мысли, отражающая новую философско-религиозную ориентацию автора и всей позднеантичной культуры того времени531.
Как полагают исследователи трактата, Августин начал писать его весной 387 г., живя на вилле одного из своих друзей в Кассициаке близ Милана, где он со своим пятнадцатилетним сыном Адеодатом и близкими друзьями готовился к принятию крещения, проводя время в беседах, в чтении Библии, античных поэтов и философов. Там Августин написал свои основные философские работы. Принятие крещения, переезд в Рим, смерть матери на пути в Африку, написание ряда других философских сочинений («О свободном выборе», в частности), наконец, возвращение в Африку – все эти события отделяют первые пять книг «De musica» от шестой, написанной уже в Африке где-то вскоре после 389 г. Книги «О музыке», как свидетельствовал позже сам Августин, были задуманы им как часть общей учебной работы о «свободных искусствах», которую ему не суждено было написать: «В то время, я был тогда в Милане и готовился к принятию крещения, пытался я также написать книги об искусствах; я обращался с вопросами к окружавшим меня людям, которым не были чужды эти дисциплины, стремясь или достигнуть каким-либо способом пути от телесного к бестелесному, или вести [их по этому пути]. Из этих работ только одна была закончена – книга «О грамматике», которую я позже потерял из нашего шкафа. «О музыке» ограничивается шестью книгами на ту часть, которая называется ритмом. Но я писал эти шесть книг, уже будучи крещенным, после того, как я вернулся из Италии в Африку; начал же я работу над этой дисциплиной еще находясь в Милане» (Retr. I, 6).
Трактат «О музыке» вышел, однако, далеко за рамки учебника по одной из «свободных наук», поставив ряд важных философско-эстетических проблем. Выводы, сделанные автором в VI кн. на материале «музыки», относились практически ко всем «наукам и искусствам» того времени. Может быть, отчасти поэтому отпала у Августина необходимость после завершения этой книги писать трактат о других «науках» и он оставил само сочинение о музыке незаконченным (ибо, как отмечал он сам, написанные им шесть книг освещают только ритмо-метрическую часть музыки, а книги о мело-гармонической части остались ненаписанными). Анализ шестой книги (см. гл. X) покажет, насколько это предположение основательно, хотя сам Августин, вспоминая о том периоде своей деятельности, считал, что только занятость церковными делами не позволила ему довести начатую работу до конца (Ер. 101, 3).
Представляется закономерным и вопрос о том, случайно ли именно в момент своего окончательного перехода с одной мировоззренческой позиции на другую Августин занимается детальной разработкой проблем мусических искусств, а не какой-либо иной дисциплиной. Думается, что задаче, больше всего волновавшей Августина в этот период – переориентации от телесного к бестелесному, – могла удовлетворить именно наука музыки, как ее понимали в античности. Опираясь на абстрактную теорию чисел, музыка апеллировала и к разуму, и к чувству, соединяя в себе теорию и практику, в отличие, например, от философии (даже плотиновской, столь любимой Августином), которая являлась чистой теорией и обращалась исключительно к разуму. Общая для раннего христианства тенденция выведения познания в эмоционально-эстетическую сферу, отнюдь не чуждая и Августину, возможно, и здесь сыграла свою роль. Психология, так часто внедрявшаяся в философию позднеантичного времени, помогает Августину превратить учебник музыки в учение о ритме вообще, о ритмах искусства, о космических ритмах и высших ритмах человеческого духа, в частности. Это и определяет особое место трактата Августина в ряду музыкально-теоретической литературы античности и Средних веков.
Под музыкой, как известно, в древности понимали прежде всего особую теоретическую дисциплину, главные положения которой распространялись не только на музыкальное искусство, в нашем смысле слова, но и на поэзию, танец, театральное действо, изобразительное искусство, риторику532. Платон относил к мусическим искусствам даже философию как «высочайшее из искусств» (Phaed. 61a), ибо и мудрость понималась им как «прекраснейшее и величайшее созвучие» (или гармония, «симфония» – Leg. III, 689d)533. Секст Эмпирик, подводя итог более узкому позднеантичному пониманию музыки, писал: «О музыке говорится в трех смыслах. В первом смысле [она является] некоторой наукой о мелодии, звуке, о творчестве ритма и подобных предметах... Во втором смысле [это] – эмпирическое умение, относящееся к инструментам, так что мы называем музыкантами тех, кто играет на флейте, на гуслях, или арфисток. В этом собственно значении музыка и имеется в виду у большинства. В переносном же смысле мы имеем обыкновение называть иногда тем же самым именем и удачное исполнение в области тех или других предметов. Так, например, мы говорим, что некоторое произведение отличается музыкальностью даже тогда, когда оно является видом живописи, и называем музыкальным того живописца, который в нем преуспел» (Adv. math. VI, 1–2)534. Музыка в первом смысле больше всего интересовала античных теоретиков, хотя они, как правило, достаточно тесно связывали эту теорию с практической музыкой как звуковым искусством. Две главные проблемы, восходящие еще к пифагорейцам, стояли в центре их внимания. Во-первых, – проблема музыкального этоса – направленного воздействия музыки на психику человека, создание с помощью определенных музыкальных ладов соответствующего настроения у человека»535. Во-вторых, – числовая теория музыки. Начиная с пифагорейцев, положивших в основу всего мироздания, всех наук и искусств число, т. е. усмотревших во всем числовые закономерности, музыка прочно связывается с числом. Ритмо-метрические и гармонические основы музыки видели в числовых закономерностях. Сама наука музыки в период поздней античности считалась математической наукой и в составе «семи свободных искусств» фигурировала в «квадривии» наряду с арифметикой, геометрией и астрономией.
Проблема этоса вытекала из музыкальной практики и стремления античных теоретиков ее регулировать, поставив на службу обществу. Идея числа, напротив, составляла основу чисто умозрительных теорий, все дальше и дальше уходящих от практики, так что ко времени Августина (хотя тенденция эта видна уже у Аристотеля) музыкант-практик считался фактически не имеющим никакого отношения к музыке как науке. Музыканты воздействовали лишь на чувства слушателя, а наука музыки развивала интеллект. Поэтому истинным музыкантом считался не тот, кто умел играть или сочинять музыку, а теоретик музыки.
Показательно в этом плане толкование Аристотелем одной мифологемы. «Очень остроумно и передаваемое древними предание об изобретении флейты. Рассказывают, что Афина, изобретя флейту, отбросила ее в сторону. Недурное объяснение придумано было этому, а именно: будто богиня поступила так в гневе на то, что, при игре на флейте, физиономия принимает безобразный вид. Настоящая же причина, конечно, заключается в том, что обучение игре на флейте не имеет никакого отношения к развитию интеллектуальных качеств. Афина же в нашем представлении служит олицетворением науки и искусства» (Polit. VIII, 6, 1341b)536. В поздней античности неприязнь к музыкальной практике у чистых теоретиков еще более усиливается по двум причинам. Во-первых, потому, что к этому времени изменился сам характер музыки («музыка в настоящее время, – замечал Секст Эмпирик, – размягчает ум какими-то изломанными мелодиями и женственными ритмами» (Adv. math. VI, 15)537 – подобные характеристики были типичными для поздней античности), что мало устраивало теоретиков-традиционалистов, в чьи теории новая музыка не всегда укладывалась. Во-вторых, музыка наряду с другими мусическими искусствами понималась прежде всего как искусство подражательное538. Подражание уже не являлось в этот период главной категорией теоретиков искусства, как об этом писал еще Флавий Филострат в «Жизнеописании Аполлония Тианского» (см.: Vit. Apol. VI. 19), и этот аргумент использует и Августин в своем трактате.
Августин хорошо знал античные теории музыки, и прежде всего пифагорейскую, от латинских интерпретаторов греческих учений Теренция Варрона (см.: De ord. II, 20, 53) и Теренциана Мавра. Опираясь на эти теории, как бы резюмируя их в первых пяти книгах своего трактата, Августин не без влияния Плотина и христианских учений стремится в VI книге расширить традиционные горизонты музыкальной теории. В частности, он уделяет большое внимание проблеме чувственного и даже, сказали бы мы, эстетического восприятия. И в этом плане Августин не имеет не только прямых предшественников, но и ближайших последователей. Античные авторы трактатов о музыке Аристоксен, Филодем, Плутарх, Гауденций, Клавдий, Птолемей, Никомах из Герасы даже близко не подходили к этой проблеме. Раннесредневековые авторы, писавшие о музыке – и Боэций (480–525), и Кассиодор (ок. 480 – ок. 575), и Исидор Севильский (560 – 640), – больше опирались на античные трактаты, чем на шестую книгу Августина, завершавшую его суждения о музыке. Философско-эстетические идеи Августина были восприняты уже более поздним Средневековьем, нашли отклик в эстетике Возрождения и Нового времени. Они оказались созвучными также многим идеям, поднятым в IV-VI вв. греческими Отцами Церкви.
Итак, шесть книг Августина «О музыке», как указывал и сам автор, – это сочинение о ритме в самом широком смысле слова, т. е. о числовых закономерностях искусства. Первые пять книг посвящены числам изменяющимся, шестая – неизменяющимся. В I кн. рассматриваются вопросы о сущности музыки как искусства, о движении, излагаются начала числовой эстетики. Кн. II-V посвящены анализу проблем метра, ритма, стиха. В VI кн., анализом которой мы займемся в гл. X, поднимаются вопросы чувственного восприятия и интеллектуального суждения, вечных, неизменяемых чисел, места и роли искусства и науки на путях к блаженной жизни и т. п. Но кроме этих основных проблем работу пронизывают идеи числовой структуры мира, закон единства, идеи равенства, пропорции и соразмерности как определяющих принципов всего разумного бытия, и искусства в частности.
Свое исследование Августин начинает с определения музыки. Уже в трактате «О порядке» его интересовал вопрос о происхождении, предмете и целях «свободных искусств» (или «свободных наук» – у Августина по античной традиции disciplinae liberales и artes liberales – синонимы), среди которых он рассматривал и музыку как науку, «происходящую частью от чувства, частью – от ума» (De ord. Π, 14, 41).
Августин начинает с традиционного античного определения музыки, заимствованного им, как отмечал уже Кассиодор, у Варрона (Discipl. VII). Musica est scientia bene modulandi (музыка есть наука хорошо соразмерять («модулировать») (I, 2, 2)539. Августин дает подробное разъяснение каждому термину этой дефиниции, показывая, что она является «исчерпывающей» (perfecta est), и выявляя уже в процессе этого разъяснения свои эстетические взгляды.
Глагол modulor, происходящий от modus (мера), означает в латинском размерять, ритмически и гармонически организовывать, соразмерять; modulatio – соразмеривание, содержание в мере, размеренность, ритмичность, мелодическое начало. В этом смысле и применяет их Августин. В дальнейшем мы будем употреблять термины «модулировать» и «модуляция» в кавычках без перевода, следуя традиции В. П. Зубова, чтобы не смешивать указанные значения со значениями современных слов «модуляция» и «модулировать».
Трактат написан в форме диалога между учеником и учителем. Определение, данное учителем, сразу же вызывает у ученика вопрос, направляющий все рассуждение в чисто эстетическую сферу: «Но поскольку я вижу, что «модулировать» происходит от modus (мера), ибо во всем хорошо сделанном должна соблюдаться мера, а многое в пении и танце, хотя и доставляет удовольствие, бывает весьма дурно, постольку мне хотелось бы всесторонне выяснить, что же в конце концов есть «модуляция» – слово, которое уже почти одно заключает в себе определение такой большой дисциплины. Ведь здесь следует научиться не чему-нибудь такому, что знает любой певец или актер» * (1, 2, 3). «Модуляция», таким образом, сразу связывается с вопросами мусических искусств, которые доставляют удовольствие, но почему-то бывают дурными, видимо в морально-этическом смысле; предмет же «модуляции» превышает знания музыкантов-практиков. Вопрос о «модуляции» тем самым выносится в сферу чистой теории: с первых же фраз трактата намечается полный разрыв между музыкальной теорией и практикой, хотя и не отрицается, что «модуляция» лежит в основе исполняемой музыки.
Мера, на которой основана «модуляция», – как известно, важнейшая категория античной эстетики. Меру как основу космического порядка и главный регулятор социальной жизни высоко ценили как в греко-римском, так и в ближневосточном мире (ср.: Прем 11, 21). Не случайно Августин считает меру божественной (Contr. acad. Π, 3, 9), теснейшим образом связанной с разумом, мудростью, истиной, блаженством и числом (De beat. vit. 4, 32–35; De Gen. ad lit. IV, 3–5).
«Модуляция», рассуждает он далее в «De musica», относится к движению и является, по сути дела, некой «опытностью», или «знанием», (peritia) процесса движения, точнее – знанием правильно организованного движения. Но ведь ни одно дело практически не может быть осуществлено без этой опытности, без правильно организованных движений. И ремесленник совершает их, создавая вещь из дерева или серебра, и танцор в танце. Первый совершает их ради создания какой-либо вещи, второй движет «свои члены не ради чего-либо иного, а ради их красивого и подобающего движения"*. Спрашивается, какой вид движения выше: тот, когда движение совершается «ради него самого» (propter seipsam) или – когда оно осуществляется для чего-то другого, ради какой-либо утилитарной цели. Даже ученик не сомневается в том, что первый вид движения выше. Именно он-то и относится к «модуляции», которая, таким образом, определяется чисто эстетически: это некое «знание» свободного движения, совершающегося ради красоты самого движения, или, как окончательно формулирует Августин: «наука «модулировать» есть наука о хорошем движении, таком, где оно является предметом стремления само по себе, а потому само по себе радует» * (I, 2, 3).
Понимая таким образом «науку о модулировании» (scientia modulandi), Августин фактически дает определение музыки как вида искусства (ars musica). Не случайно в качестве примера «незаинтересованного движения» он приводит танец. Музыка, как по свидетельству Филодема (I в. до н. э.) считал еще Демокрит, «возникла не из нужды, не из практической потребности, но родилась она от развившейся уже роскоши» (Philod. De mus. 31), т. е. была чужда утилитарных целей с самого своего возникновения540. Так что «чистое удовольствие», наслаждение, радость были издавна связаны с музыкой, как об этом свидетельствуют и взгляды Платона и Аристотеля541. Однако Августина меньше всего интересует ars musica (не терминологически, но по существу Августин четко разделял ars и disciplina), и он переходит к следующему члену формулировки disciplina musica – наречию bene («хорошо» или «правильно»).
Что же значит «хорошо модулировать»? Ведь и сама «модуляция» имеет в виду «хорошо двигаться», т. е. двигаться «в соответствии с числом, соблюдая величины времен и интервалов (ведь уже это доставляет удовольствие и оттого называется не без основания «модуляцией»); однако может случиться, что такой размер и соответствие числу радует, когда не нужно; например, если поющий приятнейшим образом или если изящно танцующий хочет резвиться, тогда как, по существу, от него требуется строгость, – в этом случае... он пользуется нехорошо, или несообразно, тем движением, которое само по себе хорошо, соответствуя числу. Вот почему одно – модулировать, а другое – хорошо модулировать. Ведь нужно считать, что модуляция имеет отношение к любому певцу, лишь бы он не погрешал в продолжительности слов и звучаний, между тем хорошая модуляция имеет отношение к указанной свободной дисциплине, т. е. к музыке"* (I. 3, 4).
Весь комплекс античных учений об этосе, как отмечал один из исследователей трактата, отразился в этом bene Августина542. Может быть, и не «весь комплекс», но многие стороны учения о музыкальном этосе нашли здесь свое отражение и привели Августина к некоторой противоречивости в определении науки музыки. В августиновском объяснении понятия «хорошо модулировать» отразилась та часть античного учения об этосе, которую можно было бы назвать практической или даже утилитарной; а именно – те положения Пифагора, Платона, Аристотеля и других античных мыслителей, в которых музыка понимается как инструмент воспитания, направленного воздействия на психику людей, исправления их характеров. Движение звуковой материи должно осуществляться не «ради него самого», но ради определенной социальной цели. Музыкант играет не для своего удовольствия, но «сообразно» с внешней задачей. И это требование, конечно, вступает в противоречие с августиновским эстетизмом – определением «модуляции» как неутилитарного свободного движения только «ради него самого»543.
«Соответствие» (congruentia) внешнему требованию, заданность больше подходит музыкантам-практикам, работающим ради денег или почета, от которых уже в следующей главе будет так рьяно отмежевываться Августин, чем «свободной дисциплине» античного аристократического толка. Чем же может быть объяснено это явное противоречие у Августина, восходящее, правда, к античным традициям? Думается, что именно переходом его с одной мировоззренческой позиции на другую. Для средневековых христианских последователей Августина именно «соответствие» музыки литургическим целям будет играть главную роль. Слова о неутилитарности, внутренней свободе музыки останутся лишь красивой фразой в академических трактатах ученых544. Как мы помним, еще Амвросий Медиоланский ввел пение в местной церкви с сугубо практической целью – использовать музыку для более глубокого внедрения христианского мироощущения в сердца верующих. Августин в данном трактате еще ни одним словом не обмолвился об этой христианской музыке, но самим фактом своего существования она, видимо, уже оказала на него определенное влияние, что выявилось и в определении музыки в I кн. трактата.
Наконец (гл. 4–6), Августину остается объяснить, почему в дефиницию музыки входит слово «наука» (scientia). Для начала он показывает, что и пение соловья весной приятно, соразмерно и соответствует своему времени, но ведь нельзя же думать, что соловей опытен в «свободном искусстве» музыки. То же самое можно сказать и о тех людях, которые поют и играют по слуху, не зная теории. Любовь к пению и игре и умение петь и играть общи у человека и животных. Птицы поют, испытывая вожделение, люди – ради удовольствия, денег, почета, но ни те, ни другие ничего не ведают о музыке как науке. Что же отличает науку (scientia) от искусства (ars)? Здесь Августин вынужден ввести терминологическое различение этих понятий, хотя в дальнейшем он и не всегда его соблюдает545. Он хорошо знает античную теорию: в основе искусства лежит подражание (imitatio) (I, 4, 6). В результате длительного обсуждения выясняется, что искусство является не только механическим подражанием. Разум тоже имеет к нему некоторое отношение. С другой стороны, и наука не чужда подражанию. И все же главное различие их в том, что в искусстве, обязательно связанном в той или иной мере с материей, преобладает подражание, а в науке, как деле «одного только духа», – разум (I, 4, 7–9).
Более того, Августин, опять же в традициях античного духовного аристократизма, подкрепленного раннехристианским ригоризмом тертуллиановского толка, резко разграничивает музыкальную практику и теорию. Он настаивает на том, что игра на музыкальных инструментах – дело навыка и привычки, а не науки. «Если ею владеют все играющие на флейте, на лире и любые другие исполнители этого рода, – здесь за словами Августина во весь рост встает фигура его земляка и предшественника Тертуллиана, – то нет ничего низменнее, ничего презреннее, чем эта дисциплина» (I, 4, 7). Театральные актеры, певцы, музыканты, доставляющие наслаждение слуху простого народа, выступающие из-за денег или ради славы, не знают музыки как науки. «Вся наука заключена в разумении (intelligentia)... и музыка там же» (I, 6, 11). На чем же основываются тогда музыканты, сочиняя музыку или исполняя ее, и слушатели, скажем простой народ, когда они, не зная науки музыки, свободно отличают плохую музыку (или игру) от хорошей? «Думаю, – отвечает Августин устами своего ученика, – происходит это благодаря природе, даровавшей всем чувство слуха, посредством которого и судят об этом"* (I, 5, 10). Основываясь на чувстве слуха и памяти, флейтист, к примеру, и обучается играть. «Итак, коль скоро память следует за ощущением, а члены – за памятью, будучи вышколены и подготовлены практикой, он исполняет, когда ему захочется, тем лучше и тем приятнее, чем более обнаруживает во всем то, что, как известно из предыдущего рассуждения, является общим у нас с животными, а именно: стремление к подражанию, ощущение и память» (I, 5, 10).
В одном из поздних трактатов Августин вернется к идее врожденного чувства слуха, развивая свою мысль дальше и указывая, что чувство это способно хорошо определять музыкальную «гармонию», состоящую в согласии противоположных элементов: «Во всех вещах познаем мы господство закона соответствия, связи, созвучия и согласия противоположных элементов: греки называют это «гармонией». Чувство этого согласия, этой природной связи является у нас врожденным благодаря абсолютной воле Бога, который нас создал. Отсюда следует, что люди, даже совершенно не обладающие музыкальной наукой, тем не менее не становятся нечувствительными к музыке, слушают ли они ее или сами музицируют. Фактически приводят они с помощью «гармонии» различные благозвучия музыки в соответствие; точно так же нам режет ухо, независимо от технических знаний, которыми не обладает большинство людей, какой-либо пассаж, как только законы, господствующие в музыке, будут оставлены без внимания (нарушены)»546.
Что же касается трактата «De musica», ставящего своей целью познание «высшей истины искусства», то Августина в нем меньше всего интересует сама музыка, как вид искусства в современном понимании этого слова. Однако постоянная забота отграничить эту музыку от «высокой теории» и хорошее знание позднеантичного искусства побудили его разобраться и в существе ars musica и выявить в нем ряд важных, объективно присущих ему свойств.
Определив предварительно науку музыки, Августин с 7-й гл. I кн. переходит к изложению самой этой науки. Прежде всего, он останавливается на «модуляции», т. е. принципах правильной организации движений. Сразу же выясняется, что эти принципы суть числовые закономерности. Число лежит в основе любого движения, виды движений отличаются различием числовых отношений. Августин во многом опирается здесь на пифагорейское и неопифагорейское учение о числах547, усиливая его эстетическую направленность и закладывая тем самым основы западной средневековой эстетики чисел548.
Элементарные движения, из которых образуется все многообразие движений, различаются по длительности и темпу. С точки зрения взаимного соответствия, движения бывают равными по длительности, относящимися друг к другу как числа 1:1; 2:2; 4и т. д., и неравными, типа 1:2, 2:3, 3или 1:3, 2и т. п. (I, 8, 14). Далее, они могут быть рациональными (rationabiles) – находящимися друг с другом в определенном числовом отношении, и иррациональными (irrationabiles), не имеющими таких отношений. Рациональные движения подразделяются, в свою очередь, на два вида: соизмеримые (connumeratos) – кратные определенному числу, типа отношений 2:4, 6:8, и несоизмеримые (dinumeratos) – о них нельзя сказать, во сколько раз одно больше или меньше другого, ни того, какая часть одного или другого является общей мерой (I, 9, 16). Наконец, соизмеримые движения также имеют два подвида: первый – когда общей мерой является меньшее число типа отношения 2:4, второй – когда какая-либо часть содержится в обоих числах, как в отношении 6:8, где такой частью является 2. Первый подвид, когда одно число возникает как бы путем умножения второго, Августин называет умноженными (complicati) движениями, второй – соотносящимися (sesquati) (I, 10, 17). Все названные виды движений помимо чисто структурной упорядоченности составляют и как бы ценностную иерархию. Рациональные числа стоят, конечно, выше иррациональных и распределяются по степеням возрастания внутреннего единства и соразмерности следующим образом: несоизмеримые, соотносящиеся, умноженные, равные. Уже этой упорядоченностью движений Августин показывает, что музыка и мусические искусства основываются на законах единства, равенства, пропорции, соразмерности, соответствия. На протяжении всего последующего изложения он углубляет эти эстетические идеи, получившие свое начало в античности и активно развитые в переосмысленном виде ранним Средневековьем.
Но все эти закономерности, рассуждает далее Августин в чисто пифагорейских традициях549, присущи движениям только благодаря их соисчислимости (numerositas), благодаря числу, образующему их. Следовательно, в самих числах эти закономерности содержатся в более чистом виде. Поэтому Августин вынужден обратиться к анализу ряда натуральных чисел. Этот чисто спекулятивный сам по себе анализ не представлял бы для нас особого интереса, если бы он не содержал ключа к числовой эстетике Средневековья. Основанный на неопифагореизме анализ первых четырех чисел натурального ряда, с одной стороны, тесно переплетен у Августина с эстетической проблематикой, а с другой – показывает, где и как христианство могло использовать математические интуиции пифагорейцев и неопифагорейцев, внутренне связывая их со своим трансцендентным божеством. Подробнее эти мотивы разовьют западные схоласты, но и у Августина мы находим уже их истоки, особенно в связи с усиленным акцентом на совершенстве числа 3.
В своих рассуждениях о числах Августин ближе всего подходит к неопифагорейцу Никомаху из Герасы, жившему в первой половине II в. н. э. и оказавшему сильное влияние на средневековую эстетику550. Главное внимание в своих исследованиях он уделял числам и музыке, полагая, что именно числа объединяют в единое целое все науки «квадривия» и никто не может заслужить доверия божественного откровения, если не чувствует себя как дома в теории музыки и в игре на музыкальных инструментах551.
Каждое число, рассуждает Августин, развивая неопифагорейские традиции, имеет центр, середину, по обе стороны которой находятся две равные части (начало и конец), т. е. число понимается им как некая симметричная конструкция. Четные и нечетные числа различаются своими серединами. У нечетных – неделимая середина единицы, у четных – делимая, двойка. Сама единица не имеет ни середины, ни конца. Это абсолютное начало552. Двойка также не имеет ни середины, ни конца. Это тоже начало, но происходящее от первого начала (21 † 1). Все числа происходят от первого начала, но только через второе начало. Если объединить первое начало со вторым, то возникает 3. Три – первое совершенное число, в котором есть начало (1), середина (1) и конец (1). «Итак, если два начала чисел объединить друг с другом, они дадут полное и совершенное число» (I, 12, 22). Нет двух других, кроме 1 и 2, рядом стоящих чисел, которые дали бы в сумме следующее за ними число.
Самое прочное и глубокое объединение вещей осуществляется, когда середина находится в согласии с внешними членами и, наоборот, внешние члены созвучны со средним. Это единство в упорядоченных предметах, доставляющее удовольствие, «может быть достигнуто с помощью того единственного соотношения, которое по-гречески называется analogia, а у нас зовется пропорцией» (I, 12, 23). Первые три числа натурального ряда только с помощью четверки получают красоту пропорционального соотношения, ибо четыре обладает свойством, отсутствующим у других чисел. В натуральном ряде чисел 1, 2, 3 сумма крайних членов равна удвоенному среднему – четырем, т. е. следующему по порядку числу ряда. В этом и заключается пропорциональность, analogia внешних членов по отношению к среднему, а ряд 1, 2, 3, 4 является наиболее совершенным. В нем 1 и 2 – начала всех чисел, 3 – первое совершенное нечетное число, 4 – первое совершенное четное. Сумма ряда этих совершенных чисел равняется 10, поэтому 10 и является периодом в бесконечно длящемся ряде чисел (I, 12, 26).
Таким образом, числовая пропорция, доставляющая удовольствие и соотносимая Августином с красотой взаимного соотношения чисел, является у него критерием совершенства ряда четырех натуральных чисел и обоснованием десятичного счисления. Именно этот эстетический аспект теории чисел особенно привлекает Августина в данной работе, посвященной музыке, как науке основывающейся одновременно на разуме и чувстве. Числовая упорядоченность мира, о чем Августин писал еще в трактате «О порядке», свидетельствует о разумной основе бытия, но даже в видимом мире есть вещи, которые не соизмеряются, не соисчисляются полностью разумом человека, хотя и организованы, как полагает Августин, на основе числа. Вот здесь-то и должна помочь эстетика чисел, апеллирующая не только к разуму, но и к чувству красоты и удовольствия. Не случайно Августин, пожалуй, впервые в истории эстетической мысли сознательно сблизивший понятия красоты и искусства, в любых искусствах усматривает число.
В поздних работах Августин также нередко обращается к метафизике и мистике чисел. Здесь с неопифагорейскими мотивами уже тесно переплетаются, порой вытесняя их, библейско-христианские идеи.
Сумма первых трех чисел натурального ряда равна шести. Поэтому шесть также совершенное число. Число дней творения равно шести, ибо шесть означает здесь совершенство творения (De civ. Dei XI, 30). В другом месте Августин более подробно останавливается на числе шесть, указывая, что осознание совершенства внутренней природы чисел позволяет нам, «умственно созерцая» ее, исчислить и выразить в числах все, что подлежит нашему чувственному восприятию. Совершенство шестерки заключается в том, что это первое число, которое равно сумме своих частей (делителей – 1, 2, 3), составляющих начало натурального ряда (De Gen. ad lit. IV, 1 – 2). Любовь к числу оказывается у Августина иногда настолько сильной, что он ставит больше в зависимость от него, чем от Бога, совершенство творения. Число шесть, пишет он, совершенно не потому, что Бог создал мир в 6 дней, но Бог создал мир в 6 дней потому, что 6 – совершенное число. «Итак, хотя бы они (дела Бога по творению. – В. Б.) и не были совершенны, оно (число 6. – В. Б.) было бы совершенно; если же оно было бы несовершенным, то и они в соответствии с ним не были бы совершенными» (IV, 7).
По библейской версии Бог, завершив творение, отдыхал в седьмой день. Соответственно и в числе семь Августин усматривает большой смысл. Математическая основа значимости семерки заключается в том, что она представляет собой сумму первого совершенного нечетного числа (3) и первого совершенного равного числа (4). В Библии, указывает Августин, семь часто употребляется «для обозначения целостности (universitas) какой-либо вещи». Этим же числом обозначается Св. Дух и покой Божий, которым успокаивается и человек в Боге. «Ибо в целом (in toto), то есть в полном совершенстве, заключается покой; в части же – работа. Мы трудимся, пока познаем частично» (De civ. Dei XI, 31).
Число 11 означает, по мнению Августина, грех, так как преступает число 10, которым возвещается Закон. Число 12 – также знаменательное число, ибо получается переумножением частей числа семь (3×4) (XV, 20).
Августин стремится показать и совершенство значимого в христианстве числа 40 (см. Исх 24,18; 3Цар 19, 8; Мф 4, 2), хотя в разных местах он объясняет это по-разному. Может быть, совершенство числа 40 состоит в том, что Закон дан в 10 заповедях, которые должны быть возвещены во всем мире, т. е. по четырем сторонам света, или в том, что Закон осуществляется с помощью четырех Евангелий (In Ioan. ev. 17, 6). В «Христианской науке» Августин, объясняя сорокадневный пост, пишет, что число 10, взятое четыре раза, выражает познание всех вещей во времени, так как числом 4 определяется течение времени – суточное и годовое. Суточное время состоит из часов утренних, дневных, вечерних и ночных; годовое – из месяцев весенних, летних, осенних и зимних. Число же 10 означает познание Творца и тварного мира, так как число 3 есть число Творца, а число 7 – число твари, состоящей из души и тела. К душе относится сердце, дух и разум, т. е. три единицы из семи, к телу же – 4, означающие четыре материальные стихии, из которых состоит тело. Таким образом число 10, взятое четыре раза, учит людей жить во времени, хотя и не для времени, т. е. чисто, воздержанно, но без пристрастия к временному, побуждая людей тем самым поститься все 40 дней, т. е. всю жизнь. Также священное в христианстве число 50 (от Пятидесятницы) происходит от сорока и т. п. (De doctr. chr. II, 16. 25).
В толковании на 150-й псалом Августин останавливается на совершенстве числа 150. Оно образуется перемножением 10 на 15. Совершенство 10 известно. 15 же означает созвучие двух Заветов – Старого и Нового. В Ветхом Завете соблюдали субботу как день покоя, в Новом – воскресенье, которое напоминает о Воскресении Господнем. Суббота – 7-й день недели, а воскресенье, так как оно следует за седьмым днем – восьмой, хотя одновременно оно является и первым днем новой недели. Но если считать от воскресенья до воскресенья, то получается – 8-й день, и в этом открывается новый союз, скрытый в Ветхом Завете. Сумма семи и восьми дает 15. Число 150 – это число 50, взятое три раза. Число 50 – также важное сакральное число, ибо оно тоже стоит на 8-м месте после семи недель (7 x 749 и † 1). Значение и этого числа связано с Пятидесятницей, так как именно на 50-й день после Воскресения Христова Дух Святой сошел на всех, собранных во Христе. Святой Дух, однако, чаще открывается людям в числе 7 (у Исайи и в Апокалипсисе). Число 50 сам Господь разложил на 40 и 10. На сороковой день после Воскресения он вознесся, а еще через 10 дней послал Св. Духа. Число 40 означает временное пребывание людей в этом мире. В 40 господствует 4 и четыре части имеют мир (4 стороны света) и год (4 времени года); 10 означает вечность. В 150 пятьдесят содержится три раза, т. е. помножено еще и на тайну троичности. Поэтому, видимо, и число псалмов равно 150; такое же число рыб поймали в свои сети после Воскресения Христова апостолы (Enar. in Ps. 150, 1).
Ограничимся этими примерами. Уже из них видно, насколько причудливо переплетается у Августина пифагорейская числовая метафизика с библейско-христианской мистикой чисел. Именно такое понимание числа питало средневековую числовую эстетику и символику, распространяясь практически на все виды средневекового искусства от предметов церковного обихода и мелкой пластики до архитектуры, декорирования храмов и организации культового действа. Вернемся, однако, к трактату «О музыке».
Обращаясь в конце I кн. от теории чисел к музыке, Августин показывает, что музыка не идентична теории чисел, хотя и основывается на ней. Отличие между ними он и на этот раз усматривает в эстетической сфере. В первую очередь эстетические закономерности чисел относятся к музыке, как пишет Августин, «к существу нашей дисциплины, т. е. науки хорошо модулировать, принадлежат все хорошо модулированные движения, в особенности же те, которые не соотносятся с чем-то иным, а в самих себе таят цель красоты и удовольствия» * (I, 13, 28). Таким образом, по сути дела, Августин относит здесь к предмету своей науки исключительно эстетические объекты, ибо в них-то и заключены «следы» высшей мусической истины. «Музыка, как бы выходя из сокровеннейших тайников, запечатлела свои следы в наших ощущениях или в вещах, нами ощущаемых, а потому не будет ли правильным сначала изучить эти следы, чтобы затем удобнее, без всякой ошибки, дойти до того, что я назвал тайниками (penetralia), если только это для нас возможно"* (I, 13, 28). Таким образом, дав предварительное определение музыки, Августин намечает логику дальнейшего исследования. Прежде всего он обирается изучить «следы» музыки в материальных эстетических объектах (как мы увидим из II – V кн. в основном на примере поэзии; затем, видимо, должны были следовать книги о мелосе с музыкальными примерами) и после обратиться к анализу самой сущности музыки («если только это для нас возможно»), на что и ориентирована VI кн. трактата.
Кн. II – V, отдельно взятые, представляют собой подробный учебник по метрике, в котором изложена античная метрическая теория, начиная со слога и кончая стихом553. Августин показывает себя в этом вопросе человеком, знающим как теорию, так и практику излагаемого предмета. Он опирается и на хорошо известные современной науке античные метрические теории, и на не дошедшие до наших дней (теории александрийских ученых, к примеру). В качестве иллюстративного материала он использует стихи латинских авторов, а также примеры, заимствованные из работ по метрике Теренциана Мавра и Теренция Варрона. Кроме того, там, где ему не удается подобрать подходящий пример из античной классики, он сам сочиняет стихи и строфы нужного размера. В плане эстетики эти книги дают не так уж много. Как правило, Августин повторяет высказывания античных предшественников. Даже учение о ритме, собственно эстетическом элементе, не поднимается в этих книгах над уровнем технического пособия по поэтике. Книги эти важны для нас тем, что они являются неотъемлемой частью всего трактата, той его серединой, его практическим наполнением, без которого и начало (I кн.) и конец (VI кн.) во многом остались бы пустым звуком, формой без содержания. Материал II – V кн. выступает подтверждением (во многом практическим, так как основан на реальной поэзии) многих положений первой книги, и прежде всего теории чисел, но также и учения о «следах» музыки в реальном искусстве. С другой стороны, конкретные ритмо-метрические исследования составляют основу для многих важных эстетических выводов VI кн. Поэтому эти книги никак нельзя оставить без внимания. Кроме того, они добавляют иногда очень интересные штрихи к общей картине августиновской эстетики.
В начале II кн. развиваются идеи, выдвинутые еще в первой главе трактата. Приступая к анализу ритмических вопросов на поэтическом материале, Августин убеждает читателя в том, что музыка и грамматика – различные дисциплины. Показав в I кн., что соблюдение и регулирование определенной длительности звуков составляет предмет не грамматики, но музыки (I, 1, 1), Августин продолжает углублять это различие во II кн. Так, к длительности слогов грамматика и музыка подходят с разных позиций. Грамматика в своих суждениях опирается на традиционное словоупотребление и требует его соблюдения. Для музыки в первую очередь важен численно измеряемый ритм, в соответствии с которым длительность отдельных слогов может меняться. Музыка не имеет ничего против этого, грамматика же, как «охранительница традиции» (custos historiae), не может с этим мириться. Грамматические ошибки (удлинение слогов, введение варваризмов) не являются ошибками для музыки, если они способствуют организации верного ритма (II, 1, 1). В звучании стиха (ибо ритм выявляется только в звучании) слушателю доставляет удовольствие «некая размеренность чисел», нарушение которой он сразу же улавливает своим «внутренним чувством». В противоположность этому грамматик судит исключительно на основе традиции, образцов, правил (II, 2, 2).
Таким образом, приведенное разграничение лишний раз показывает, что в данном трактате Августин последовательно утверждал в качестве объекта музыки как науки эстетический предмет, имеющий своей целью прежде всего возбуждение радости, чувства удовольствия у слушателя. При организации этого предмета допускаются даже определенные (конечно ограниченные) нарушения правил грамматики, которые, в общем, не так уж и обязательны, ибо являются условностью, закрепленной традицией. Здесь в Августине еще в полный голос говорит учитель красноречия, а новообращенный христианин скромно молчит. Для христианского мышления традиция (и не только религиозная) имела, конечно, неоспоримое преимущество перед удовольствием от хорошо организованного ритма. Античные же риторы, не говоря уж о поэтах, начиная с Исократа высоко ценили прежде всего красоту ритма речи. Эти традиции еще живы в нашем теоретике мусических искусств.
Техническая сторона ритмо-метрического учения Августина вкратце сводится к следующему. В основе метрической системы лежит слог. Слоги бывают краткие и долгие. Краткий слог соответствует единице времени. Долгий равен по длительности двум кратким, т. е. двум единицам времени. Таким образом, в основе всей метрики лежат различные сочетания единицы и двойки, двух начал, о которых Августин писал в I кн. Из соединения слогов образуются стопы. Стопы бывают двухсложные, трехсложные и четырехсложные. При этом слоги (долгие и краткие) могут соединяться в них во всех возможных сочетаниях. Августин перечисляет все варианты стоп с указанием их традиционных греческих названий, принятых и латинской поэтикой (II, 8, 15). Соединяясь на основе равенства и временного согласования друг с другом, стопы образуют различные ритмы. Августин рассматривает принципы объединения различных стоп, которые сводятся к тому, что объединяться стопы могут на основе соответствия по времени и в тактах (такт – подъем и понижение стопы). Не все стопы могут образовывать ритм. Так, амфибрахий не может образовать ритма. Лучше всего соединяются в ритмы четырехсложные стопы. Стопы, имеющие более четырех слогов, ритма образовать не могут (III, 5, 12).

Итак, ритм – это определенное соединение согласующихся стоп, бесконечно повторяющееся во времени. Ритм, имеющий ограничение, определенное временное завершение, называется метром. Отсюда каждый метр является ритмом, но не каждый ритм – метром. Термин «ритм» больше распространен в музыке, касается той ее части, где речь идет о сочетаниях временных единиц различной длительности. Метр относится к поэзии. Метр, имеющий приблизительно в середине членение (определенное разделение) и представляющий собой законченную мысль, называется стихом. Августин показывает, что названия эти достаточно условны и часто стих называют метром, метр – ритмом, и наоборот (III, 1, 1–2, 4; V, 1, 1). Ритм носит название той стопы (при соединении различных стоп), которая имеет преимущество над другими стопами. В метре должны быть определенные временные паузы (silentia) длительностью от одной до четырех единиц времени554.
Метр и стих имеют временные ограничения. Пространство стиха – от восьми до тридцати двух единиц времени (кратких слогов); самый краткий метр – две стопы, самый короткий стих – четыре стопы (III, 9, 20). Путем сочетания различных стоп, как показывает Августин в IV кн., можно образовать 571 вид различных метров (IV, 12, 15). Кроме того, существует определенное количество метров, возникших в результате нарушения метрических закономерностей. Они носят имена поэтов, впервые их употребивших (IV, 13, 30). Различные метры могут объединяться на основе тактового соответствия друг другу в периоды, которые у латинян называются «круговращением» (circuitus). Бывают двухчленные, трехчленные и четырехчленные периоды (IV, 17, 36). Первые превосходят остальные.
Любопытное объяснение предлагает Августин происхождению слова стих (versus). Оно ведет свое начало не от прямого значения глагола vertere (поворачивать), как думают некоторые, считая, что стих на определенном этапе возвращается к началу ритма (это относится также и к метру). Наименование стиха, возможно, происходит от противоположного значения слова versus – т. е. «не могущий быть повернутым», ибо два члена, из которых состоит стих, не могут поменять свои места без нарушения закона чисел (V, 2, 4)555. Однако, добавляет Августин, происхождение слов – дело далеко не всегда ясное и этим не стоит особо увлекаться. Главное, чтобы сам предмет был ясен.
Несмотря на бесчисленное множество метров, стих может состоять только из двух не меняющихся местами членов, которые, в свою очередь, имеют или равное число полустоп, или – неравное, но находящееся в некоторой соразмерности (V, 13, 27).
Такова техническая сторона метрической теории в изложении Августина. В ней пока еще не освещено главного, что могло бы заинтересовать историка эстетики, а именно: на основе каких принципов происходит образование ритма, метра, стиха? что является критерием оценки хорошего и плохого ритма? где тот судья, который определяет, какие стопы могут образовывать ритм, а какие нет? какие метры могут соединяться друг с другом? и т. п. Ответ на эти и подобные вопросы заключен в эстетической теории ритма, которая в ряде своих основных положений излагается Августином в VI кн., но начало ее заложено здесь, во II-V кн. Собственно говоря, весь трактат, как писал сам Августин, посвящен ритму. В I кн. были даны некоторые математические основы ритма, в последующих четырех книгах – их конкретная реализация в художественных ритмах. Эстетическая проблематика ритма, связанного с конкретным искусством, у Августина достаточно традиционна и опирается на античную классику. В целом идеи эти общи были практически всем греко-римским авторам. Августин мог найти их и у Варрона, и у его младшего товарища и друга – знаменитого Цицерона, к которому он относился с нескрываемым уважением, и у Теренциана Мавра.
Эстетическая значимость ритма в искусстве настолько очевидна для Августина и настолько, видимо, была общеизвестна в то время, что он только мельком ссылается на нее как на вещь тривиальную. Чтобы правильно оценить эти ссылки Августина, следует хотя бы вкратце напомнить античные представления об эстетике ритма556, скажем, по теории ритма в ораторском искусстве у Цицерона, который, опираясь на Аристотеля и Феофраста, наиболее полно осветил указанную проблематику. И хотя ритм в обыденной речи и ритм в стихах имеют каждый свою специфику, тем не менее, как подчеркивали авторы риторик, сущность ритма одна: это один и тот же художественный ритм, основанный на тех же стопах, но в красноречии применяемый несколько иначе, чем в поэзии. А так как в ораторское искусство ритм пришел из поэзии благодаря своим чисто эстетическим свойствам, то риторы в своих теориях главное внимание уделяли именно его эстетической стороне. Поэтому в риторике, занимавшейся в эллинистический и позднеантичный период больше всего эстетической проблематикой, эстетика ритма была разработана, может быть, даже основательнее, чем в поэтике. Ясно, что и позднеантичный учитель красноречия Августин хорошо знал ее из трактатов своего кумира Цицерона и из других популярных учебников.
Специально о ритме Цицерон говорит в трактатах «Об ораторе» (III, 173–198) и «Оратор» (168–236)557.
Ораторы начали применять ритм в речах, чтобы сделать их «приятными для слуха. Ибо музыканты, бывшие некогда также и поэтами, придумали два приема доставлять удовольствие – стих и пение, чтобы и ритмом слов, и напевом голоса усладить и насытить слушателей» (De orat. III, 174)558. Красноречие же, «где все направлено к удовольствию толпы и к услаждению слуха» (Orat. 71, 237), естественно, активно использовало этот важный эстетический прием – ритмизацию речи. Ритм понимался в античности как чисто эстетический элемент, ибо его главное назначение видели в придании красоты развивающимся во времени процессам и в возбуждении чувства удовольствия, наслаждения. «...В человеческом слухе от природы заложено чувство меры», которое получает удовлетворение, когда человек слышит ритм. Ритм существует только в прерывистых движениях, когда, скажем, звуки чередуются с промежутками (как в падении капель) и его нельзя уловить в непрерывном движении бурного потока (De orat. III, 186). Заметив эту врожденную способность слуха к измерению звуков, к мере, к ритму, проницательные люди древности создали стих и поэзию, а позже стали применять ритм для украшения речи (Orat. 53, 178).
Ритм имеет четкую числовую основу. Не случайно у греков еще со времен Аристотеля слово «ритм» (rythmos) считалось родственным по смыслу с «числом» (arythmos), а в латинском ритм и число обозначаются одним термином numerus. Тем не менее, постоянно подчеркивает Цицерон, ритм открыт был не рассудком, «а природой и чувством, а размеряющий рассудок объяснил, как это произошло» (55, 183). И если о предметах и словах судит разум, то о звуках и ритме суждение дает слух, ибо они служат только наслаждению (49, 162). Цицерон практически полностью стоит на той позиции, что собственно эстетическое воспринимается только чувством, а не разумом, с чем никак не соглашается Августин. Цицерон, в данном случае прежде всего как практик искусства, прилагавший много усилий для «услаждения слуха толпы», уверен, что между теорией и практикой искусства нет той пропасти, о которой позже, как мы помним, так последовательно и упорно писал ранний Августин. Цицерон был глубоко уверен в том, что всем людям от природы дана способность воспринимать (чувствовать) искусство, особенно же ритмические искусства. «Ведь все, как один, – писал он, – по какому-то безотчетному чутью, без всякого искусства или науки отличают верное от неверного и в искусствах, и в науках. И раз люди разбираются так и в картинах, и в статуях, и в других художественных произведениях, для понимания которых у них меньше природных данных, то тем более они способны судить о словах, ритме и произнесении потому, что для этого во всех заложено внутреннее ощущение и по воле природы никто этого чутья полностью не лишен. <...> Много ли таких, кто постиг законы ритмики и метрики? Однако при малейшем их нарушении, когда стих либо укорачивается от сокращения, либо удлиняется от растяжения слога, весь театр негодует» (De orat. III, 195 – 196).
В трактате «Оратор» он развивает ту же тему: «Целый театр поднимает крик, если в стихе окажется хоть один слог дольше или короче, чем следует, хотя толпа зрителей и не знает стоп, не владеет ритмами и не понимает, что, почему и в чем оскорбило ее слух; однако сама природа вложила в наши уши чуткость к долготам и краткостям звуков, так же как и к высоким и низким тонам» (Orat. 51, 173). Образованный музыкант и простой слушатель воспринимают и чувствуют искусство в одинаковой мере. Музыкант может только создавать искусство и судить о его достоинствах с точки зрения техники. Равенство неуча и опытного музыканта в эстетическом восприятии удивляет мудрого оратора, и он пытается объяснить его: «Удивительно, какая между мастером и неучем огромная разница в исполнении дела, и какая малая – в суждении о деле. Ведь раз всякое искусство порождается природой, то, если бы оно не действовало на нашу природу и не доставляло бы наслаждения, оно ни на что не было бы годно. А от природы нашему сознанию ничто так не сродно, как ритмы и звуки голоса, которые нас и возбуждают, и воспламеняют, и успокаивают, и расслабляют, и часто вызывают в нас и радость, и печаль» (De orat. III, 197). Итак, резюмирует Цицерон: откуда произошли ритмы в прозе? И отвечает: «из стремления к наслаждению слуха... Чему они служат? – наслаждению... Чем они порождают наслаждение? – тем же, что и стихи; как и в стихах, меру здесь находит искусство, но и без искусства ее определяет бессознательное чутье самого слуха» (Orat. 60, 203).
Таким образом, как бы подводя итог античным, достаточно единодушным суждениям о ритме, Цицерон показывает, что ритм возник и существует в искусстве, в первую очередь как носитель эстетического начала559. Соответственно, хотя он и имеет строго числовую основу, судит о нем прежде всего врожденное чувство слуха. Наука уже на основе этого пытается выяснить, как следует правильно организовывать ритм в искусстве.
Августин в целом придерживается этой теории, хотя отдельные ее положения сознательно трансформирует. О происхождении ритма Августин писал еще в трактате «О порядке», когда разбирал вопрос о возникновении наук и искусств. Все они, считает он, – изобретение разума, находящегося в человеке и действующего для пользы человека. О ритме речь заходит при изобретении музыки и поэзии. Рассматривая звуки речи, разум заметил, что стопы состоят из долгих и кратких слогов, которые беспорядочно, но в равном почти количестве рассыпаны по речи. Он попробовал «соединить их в определенные ряды и, следуя при этом прежде всего самому смыслу, выделил небольшие части, которые назвал цезами и членами. А чтобы ряды стоп не продолжались до такой степени, что стали бы утомлять его внимание, он поставил им предел, от которого они бы возвращались, и от этого самого назвал их стихами. А чему не было установлено определенного конца, но что выражалось, однако, разумной последовательностью стоп, то он обозначил именем ритма, которое на латинский язык может быть переведено словом numerus» (De ord. II, 14, 40). Разум заметил, что и здесь, «как в ритмах, так и в самой мерности речи, царствуют и все делают числа». Присмотревшись более внимательно, он «нашел их божественными и вечными, прежде всего потому, что с их помощью он создавал все наиболее возвышенное» (II, 14, 41).
Далее разум перешел к сфере зрения и, осматривая землю и небо, почувствовал, что ему нравится не что иное, как красота, а в красоте – образы (figuras), а в образах – размеренность, в размеренности же – числа». И задал разум себе вопрос, а таковы ли эти линии, очертания, формы и образы, какие существуют в его понятии, т. е. в идее. И увидел, что все видимые формы никоим образом не могут сравниться с тем, что видит разум. Проведя классификацию и упорядочение этих идеальных форм, он создал науку, которую и назвал геометрией. В небе разум также усмотрел господство размеренности и чисел, что послужило началом науки астрономии.
«Итак, во всех этих науках встречал он все подчиненным числам, но так, однако, что числа эти яснее выступали в тех измерениях, которые он, размышляя и обдумывая сам про себя, усматривал истиннейшими; в этих же, которые воспринимаются чувствами, он усматривал лишь тени и следы тех. Это его сильно воодушевило и обнадежило; он отважился доказывать бессмертие души. Он исследовал все внимательно и понял вполне, что он очень многое может сделать и что может, то – [лишь] посредством чисел». Столь великая сила чисел убедила разум, что «в числе есть Тот, Кого он стремился достичь» (II, 15, 42–43), и, следовательно, все упорядоченное в числовом отношении, соизмеримое и «счислимое», и в частности науки и искусства, могут способствовать возведению ума к божественному (П. 16, 44). Ритм ( число) играет, таким образом, важнейшую роль в религиозной ( иррациональной) гносеологии. Этим вопросам Августин уделяет много внимания в VI кн. «De musica».
Во II – V кн. он занят материальными аспектами ритма. Размеренность чисел в ритме и стихе доставляет удовольствие (voluptas, delectatio) (De mus. II, 2, 2). Эта размеренность достигается, если стопы и такты в ритме соединяются друг с другом на основе равенства, соразмерности и подобия (II, 9, 16; 11, 21; 13, 24). Aequalitas, которое в одних случаях у Августина означает равенство в смысле полного тождества, а в других – соразмерность, выступает у него одним из главных эстетических принципов. Именно основанные на равенстве соединения стоп, тактов, метров доставляют удовольствие чувству слуха. Убежденный в абсолютности этого закона, Августин стремится все свести к нему и объяснить им. Так, он знает из практики, что два члена стиха могут содержать как равное, так и неравное число полустоп. С помощью хитрой «игры» с числами, основанной на восходящей еще к пифагорейцам мистике чисел, Августин стремится показать, что и неравенство в полустишиях – частный случай равенства, особой соразмерности, к которой он и стремится свести свои числовые манипуляции (V, 7).
Мы помним, что Цицерон при оценке метрических явлений отдавал предпочтение «слуху». Августин регулярно использует (как правило, поочередно) два критерия оценки. На первом месте у него стоит разум (ratio), знающий законы чисел, который тогда был для Августина выше суждений чувств и авторитетнее традиционных правил. Рассуждая о любых предметах, утверждает он, нужно полагаться не на мнения людей, даже освященные древней традицией, которые могут оказаться ложными, а на разум. Ему-то и следовали древние поэты и теоретики. «Вечная идея вещей» (aeterna rerum ratio), постигаемая нашим разумом, и должна быть главным критерием истинного суждения (V, 5, 10). Однако в вопросах ритма далеко не все, даже на основе хитрых манипуляций с числами и словами, можно объяснить с помощью разума, и Августин постоянно вынужден прибегать ко второму критерию – бессознательному суждению слуха на основе чувства удовольствия или неудовольствия. Этот критерий часто оказывается наиболее убедительным, а иногда и единственным.
Августин неоднократно отмечает, что, помимо метров, подчиняющихся видимым числовым закономерностям, многие поэты применяли и метры, нарушавшие эти закономерности. Эти метры, получив имена поэтов, впервые их применивших, вошли вопреки разуму в поэтическую практику. Чтобы не нарушать стройное здание числовой эстетики, Августину приходится отнести эти метры скорее к исторической традиции, чем к искусству (в смысле теоретической дисциплины), ибо хотя они и доставляют удовольствие в стихах, но не подчиняются разумному счислению (IV, 13, 30). Особенно часто они встречаются у лирических поэтов (V, 13, 28). По мере усложнения ритмических образований – при переходе от метра к стиху обоснование тех или иных закономерностей стиха все чаще опирается на эстетические критерии. В частности, именно на этой основе объясняет Августин двухчастное строение стиха. «Не заключена ли основа того, что [стихотворная] стопа услаждает слух, – риторически вопрошает Августин, – в том, что две ее части, из которых одна повышается, а другая понижается, гармоничны в числовом отношении (numerosa sibi concinnitate)?»
В чем же заключается эта гармоничность (concinnitas)? «Среди всех предметов, которые воспринимаются состоящими из частей, не те ли являются более прекрасными, чьи части взаимно согласованы (concordent), по сравнению с имеющими несогласованные и диссонирующие части?» Даже ученик не сомневается, что это именно так. Виновником деления на равные части является число 2. Так и в стопе, состоящей из двух частей, именно их гармоничность радует слух. Поэтому-то двухчастные метры имеют преимущество над остальными (V, 2, 2). Строгой логики в этих рассуждениях искать, конечно, не приходится. Весь их смысл сводится к тому, что не до конца объяснимые вещи типа гармонии, согласованности, равенства частей в целом возбуждают чувство удовольствия и воспринимаются как прекрасные, а следовательно, как правильные и разумные, хотя и человеческим разумом не до конца объясняемые.
В конце V кн. Августин собирается обратиться от всех этих материальных следов музыки и чисел к самому их средоточию, центру (ad ipsa cubilia), который далек от земных предметов (V, 13, 28).
Эту же мысль он развивает и в первой главе VI кн., указывая, что предыдущие пять книг были подготовкой к последней, ведущей читателя от сферы телесной к первоисточнику и господину всех вещей, который руководит «человеческим духом» без какой-либо посредствующей природы, т. е. к Богу (VI, 1, 1). Этот переход в данном трактате Августин усматривает исключительно в сфере чисел (ритмов), выстроенных поразрядно в иерархическом порядке. Важное место в этой иерархии занимают числа, связанные с психическими механизмами восприятия, и прежде всего эстетического восприятия, поэтому нам представляется целесообразным перенести анализ этой книги в гл. X и завершить там анализом высших разрядов чисел у Августина разговор о его эстетике вообще.
Подводя предварительный итог августиновской теории числа и ритма, можно отметить, что numerus играет у Августина роль важнейшего структурного закона, которому подчинено все в мире бытия. Понятие числа у Августина существенно шире современного значения этого термина. Оно включает в себя, как минимум, всевозможные структурные закономерности, как временные, так и пространственные, которые в конечном счете обусловливают эстетическую значимость универсума и произведений искусства, и прежде всего красоту мира, человека и творений рук его.
Глава VI. Красота и прекрасное
Анализ общих философско-эстетических понятий порядка и ритма у Августина вплотную подводит нас еще к одному важному вопросу его эстетики. Красота, прекрасное волновали гиппонского епископа отнюдь не только в юношеском возрасте. Как мы уже отчасти видели, эти категории лежали в основе всей его эстетики и осмысливались им в тесной связи с такими проблемами, как порядок, ритм, число, блаженство, удовольствие, творчество. В понимании красоты и прекрасного Августин опирался прежде всего на весь известный ему опыт греко-римской эстетики, пытаясь трансформировать его в библейско-христианском духе. Особо сильное влияние оказали на него эстетические идеи Плотина, который по праву может быть назван завершителем и систематизатором практически всех античных представлений о красоте, отчасти их реформатором и зачинателем новых, положивших начало средневековой эстетике. Многие эстетические идеи представителей патристики и зрелого Средневековья, как на Востоке, так и на Западе, восходят к эстетике таких платоников, как Филон Александрийский, Климент Александрийский и Плотин560 . Здесь целесообразно хотя бы кратко напомнить плотиновскую теорию прекрасного561.
Развивая на новом культурно-историческом этапе платоновские идеи, Плотин посвятил вопросам прекрасного много места в своих «Эннеадах» и, в частности, два специальных трактата: «О прекрасном» (Эн. I, 6) и «О мысленной красоте» (Эн. V, 8)562, в которых с достаточной полнотой представлена его эстетическая концепция.
В первом трактате Плотин начинает разговор о прекрасном с чувственно воспринимаемой красоты, сразу же оговариваясь, что прекрасными могут быть и поступки, и занятия, и знания, и добродетели, и им подобные явления. Прежде всего он подвергает критике известное стоическое определение красоты563, имевшее хождение и во времена Августина, и в средневековой эстетике: «Почти все, можно сказать, утверждают, что красоту, воспринимаемую зрением, порождает соразмерность (συμμετρία) частей друг с другом и с целым, в связи с прелестью красок. И для тех, кто это утверждает, и вообще для всех остальных, быть прекрасным – значит быть симметричным и соразмерным. Для них ничто простое не будет прекрасным, а необходимым образом лишь сложное, и [лишь] целое будет для них прекрасным. Отдельные же части не будут для них прекрасны, части должны согласоваться с целым, чтобы получилось прекрасное. Между тем если целое прекрасно, то и части должны быть прекрасны, ибо [прекрасное] не может состоять из безобразных частей, но все части должны получить красоту» (Эн. I, 6, Г). Плотин, пожалуй, впервые в истории эстетики поставил вопрос о красоте простых вещей, таких, как свет солнца, звезд, зарницы, локальный цвет, отдельно взятый звук и т. п., и на этой основе показал недостаточность традиционной формулы прекрасного. Далее, он подметил, что одно и то же симметричное и соразмерное лицо в одни моменты бывает прекрасным, а в другие нет. Поэтому, заключает он, и в самой соразмерности есть не что иное, чем она сама, что придает ей красоту. Если же обратиться к прекрасным занятиям, речам, математическим знаниям, добродетелям и т.п. явлениям духовно-практической деятельности, то здесь уже, полагает Плотин, совсем неуместно говорить о симметрии и соразмерности.
Стремясь понять сущность прекрасного в видимых предметах, он вынужден обратиться к сфере восприятия. Воспринимая прекрасное, душа настраивается на один с ним лад, принимает его в себя; натолкнувшись же на безобразное, она отвращается от него, чуждается его, не принимает в себя. Душа, принадлежа по своей сущности к лучшему из всего существующего, радуется, изумляется и принимает в себя только то, что сродно ей, подобно тому, что принадлежит ей. Что же сходного у мира души и у прекрасных материальных тел? Плотин усматривает это сходство в приобщенности к идее, эйдосу, внутренней форме (τό ένδον είδος). Видимые тела «прекрасны через приобщение эйдосу (μετοχή είδους), скажем мы, ибо все бесформенное, способное по природе своей принять форму и эйдос и лишенное, однако, логоса и эйдоса, безобразно и чуждо божественному уму; и это все безобразно. Безобразно и то, что не подчинено форме и логосу, так материя не допускает полного оформления согласно эйдосу. Итак, эйдос, привходя [к материи], приводит в порядок то, что благодаря сочетанию должно сделаться единым из многих частей, и приводит в единую полноту целого, и в силу согласия делает единым. <...> Таким-то образом возникает прекрасное тело чрез приобщение логосу, исходящему от божественного [начала]» (Эн. I, 6, 2).
Плотина интересуют не формальные признаки прекрасного, но его сущностная причина, и он усматривает ее в некоторой идее, или эйдосе564, находящем выражение в материи. Главной характеристикой прекрасного (и не только в мире визуальных форм) выступает у него степень выраженности эйдоса в иерархически более низкой ступени бытия. Красота начинает проявляться в материи по мере ее упорядочивания (оформления) и преодоления духовным эйдетическим началом, которое находит пластическое воплощение в прекрасных телах и произведениях рук человеческих. Так, «внешний вид здания, если удалить камни, и есть его внутренний эйдос (τό ένδον είδος), разделенный внешнею косной материей, эйдос неделимый, хотя и проявляющийся во многих [зданиях]» (Эн. I, 6, 3). Таким образом, Плотин в русле позднеантичного платонизма нашел новое и более обобщенное решение проблемы прекрасного. Под его определение подходили как сложные, так и простые эстетические объекты, как предметы материального мира, так и явления разнообразной предметно-практической и духовно-интеллектуальной деятельности. Воплощение или выражение того или иного эйдоса платоник мог спокойно найти практически во всяком элементе и явлении любой сферы универсума. К примеру, «простая красота цвета [возникает] благодаря форме и преодолению темного начала в материи присутствием бестелесного и умного света, который является эйдосом (идеей). Поэтому и самый огонь прекрасен более остальных тел, так как по отношению к остальным элементам он занимает место эйдоса, ибо он и выше других тел по положению, и самое легкое из тел, будучи близким к бестелесному. <...> и огонь изначально имеет цвет, остальные же тела от него получают эйдос цвета. Итак, он (огонь. – В. Б.) блестит и сверкает, будучи как бы эйдосом. Все же, что не властвует [над материей], так как обладает скудным светом, не прекрасно, как не причастное всецело эйдосу цвета» (Эн. I, 6, 3).
От чувственно воспринимаемого прекрасного Плотин переходит, «восходя вверх», к рассмотрению прекрасного «более высокого порядка», которое воспринимается душой без посредства органов чувств и недоступно чувственному восприятию. Таким образом, Плотин намечает иерархический подход к сфере прекрасного, что вполне закономерно вытекает из его эманационно-субординативной концепции универсума и хорошо соответствует духу платонизма.
Ко второму уровню прекрасного Плотин относит красоту занятий и знаний, «сияние добродетели», «прекрасный лик справедливости и умеренности», и т. п. вещи, которые своей красотой значительно превосходят красоту природных явлений. Прекрасное этого уровня доставляет наслаждение, потрясение, изумление значительно большей силы, чем красота телесная (Эн. I, 6, 4). Чтобы выявить суть «душевной» красоты, Плотин применяет прием «от противного» – выясняя сначала сущность безобразного души, которое проявляется в невоздержанности, несправедливости, обилии страстей, в трусости, любви к нездоровым плотским наслаждениям и т. п. Безобразное души состоит в загрязненности ее всяческими телесными пороками. «Итак, мы едва ли ошибемся, сказав, что душа становится безобразною в силу смешения и соединения с телом и материей и склонности к ним. Это безобразие заключается в том, что душа бывает не чистою, не несмешанною» (Эн. I, 6, 5), и, следовательно, красота души и всего этого уровня вообще заключается в очищении от всего тленного, телесного.
«Итак, душа очищенная становится эйдосом и логосом, вполне бестелесною, разумною, всецело принадлежит божеству, в котором источник прекрасного и всего подобного, что сродни ему. Итак, душа, возведенная к уму, – прекрасное во много большей степени». Плотин переходит к следующей ступени красоты – уму. При этом мысль его постепенно переключается от души человека к Душе и Уму мира, которые истекают из Единого или Бога и образуют весь мир и его красоту. «Красота, – продолжает Плотин, – свойственная душе от природы, а не заимствования, и есть ум и то, что проистекает из ума, ибо лишь тогда душа бывает поистине только душою. Поэтому-то правильно говорится, что добро и красота для души заключаются в том, чтобы уподобиться Богу, ибо оттуда прекрасное и всякий иной удел сущего» (Эн. I, 6, 6). Бог являет собой вершину эстетической иерархии. По сравнению с ним материя выглядит безобразной. В Боге неразрывно соединены высшее благо и красота, которая поступенчато эманирует в мир материального бытия: «и на первом месте следует поставить красоту, тождественную с добром, из которого проистекает непосредственно ум как прекрасное. Душа же – прекраснее благодаря уму, а все остальное прекрасное – в поступках, в занятиях – прекрасно уже благодаря душе, дающей форму. Душа, равным образом, делает уже прекрасными и те тела, которые так называются: так как душа божественна и как бы часть (μοίρα) прекрасного, то [все вещи], с которыми душа соприкасается и подчиняет их себе, она делает прекрасными, насколько они способны приобщаться красоте» (Эн. I, 6, 6).
Божество, высшее благо описывается в этом трактате в эстетической терминологии. Его видение, по сути дела, тождественно акту эстетического восприятия: «Кто еще не лицезрел его, тот стремится к нему как к благу; кто же видел, тот восхищается как прекрасным, бывает преисполнен изумления, смешанного с блаженством, испытывает безболезненное потрясение, любит истинной любовью, со страстным пылом, смеется над всякою другою любовью и презирает то, что прежде считал прекрасным». В процессе этого постижения субъект сам приобщается высшей красоте, становится прекрасным: «Итак, если кто-либо узрел то, что стоит во главе хоровода всех вещей, что дает, оставаясь в самом себе, и ничего в себя не принимает, узрел, пребывая в созерцании подобного и наслаждаясь им, в каком еще прекрасном нуждался бы он? Оно, будучи само наивысшей и первой красотой, делает любящих его прекрасными и достойными любви» (Эн. I, 6, 7).
Итак, в трактате I, 6 Плотин дает четкую иерархию красоты, или прекрасного565. Причиной и источником красоты является Бог, как высшее единство добра и красоты. От него красотой наделяется Ум, который сообщает ее в виде эйдосов Душе. Душа же дает форму, или эйдосы, т. е. красоту всей духовно-практической деятельности человека и его душе, и в последнюю очередь всем телам материального мира. Человек, в свою очередь, как существо духовное, т. е. присущее эйдосу, имеет потребность в общении с красотой и в идеале – стремление приобщиться к высшей красоте, обладание которой доставляет неописуемое блаженство. Относительно высшей ступени, т. е. Бога, Плотин не может дать точной дефиниции: то ли это единство добра и высшей красоты, то ли – «добро, стоящее превыше красоты, – источник и первоначало прекрасного». Ум уже полностью принадлежит к сфере прекрасного. Он источник эйдосов, а красота – это эйдосы и «все прекрасно благодаря идеям – порождениям и сущности ума» (Эн. I, 6, 9). Эйдосы выступают главным носителем красоты в эстетической иерархии Плотина.
В трактате V, 8 Плотин дополняет свою иерархию красоты и делает ряд интересных эстетических выводов. Прежде всего, здесь вводится в иерархию красота искусства. Произведения искусства обладают особой, чувственно воспринимаемой красотой, которую придает бесформенному природному материалу художник. Форма же, или эйдос, произведения искусства сначала появляется в замысле художника и лишь затем реализуется в материале. Возникает же этот эйдос у художника потому, что он причастен искусству. «Следовательно, – заключает Плотин, – красота эта присутствовала в искусстве в более высоком виде. Именно не привходит в камень та красота, что в искусстве, но она остается [не причастной камню], а привходит от него (искусства) другая, меньшая, чем эта. Да и эта не осталась чистой в камне и не осталась такой, как хотел художник, но [такой], насколько камень поддался искусству. Если искусство творит то, что оно [есть само по себе] и чем обладает, то оно в большей и истиннейшей степени прекрасно, обладая красотою искусства, конечно, большей и прекраснейшей, чем та, которая есть во внешнем [проявлении]» (Эн. V, 8, 1).
Итак, Плотин впервые сознательно и аргументированно поставил вопрос о связи искусства (при этом он имел в виду прежде всего изобразительные искусства и архитектуру, т. е. не «свободные», но «механические» искусства!) с красотой. «В античную эпоху, – писал В. Татаркевич, – об этой связи говорили мало. Именно Плотин увидел в прекрасном первостепенную задачу, ценность и меру искусства. То был, по выражению одного исследователя, «непреходящий подвиг Плотина»566. Развивая платоновские идеи, Плотин утверждает, что существует некая чисто духовная дисциплина искусства, типа, скажем, науки музыки или поэтики, в которой и обитает идеальная красота искусства. Художник, овладев этой дисциплиной, «наукой», стремится на ее основе творить собственно материальные произведения искусства, грубая и косная материя которых не позволяет до конца воплотить идеальную красоту искусства, поэтому реальные произведения содержат лишь более или менее удачные отображения этой красоты. Степень приближения к «внутренней форме» искусства зависит от таланта и технической подготовки художника.
В соответствии с таким пониманием задач искусства Плотин уточняет и значение термина подражание применительно к изобразительным искусствам. В понимании крупнейшего неоплатоника они подражают не внешнему виду природных предметов, но их «внутренней форме», их эйдосам, идеям, логосам, стремясь выявить и выразить в по-новому организованных с помощью искусства материальных формах внутреннюю красоту изображаемой вещи. «А если кто-нибудь принижает искусства, – пишет Плотин, – на том основании, что они в своих произведениях подражают природе, то прежде всего надо сказать, что и произведение природы подражает [чему-то] иному. Затем необходимо иметь в виду, что произведения искусства подражают не просто видимому, но восходят к смысловым сущностям (λόγους), из которых состоит и получается сама природа, и что, далее, они многое созидают и от себя. Именно, они прибавляют к так или иначе ущербному [свои свойства] в качестве обладающих красотой» (Эн. V, 8, 1).
Эти важные выводы античного мыслителя легли в основу не только средневековой эстетики, но вдохновляли и вдохновляют на творческие подвиги десятки поколений художников вплоть до наших современников. У многих теоретиков и практиков современного искусства мы найдем высказывания, почти дословно совпадающие с плотиновскими. И это не случайно, ибо суждения об искусстве этого, по выражению В. Татаркевича, «наиболее абстрактного и трансцендентного из античных философов»567 отнюдь не были плодом чистого умозрения. Напротив, они опирались на глубокое проникновение в наивысшее достижение античного художественного гения – творчество знаменитого Фидия (см.: Эн. V, 8, 1).
Подчеркнув еще раз, что внешняя красота как в природе, так и в искусстве не является главной, но люди, не понимая, что через внешнюю на них действует внутренняя красота, гонятся обычно именно за телесной красотой (Эн. V, 8, 2). Плотин опять напоминает об иерархичности красоты, дополняя иерархию новыми членами. Так же, как между произведением искусства и Душой он вводит красоту самого искусства, – так и между природными произведениями и Душой он ставит некоторую идеальную красоту природы. «Итак, и в природе существует смысл красоты, являющийся первообразом по отношению к [красоте] телесной; а по отношению к той, что в природе, существует еще более прекрасный смысл в душе, от которого возникает и тот, что в природе» (Эн. V, 8, 3). Здесь же Плотин отождествляет красоту со светом, отмечая, что красота ума передается душе, «принося ей свет от большего света, как от красоты первичной». Эти идеи впоследствии положил в основу своей эстетики анонимный автор знаменитых «Ареопагитик»568.
От Ума, развивает далее свою теорию Плотин, происходит не только красота Души, но и красота богов, которые совместно с Единым образуют некую божественную целостность – космос божественности. Все «боги возвышенны, прекрасны; и красота их неизъяснима» (Эн. V, 8, 3). Плотин говорит, конечно, не о внешней форме богов, хотя считает, что и таковой они обладают, но о их внутренней сущности, которая имеет бытие внутри божественного космоса в глубоком духовном единстве с Первопричиной. Единство этого высшего мысленного космоса антиномично (единство и различие одного и всех богов) и частично напоминает сложное тождество и различие ипостасей в христианской Троице, как ее позже осмыслили, видимо, не без плотиновского влияния, отцы православной догматики. Плотин так представлял себе высшего бога – источник всей красоты и божественный космос: «И он, возможно, придет (после молитвы к субъекту духовного созерцания. – В. Б.), неся свой собственный космос со всеми богами в нем, будучи одним и всеми, когда и каждый есть все боги, соединяясь в одно и различествуя заложенными в них силами, но по одной силе, свойственной многим, одним бог, будучи одним, является всеми богами.
Действительно, сам он не убывает, когда те все возникают. Они – вместе, и, в свою очередь, каждый – порознь в непротяженном покое, без всякой чувственной формы. В последнем случае один был бы в одном месте, другой же – где-нибудь в другом, и каждый был бы в самом себе не весь. Не имеет он [высший бог] и разных самостоятельных частей в других или в самом себе; каждое в отдельности целое не есть [тут] раздробленная сила и такая по величине, сколько в ней измеренных частей. Оно всё есть сила, идущая в беспредельность и до беспредельности наполненная силой. И он, высший бог, настолько велик, что и части его стали беспредельными» (Эн. V, 8, 9). Эти идеи Плотина имели большое историческое будущее, ибо намечали путь к преодолению однозначного дискурсивного описания величин, выходящих за узкие рамки формальной логики. Греческая патристика особенно охотно встала на этот путь. Предельной виртуозностью в описании нелогических закономерностей, как известно, отличался Псевдо-Дионисий Ареопагит569. Латинское христианство было менее восприимчиво к антиномическому мышлению. Августину потребовалось написать целый большой трактат (один из главных в его творчестве), чтобы, используя все свои знания, всю свою «диалектику» и риторику, попытаться логически доказать возможность и истинность бытия нелогичного божественного Триединства. По сути дела, разъяснению и обоснованию только что приведенной мысли Плотина, которая, видимо, была известна Августину, но применительно уже к христианским ипостасям, и посвящен его трактат «О Троице».
Возвращаясь непосредственно к эстетике, отметим, что именно этот антиномический и максимально прекрасный мысленный космос Плотин наделяет истинным бытием. У Плотина, как и вообще в греко-римской античности, красота онтологична (собственно κόσμος по-гречески и есть красота, украшение, и не случайно здесь именно этот термин применяет Плотин). Но у автора «Эннеад» красота является не просто свойством бытийствующей субстанции, как во всей античной традиции до него, но относится к самой сущности бытия. Степень причастности бытию у него пропорциональна красоте субстанции: чем она прекраснее, тем – бытийственнее, ближе к истинному и вечному бытию, и обратно. «Тамошняя же потенция, – пишет Плотин, – имеет только бытие, и только бытие в качестве прекрасного. Да и где сущность была бы лишена бытия в качестве прекрасного? С убылью прекрасного она терпит ущерб и по сущности. Потому-то бытие и вожделенно, что оно тождественно с прекрасным, и потому-то прекрасное и любимо, что оно есть бытие. Зачем разыскивать, что для чего является тут причиной, если тут существует одна природа? Эта вот [чувственная] ложная сущность, конечно, нуждается в прекрасном лжеобразе, приходящем извне, чтобы и оказаться прекрасной и чтобы вообще быть. И она постольку существует, поскольку участвует в красоте, соответственной эйдосу, будучи совершеннее в меру этого приятия. Ибо более принимает форму (эйдос.– В. Б.) та сущность, которая есть собственно прекрасная» (Эн. V, 8, 9). В другом месте Плотин прибегает к образному выражению единства и неразрывности бытия и красоты и роли прекрасного в качестве показателя благополучия бытия: «Прекрасное ведь и есть не что иное, как цветущее на бытии», «цветущая на бытии окраска есть красота» (Эн. V, 8, 10).
В конце трактата V, 8 Плотин выдвигает бога, как отца всего прекрасного, выше всей иерархии, а «первично прекрасным» обозначает его сына, т. е. Ум. Душа же мира, как получившая красоту от него, отождествляется здесь с Афродитой (Эн. V, 8, 13). В целом иерархическая система красоты (или прекрасного) у Плотина может быть схематически представлена в следующем виде:
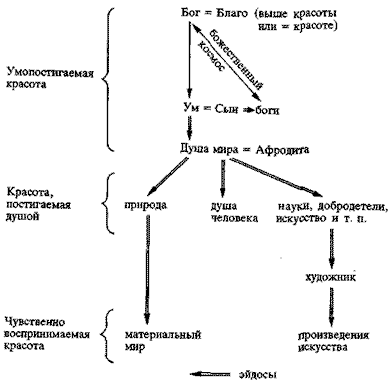
Таким образом, у Плотина вырисовывается стройная иерархия красоты, состоящая из трех ступеней. Первая, и высшая, ступень – это умопостигаемая красота. Источником ее является Бог (высшему благу), а главными носителями последовательно выступают Ум и Душа мира, которая, в свою очередь, дает начало следующей ступени красоты – постигаемой душой (человека). На этой ступени находится идеальная красота природы, красота души человека и красота добродетелей, наук, искусства. Нижнюю ступень иерархии занимает чувственно воспринимаемая красота, к которой Плотин относит реальную красоту мира и красоту произведений искусства. Передача красоты с высших ступеней иерархии на низшие производится с помощью эйдосов, исходящих от Ума, и имеет общую тенденцию к увеличению степени материализации красоты, ее огрублению. На эту иерархию, так или иначе ее переосмысливая, во многом ориентировалась средневековая эстетика и художественная культура.
Другой, не менее значимой проблемой для средневековой эстетики, и для августиновской прежде всего, была плотиновская концепция восприятия прекрасного. Не останавливаясь на ней подробно, мы отметим лишь следующие моменты.
Путь постижения красоты представлялся Плотину восхождением по иерархической лестнице. Первый шаг на этом пути заключается в «бегстве» от чувственно-воспринимаемой красоты «в родное отечество» – на более высокие ступени духовной красоты. На это, полагает Плотин, намекал в «темных выражениях» еще Одиссей, который бежал от Цирцеи и Калипсо, даривших ему усладу для глаз и чувственные наслаждения. Необходимо, как бы закрыв глаза, пробудить в себе внутреннее духовное зрение, «которое имеется во всех, а пользуются им немногие», и с его помощью приступить к созерцанию более высоких ступеней прекрасного (Эн. I, 6, 8). Внутреннее зрение, пробудившись, сразу не в состоянии смотреть на «блестящие предметы», т. е. на высшие ступени прекрасного. Поэтому сначала душа должна научиться видеть прекрасные занятия и прекрасные дела, которые совершаются хорошими людьми. После этого следует «взирать на души тех, кто совершает прекрасные дела. Итак, каким же образом узрел бы ты красоту хорошей души? Обратись к самому себе и посмотри» (Эн. I, 6, 9). Этот призыв обратиться внутрь себя, к созерцанию глубин своего внутреннего мира – важное достижение позднего платонизма (начала его мы находим еще у Филона Александрийского) и раннего христианства, которое было подхвачено и активно развито патристической мыслью и средневековой мистикой и философией. Оно оказало существенное влияние и на развитие эстетической мысли, ибо привлекло особое внимание к глубинным движениям в человеческой душе, к процессу эстетического восприятия, эстетического суждения и т. п. В последней главе мы увидим, как много удалось сделать в этом направлении Августину, развившему многие плотиновские идеи.
Понятно, что, погрузившись в созерцание своих глубин, далеко не всегда найдешь там красоту, – слишком уж удобное место там для сокрытия всего недостойного, порочного, безобразного, что отнюдь не чуждо человеку. Поэтому, подчеркивает Плотин, если не найдешь внутри себя красоты, начинай ее формировать в себе, наподобие скульптора, стремящегося изваять прекрасную статую: «одно он отсекает, другое полирует, одно сглаживает, другое подчищает, пока не выявит лицо статуи прекрасным. Так и ты: удали лишнее; выпрями то, что криво; очистив темное, сделай его сияющим; и не прекращай обрабатывать свою статую, пока не заблистает перед тобою богоподобная сияющая красота добродетели, пока не узришь мудрость восседающую в священном чистом [величии]» (Эн. I, 6, 9).
Достигнув этой ступени, созерцающий субъект сам становится «истинным светом», «самим зрением», способным к восприятию высшей красоты, ибо, полагает Плотин, акт восприятия возможен только в том случае, если воспринимающий становится «родственным и подобным» объекту восприятия. Никогда глаз наш не увидел бы солнце, если бы не был солнцеподобным, и душа не в состоянии узреть прекрасное, не сделавшись прекрасной. Поэтому всякий, кто желает видеть прекрасное, должен сам прежде стать прекрасным (Эн. I, 6, 9), т. е. подготовить свой внутренний мир для восприятия прекрасного. Только после этого возможно окончательное и полное восприятие красоты. Здесь Плотин приходит к тонким психологическим наблюдениям. Он показывает, что процесс восприятия красоты – процесс предельной психической активности субъекта восприятия, когда он, охваченный любовью к объекту, сам приобщается к его красоте, как бы внутренне сливается с ней и созерцает ее внутри себя – «тот, кто созерцает его проницательно, в самом себе имеет созерцаемое» (Эн. V, 8, 10).
Плотин хорошо ощущал, что в процессе восприятия прекрасного в душе возникает некий аналог объекта, некий образ, близкий, почти тождественный объекту, который и возбуждает духовное наслаждение. Кроме того, Плотин знал и о другом виде восприятия, нередко предшествующем только что описанному, когда душа переносит на объект восприятия свой собственный образ и созерцает его как принадлежащий объекту. Такое восприятие представлялось Плотину неистинным, но находящимся на пути к истинному (Эн. V, 8, 11). Восприятие прекрасного у Плотина во многом отождествлялось с постижением Первопричины, которое также осуществляется на сверхразумных путях, в том числе и эстетических, в акте экстатического озарения. Мудрость богов «высказывается не в суждениях, а в прекрасных образах»570, а их сущность не подлежит дискурсивному описанию. Поэтому, вероятно, не так уж парадоксален, как это казалось В. Татаркевичу, тот факт, «что этот наиболее абстрактный и трансцендентный из античных философов уделял так много внимания эстетике и сыграл такую важную роль в ее истории»571.
С особым интересом относился Плотин к зрительным образам и изобразительным искусствам. А. Грабар572, а вслед за ним и В. Татаркевич показали, что разработанная Плотином теория изобразительных искусств была реализована не позднеримским, но раннехристианским искусством, т.е. послужила определенным теоретическим фундаментом для европейского средневекового искусства и особенно – византийского. Мы приведем здесь резюме этой теории, данное В. Татаркевичем. Живопись по природе своей не имеет дела с «тем» миром, хотя и может его иметь, если, подобно музыке, сосредоточит свои усилия на ритме и гармонии573. Кроме того, она должна придерживаться следующих принципов. Необходимо избегать тех изменений, которые являются, по мнению Плотина, следствиями несовершенства зрения: уменьшения величины и потускнения цветов предметов, находящихся вдали; перспективных деформаций, изменения облика вещей вследствие различия освещения. Следует изображать вещи так, как мы видим их вблизи при всестороннем освещении, изображать их все на первом плане, во всех подробностях и локальными красками. Далее, так как материя отождествляется с массой и темнотой, а все духовное есть свет, то живопись для того, чтобы прорвать материальную оболочку и достичь души, должна избегать изображения пространственной глубины и теней. Изображенная поверхность вещи должна излучать сияние, которое и является блеском внутренней формы вещи, т. е. ее красотой574. Искусство, отвечавшее этим требованиям, возникло в христианском мире еще до Плотина. Неизвестно, знал ли он о его существовании. Во всяком случае, он лучше и глубже, чем его христианские современники, изложил основы этого искусства и обосновал их теоретически, исходя из своей эстетической концепции.
Завершая краткий очерк плотиновской теории красоты, подведем некоторые итоги. Плотин в русле своей философии, опираясь на античные традиции и остро ощущая духовную атмосферу своего времени, создал практически новую теорию прекрасного, оказавшую существенное влияние на средневековую эстетику. Наиболее значимые для последующего развития эстетики положения этой теории могут быть сведены к следующим.
1. Плотин дал определение красоты как наиболее совершенного и полного выражения в материале внутренней формы, эйдоса, идеи вещи или явления.
2. Автор «Эннеад» построил развернутую иерархическую систему прекрасного, нижнюю ступень в которой заняла красота материально го мира и произведений искусства.
3. Красота у Плотина неразрывно связана с сущностью и является показателем бытийности ее носителя.
4. Красота впервые в истории эстетической мысли была сознатель но связана с искусством. Важнейшую цель искусства Плотин усмотрел в выражении внутренней красоты изображаемой вещи, ее «внутренней формы», идеи, эйдоса.
5. Плотин разработал интересную теорию восприятия красоты, уделив главное внимание специфическим процессам психики субъекта восприятия.
6. В «Эннеадах» намечена новая теория изобразительного искусства, которая нашла свое отражение в раннехристианском искусстве, а полное воплощение в искусстве Византии.
Анализ взглядов Августина на проблему красоты показывает, что он хорошо знал плотиновскую теорию575, многое из нее воспринял и развил дальше, но некоторые идеи Плотина оказались ему непонятными или чуждыми и он вернулся в отдельных вопросах к тем традиционным античным взглядам, от которых Плотин отказался. Где-то Августин более предметен и материалистичен, чем Плотин, более оптимистичен в отношении красоты материального мира, а где-то и более ригористичен. В целом его понимание красоты, как отвечает В. Перпет, «теплее... холодного мудрствования языческой античности»576. В любом случае на пути от античности к Средним векам в понимании прекрасного Плотин и Августин – две последовательные ступени, и только в этом ключе могут быть правильно осмыслены эстетические взгляды гиппонского епископа.
В предшествующих главах мы время от времени касались тех или иных аспектов проблемы прекрасного у Августина, ибо в его системе любая философская, религиозная, этическая и, уж само собой разумеется, эстетическая проблематика тесно связана с красотой. Поэтому здесь при выявлении общей концепции прекрасного у гиппонского епископа мы вынуждены будем иногда возвращаться к его уже упомянутым суждениям.
Красота у Августина, как и у его античных предшественников, объективна577. «Августин живо (живей, чем древние) интересовался отношением человека к красоте, любовью, которую человек проявлял к ней, однако он был уверен, что эта любовь доказывает существование красоты вне человека, что человек есть зритель красоты, а не ее творец»578. Для античности этот вопрос был очевиден, но ко времени Августина открылись такие глубины человеческой души, такие сложные процессы духовной жизни, что очевидность эта стала вызывать сомнения. У самого Августина возникает знаменитый вопрос, который продолжает обсуждаться в эстетике до сегодняшнего дня: прекрасны ли предметы потому, что нравятся нам, или они нравятся потому, что прекрасны? Августин отвечает однозначно: delectare quia pulchra sunt («нравятся потому, что прекрасны») (De vera relig. 32, 59), но знаменательна и сама постановка вопроса. Она показывает, как много сомнений возникало у Августина в связи с проблемой прекрасного. Почти во всех работах, так или иначе обращаясь к ней, он чувствовал, как справедливо отмечал один из исследователей его эстетики, что нет ответа, который мог бы исчерпать онтологическое богатство красоты579.
Августину близка концепция иерархичности прекрасного. Она уже достаточно отчетливо звучала и у раннехристианских писателей, и у «великих каппадокийцев», но Августин воспринял ее от Плотина, о чем ясно свидетельствует его указание в «Граде Божием». «Платоник Плотин» (Еп. III, 2, 13), пишет он, говорит, что от высочайшего Бога, красота которого непостижима и невыразима, она распространяется до всех земных и низких предметов. Так что красота самых маленьких цветов и листьев обязана своим совершенством высшей, непостижимой, все в себе содержащей форме (De civ. Dei X, 14). Вслед за Плотином и сам Августин рассуждает о передаче красоты, как вида или формы, от высших ступеней к низшим: «По естественному порядку вид (species), полученный от высшей красоты, слабейшим передают сильнейшие. И слабейшие потому существуют, поскольку существуют, что им передается вид сильнейшими» (De immort. anim. 18, 25). Плотиновская идея зависимости бытийности от красоты, хотя и звучит здесь у Августина, тем не менее уже не имеет такого значения, как у столь почитаемого им классика неоплатонизма. В «Исповеди» он вообще откажется от нее, заявив, что «для тела «быть» отнюдь не значит «быть прекрасным» (Conf. XIII, 2, 3)580.
Мысль о распространении красоты от высшего к низшему Августин повторяет и в другом трактате (см.: De vera relig. 45, 84).
Высшую ступень в иерархии Августина, как и у Плотина, занимает абсолютная красота. Она практически неописуема, трудно постижима и поэтому априорно принимается за некий бесконечно высокий идеал прекрасного. Августин достаточно часто обращается к ней, в отличие от раннехристианских писателей, но так же, как и Плотин, не в состоянии сказать о ней ничего конкретного. Чаще всего он просто обозначает тот идеал и первопричину всякой красоты, к которой необходимо стремиться человеку581. Эту абсолютную красоту Августин, пожалуй впервые в истории эстетики, последовательно сливает с христианским Богом582 и, начиная с первых трактатов и до главных своих философско-религиозных трудов, ставит понятие красоты на один уровень с понятием сущности583.
Бог представляется Августину «единственной и истинной красотой» (Solil. I, 7, 14)584, «от подражания которой все прекрасно, а по сравнению с которой – безобразно» (De ord. II, 19, 51). Это вечная, неизменная, «всегда себе равная» красота, которая «пространством не разделяется, во времени не изменяется, но сохраняет единство и тождество во всех частях, в бытие которой люди не верят, хотя она является истинной и высшей» (De vera relig. 3, 3). Бог – «красота всех красот» (pulchritudo pulchrorum omnium) (Conf. III, 10, 6), «красота, из которой происходит все прекрасное» (De div. quaest. 83, 30; Enar. in Ps. 32, 7; Conf. X, 34, 53 и др.). Созерцание Бога есть созерцание высшей красоты. «Это созерцание Бога есть созерцание такой красоты и достойно такой любви, что человека, одаренного в изобилии всевозможными благами, но этого блага лишенного, Плотин без колебания называет самым несчастным» (Еп. I, 6, 7) (De civ. Dei X, 16). Само «высшее блаженство» состоит не в чем ином, как в полном узрении евыразимой красоты (Enchirid. 5). В «Исповеди» Августин неоднократно дает описания Бога в эстетической терминологии, как некоего идеального эстетического объекта. Приведем одно из них: «Поздно полюбил я Тебя, красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя! Вот Ты был во мне, а я – был во внешнем и там искал Тебя, в этот благообразный мир, Тобой созданный, вламывался я безобразный! Со мной был Ты, с Тобой я не был. Вдали от Тебя держал меня мир, которого бы не было, не будь он в Тебе. Ты позвал, крикнул и прорвал глухоту мою; Ты сверкнул, засиял и прогнал слепоту мою; Ты разлил благоухание свое, я вдохнул и задыхаюсь без Тебя. Я отведал Тебя и Тебя алчу и жажду; Ты коснулся меня, и я загорелся о мире Твоем» (Conf. X, 27, 38).
Вера в этот духовно сияющий, сверкающий, звучащий и благоухающий идеал высшей красоты, глубокая любовь к нему подвигли и самого Августина на создание прекрасных художественных образов, которыми особенно богата «Исповедь». В своем понимании Бога как абсолютной красоты585 Августин сконцентрировал совокупность высших эстетических принципов, доведя их до предельной идеализации. В конечном счете – это абсолютная простота и единство (потому и сказать-то о ней практически нечего), от которых происходит все бесчисленное множество прекрасных идей, дел, занятий, миров, тел и т. п. – все бескрайнее, многообразное море красоты.
Следующей (при движении вниз) ступенью красоты, более доступной человеку и поэтому более определенной, у Августина выступает духовная, или интеллигибельная, красота. Она соответствует плотиновской ступени красоты, постигаемой душой. Любовь к красоте духовной (amor intelligibilis pulchritudinis) Августин считал большим благом (De civ. Dei V, 13). Приведенная в гл. 3 августиновская аллегория философии и филокалии (см.: Contr. acad. II, 3, 7) в свете общей духовной ориентации Августина должна быть понята не как противопоставление любви к мудрости и любви к красоте, но как предпочтение красоты духовной красоте телесной, материальной, о чем он неоднократно писал и в более поздних работах586 . Духовная красота связывается Августином прежде всего со сферой внутреннего мира человека, далее – с его деятельностью, занятиями, нравственным обликом, т. е. во многом является оценочным критерием духовной и нравственной жизни человека.
Несравненной красотой сияет мудрость, поэтому она и воспламеняет к себе любовью многие сердца (Solil. I, 13, 22). Красота разума pulchritudo rationis) просвечивает во всем упорядоченном и оформленном мире явлений. Именно она влечет к себе всех истинных ценителей прекрасного (De ord. I, 8, 25).
Особое внимание уделяет Августин красоте души человека, которая составляется из комплекса «праведных» мыслей, достойных в нравственном отношении поступков и добродетелей, т. е. эстетическое здесь тесно сливается у Августина с этическим587. Добродетели, неоднократно утверждает Августин, делают душу прекрасной, а пороки безобразят ее (De Gen. ad lit. VII, 6, 9). Душевная красота (decus animi), а точнее, «как бы семена красоты» присущи всякой, даже самой порочной душе. Они силятся прорасти в истинную красоту и пускают свои причудливо извивающиеся ростки и побеги шероховатостями пороков и ложных убеждений. Даже в самой закоренелой душе, если внимательно присмотреться, можно заметить эти ростки (Contr. acad. II, 2, 4).
Праведность, или справедливость (justitia)588, служит главным украшением души (Serm. 9, 10, 16; Enar. in Ps. 41, 7); она «есть высшая и истинная красота» (Enar. in Ps. 44, 3). «Праведность является в некотором роде красотой души, благодаря которой человек становится прекрасным, часто даже имеющий горбатое и уродливое тело» (De Trin. VIII, 6, 9; ср.: Enar. in Ps. 64, 8; In Ioan. ev. 3, 21). Если у меня есть двое слуг, – приводит пример Августин, – один прекрасный телом, но не верный, а другой – верен мне, но уродлив лицом и телом, то, конечно же, второго я люблю и ценю больше, несмотря на его физическое (телесное) уродство (Serm. 159, 3, 3).
Поэтому не случайно уже приводившиеся нами семь ступеней совершенства души (из De quant. anim. 35, 79) Августин понимает и как семь ступеней прекрасного (см. гл. III)589.
Прекрасна вся сфера духовной деятельности человека. Августин неоднократно отмечал не только пользу, но и красоту наук, которая служит не последним стимулом для занятий ими590. Самой же прекрасной из наук и искусств является философия (см.: Contr. acad. Π, 2, 4). Герою одного августиновского диалога она представляется значительно более прекрасной, чем все поэтические образы и герои, «чем сама Венера и Купидон, чем все страстные чувства» (De ord. I, 8, 21). Речь идет, конечно, о религиозной философии, ведущей к «истинной мудрости» и постижению Первопричины, т. е. абсолютной красоты.
В главе, посвященной порядку, мы видели, что Августин особое внимание уделял красоте целого во всех проявлениях, красоте космического и социального универсумов. Наличие бесчисленного множества прекрасных вещей и явлений в окружающем нас мире и в структуре человеческого духа, с одной стороны, и идея абсолютной, простой красоты – виновницы всего моря прекрасных вещей и духовных сущностей, – с другой, привели Августина к сознанию глубокой упорядоченности всех вещей и явлений, как внутри себя, так и в некой универсальной и всеобъемлющей целостности бытия. Целостность (totus, in toto) и единство (unitas) становятся главной гарантией красоты591. Поэтому-то в сотворенном мире прекрасно все то, что образует органическую целостность. Высшей красотой наделена сама вселенная, которая не случайно названа универсумом от unus (один), т. е. от единства (De ord. Ι, 2, 3). Августин, опираясь на реальные наблюдения за красотой природных, социальных и художественных явлений, делает интересные выводы. Вслед за Плотином, утверждавшим, что «если целое прекрасно, то и части должны быть прекрасны, ибо прекрасное не может состоять из безобразных частей, но все части должны получить красоту» (Эн. I, 6, 1), Августин заявляет, что «в том истинно интеллигибельном мире всякая часть, как и целое, прекрасна и совершенна» (De ord. Π, 19, 51). Но это – идеальное состояние, цель, к которой следует стремиться. В материальном же мире все обстоит, как мы уже отчасти видели в главе о порядке, значительно сложнее.
Грехопадение первого человека привело к появлению дурных, злых и безобразных вещей и явлений в мире, к порче изначально прекрасных частей универсума. Тем не менее это не повлияло на красоту целого. Универсум остался неизменным, но его красота составляется теперь на основе гармонии прекрасных, нейтральных или незначительных в отношении красоты и даже безобразных предметов и явлений. Августин с удивлением констатирует, что после грехопадения, утратив свою изначальную красоту, «род человеческий сделался великой красотой и украшением земли и управляется божественным промыслом так прекрасно, что неизреченное искусство врачевания обращает само безобразие пороков в неведомо какую своего рода красоту» (De vera relig. 28, 51), «так что, если что-либо в отдельности и становится безобразным (deformia), универсум по-прежнему и с ним остается прекрасным» De Gen. ad lit. III, 24). В этом плане и побежденный в петушином бою петух представляется Августину в определенном смысле прекрасным: «знаком же побежденного служили выщипанные с шеи перья, в голосе и движениях все безобразное, но тем самым, не знаю как, с законами природы согласное и [потому] красивое» (De ord. Ι, 8, 25).
Внимательно всматриваясь в отрицательные и безобразные стороны мира, Августин начинает замечать особую закономерность организации прекрасного целого, которая состоит как бы в соединении и чередовании совершенных и несовершенных (безобразных) элементов (De Gen. ad lit. I, 17. 34), т. е. приходит к закону контраста, или оппозиции, о котором уже шла речь в гл. IV, как к одной из закономерностей организации красоты целого (см.: De ord. I, 7, 18; De civ. Dei XI, 18).
Безобразные или некрасивые элементы прекрасного целого могут быть, по мнению Августина, таковыми объективно, вследствие порчи или недостатка красоты, и субъективно, т. е. только в восприятии человека. Как христианин, свято веривший в творение мира Богом, Августин стремился во всех частях и незначительных элементах творения усмотреть присущую им особую красоту, ибо Бог не мог, конечно, сотворить ничего безобразного (в гл. IV мы видели уже. как он восхищается красотой червя). Однако люди, не умея осмыслить красоту многих неприятных растений, насекомых или животных в структуре целого универсума, незаслуженно считают их безобразными. «Красота (decus) этого порядка, – пишет Августин, – потому не радует нас, что мы, составляя, вследствие нашего смертного состояния, ее часть, не можем воспринять всей совокупности его, которой вполне подходят и соответствуют частицы, которые нам не нравятся» (De civ. Dei XII, 4). Тем не менее, всем, даже насекомым, питающимся трупами, или паразитам, присуща «некоторая своего рода естественная красота», возбуждающая большое удивление в созерцающем их человеке (De Gen. ad lit. III, 14).
Красота целого, возникающего на основе соединения прекрасных, нейтральных и безобразных частей, значительно превосходит не только красоту «незначительных» членов и элементов, но и красоту любых, входящих в его состав, даже самых прекрасных частей. В отдельности все прекрасно, как сотворенное Богом, а в целом – прекрасно как упорядоченное им (см.: De Gen. ad lit. imp. 5, 25)592. Упорядочение же – особый закон, приводящий все как бы в новое качество – более прекрасное. Так что целостность и единство, как результат действия закона упорядочения, приводят элементы к качественно новой красоте целого. Так, например, прекрасны все члены человеческого тела: и глаза, и нос, и голова, и руки, и ноги. Однако тело, целиком состоящее из этих прекрасных членов, значительно прекраснее каждого из них в отдельности. Из прекрасных частей складывается красота целого. «Такова сила и могущество (potentia) совокупности (integritatis) и единства, что даже очень хорошие элементы тогда нравятся, когда сходятся и соединяются в некий универсум. Универсум же и получил наименование от единства (ad unitate)» (De Gen. contr. Man. I, 21, 32). Вывод этот касается, естественно, не только человеческого тела, но всех элементов материального мира вообще, о чем Августин писал в своей «Исповеди»: «Тело, состоящее из красивых членов, гораздо красивее, чем каждый из этих членов в отдельности, потому что хотя каждый из них сам по себе и красив, но только их стройное сочетание создает прекрасное целое» (Conf. XIII, 28, 43).
Августин не ограничивается этой констатацией, он стремится глубже всмотреться как в красоту целого, так и во взаимосвязи общей красоты и красоты отдельных ее элементов. В одном из трактатов он прямо пишет об этом: «И члены тела, хотя они и в отдельности прекрасны, однако в целом составе тела гораздо прекраснее. Если бы. к примеру, мы увидели прекрасный и достойный похвалы глаз отделенным от тела, то, конечно, не нашли бы его уже таким красивым, каким находим его в совокупности с другими членами на своем месте в универсуме тела» (De Gen. ad lit. III, 24, 37). Целостность, таким образом, определяет не только совокупную красоту целого, но и каждого отдельного его члена, ибо их красота существенно меняется (возрастает), когда они занимают свое место в целостной структуре. Темный цвет, сам по себе некрасивый, в структуре целой картины приобретает особую красоту (De vera relig. 40, 76). Августин подмечает здесь важную взаимозависимость красоты сложных объектов и красоты составляющих их членов.
Интерес к подобным вопросам сохранился у Августина с юности, когда он в первом своем трактате пытался различить и даже противопоставить два вида прекрасного – pulchrum и aptum593. Pulchrum – это собственно прекрасное, «нечто прекрасное само по себе», прекрасное в себе, красота целого. Aptum же – нечто, соответствующее чему-то, пригодное для чего-то иного, т. е. красота части целого, «относительно», или «условно», прекрасное в терминологии А. Викмана;594 типа соответствия членов тела целому организму или предмета его назначению, как, например, башмака ноге (Conf. IV, 13, 20). В одном из писем Августин дает такую дефиницию этих видов красоты: «Прекрасное (pulchrum) рассматривается и восхваляется ради него самого, его противоположностью является уродливое и безобразное. Соответствующее (aptum) же, чьей противоположностью будет непригодное (ineptum), означает, напротив, как бы некую привязанность и оценивается не из него самого, но из того, с чем оно соединяется» (Ер. 138, 6). Aptum всегда содержит моменты пользы и целесообразности, которые отсутствуют в собственно прекрасном. Поэтому, как отмечает В. Татаркевич, aptum отличается у Августина от прекрасного и «тем, что оно относительно, ибо один и тот же предмет может соответствовать одной цели и не соответствовать другой»595. Отсюда относительность красоты многих элементов мира, что приводит нередко к их негативной оценке как безобразных. Для объективной оценки таких вещей необходимо знать, с чем они согласуются и в состав какого целого входят (ср.: De civ. Dei XVI, 8). Ведь и языки адского пламени покажутся прекрасными, если знать, какую функцию выполняет оно в универсуме (XII, 4; De nat. bon. 38). Однако человек не в состоянии почувствовать и воспринять красоту мироздания в целом. Он охватывает только отдельные части этой красоты (Ер. 166, 5, 13; Contr. ер. Man. 41, 47), но и они важны и значимы для него, так как в них запечатлены отблески абсолютной красоты. К доступным человеческому восприятию элементам красоты универсума Августин относит все обозримые части природного мира, красоту человека и красоту произведений искусства, т. е. чувственно воспринимаемую красоту во всех видах.
Августин отмечает три типа отношения человека к материальному миру. Первый – когда весь сотворенный мир принимают, как манихеи, за зло и порицают его, второй – когда людей привлекает красота мира сама по себе и он является предметом любви сам по себе, и третий, самый высший, – когда в красоте мира видят его Творца и свою любовь направляют к нему (Conf. XIII, 31, 46). Христианская идея творения мира Богом из ничего определила специфику отношения самого Августина к материальному миру и его красоте. Он уже далек от неоплатонического пренебрежения или, тем более, манихейского отрицания красоты мира, но ему отнюдь не импонирует и идея абсолютизации этой красоты. Она обладает своим совершенно определенным местом в универсуме и своей определенной ценностью. По сравнению с абсолютной красотой она «ничтожна» (nulla), ибо и создана-то из ничего, «рассматриваемая же сама по себе, она удивительна и прекрасна» (De quant. anim. 33, 76), ибо является творением божественного разума и отражением божественной красоты. Красота мира, как уже указывалось, служила в глазах христиан важным аргументом в доказательстве бытия Бога, и поэтому Августин постоянно опирается на нее, чтобы указать на ее вечный и неизменный архетип.
Августин умел глубоко чувствовать красоту окружающего мира. Его от природы обостренное эстетическое чувство не уставало восхищаться и радоваться красоте и блеску неба, свету солнца, луны и звезд, удивительной голубизне моря, красоте и разнообразию пейзажа, бесчисленному многообразию форм растительного и животного мира, включая самых мелких насекомых, червей и еле приметных в траве невзрачных цветов; он с радостным восхищением писал о красоте утренних и вечерних зорь и ночных зарниц, о красоте движения небесных тел и мелодичном журчании ручья. Какими словами, восклицает он, может быть передана многообразная «красота неба, земли и моря, такого обилия столь удивительной красоты света, красоты солнца, луны и звезд, тенистых лесов, окраски и благоухания цветов, разнообразия и множества щебечущих, блистающих роскошью оперения птиц!» (De civ. Dei XXII, 24; ср.: Enar. in Ps. 148, 15). «За что любят их (вещи этого мира. – В. Б.), если не за то, что они прекрасны?» (Enar. in Ps. 79, 14).
Оправдание красоты природы и материального мира, к которому пришло христианство еще до Августина (он в данном случае только развивал уже наметившуюся тенденцию), отнюдь не было повторением одного из мотивов античной классической эстетики, который Августин отметил в качестве второго типа отношения к миру. Теперь все усложнилось. Если Плотин просто бежал от материальной красоты к интеллигибельной, то Августин стремится оправдать ее указанием на ее божественную Первопричину. В период господства утонченной позднеантичной духовности стало просто дурным тоном хвалить красоту материального мира, но христианство пришло к тому, что ее нельзя и игнорировать. Ее надо было оправдать введением в этот мир духовности. На это и была ориентирована, в частности, эстетика Августина. Земная красота как творение верховного Художника осмысливается теперь как образ божественной красоты и как знак, указывающий на нее. Конечно, здесь очевидны и мотивы эстетики платонизма, но акцент в них существенно переместился. Если платоники презирали земную красоту на том основании, что она лишь слабое отражение и бледная тень духовной красоты, то христиане именно потому возлюбили материальную красоту, что она – образ (отражение и тень) и знак красоты божественной, отображает ее хотя бы частично и постоянно указывает на нее. Чувственная красота у Августина, отмечает современный историк эстетики, «в значительной мере утратила свою непосредственную ценность, но нашла опосредованную, религиозную. Она стала скорее средством, чем целью»596.
Красота и стройность мира свидетельствуют о том, что он сотворен неописуемо прекрасным Богом (De civ. Dei XI, 4). «Прекрасно все созданное Тобой, и несказанно прекрасен Ты, создатель всего» (Conf. XIII, 20, 28).
Обосновав, таким образом, прежде всего для себя самого, значимость материальной красоты, Августин со спокойной совестью приступает к ее рассмотрению. Он различает два основных вида красоты – статическую (красота цвета и форм, видимых глазом) и динамическую (красота движений, воспринимаемых слухом или зрением)597. Известно, что первый вид красоты восходит к древнегреческой эстетике, а второй был больше присущ эстетическому сознанию ближневосточных народов598. Раннехристианская эстетика знала оба вида красоты, но динамическую красоту, как более духовную, ценила выше. Этой же точки зрения придерживался и Августин. Живое ощущение потока времени и истории, в котором странствует град Божий, побуждало Августина быть очень чутким именно к красоте движения, временного ритма599. Красота мира проявляется в постоянном движении, развитии и смене его компонентов: «в результате ухода и появления вещей сплетается красота веков» (De Gen. ad lit. I, 8, 14). Статическая красота вещей числится в эстетической иерархии Августина «последней красотой» (extrema pulchritudo), ибо она не может вместить в себя красоту универсума. Только процесс появления и смены прекрасных форм дает картину единой красоты универсума (De vera relig. 31, 41). Ритмически, т. е. по законам чисел, организованные движения лежат в основе музыки, поэзии, танца, образуя основу их красоты. Динамическая красота присуща и самой человеческой жизни, ибо удовольствие, счастье, радость – все это процессы, протекающие во времени. Само эстетическое суждение, которым поверяется наслаждение, как мы увидим ниже (см. гл. X), также ритмически организованный процесс, протекающий в нашей душе. Не случайно Августин главное внимание в своей эстетике уделял числу и ритму. Именно в них он видел структурно-динамическую основу красоты. Однако и статическая красота визуально воспринимаемых предметов не была оставлена им без внимания. Осуждая стремление людей к телесной красоте, увлеченность ею, он тем не менее сам постоянно восхищался ею и потратил немало душевных сил на ее исследование. Телесная красота занимает свое, хотя и достаточно низкое, место в общем порядке мироздания и получает у Августина соответствующую оценку, которая в целом оказывается, может быть, даже более высокой, чем того желал сам Августин.
Красота материальных тел определяется их видом, или образом (species), и формой (forma). При этом Августин различает даже «прекраснейшее по виду» (speciosissimum) и «прекраснейшее по форме» (formosissimum) (De vera relig. 18, 35). Вид и форма определяют бытие вещи. То же, «из чего Бог создал все, не имеет никакого вида и никакой формы, – есть не что иное, как ничто (nihil)». Обладание хотя бы малейшей долей формы или вида уже наделяет вещь бытием (18, 35). Следовательно, акт творения сводится к наделению вещей видом и формой. Перефразируя плотиновскую мысль о связи бытийственности вещи с ее красотой, Августин писал: «...тело же тем больше есть (magis est), чем оно благовиднее (speciosius) и прекраснее; и тем не менее есть (minus est), чем оно безобразнее и бесформеннее (deformius)» (De inmort anim. 8, 13). Вид и форма наделяют вещь не только бытием, но бытием в качестве прекрасной в своем роде вещи. Всякая сотворенная вещь, пишет Августин, «прекраснее в своем роде, ибо она облечена формой и видом (forma et speie continetur)» (De vera relig. 20, 40). Даже элементарные геометрические формы типа окружности, треугольника, квадрата обладают своей красотой, не говоря уже о формах растительного и животного мира.
Особое внимание Августина привлекает красота человека, которая по общей для всей поздней античности традиции делится им на красоту души и красоту тела. Ясно, что красота души ценится им выше, ибо она состоит в родстве с интеллигибельной красотой600. Не случайно, что и совершенствуется она, как мы видели, поднимаясь по семи ступеням прекрасного (De quant. anim. 35, 79). Душа прекраснее тела в идеале, т. е. абсолютно прекрасная душа на высшей ступени своего совершенства обладает более высокой красотой, чем абсолютно прекрасное тело. Однако в действительности душа человека далеко не всегда находится в этом состоянии. Человеку необходимо много работать по упорядочению, очищению и формированию своей души, прежде чем она засияет своей первозданной красотой, свидетельствующей о способности души к узрению и восприятию абсолютной красоты (ср.: De ord. II, 19, 5). Душа при этом оказывается более податливой в части исправления своих недостатков, чем тело.
Постоянно помня, однако, о том, что человек был создан в единстве души и тела, Августин пытается преодолеть преграду, возведенную между душой и телом позднеантичными философами платоновской ориентации и восточными дуалистами и спиритуалистами. Плохо, по его мнению, не то, что в человеке душа соединена с телом (это как раз благо), но дурна сама устремленность души к телесным благам и вожделениям плоти, т. е. направленность (intentio) души на телесное, а не на духовное. «Душа человека, – писал он, – не оскверняется телом. Не всегда душа оскверняется телом, когда оживляет тело и управляет им, но лишь тогда, когда вожделеет к смертным благам, относящимся к телу» (De fid. et symb. 4). Душа нередко бывает безобразнее тела, когда поощряет ложь и пороки, и, напротив, тело своей красотой может способствовать возвышению души из ее падшего состояния. Тело, писал Августин, «имеет красоту своего рода и тем самым значительно возвышает достоинство души, где и скорбь и болезнь заслуживают чести какой-то красы. Стало быть, неудивительно, если душа, действующая в смертном теле, испытывает воздействия от тел. И не следует думать, что, так как она лучше тела, все, что в ней происходит, лучше, чем то, что происходит в теле» (De mus. VI, 4, 7)*.
Эта диалектика красоты души и тела существенно отличает августиновскую концепцию от плотиновской. Автор «Эннеад», как мы помним, фактически не признавал красоты человеческого тела, а если и признавал, то считал ее столь незначительной, что не выделял особо из красоты материальных предметов, т. е. красоты, занимавшей в его иерархии низшую ступень. Он был глубоко убежден в том, что «для человеческой души тело – оковы и гробница, а сам космос для нее – мрачная пещера» (En. IV, 8, 3). В противовес этой широко распространенной в поздней античности (в частности, и у стоиков) тенденции принижения красоты человеческого тела, многие теоретики раннего христианства (на латинской почве можно указать хотя бы на Лактанция) занялись ее апологией. Однако уже у каппадокийцев на Востоке проявилась ставшая характерной для патристики в целом двойственность в отношении телесной красоты человека. Августин поддерживает именно эту тенденцию, отдавая нередко дань и Лактанциевой увлеченности телесной красотой. Последнее вполне понятно: пылкий и страстный африканец, долгие годы не находивший в себе сил отказаться от плотской красоты и любви женщины ради красоты духовной, уже давно осознавая последнюю как красоту более высокую, несовместимую с плотской.
Августин считал в порядке вещей, что прекрасная женщина (как и красота мудрости) отдает себя лишь тому, кто бескорыстно и безраздельно любит только ее одну (Solil. I, 13, 22). Однако увлеченность красотой женского тела разжигает вожделение и ведет к греху, поэтому женская красота опасна. Формы женского тела прекрасны, но они приобретут более прекрасный вид по воскресении из мертвых, и тогда уже будут служить не плотскому наслаждению или продолжению рода, но исключительно новой, неутилитарной красоте. Тела всех людей вообще по воскресении будут выполнять исключительно эстетическую функцию, так как все телесные и утилитарные функции утратят свою актуальность в вечной жизни (De civ. Dei XXII, 17; 19). Отсюда особое внимание христиан к красоте тела. Августин постоянно напоминает читателям, что красота человеческого тела от Бога, высшей и абсолютной красоты (De vera relig. 11, 21), и что видимые ее формы преходящи (см.: De lib. arb. I, 15, 31). Красота тела «уничтожается или телесными болезнями, или, что более желательно, старостью; несовместимы два желания – оставаться красивым и дожить до старости; с наступлением преклонного возраста красота улетает; не могут жить вместе блеск красоты и стоны старости» (In Ioan. ev. 32, 9). Болезни до неузнаваемости искажают человеческое тело, лишая его всякой красоты (De civ. Dei XIX 4). Все это, конечно, обесценивает в глазах Августина, устремленного к вечным и неизменным идеалам, красоту человеческого тела. И тем не менее он убежден, что человеческий род, не в последнюю очередь именно благодаря телесной красоте, является «величайшим украшением земли» (XIX, 13). Не случайно, замечает он, и в Писании «прекрасных телом (speciosos corpore) обычно называют добрыми (bonus)» (XV 23).
Совершенная и разумная организация, конечно, необходима телу человека и отдельным его членам и органам для выполнения определенных утилитарных функций. И тем не менее Августин вслед за Лактанцием (см.: De opif. Dei 8–10) подчеркивает, что многое в человеке создано исключительно для красоты. «Но даже если, – пишет он, – не брать в расчет утилитарной необходимости, соответствие всех частей [тела] так размеренно и пропорциональность (parilitas) их так прекрасна, что не знаешь, что больше имело место при сотворении его (тела. – В. Б.): идея пользы или идея красоты (ratio decoris). По крайней мере, мы не видим в теле ничего сотворенного ради пользы, что в то же время не имело бы и красоты». Все это для нас было бы еще более ясным, если бы мы знали точные законы (числовую меру – numeros mensuramm), по которым члены и органы тела (не только внешние, но и внутренние) соединены между собой и функционируют в структуре целого тела; тогда мы постигли бы самую «красоту смысла» тела во всей ее полноте и глубине. Однако ни анатомы, ни медики не берутся за выявление этой внутренней гармонии тела, оставляя нам пока лишь восхищаться внешней красотой. Во внешнем же облике человека есть такие части и органы, которые созданы исключительно для красоты (decus), а не для пользы. Так, сосцы на груди мужчины или его борода имеют сугубо декоративное назначение601. На основании всего этого Августин приходит (в который уже раз!) к чисто эстетскому выводу, отдавая приоритет незаинтересованной красоте по сравнению с преходящей пользой (utilitas). Если нет ни одного члена в человеческом теле, резюмирует он, который помимо своей утилитарной функции не обладал бы еще и красотой, но есть члены, «служащие лишь красоте, но не пользе; отсюда, думаю, легко понять, что при сотворении тела его достоинство (dignitas) ставилось выше практической потребности. Ибо утилитарная потребность (necessitas) минует и настанет время, когда мы будем взаимно наслаждаться одной только красотой без всякого вожделения» (De civ. Dei XXII. 24).
Здесь, как отмечал один из первых исследователей эстетики Августина, и содержится ответ на вопрос, почему при творении человеческого тела красоте было уделено больше внимания, чем пользе, – «именно потому, что по воскресении большинство членов тела будет служить не практическим, но исключительно эстетическим целям»602. Красота человеческого тела, таким образом, отнюдь не презренна и ничтожна, но играет и будет играть в будущем важную роль в структуре вселенского бытия. В этом плане раннехристианская эстетика сделала шаг вперед по сравнению с античностью.
Особое значение в патриотической эстетике имела полемика о красоте Христа. С одной стороны, высказывалось мнение, что он блистал не только внутренней – духовной и душевной красотой, но и красотой тела, одухотворенного его божественностью. С другой – и это было особенно распространено в раннехристианский период, – считалось, что Христос специально принял тело невзрачное, и даже безобразное, чтобы таким образом возвысить самую презренную плоть до божественного величия, воссоединить все низменное с возвышенным; также и для того, чтобы испытать и претерпеть сполна все, что приходится на долю самого униженного и забитого человека, чтобы быть внешне «достойным» оплевания, поругания, позорной смерти, для претерпения которых он прибыл в мир; также, наконец, и для того, чтобы красотой своего внешнего вида не отвлекать людей от тех истин, которые он им принес, – от красоты духовной.
Августин придерживался второй точки зрения, которая опиралась на прямые евангельские указания: «Он не имел ни вида, ни красоты, когда били его кулаками, когда увенчивали терновым венцом, когда осмеивали висящего на кресте» (De cons. evang. I, 31, 48). Уродство Иисуса, однако, подобно уродству корня, из которого вырастает прекрасное дерево (Serm. 138, 6). Знал Августин и о красоте Христа, «который возлюбил [всех] оскверненных, чтобы сделать их прекрасными», и поэтому пришел на землю и стал видимым (In Ioan. ev. 10, 13). Он должен был объединить в себе прекрасное и безобразное мира сего, чтобы снять их противоборство и привести к внешней и единой красоте. Сложную внутреннюю взаимосвязь прекрасного и безобразного в образе Христа Августин стремится поэтому осознать как отражение присущей тварному миру диалектики добра и зла, вечного и временного. Он приходит здесь к ощущению закономерности антиномического (уже негармонического) единства прекрасного и безобразного, когда безобразное должно не выражать, но обозначать по контрасту (и благодаря этому контрасту) свою противоположность. Более осознанно к решению этого важного для эстетики вопроса подойдет несколько позднее на Востоке Псевдо-Дионисий Ареопагит. Августин, опираясь на новозаветный и раннехристианский (вспомним Тертуллиана) антиномизм, только нащупывал его решение.
Поводом для размышлений о внешнем виде Богочеловека послужили слова 44-го псалма: «Ты прекраснее сынов человеческих», которые христианская традиция относила к Христу. Но Августин хорошо знает и другое ветхозаветное высказывание, также отнесенное к воплотившемуся Логосу: «Видели мы его, и не было в нем ни вида, ни красоты (non habebat speciem neque decorem)» (Is. 53, 2). Как совместить эти суждения и как понимать каждое из них? Августин уверен, что второе высказывание относится к внешнему облику Христа, и принимает его как должное. Мы любим Христа, но значит ли это, что мы должны любить и безобразное в нем? К тому же предметом любви, как вслед за Плотином учил сам Августин, может быть только красота. Как же разрешить это противоречие? «Безобразное любят для того, – отвечает себе во всем сомневающийся Августин, – чтобы оно перестало быть безобразным603. Собственно, любят не безобразное, ибо безобразное не может быть предметом любви; он (Христос. – В. Б.) полюбил его, ибо должен сберечь его: он опрокинет безобразное и сформирует [из него] красоту». Как же после этого не любить нам его даже в его неприглядном виде? «Вот он нашел [в нас] много безобразного и полюбил нас; [неужели же] мы, найдя в нем нечто безобразное, не полюбим его?» Чтобы увидеть под этим внешним безобразием красоту, необходимо понять все безграничное милосердие божественного акта воплощения и всех последующих событий.
Иудеи не увидели этого по своему неразумию. «Для понимающих же великая красота заключена в словах: И Слово стало плотью (Ин 1, 14). А я не желаю хвалиться, – говорит один из друзей жениха604, – разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа (Гал 6, 14). Этого мало, только не стыдиться его, если ты еще не будешь прославлять его. Почему он не имел ни вида, ни красоты? Потому что распятый Христос для евреев – скандал, а для язычников – глупость605. Почему же он и на кресте был прекрасен? Потому что глупое Божие мудрее человеков; и немощное Божие сильнее человеков (1Кор 1, 25). Нам же, верующим, жених везде предстает прекрасным. Прекрасен Бог, Слово у Бога; прекрасен он во чреве Девы, где он не утратил божественности и обрел человечность; прекрасно Слово в облике новорожденного младенца; ибо, когда он был еще младенцем и сосал грудь [матери], сидя [у нее] на руках, заговорили небеса, воспели хвалебную песнь ангелы, звезда направила [стопы] волхвов и они поклонились [лежащему] в яслях, [пришедшему стать] пищей для кротких. Итак, прекрасен он на небе, прекрасен на земле; прекрасен во чреве [матери], прекрасен на руках родителей, прекрасен в чудесах, прекрасен бичуемый; прекрасен как призвавший живущих к жизни, прекрасен не сетующий на смерть; прекрасен как отдающий душу и прекрасен как опять [ее] воспринимающий; прекрасен на древе [креста], прекрасен во гробе, прекрасен на небе. С пониманием слушайте песнь (стих псалма. – В. Б.), и пусть немощь тела не отвратит глаз ваших от блеска красоты его. Высшей и истинной красотой является праведность: прекрасен тот, кто праведен» (Enar. in Ps. 44, 3).
Невзрачный внешний облик Христа, таким образом, вполне соответствует, по Августину, его высокой духовно-душевной красоте. Эти представления легли в Средние века на Западе в основу живописного образа Христа. На многих средневековых изображениях, особенно у немецких мастеров, тело и лицо Христа доведены часто до весьма неприглядного вида, прежде всего в изображениях страстей (особенно образы Schmerzensmann) и Распятия606. Подчеркнутая экспрессивность формы и цвета в целом сочетаются здесь с предельно натуралистическим изображением деталей (раны и язвы на теле, капли крови, уродливо вывернутые посиневшие и позеленевшие пальцы рук и ног и т. п.). что, с одной стороны, может оттолкнуть зрителя, а с другой – должно чисто живописными средствами выразить весь ужас и трагизм ситуации, в которой по собственной воле оказался Сын Божий, взвалив на себя весь груз человеческих грехов и пороков, все безобразие непутевой жизни человечества.
Элементы невзрачного, неприглядного и даже безобразного с раннехристианских времен стали активно внедряться в западном изобразительном искусстве и прочно утвердились в нем до конца Средневековья. Ряд причин привел к возникновению этого феномена. И не последнюю роль здесь сыграло определенное оправдание безобразного в эстетике Отцов Церкви, и прежде всего Блаженным Августином.
Конечно, как мы уже убедились, неверно было бы говорить об эстетике безобразного и у гиппонского епископа, и в патристике вообще. Для христианства непреложной оставалась аксиома: Бог не создал ничего безобразного. Возникшее в результате отпадения человечества и части ангелов от Бога безобразное понимается в христианстве как недостаток красоты, частичное отсутствие ее, как следствие порчи в материальном мире изначально данного ему (в дни творения) вида и формы. Безобразное – это мера недостаточности прекрасного607. Оно не может быть абсолютным, ибо полное отсутствие красоты, т. е. виды и формы, тождественно отсутствию бытия, т. е. абсолютно безобразное есть ничто (nihil). Поэтому любая, даже самая отвратительная, вещь или безобразное явление имеют хотя и незначительную, но своего рода долю красоты608.
Эти представления, совершенно новые по сравнению с античными, прочно укоренились в художественном сознании Средневековья и нашли отражение в средневековой живописи, особенно у итальянских мастеров. Стремясь, с одной стороны, под влиянием христианской идеологии забыть о материальной красоте и сосредоточиться на духовной, помня о невзрачном виде Христа и достоинстве любого самого неприглядного создания природы, они изображают некрасивые предметы и невзрачных людей, часто нарочито деформируя их тела и черты лица, сознательно нарушая вроде бы все «законы красоты» (об их понимании Августином см. ниже). С другой стороны, реминисценции античного пластического и живописного понимания красоты, жившие всегда в глубинах художественного сознания итальянцев, несмотря на то, что материальные памятники этой красоты в большинстве своем были в буквальном смысле погребены под грудами пепла, под руинами античных храмов и под новым культурным пластом христианской эпохи, – именно эти реминисценции, а также христианское представление о том, что ничто безобразное не лишено своей доли красоты, что безобразное любят для того, чтобы оно перестало быть таковым, и что под невзрачным видом часто скрывается высокая духовная красота, – все это привело лучших живописцев итальянского Средневековья (хотя подобные примеры можно найти и в живописи северной готики) к интересному художественному решению. Виртуозно владея изобразительными средствами – цветом, линией, формой, системой цветовых отношений и моделировки форм, они умели наделять свои изображения внешне невзрачных, деформированных, вроде бы совершенно некрасивых фигур удивительно тонкой и глубокой красотой, которая как бы излучается изнутри этих далеких от античных канонов красоты, часто достаточно условно изображенных фигур и лиц609. Чисто живописными средствами они научились выражать красоту безобразного, чем существенно расширили горизонты изобразительного искусства.
Но вернемся к теории. Одной из немаловажных эстетических причин внедрения неприглядного в искусство явилось глубокое осознание Августином закона контраста в двух его аспектах. Во-первых, безобразное по контрасту служит более глубокому ощущению красоты. Незнание безобразного, его отсутствие не позволит во всей полноте ощутить прелесть настоящей красоты. Красота дневного света выступает отчетливее при сравнении с ночной тьмою, белое выглядит прекраснее рядом с черным (Ер. 29, 11). Во-вторых, Августин показал, опираясь на античную, в основном риторскую, традицию, что в основе красоты целого лежит закон оппозиции, т. е. единства противоположных элементов, и прежде всего, прекрасных и безобразных в структуре целого. Контраст прекрасного и безобразного образует гармонию целого.
И наконец, безобразная форма начинает наделяться (у Августина – только начало этого процесса) некоторым знаково-символическим значением в качестве носителя высокой духовной красоты.
Пожалуй, никто в истории эстетической мысли до Августина не уделял столько внимания проблеме безобразного, может быть, потому, что никто до него так остро не ощущал прелесть и очарование чувственной красоты и, одновременно, не видел столь ясно глубин сатанинских, в которые влечет она человека.
Еще к одному виду красоты постоянно обращается внимание Августина – к красоте искусства. Подробнее об этом мы будем говорить в гл. VIII. Здесь только следует подчеркнуть, что Августин усмотрел вслед за Плотином в основе всех искусств красоту и их главной задачей считал выражение красоты. Основные структурные закономерности искусства, как мы увидим ниже, у него совпадают с законами красоты. Целью музыки является красивая организация звуковой материи (De mus. I, 13, 28). Красоте служит и поэзия, хотя философии доступна более высокая и истинная красота (Contr. acad. II 3, 7). Скульптор и живописец трудятся над созданием прекрасных форм, и даже зрелища обладают своей достаточно привлекательной красотой. Августин, однако, осторожен в отношении этой красоты. Он не слишком отличает ее от красоты природных форм и считает, что красота в искусстве лишь тень и отблеск абсолютной красоты, поэтому не стоит увлекаться ею и, тем более, останавливаться только на ней (ср.: De vera relig. 22, 43). В быту же людей, сетует Августин, красота искусства занимает чрезмерно большое место. «Создание разных искусств и ремесел – одежда, обувь, посуда и всяческая утварь, картины и другие изображения – все это ушло далеко за пределы умеренных потребностей и в домашнем быту, и в церковном обиходе. (...) Искусные руки узнают у души о красивом, а его источник та Красота, которая превыше души и о которой душа моя воздыхает днем и ночью. Мастера и любители красивых вещей от нее взяли мерило для оценки вещей, но не взяли мерила для пользования ими» (Conf. X, 34, 53). К соблюдению «меры пользования» искусством и к ясному осознанию места его красоты в универсуме Августин призывает постоянно, может быть в силу того, что сам увлекается этой красотой, причем в большей мере, чем это пристало, по его мнению, христианскому пастырю.
Рассмотрев основные аспекты красоты у Августина, подведем некоторые предварительные итоги его пониманию этой важнейшей эстетической категории.
1. Красота предстает в системе Августина объективным свойством мира как в его духовной, так и в материальной частях.
2. Бог является высшей и абсолютной красотой, источником, причиной и творцом всего прекрасного в мире.
3. Красота выступает показателем бытийственности вещи. Обладание абсолютной красотой тождественно обладанию вечным и абсолютным бытием, полное отсутствие красоты соответствует переходу вещи в небытие.
4. Красота бывает статичной и динамичной.
5. Августин различает прекрасное в себе и для себя, т. е. собственно прекрасное (pulchrum) и прекрасное как соответствующее чему-то (aptum, decorum).
6. Красота иерархична. Иерархия Августина хотя и опирается на плотиновскую, но во многом отличается от нее. Схематически она может быть представлена в следующем виде:
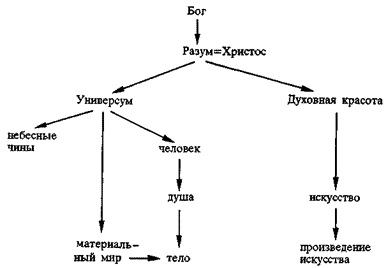
Источником красоты и здесь является Бог, а высшим носителем ее – Разум (ЛогосХристос). От него происходит красота универсума и духовная красота. Универсум, в свою очередь, состоит из небесных чинов, человека, его души и тела и всего многообразия материального мира, красота которого так сильно волновала душу Августина. Духовная красота лежит в основе красоты нравственной, красоты искусства, науки и конкретных произведений искусства.
7. Красота материального мира, и в частности красота человеческого тела, занимает здесь также низшую ступень, но оценивается Августином значительно выше, чем в неоплатонической системе.
8. Красота доставляет удовольствие, которое может привести к блаженству.
9. Красота является предметом любви.
10. Красота выше пользы и всего утилитарного; утилитарное – путь к красоте.
11. Красота целого возникает на основе гармонического единства противоположных частей, в частности прекрасных и безобразных элементов.
12 Красота человека состоит в единстве его душевной и телесной красоты. Тело человека прекрасно во всех своих частях и в целом. Однако отсутствие телесной красоты не мешает человеку быть причастным ко всем другим, более высоким ступеням красоты, включая и высшую.
13. Идеальной чувственно воспринимаемой красотой тело будет обла дать по воскресении из мертвых.
14. Безобразное есть показатель недостатка красоты; составная часть красоты; знак красоты.
15. Августин, по существу, не различает красоту и прекрасное, хотя в одном месте специально отмечает, что красота выше прекрасного. Так же как истина является причиной истинного, благочестие – благочестивого, целомудрие – целомудренного, так и красота (pulchritudo) является причиной прекрасного (pulchrum). Без красоты нет и прекрасного, хотя красота может существовать и без прекрасного, и поэтому она выше его (In Ioan. ev. 39, 7).
16. Главной целью всех искусств является создание красоты.
Уделяя много внимания вопросам прекрасного, Августин стремился определить основные признаки и структурные закономерности красоты. Почему красота доставляет удовольствие? что нам нравится в ней? за что любим мы прекрасные вещи? что привлекает к ним нашу душу? – эти и подобные вопросы постоянно интересовали гиппонского мыслителя. Стремясь найти ответы на них, Августин подводил итог многим изысканиям античной эстетической мысли.
Общими универсальными признаками чувственно воспринимаемой красоты у него выступают форма и число. Без них красота просто не может существовать. В трактате «О порядке», как мы помним, Августин показал, что в красоте нравятся формы, а в формах – размеренность, а в размеренности – числа (De ord. II, 15, 42). Но форма и число – это самые общие признаки. Наряду с ними Августин, опираясь на античность, выделяет и ряд более конкретных признаков и закономерностей, такие, как равенство, симметрия, соразмерность, пропорция, согласие, соответствие, подобие, равновесие, гармония, оппозиция, или контраст, и как главенствующая над всеми ними закономерность – единство610.
Важнейшим законом прекрасного выступает у Августина lex aequalitas – закон равенства, или соразмерности. Он господствует и в природе, и в искусствах. Из геометрических фигур совершеннее и прекраснее те, в которых выше степень равенства. Так, равносторонний треугольник красивее (pulchrior) любого другого (De quant. anim. 8, 13), а квадрат прекраснее этого треугольника, так как у треугольника против сторон – углы (9, 15). Но и квадрат имеет несовершенства: углы у него не равны сторонам и линии от центра до вершин углов не равны отрезкам прямых, проведенным из центра к сторонам. Более совершенной фигурой, с точки зрения равенства, будет круг, а предел совершенства заключен в точке (10, 16; 11. 18).
В музыке и поэзии lex aequalitatis играет первостепенную роль611 . При соединении стоп друг с другом необходимо помнить, что «равенство и подобие имеют преимущество перед неравенством и неподобием» (De mus. II, 9, 16), поэтому лучше всего, когда стопы одного вида следуют одна за другой. Далее можно соединять разные по названию, но равные по длительности стопы и т. д. (II, 11, 21; 13, 24). «Что доставляет нам удовольствие в чувственных, организованных по законам чисел образованиях? – спрашивает Августин. – Не иное ли что, как некое равенство и пропорциональность соразмерных интервалов? Чем другим радует нас тот пиррихий, спондей, анапест, дактиль, процелевматик и диспондей, как не тем, что каждый из них соотносит одни части с другими в соразмерном членении? Отчего же обладают красотой ямб, трохей, трибрахий, если не от того, что в них равномерно распределены меньшие и большие части?» Рассматривая далее, чем же стопы доставляют нам удовольствие, он приходит к выводу, что «во всех стопах нет ни одной самой малой, отличной от других части, которая не воспринималась бы в определенном возможном соответствии (aequalitas) с другими» (VI, 10, 26).
В различных соединениях стоп и в таких образованиях с неограниченной длительностью, как ритмы, и в таких, с определенным концом, как метры, и, наконец, в таких, разделенных на две части, которые, в свою очередь, определенным образом друг другу соответствуют, как стихи – везде не что иное как равенство (соразмерность – aequalitas) организует стопы в некое целостное единство. Соответствующее чередование звуков и пауз, соединение ритмов и метров – все без исключения основано на «законе равенства» (lex aequalitatis). Закон этот может осуществляться только при наличии в произведении как минимум двух членов, т. е. он пригоден только для сложных объектов. Он универсален, но по-разному проявляется в различных случаях, например, по-одному при организации ритма и по-другому – при организации стиха (VI, 10, 27). В предметах пространственных равенство осмысливается как сходство (similitudo), которое бывает полным в вещах равнозначных, «когда мы говорим, что это так же похоже на то, как и то на это, как, например, если речь идет о близнецах», и тогда мы имеем фактически равенство (или тождество), – и неполным, когда вещи худшие бывают похожи на лучшие, например при отражении предмета в зеркале. Сходство визуально воспринимаемых предметов создается или природой, или руками человека в произведениях искусства (Solil. II, 6, 11). Подробнее на проблеме подобия мы остановимся в следующей главе, рассматривая понятие образа у Августина.
Относительно элементов прекрасного целого подобие, или сходство (similitudo), понимается в смысле соответствия частей друг другу. Отдельные предметы, пишет Августин, могут существовать не только совместно с другими [предметами] такого же рода, но и в своей собственной единичности, если только они имеют сходные между собой части. И тело тем красивее, чем более сходные между собой части входят в его состав». Вся Вселенная состоит из «соответствующих друг другу вещей», ибо она создана «чрез высшее, неизменное и нетленное подобие того, кто все создал так, чтобы было прекрасным вследствие соответствия частей друг другу» (De Gen. ad lit. imp. 16, 59).
Подобие, или соответствие, членов друг другу образует их согласие (convenientia) в едином целом, что и возбуждает чувство удовольствия у всякого, созерцающего красивую вещь (De vera relig. 39, 72).
Примером прекрасной вещи, состоящей из сходных и соответствующих друг другу членов, выступает человеческое тело, красота которого постоянно приводит в восторг Августина. «Кажется, почти ничего не отнимается у тела, если остричь одну бровь, а между тем как много отнимается у красоты, которая состоит не в массе, но в равенстве (parilitas) и в соразмерности (dimensio) членов!» (De civ. Dei XI, 22).
Относительно визуально воспринимаемой красоты Августин, как уже отмечалось, широко опирается на достижения античной эстетики, видевшей красоту в соразмерности (или соответствии) частей и приятности цвета. «Что есть красота тела?» – спрашивает он и отвечает: «Соответствие частей вместе с некоторой приятностью цвета» (Ер. III, 4). Интересно, что именно эту античную формулу красоты Августин соединяет с христианской идеей воскресения тел. При всеобщем воскресении люди восстанут в своих телах, однако без тех дефектов и ущербностей, которые они имели при жизни, т. е. в своих прекрасных телах, какими они были в замысле Творца. Поэтому Бог исправит все тела по воскресении их примерно так же, как исправляет неудачную статую скульптор.
«Красота всякого тела, – пишет в связи с этим Августин, – состоит в соразмерности (или согласии – congruentia) частей вместе с некоторой приятностью цвета. Где нет такого согласия частей, [нас] оскорбляет что-либо или потому, что оно криво, или потому, что мало, или потому, что слишком велико» (De civ. Dei XXII, 19). Поэтому по воскресении каждый член нашего реального тела и все оно в целом будут исправлены в соответствии с «мерой полноты» тела, с мерой человеческой природы (ad humanae naturae figuram) или с его идеальной прекрасной моделью, находящейся в разуме Творца. Процедуру эту Августин мыслит себе в следующем виде: «В воскресении плоти для вечной жизни величина тел будет иметь ту меру, которая принадлежала ей в соответствии с идеей юношеского возраста каждого тела, не достигнутого еще или уже пройденного с сохранением соответствующей красоты в размерах всех членов. Для того, чтобы сохранить красоту, если [у тела] что-либо будет отнято вроде неприличной величины каких-либо его членов, все это будет размещено по всему [телу] так, что и само [излишнее] не исчезнет и сохранится соответствие (congruentia) частей; нет ничего невероятного в том, что в результате может даже прибавиться и сам рост тела, когда для сохранения красоты по всем членам распределится то, что было чрезмерным и неприличным в [какой-либо] одной части» (De civ. Dei XXII, 20). Тела получат и соответствующую «приятность цвета» (coloris suavitas), которой не имели в настоящей жизни и которая состоит в большой светоносности, ясности (claritas). Именно так сияло тело воскресшего Христа. Только вот на телах мучеников, во славу их, Августин хотел бы и в раю видеть следы нанесенных им ран (XXII, 19).
Здесь фактически дано руководство художнику по изображению идеализированного человеческого тела. В чистом и буквальном виде оно будет реализовано лишь живописцами итальянского Возрождения. Однако отзвуки его можно найти и в средневековом, прежде всего восточнохристианском искусстве. Помноженное на христианскую духовность и несколько переосмысленное, это руководство легло в основу художественной практики византийских мозаичистов и иконописцев, особенно при изображении человеческих лиц, точнее – идеальных, одухотворенных ликов.
Интересные суждения об общих законах искусства и прекрасного Августин высказал в своем сочинении «Об истинной религии», где он стремился подняться от конкретных закономерностей видимой красоты к их идеальным основаниям. «Но так как во всех искусствах, – пишет он, – нам нравится гармония (convenientia), благодаря только которой все бывает целостным (salva) и прекрасным, сама же гармония требует равенства и единства, состоящего или в сходстве равных частей, или в пропорциональности (gradatio) неравных; то кто же найдет в [действительных] телах высшее равенство или подобие и решится сказать, при внимательном рассмотрении, что какое-нибудь тело действительно и безусловно едино; тогда как все изменяется, переходя или из вида в вид, или с места на место, и состоит из частей, занимающих определенные места, по которым все оно распределяется по различным пространствам? Далее, самое истинное равенство и подобие, а также самое истинное и первое единство созерцаются не телесными глазами и не каким-либо из телесных чувств, а только мыслящим умом» (De vera relig. 30, 55). Высказывание это показательно для эстетики Августина в целом. Здесь особо наглядно видно, как органично и незаметно из комплекса античных представлений у него возникает собственная концепция, вполне приемлемая для новой культуры. Мы видим, как под сформулированные стоиками определения материальной красоты подводятся платоновские основания, т. е. за феноменами соразмерности, равенства, подобия, гармонии усматриваются их идеальные архетипы – идеи соразмерности, равенства, подобия и т. п. И далее эти традиционные основания красоты как нечто само собой разумеющееся переносятся на искусство. Здесь, конечно, не забыты и эстетические взгляды Плотина, но они несколько деинтеллектуализированы и конкретизированы. У Августина речь идет не об эйдосах вообще, но о конкретных закономерностях типа соразмерности, сходства, гармонии и т. п. В этом особенность не только августиновской, но и всей патристической эстетики. Многие «заумные» и утонченные витийства неоплатоников она опустила на землю – изложила более простым языком, соотнеся с конкретными вещами, доступными пониманию более широких, чем братство любомудров, читательских кругов.
Выяснив, что в основе чувственно воспринимаемых прекрасных вещей и произведений искусства лежат идеи равенства, соразмерности, подобия, единства, Августин переходит к вопросу о критерии и пределах суждения об этих закономерностях. Ясно, что этот критерий принадлежит интеллигибельной сфере, находящейся за пределами пространственно-временного континиума. «И в то время, как все чувственно прекрасное, произведенное природой ли или созданное искусствами, прекрасно в пространстве и во времени, как, например, тело и движение тела; то это, одним только умом познаваемое равенство и единство, в соответствии с которым при посредстве чувства складывается суждение о телесной красоте, ни в пространстве не расширяется, ни во времени не изменяется». Законы равенства, подобия и единства объективны и находятся не в уме человека, но выше него. Человеческий же ум в своих суждениях о красоте и искусстве руководствуется этими законами. Ум человека подвержен различным изменениям и заблуждениям, «закон же всех искусств» (lex omnium artium) совершенно неизменен (De vera relig. 30, 56). Он абсолютно истинен и возводится Августином к божественной мудрости. «Эта-то мудрость и есть та неизменная истина, которая справедливо называется законом всех искусств и искусством всемогущего художника».
Здесь Августин и усматривает предел суждений об эстетических закономерностях. Закон «высшего равенства» находится в сферах, значительно превышающих ум человека. Поэтому ему дано познать лишь факт существования этого закона, но не его сущность. Нам ясно, замечает Августин, что именно благодаря подобию, соразмерности, равенству элементов и членов тела и произведения искусства нравятся нам, но мы не можем сказать, почему собственно равенство, подобие, соразмерность доставляют нам удовольствие (31, 57–58; ср.: 43, 80). Августин поставил здесь, пожалуй, самый главный и до сих пор актуальный вопрос эстетической теории, мужественно признавшись, что человеческий разум его времени не в состоянии дать ответ на него. Спустя пятнадцать столетий после смерти гиппонского мыслителя возникшая для решения этого вопроса специальная наука должна с сожалением констатировать, что ответ на его вопрос до сих пор не найден; тем не менее, в отличие от своего именитого праотца, она с оптимизмом продолжает поиск.
Ощущение реальных границ интеллектуального познания позволяло Августину трезво судить о вещах доступных, по его мнению, познанию. В сфере эстетики дело сводилось, как правило, к постановке проблем, что, как известно, имеет немаловажное значение для любой науки.
В трактате «О музыке» (см. гл. V) Августин уделил много внимания пропорции, как одной из числовых закономерностей красоты, суть которой состоит в определенном соотношении среднего и крайних членов. В соответствии с этим пропорциональность (или симметрия), в архитектуре например, заключается в том, что по обе стороны двери должно находиться равное количество равных по величине окон. Размеры же окон, расположенных одно над другим, должны быть выдержаны в отношении «золотого сечения»: верхнее относится к среднему так, как среднее – к нижнему (54–55). В этом и заключалась, по Августину, гармония и соразмерность архитектурных элементов внутри целого.
Именно к гармонии как к одной из главных структурных закономерностей красоты было привлечено его особое внимание. Гармония наряду с другими закономерностями, подчеркивает Августин, объективна, она целиком и полностью связана с соответствующей вещью: «Затем, если в теле существует какая-либо гармония (harmonia), она необходимо существует в данном теле и неотделима от него; и ничего в этой гармонии не предполагается такого, что с одинаковой необходимостью не существовало бы в данном теле, с которым не менее нераздельна и сама гармония» (De immort. anim. 2, 2). На гармоничном согласии частей и элементов основывается и красота природных тел, и музыкальная мелодия, и стихотворная строка. Именно гармония (congruentia согласие) частей радует нас в любом предмете больше всего (Conf. II, 5, 10). Стихотворная стопа услаждает наш слух потому, что обе ее части, повышающаяся и понижающаяся, «гармоничны в числовом отношении» (numerosa sibi concinnitate). Ведь среди «всех предметов, которые воспринимаются состоящими из частей, не те ли являются более прекрасными, чьи части равно согласованы, чем имеющие несогласованные и диссонирующие части?» Так, и в стопе, разделенной на две части, именно их гармония радует слух. На этом же принципе основаны и сами стихи (De mus. V, 2, 2).
Сущность гармонии Августин, опираясь на традиции античной эстетики, усматривал в единстве и согласии противоположностей. «Во всех вещах, – писал он, – познаем мы господство закона соответствия, связи, созвучия и согласия противоположных элементов: греки называют это гармонией. Чувство этого согласия, этой природной связи является у нас врожденным612. Именно это понятие гармонии позволило Августину поставить проблему контраста, или оппозиции, в широком эстетическом плане, увидеть в единстве противоположных начал основу всякой красоты – и в природе, и в искусстве. Мы уже отмечали (см. гл. IV), что красота мира, по глубокому убеждению Августина, складывается из противоположностей: «Так как бы в некотором роде из антитез, что бывает приятно нам в речи, т. е. из противопоставлений образуется красота всех вместе взятых вещей» (De ord. I, 7, 18; ср.: De civ. Dei XI, 18; De ord. I, 8, 5). Закон этот, как неоднократно указывал и сам Августин, он нашел в риторике и поэтике (De ord. Π, 4, 12) и оттуда распространил практически на всю сферу эстетического, т. е. на все искусства и на прекрасное.
Именно наличие оппозиций, как в различных искусствах, так и в прекрасных предметах, позволило Августину теснее объединить эти, бытовавшие обособленно друг от друга в античной эстетике, сферы. Более того, наблюдения за «музыкальной гармонией» (harmoia musica), состоявшей в «разумном и соразмерном сочетании различных (противоположных – diversorum) звуков путем согласия разнородностей (concordi varietate)», дало ему возможность усмотреть фактически этот же закон и в хорошо организованном государстве (De civ. Dei XVII, 14; см. также гл. IV). В августиновской идее контраста, оппозиции Вл. Татаркевич справедливо усматривает возрождение «гераклитовского мотива» в понимании прекрасного613. К этому следует только добавить, что «гераклитовский мотив» был существенно развит гиппонским мыслителем и лег в основу художественной практики Средневековья.
Оппозиции, как основа прекрасного, доставляют удовольствие лишь в том случае, если они объединены в некое органическое целое. Это относится и ко всем другим формальным закономерностям красоты и искусства. Поэтому понятие единства (unitas) является у Августина, пожалуй, главным в ряду формальных эстетических признаков. Он постоянно напоминает, что и равенство, и подобие, и соразмерность, и симметрия, и пропорция, и опозиция, и гармония доставляют удовольствие, т. е. ведут к возникновению красоты только при условии единства объекта, в формировании которого они участвуют. В качестве примера приведем одно из рассуждений Августина на эту тему, подытоживающее в какой-то мере его формальную эстетику и намечающее дальнейшие ее перспективы.
Многие люди, сетует Августин, ограничиваются только удовольствием, получаемым от красоты и искусства, и не желают, да и не в состоянии, пожалуй, понять: что же доставляет им это удовольствие. Если, к примеру, спросить у архитектора, зачем он строит две симметричные арки у здания, он, надо думать, ответит, «что это требуется для того, чтобы равным частям здания соответствовали равные. Если, далее, я спрошу, почему же он предпочитает именно такое [устройство], он ответит, что это прилично, это красиво и что это доставляет удовольствие зрителям, больше он ничего не скажет». Если же обратиться с этими вопросами к человеку, обладающему внутренним зрением, то он согласится с тем, что подобные предметы доставляют удовольствие потому, что они прекрасны, а прекрасны они благодаря тому, что «части их взаимно соотнесены (similes sibi – подобны друг другу) и посредством некоего сочетания приведены в стройное единство» (De vera relig. 32, 59).
Далее, можно спросить этого человека, вполне ли это конкретное предметное единство выражает то единство, к которому оно стремится, или, напротив, оно лишь отчасти представляет его. «Если же это так (потому что кто же из спрашиваемых не знает, что нет ни одной формы, нет ни одного тела, которые не имели бы тех или иных следов единства; и что, [с другой стороны,] как бы тело ни было прекрасно, оно не может достигнуть того единства, к которому стремится, потому что в других местах пространства оно неизбежно бывает и не таким), – поэтому если это так, то я потребую, чтобы он ответил, где же или в чем он сам видит это единство; если же он его не видит, то откуда знает, [во-первых,] то, чему должен подражать внешний вид тел, [и во-вторых,] то, чего он выразить (implere) не может?» Действительно, если он уверен, что тела не существовали бы, если бы не были подчинены закону единства, но также знает, что если бы они были самим единством, то уже не были бы телами, то его резонно спросить, откуда он знает это единство. Ясно, что он его видел, ибо справедливо судит, что материальные предметы не вполне выражают его. Ясно и то, что видел он его не телесными глазами, потому что тогда бы он не мог заметить отступлений в телесных предметах от него. Следовательно, он видел его «глазами ума» и оно, (единство. – В. Б.), «будучи везде, присуще тому, кто судит, никогда не существует пространственно, но всегда силою» (32, 60).
Таким образом, более высокое единство, на основе которого выносится эстетическое суждение по поводу конкретного материального объекта, находится внутри нас, в нашей душе, т. е. Августин утверждает, что в основе эстетического восприятия лежит закон подобия объекта восприятия некоторым глубинным сущностям души субъекта восприятия. Это важный в истории эстетики вывод. И он не случаен у Августина. В трактате «О свободном выборе» он писал: «Тогда ты увидишь, что все, что тебе нравится в теле и что в телах привлекает чувство, – все подчинено закону числа (esse numerosum); и ты спросишь, откуда это, и вернешься в себя самого, и постигнешь, что все то, с чем соприкасаются телесные чувства, ты не мог бы ни одобрять, ни порицать, если бы не имел в себе определенных законов красоты, на основе которых ты судишь, что воспринимаешь извне прекрасное» (De lib. arb. II, 16, 41). В данном случае под «законами красоты» Августин имеет в виду особые числа души, о которых подробнее речь будет идти в гл. X.
В трактате «О Троице» Августин также говорит о внутренней норме красоты (De Trin. Χ, 1, 1).
Итак, законы красоты, среди которых главное место занимают числа и единство, находятся внутри души и с их помощью производится эстетическое суждение. Сами же они являются произведением высшего Художника, в котором и мыслится идеал истинного единства. Именно выражением этого высшего единства считает Августин в приведенном рассуждении (из «De vera religione») единство и другие формальные закономерности тварной красоты. Абсолютное же единство есть в христианстве одновременно и абсолютная истина, и высшее благо. Таким образом, все формальные закономерности чувственно воспринимаемой красоты у Августина оказываются содержательными614, ибо они в конечном счете значимы для него не сами по себе (и он регулярно подчеркивает это), но лишь как средство выражения высшей и абсолютной истины, высшего блага615. В этом существенное отличие августиновской эстетики от античной (стоической прежде всего). Поэтому если с формальной точки зрения Августин не может дать ответ, почему нам доставляют удовольствие соразмерность, подобие, гармония, единство, то с содержательной – у него этот ответ есть. Формальные закономерности красоты нравятся нам не сами по себе, но как выражение высших законов бытия, высшей истины, приобщающее нас к ней. Причастность же к абсолютной истине связана с радостью, наслаждением, блаженством. Таким образом, эстетика Августина в самом сложном своем вопросе опирается на гносеологию, а гносеология, как мы уже видели (гл. III), в этом же пункте стремится найти опору в эстетике. Круг замыкается, лишая ищущий разум выхода как в гносеологии, так и в эстетике. Сам Августин, как и все христианство, видел его лишь в чисто религиозной сфере, в помощи божественной благодати.
Красота, как мы помним, определяет у Августина (как и у Плотина) степень бытийственности вещи, следовательно, формальные признаки красоты становятся здесь показателем онтологического статуса вещи, ее ценности в иерархии бытия. Чем прекраснее вещь, чем гармоничнее, чем выше степень ее единства, тем более высокое место занимает она в бытии, тем сильнее истина просвечивает в ее форме, тем истиннее она.
Высоко ценя неутилитарность эстетического наслаждения, Августин имел в виду независимость его от потребностей обыденной жизни. Однако он не признавал бесполезной красоты. Такой для него просто не существовало. Любая красота и в мире, и в искусстве представлялась ему выражением высших истин, возводящим к ним душу и сердце человека, зовущим его в мир истинного бытия. В этом и видел Августин высокую пользу красоты и искусства.
Таким образом, стремясь выявить сущность красоты, Августин использовал многие достижения античной эстетики, но усмотрел во всех формальных закономерностях прекрасного содержательную сторону, сделав в этом плане существенный шаг вперед в развитии эстетической теории.
Глава VII. Творчество
Где, однако, гарантия того, что красота чувственно воспринимаемых предметов отражает высшую истину? Такую гарантию Августин, как и все христианские теоретики, усматривает в идее творения мира Богом из ничего. Эта идея занимает видное место в мировоззренческой системе гиппонского мыслителя и является одним из главных опорных пунктов его философии. Именно она определила сущностное отличие философии Августина от плотиновской. Она в корне исключала основную идею неоплатонизма – концепцию эманации, поступенчатой передачи эйдосов616 . Отсюда и особое внимание Августина к этой проблеме, и ряд противоречий в его системе.
Собственно, весь путь духовного становления африканского мыслителя в той или иной форме был связан с осознанием именно этой идеи. В юности его, устремившегося на всех парусах к высотам духовности, которая открылась ему в философии, оттолкнула от Библии своим примитивизмом, в частности, и идея творения, очень похожая на сказку для детей. Позже под влиянием неоплатонизма и аллегорической экзегезы Амвросия Медиоланского он увидел в Библии, и прежде всего в начальных главах Книги Бытия, духовные глубины, скрытые под буквальным уровнем текста. Это не только подняло в его глазах авторитет Писания, но и убедило в истинности христианского мировоззрения. И уже в Гиппоне, став духовным пастырем большого прихода, а позже и фактически главой африканской церкви, он пришел к сознательному принятию буквального смысла библейской идеи творения мира. При этом он не отказался и от ее аллегорического многозначного истолкования. Однако на первое место в зрелый период своего творчества он выдвигает буквальный смысл текста Книги Бытия.
Конечно, нелегко было поклоннику Плотина, постигшему тонкости отвлеченной игры ума и познавшему вкус изящного плетения словес, поверить в безыскусный рассказ о шести днях творения. Но путь от высот античной культуры к христианскому мировоззрению у большинства Отцов Церкви в то время был именно таким: от сложной и утонченной интеллектуальной духовности к простым и безыскусным, даже примитивным радостям новой веры. Здесь действовала особая логика культурного развития, когда сама человеческая природа начинала не выдерживать слишком уж изощрившуюся
в духовных изысках культуру и требовала опрощения: спуститься с духовных высот на грешную землю с ее грязью, слезами, грубостью, чтобы набраться сил для нового духовного взлета, что и составляло специфическую черту христианства.
В работах Августина, особенно раннего периода, можно нередко встретить реминисценции неоплатонической теории эманации (так же, как, впрочем, и стоическую идею первоначальной материи), несовместимые с идеей творения. Однако их нельзя считать определяющими в его системе. Это не более чем воспоминания о пройденных этапах его сложного пути духовного становления, отголоски которых порой неосознанно, как словесные клише, продолжают звучать и в его поздних текстах. Не случайно сам Августин неоднократно убеждает своих читателей не увлекаться словами, но всегда уметь видеть выражаемую ими идею.
Одной из главных идей философии Августина была идея творения мира из ничего617. Она наложила свой отпечаток и на его эстетическую систему. Августиновская концепция творения отнюдь не лишена противоречий, но нас в данном случае интересует ее суть, оказавшая влияние и на его эстетику, и на художественное мышление Средних веков.
До творения мира вечное бытие имел только Бог в единстве своих трех ипостасей, как некое абсолютное море сущности. Кроме этого «моря», не было абсолютно ничего, что и обозначено в патристике как «ничто» (nihil). Идея творения, как и вообще совокупность всех идей, постоянно пребывала в Боге. Момент творения не фиксирован во времени, так как времени еще не существовало. Оно само – результат творения. Бог творил через посредство своего Сына, своей ипостаси – Слова, высшей формы и средоточия всех форм, ибо оно предшествовало всему, «как форма всего, вполне заключая [в себе] то Единое, от которого имеет бытие, так что все, имеющее бытие, поскольку оно подобно единому, произошло через эту форму» (De vera relig. 43, 81). Пластичность как специфическая принадлежность античного мышления, живущая в Августине, неизбежно требует, чтобы оформлено было нечто бесформенное, но имеющее уже что-то, что может принять форму. Ничто, по античным представлениям, не может быть оформлено, ибо как же оформлять то, чего нет? Здесь Августин попадает в клубок сложных противоречий, который он так и не смог распутать. Он принимает библейскую идею творения из ничего. Но творение, как мы отчасти видели и подробнее увидим далее, он понимает как придание вида и формы. В то же время античная, и прежде всего стоическая, традиция, весьма распространенная в поздней античности, убеждает его в том, что форму надо придавать чему-то. Он как бы забывает здесь плотиновскую мысль о том, что придание формы есть уже приобщение к бытию, хотя и повторяет ее достаточно часто в своих работах. Он пытается найти компромиссное решение, опираясь на библейские, стоические и неоплатонические представления, что приводит его к явным противоречиям, которые он не снимает, но оставляет в качестве антиномий.
Августин предлагает одно из толкований (подчеркивая, что могут быть и другие) первого стиха Книги Бытия («В начале сотворил Бог небо и землю»), считая, что под «небом» следует понимать мир духовный, а под «землей» – «бесформенную материю» (Conf. XII, 2, 2–3,3). В подходе к этому вопросу Августин отдает дань своим юношеским увлечениям дуалистическими концепциями618. Из ничего Бог создал лишь диаду – духовный мир и бесформенную материю. А дальше, пишет Августин, буквально повторяя стоиков, – творил из этой материи. Первосозданная материя, хотя и была «невидимая и неустроенная», уже отличалась от небытия: «И все-таки это не было полное «ничто»: было нечто бесформенное, лишенное всякого вида» (XII, 3, 3). Вот здесь-то и встают главные трудности перед разумом, привыкшим только к формально-логическому мышлению. При определении первичной материи возникает противоречие в результате совмещения противоположных представлений. Необходимо или признать его ложным, или принять противоречие в качестве нормы бытия и мышления. Последнее мучительно трудно для ревностного почитателя античной диалектики, и тем не менее, хотя и с оговорками, он допускает его.
Стремясь избежать одной «алогичности», совершенно неприемлемой для античного пластического мышления (создание материального мира из ничего с помощью слова), он вынужден принять другую: первоначальная материя не имеет формы, но обладает каким-то бытием, хотя лишь форма определяет бытие вещи. На примере Августина хорошо видно, как в поисках оптимального решения важнейших проблем бытия мучительно билась философская мысль поздней античности, отягощенная грузом противоречивых традиций – стоической, неоплатонической, гностической, манихейской, раннехристианской. В чем же тогда «первичность» этой материи? В каком смысле надо понимать ее «первозданность»? Для ответа на этот вопрос Августин рассматривает четыре вида первенства: «по вечности, по времени, по I выбору и по происхождению», показывая, что материя так же «первична» по отношению к форме, как звук – по отношению к пению, т. е. не по времени («потому что время появляется, когда все уже облечено в форму»), но «по происхождению» (XII, 29, 40). Этим «по происхождению» Августин пытается показать не временное, но логическое первенство материи619.
Но что же такое эта первосозданная материя, – пытается прояснить свою собственную мысль Августин: «Она не есть интеллигибельная форма, как жизнь или справедливость, ибо это телесная материя; но она и чувственно не воспринимается, потому что в «невидимом и неустроенном» ничего нельзя увидеть и воспринять». Когда так говорит себе человеческая мысль, то суть мышления сводится к тому, чтобы или знать, не зная, или не знать, зная» (XII, 5, 5). Раньше, поясняет Августин, под влиянием манихеев, он представлял себе эту материю не бесформенной, но в виде ужасных и отвратительных образов. «Бесформенной» он называл ее не потому, что она была лишена всякой формы, но из-за ее отталкивающего, безобразного вида. «То, что я мысленно себе представлял, было бесформенным не по отсутствию всякой формы, но по сравнению с формами более красивыми». Очень трудно, признается Августин, было представить себе «нечто между формой и «ничто»: нечто не имеющее формы, но и не «ничто». Внимательное всматривание в вещи направило его внутренний взгляд на саму изменяемость вещей, на сущность перехода от одной формы к другой, который совершается через нечто бесформенное, но не через «ничто».
Все эти колебания на пути к осмыслению бесформенности материи происходят у Августина под влиянием плотиновских представлений о материи: «отбросив всякую форму, назовем материей то, что никакой формы не имеет» (Эн. I, 8, 9); «То, что рождается и переходит из одного состояния в другое, нуждается в материи» (Эн. II, 4, 2) и др. Но неоплатонизм нелегко, хотя и последовательно, усваивается Августином, чтобы затем укрепить и его христианские представления. «Итак, – повторяет он уроки неоплатонизма в христианский период, – изменчивое в силу самой изменчивости своей способно принимать все формы, через которые, меняясь, проходит изменчивое. Что это такое? Душа? Тело? Некий вид души или тела? Если бы можно было о ней (материи. – В. Б.) сказать: «ничто, которое есть нечто» и «есть то, чего нет», – я так и сказал бы. И все же она как-то была, дабы могло возникнуть видимое и устроенное» (Conf. XII, 6, 6)620. Материя предстает у Августина потенциальным носителем всех возможных форм. Это нечто фактически бесформенное, но уже расположенное к любой форме (informis formabilisque – De fid. et symb. 2)621.
Итак, из ничего (de nihilo) Бог создал две крайности мира бытия – «небо небес» (coelum coeli), «некое духовное творение, мир духовных существ», и бесформенную первичную материю, балансирующую на грани бытия и небытия: «Был Ты и «ничто», из которого Ты и создал небо и землю – некую двойню; одно близкое Тебе, другое близкое к «ничто»; одно, над которым пребываешь Ты; другое, под которым ничего нет» (Conf. XII, 7, 7). Из этой бесформенной материи, которой почти нет, Бог и сотворил весь чудесный, многообразный мир, величию и красоте которого разум человека не устает изумляться.
Процесс творения мира из материи, или божественного творчества, осуществлялся путем придания формы этой материи, т. е. оформления и упорядочения того, что почти не имеет бытия, и, следовательно, наделения материи более высоким уровнем бытия (ср.: De immort. anim. 8, 13; De vera relig. 18, 35 – 36). Сама форма является творением Бога, созданным одновременно с материей. Материя, опять подчеркивает Августин, предшествовала форме не во времени, но по происхождению (De Gen. ad lít. I, 15, 29). С другой стороны, Августин (дань пластичности античного мышления или реминисценции аристотелизма) считает, что и сам Творец обладает некоторой «формой, вечно и неизменно присущей (inhaerentem)» ему, в подражание которой оформлялся и весь мир (I, 4, 9). Соответственно обладает своей формой и непосредственный творец мира – Слово-Сын (I, 5, 10).
Придание формы и вида материи осуществлялось, по сути дела, по тем законам красоты и искусства, которые были рассмотрены в предыдущей главе, а сам Верховный Творец регулярно называется Августином Художником (artifex) и уподобляется во многом земному художнику. Закон единства и здесь выступает главным законом формообразования, ибо, утверждает Августин, «получить форму значит то же, что быть приведенным в нечто единое, потому что высшее единство является началом всякой формы» (De Gen ad lit. imp. 10, 32). Единство же основывается на гармонии всех входящих в целое форм. И не только форм, но даже и отсутствий форм, промежутков между формами.
Оформлению и упорядочению подлежит в процессе творчества не только материя тел, но и само «ничто», пустота, находящаяся между ними, ибо от ее количества и места, где она внедряется между материальными формами, существенно зависит целое. «Бог сотворил только формы (species), – пишет Августин, – но не отсутствия [их], которые относятся к тому «ничто», из которого создано все художником Богом; однако если говорится: «И разделил Бог между светом и тьмою», – разве не должны мы думать, что и отсутствия [форм] упорядочены им и что они обладают своим порядком, ибо Бог над всем господствует и всем управляет. Так, паузы в пении, чередующиеся через известные размеренные интервалы, хотя и представляют собой отсутствие звуков, однако искусными певцами хорошо упорядочены и придают всей песне особое очарование. Также и тени в живописи выделяют некие особо важные детали и доставляют удовольствие не своим видом, а расположением. (...) Итак, формы и самую природу [Бог] и творит, и упорядочивает; отсутствия же форм и недостатки природы он не творит, но только упорядочивает их» (5, 25).
Августин, таким образом, фактически не видит принципиальной разницы (хотя, как мы увидим далее, он все же различает их) между божественным и художественным творчеством, что позволяет ему более фундаментально (опираясь на практику земных художников) говорить о божественном творчестве, а современному исследователю – с полным основанием отнести к эстетике августиновскую теорию этого творчества. Далее, важным шагом в развитии эстетической мысли явилась идея Августина об упорядочении пауз, отсутствий форм, промежутков между ними, т. е. концепция значимости пустоты в искусстве. Гиппонский мыслитель в контексте своей всеобъемлющей теории порядка пришел к выводу, что эстетическая значимость произведения искусства зависит не только от организации чувственно воспринимаемых изобразительно-выразительных элементов, но и от упорядоченности промежутков, «пустот» между ними, т. е. эти «пустоты» имеют важное значение для эстетического облика всего произведения. Понятно, что художественная практика постоянно опиралась на эту идею, не выводя ее на уровень осознанного принципа. Тем не менее и осознание ее имело не только теоретическое, но и конкретно-практическое значение, ибо заставляло художника строже и внимательнее относиться не только к создаваемым им формам, но и к окружающей их пустоте, пространственному и временному фону.
В соответствии с известным библейским изречением (Прем 11, 21)622Августин видит сущность творчества в придании материи меры, числа и веса (равновесия), которые в своем идеале, в идее (ratio) существуют в самом Творце. Именно вследствие того, «что мера (mensura) определяет модус (modum) всякой вещи, число придает ей вид, а вес – покой и устойчивость, они в своей первоначальной, истинной и единственной [основе] суть Тот, который придает всему определенность, форму и порядок» (De Gen. ad lit. IV, 3). Поэтому сам Творец обозначается Августином как «мера без меры», «число без числа», «вес без веса», содержащий в себе идеи всякой меры, всякого числа и всякого веса и организующий в соответствии с ними мир тварного бытия (IV, 3; ср.: De civ. Dei V, 11). В разуме Творца, в его «мудрости» содержатся, по мнению Августина, вообще идеи всех возможных конкретных творческих форм: «Ибо существуют идеи, некоторые первоначальные формы или разумные основания (rationes) вещей, постоянные и неподвижные, сами не являющиеся формами и поэтому вечные и всегда одинаковые, они содержатся в божественном разуме. И между тем, как сами они не рождаются и не погибают, однако все, что может рождаться и умирать и что действительно рождается и умирает, – формируется сообразно с ними» (De div. quaest. 83, 44; ср.: De Gen. ad lit. V, 13, 29; 15, 33).
Трактуя библейскую фразу: «Дух Божий носился над водою» (Быт 1, 2), Августин опять обращается к сфере художественного творчества, понимая под «водой» материю, а под «духом» – творческий дух: формируя мир из материи, дух Божий «носился» над ней, «подобно тому как носится воля художника над деревом, или над любым другим материалом, подлежащим обработке, или даже над самими членами его тела, которыми он совершает работу» (De Gen ad lit. imp. 4, 16). Введение в творческий процесс воли художника (voluntas artificis) – также важное достижение теоретической мысли Августина. Именно воля способствует, по его мнению, воплощению творческих потенций, приводя в согласованное движение идеи художника и члены его тела, реализующие эти идеи в материи. Именно воля художника определяет конкретную форму реализации той или иной идеи. Августин подчеркивает, что одна и та же идея может быть воплощена в различных формах. Их выбор зависит от воли художника.
Так, первый человек Адам был создан в соответствии с изначально присущей Богу идеей человека, или «первичными причинами», которые носили такой общий характер, что им мог соответствовать не только тот конкретный вид человека, в котором мы сейчас существуем, но и многие другие. В настоящем своем виде человек «создан не вопреки тому, как он содержался в первичном состоянии причин, ибо в них заключалась [для него] возможность быть созданным и в таком виде, хотя и не было там [причины] необходимо явиться именно в этом виде; последнее явилось уже не [столько следствием] идеи творения, [сколько результатом конкретного] решения Творца, воля которого необходимое условие для [созидаемых] вещей» (De Gen. ad lit. VI, 15, 26). Эти идеи Августина своеобразно воплотились в средневековом изобразительном искусстве, предоставив художнику возможность по-своему интерпретировать тот или иной традиционный сюжет, но в рамках общего иконографического канона, хранящего «идею» данного сюжета623. В более общем – эстетическом плане мы видим здесь конкретные рассуждения о замысле произведения и возможности различных его реализаций в материале.
Не все ясно для людей, полагает Августин, в творчестве божественного Художника (De Gen. ad lit. imp. 1, Г), но ведь много неясного и непонятного для профанов и в деятельности земного художника и за это никто не осуждает его. Если мы не понимаем, к примеру, для чего кузнец выполняет ту или иную операцию, то мы же не считаем ее бессмысленной, но уверены, что кузнец знает, для чего она нужна, и вполне доверяем его искусству. Тем более следует доверять верховному Творцу и восхищаться целесообразностью его творчества (Enar. in Ps. 148, 12).
Процесс творения мира мыслится Августином состоящим как бы из трех моментов: 1. Бытие у Бога идеи, замысла (ratio) творения; 2. Реализация этой идеи в сфере высших духовных сущностей, т. е. небесных чинов, и 3. Возникновение самого творения (De Gen. ad lit. II, 8, 19). Эти три момента осуществляются как бы одновременно, так как времени до сотворения мира не было. Так же вне времени происходил и «шестидневный» процесс творения мира. Все, отмечает Августин, было создано разом, хотя и в шесть дней. Усвоить это трудно, но это так. Шестидневный порядок творения следует понимать скорее в причинном, чем во временнóм смысле (IV, 33, 52–34, 54; V, 3, 6; V, 5, 12). В этом Августин видит существенное отличие божественного творения от художественного творчества. Другое отличие состоит в том, что божественный Творец создал все своим Словом; о нем идет речь в Евангелии от Иоанна. Это Слово и есть вечный разум, «в котором ничто не начинается и не перестает быть» (Conf. XI, 8, 10). Через это Слово, ибо оно является и Премудростью Божией, и в нем создан весь этот прекрасный мир (от возвышенного ангела до ничтожного червя), которым мы не устаем восхищаться (In Ioan. ev. I, 8 – 9; 13). Божественное Слово создало мир целиком в единый момент творения и, одновременно, продолжает его создавать постоянно, руководя процессом изменения и смены материальных форм. «И поэтому Словом, совечным Тебе, Ты одновременно и вечно говоришь все, что говоришь; и возникает все, чему Ты говоришь, чтобы возникло; Ты творишь не иначе, как говоря, и, однако, не одновременно и не навсегда возникает все, что Ты создаешь Словом» (Conf. XI, 7, 9). Это Слово наделило и человека творческими способностями, даровав ему уразумение тайн искусства, умение создавать в душе представление о том, что он должен создать, а также чувственным восприятием, с помощью которого душа может оценить, хорошо ли выполнено произведение (XI, 5, 7). Все изложенное показывает, что Августин достаточно ясно представлял себе основные этапы творческого процесса: возникновение замысла (идеи произведения); конкретную реализацию его в материале (глине, камне, дереве, золоте и т. п.); оценку созданного произведения.
Замысел необходимо существует, как у божественного, так и у земного художника, до начала творения. Бог творил, заранее зная, что он создает; так же и человек не может ничего создать, не зная, что он собирается сделать (De civ. Dei XI, 10). Отличие же божественного Творца от земного художника в том, что у первого творение полностью соответствует замыслу, а у второго – реальным и истинным является то произведение, полагает Августин в духе неоплатонизма, которое находится в замысле (или, как он еще обозначает, «в искусстве») художника. «Вот плотник делает ларец. Сначала он имеет ларец в [своем] искусстве, ибо если бы он не имел его в своем искусстве, как мог бы он создать его? Но ларец содержится в [его] искусстве так, что это не сам ларец, видимый глазами. В искусстве содержится он невидимым образом, в самом же произведении он видим. Вот он стал произведением; перестал ли он быть в искусстве? Как этот обрел бытие в произведении, так и тот остался в искусстве; материальный ларец может и сгнить, но всегда можно изготовить другой на основе того, который находится в искусстве. Итак, следует различать ларец в искусстве и ларец в произведении. Ларец в произведении не является жизнью, ларец в искусстве есть жизнь; так как живет душа художника, в которой все это содержится прежде, чем производится» (In Ioan. ev. 1, 17). Подобным же образом рассуждает Августин в другом месте по поводу сооружения дома, его идеи «в искусстве» и конкретной реализации (37, 8).
Верховный Творец превосходит художника тем, что на основе внутренне действующих причин он творит из небытия не только природные формы тел, но и души живых существ (De civ. Dei XII, 26). Различны и способы творчества этих художников. Если создатель ларца находится вне своего произведения и творит его своими руками, то божественный творец создает мир только своим Словом и находится внутри создаваемого им мира, пронизывает и наполняет его собой (In Ioan. ev. 2, 10).
Еще одно важное различие между божественным и земным художниками состоит в том, что первый сотворил такое произведение, которым он должен постоянно управлять. Результат труда художника не требует этого. «Ибо могущество и сила всемогущего и всесодержащего Творца являются причиной существования всей твари; если бы эта сила перестала когда-нибудь управлять тем, что сотворено, вместе с тем перестали бы существовать и его виды, и вся природа погибла бы. Когда архитектор, закончив сооружение здания, оставляет его, созданная им постройка продолжает существовать и без него; не то с миром: он не мог бы просуществовать и мгновения ока, если бы Бог лишил его своего управления» (De Gen. ad lit. IV. 12, 22). Августин, невольно конечно, показывает здесь, что произведение искусства совершеннее божественного творения, ибо произведение художника способно существовать автономно. Мир же, по мнению Августина, лишен этой способности.
Бог, создав единожды мир во дни творения, посеял семена всех намеченных к существованию тварей и продолжает постоянно творить, развивая заложенные в семенах потенции. Ни одно семя, полагает Августин, в том числе и человеческое, не развивается без божественного участия. Непонятным для человека образом соединяя бестелесную и телесную природы, верховный Творец создает удивительный по красоте мир, как в целом, так и в каждой его части, вплоть до неприметной букашки (De civ. Dei XXII, 24).
Красота выступает главной целью как божественного, так и художественного творчества. Бог замыслил весь мир прекрасным и таковым его и создал, но в результате частичного отпадения отдельных элементов мира от бытия он утратил свою изначальную красоту. Это относится прежде всего к человеку. Порча божественного произведения должна быть ликвидирована. Бог, послав свое Слово на землю, воплотив его в человеческое тело, прилагает максимум усилий к исправлению человека, воздействуя на его чувства и разум. Грядущее воскресение обещает исправившимся, т. е. праведным, вечное блаженство в гармонии истинного бытия. Воскресение вселяет в людей надежду на восстановление человеческой сущности во всей ее полноте, т. е. в единстве души и тела и в абсолютной духовной и телесной красоте (XXII, 19 – 20). Бог и на этот раз, по мнению Августина, поступит в этот важный момент как земной художник, как скульптор, который расплавляет неудавшуюся статую и из того же материала создает новую, более соответствующую замыслу, ее изначальной прекрасной идее (Enchirid. 87–91).
Бог создал мир ради его красоты, и Августин не устает восхищаться и красотой мира, и красотой самого Творца, предполагая, что последняя значительно превосходит видимую красоту (см.: Enar. in Ps. 148, 15; De vera relig. 23, 44; 39, 72).
Своими многочисленными рассуждениями о божественном Творце Августин, по сути дела, вводит в эстетику важную проблему идеала художественного творчества или идеального художника. Суть ее сводится к следующему. Художник имеет в своем уме беспредельную совокупность творческих идей, или замыслов, которые он и реализует в конкретных произведениях. Творит этот идеальный художник своим словом (котороеразуму, ибо оно – логос) с помощью волевого импульса, т. е. усилием воли он заставляет свой разум материализовать ту или иную идею в конкретном виде. Целью творчества являются красота и благо (ср.: De civ. Dei XI, 21; 23). Произведение прекрасно, но в меньшей степени, чем его создатель. Идеальный художник представляется Августину средоточием и пределом красоты, ибо любое творение ниже его (ср.: Conf. VII, 5, 7).
Этот идеал возник у Августина на основе наблюдений за реальным творческим процессом земного художника. Не случайно, что он постоянно проводит параллели между реальным и идеальным творчеством, подчеркивая сходство и различие в действиях земного художника и идеального творца. В частности, одно из главных отличий состоит в том, что идеальный художник творит только ради красоты, а земной – еще и для пользы. В целом три главных условия определяют творческий процесс художника: натура (natura), искусство (doctrina) и польза (usus). Натура понимается Августином как природное дарование, способность к творчеству, талант (ingenium); искусство (здесь не ars, а doctrina – наука!) заключается в знании и владении соответствующими навыками, техникой того или иного вида творчества, а польза означает плод (fructus) творческой деятельности. Отмечая, что польза и плод ведут к различным действиям – пользоваться (utor) и наслаждаться (fruor), он указывает на двойную цель творчества – утилитарную и собственно эстетическую, что и составляет его реальную основу (De civ. Dei XI, 25).
Вдохновителем и руководителем созидательного труда человека является, конечно, верховный Творец. Поэтому все истинное, что есть в произведениях рук человеческих, Августин склонен возводить к нему, недостатки же и ошибки – к реальному мастеру – человеку. Так. по поводу собственного творчества Августин пишет: «...все, что в этом сочинении можно найти ошибочного, должно быть отнесено на мой счет, все же истинное и подобающим образом изложенное должно быть приписано единому подателю всех даров – Богу» (De vera relig. 9, 17). Здесь, как и в древних ближневосточных культурах, постулируется принципиальная анонимность творчества (ибо все истинное в нем – от Бога), столь чуждая греко-римскому сознанию, но получившая широкое распространение в художественной практике Средневековья.
Еще одним важным вопросом августиновской, как и вообще христианской, теории творчества является принцип творения «по образу и подобию», относимый христианской традицией в соответствии с известным библейским выражением (Быт 1, 26) только к созданию человека. Вопрос этот стоял в центре внимания всех Отцов Церкви и решался ими далеко не одинаково. Как же понимал его Августин?
Следует отметить, что библейская фраза: «сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему» (Быт 1, 26), – породила большую проблему в святоотеческой литературе. Она побудила практически любого христианского мыслителя специально задуматься над вопросом: что есть образ и подобие? Не менее девяти столетий шла активная полемика по этому вопросу в христианском мире, внесшая существенный вклад в разработку теории образа. Спор в основном вращался вокруг двух вопросов – о сущности образа и степени, или мере, соотнесенности его с архетипом, или о пределах соответствия образа архетипу. В орбиту внимания Отцов Церкви попадала и проблема образа в целом, и вопрос ее конкретной реализации в культовом изобразительном искусстве. Нелегким был путь осмысления этого важнейшего философского и эстетического понятия в патристике. Ощущая, что образ есть некий способ непонятийного выражения, применяемый, как правило, там, где формально-логические связи оказываются недостаточными, ведущие представители патристики, следуя лучшим традициям греко-римского философствования, стремились на концептуальном уровне определить сущность этого понятия и скрывающегося под ним феномена. Насколько труден был этот процесс для философского сознания того времени, наглядно показывают и усилия Августина.
Следуя античной и апостольской традициям, Августин усматривает «образ и подобие» человека Богу в его духовности – разуме, способности мыслить (Conf. XIII, 32, 47). Он пишет, что «образ Божий, по которому сотворен человек, заключен в том, что человек превосходит неразумных животных. А это называется самим разумом (ratio), или умом (mens), или познавательной способностью (intelligentia), или каким-либо иным подходящим термином». Ссылаясь на ряд мест из Павловых посланий (Еф 4, 23; Кол 3, 10), Августин разъясняет, что апостол видел образ Божий «не в телесных чертах, а в некоторой форме интеллектуально просвещенного ума» (De Gen. ad lit. III, 20, 30).
Чисто духовное понимание образа сложилось у Августина в процессе его борьбы с манихейским буквализмом в понимании Писания и под влиянием амвросианского аллегоризма и плотиновского спиритуализма. Еще в 389 г., полемизируя с манихеями, Августин писал, что сказанное о человеке «по образу Бога» надо относить к «внутреннему человеку», т. е. к его разуму и интеллекту, а не к его видимому облику (De Gen. contr. Man I, 17, 28). Однако кое-что и в теле человека отражает его принадлежность к божественному образу. Это, прежде всего, вертикальное положение его тела, а также красота и целостность этого тела. Последнее, однако, – общая черта у человека со всем творением и относится уже не к «образу», но к «подобию». А подобие (similitudo) выступает неотъемлемой чертой «образа» (imago), что приводит Августина к определенным затруднениям в осмыслении указанного библейского тезиса.
«Всякий образ, – рассуждает он, – подобен тому, чьим образом он является; хотя не все то, что подобно чему-то, есть и его образ; так, образы в зеркале и живописи являются еще и подобными; однако если один не рожден от другого, то ни один из них не может быть назван образом другого. Ибо образ возникает тогда, когда он из чего-либо воспроизводится» (cum de aliquo exprimitur) (De Gen. ad lit. imp. 16, 57). Образ в понимании Августина обязательно является производной архетипа, его порождением и одновременно его выражением, на что указывает глагол exprimor; это некое порождение, выражающее своего производителя. Образ генетически связан- с архетипом, что существенно отличает его от знака (см. гл. IX). Знак выбирается произвольно и наделяется значением. Образ производится самим архетипом и воспроизводит его. Вся шкала образного производства расположена между двумя крайностями. С одной стороны, архетип чисто механически отражается в чем-либо (образы в зеркале). С другой – он сам вполне сознательно творит из чего-то свой образ, как поступил Бог. создавая человека, т. е. архетип творит «автопортрет».
Однако архетип не всегда так активен, чтобы самому творить свои образы, и не всегда перед ним оказывается зеркало. Поэтому в общем случае требуется посредник, который помог бы воспроизвести черты архетипа в чем-то, т. е. создать образ. В мире таким посредником выступает только человек, творящий образы – от простых оттисков перстня на воске до сложных скульптурных и живописных изображений. Что же связывает образ с архетипом? По мнению Августина, эта связь держится на «подобии». Почему же тогда, резонно спрашивает Августин, в Книге Бытия сказано «по образу и по подобию», «как будто образ может быть неподобным»? Или подобное не является следствием подобия, как чистое – чистоты, а крепкое – крепости? Подобием в полном смысле слова можно назвать, по его мнению, только Сына, т. е. то подобие, «которое подобно не по причастию к какому-либо подобию, но само есть первое подобие, по причастию к которому подобно все, что чрез него было создано Богом» (16, 57). Сын не содержит в себе ничего «неподобного», он – полное и совершенное подобие Отца, и тем не менее он является не самим Отцом, но лишь его подобием (16, 60).
Августин как бы забывает здесь, что «по образу» и «по подобию» сказано о человеке, и рассуждает довольно непоследовательно об идеальном подобии – Сыне. «Образ» при этом выражает у него генетическую связь с архетипом, а «подобие» прямую причастность (participatio) к нему. Если бы Бог имел в виду только подобие, то было бы неясно, что это подобие рождено от него, а если бы Он говорил только об образе, то, хотя Он и дал бы понять, что этот образ от него рожден, но было бы непонятно, подобный ли это образ или это само подобие, полно и совершенно выражающее его природу (16, 58). В какой мере это подобие, через которое все было создано, отражается на внешнем виде (species) предметов, человеку понять достаточно трудно. Сам Августин склонен видеть это подобие в том, «что вся природа, как чувствующих, так и разумных тварей, сохраняет образ единства в соответствующих друг другу (similibus inter se) частях» (16, 59), т. е. в том, что Августин, как мы видели в предыдущей главе, считал прекрасным. Здесь у него почти сливаются два смысла термина «подобный». С одной стороны, он говорит о подобии как о сущностной характеристике образа, означающей причастность образа архетипу; с другой – усматривает отражение этого подобия в сходстве (или соответствии) частей друг другу в структуре целого материального объекта. Но такое «сходство» имеет место почти во всех природных объектах, в том числе и в неодушевленных, поэтому библейское «по подобию» Августин относит только к «разумной субстанции» человека, к его уму, душе, т.е. к тому, чем человек отличается от животного и что делает его причастным к первому подобию – Логосу. Душа человека подобна не только Сыну, через которого была создана, но и всей Троице, и подобие это совершенно, так как между душой и Богом нет никакой промежуточной природы. Совершенство же подобия свидетельствует о том, что душа является и «образом», «ибо если образ не совершенно подобен, то он без сомнения и не есть образ» (16, 62)624.
Августину, таким образом, все-таки не удается достаточно убедительно наделить особыми значениями оба термина, употребленные автором книги Бытия. Но его экзегетические импровизации выявляют собственно августиновские представления об этих понятиях. Подобие (или сходство), по его мнению, имеет более широкую шкалу значений, чем образ. Все в тварном мире в той или иной степени подобно Богу, однако далеко не все можно назвать его образом, но «только то, по ту сторону (superior) чего лишь Он один имеет бытие. Образ ведь потому выражает Его в полном смысле, что между ним и самим [архетипом] нет никакой промежуточной природы» (De Trin. XI, 5, 8). Итак, образ происходит непосредственно от архетипа, выражает его на основе подобия и иерархически непосредственно следует за архетипом без каких-либо промежуточных инстанций. Созданием именно такого образа было увенчано все многотрудное дело небесного Художника. Человек представляется Августину пределом земного совершенства, венцом всего творения: «Вся тварь реализована в человеке, ибо он и мыслит духом, и чувствует и движется телом в пространстве» (De div. quaest. 17).
Для более полного представления об августиновском понимании этой важной категории рассмотрим еще некоторые аспекты, в которых она видится африканскому мыслителю.
В трактате «О Троице» Августин прилагает немало усилий для поиска образов Троицы в человеке и усматривает их в различных «триединых» компонентах и функциях человеческого духа, в основном связанных с процессом познания625. Так, сам дух, его любовь к себе и его знание себя – едины и различны, и в этом Августин видит образ божественного триединства (De Trin. IX, 4, 4 – 7; 5, 8; 12, 18); или в самом духе память, понимание и воля также являются образом Троицы. «Нераздельно разделенное» единство в человеке бытия, познавательной способности и воли представляет еще один образ триипостасного божества (Conf. XIII, 11, 12).
В процессе духовной деятельности образ, по мнению Августина, играет важную роль, ибо наш дух оперирует не самими предметами, но лишь их образами, поступающими или от органов чувственного восприятия, или из глубин памяти. Образы всего воспринятого нами хранятся в нашей памяти и предстают перед внутренним взором, когда воля вызывает их (см.: Conf. X, 15 – 16; De quant. anim. 5, 8). Августин приводит целый ряд случаев возникновения образов в «духовной природе» человека. Образы эти носят картинно-визуальный или «мысленный» характер. Августин различает двенадцать видов таких образов: 1. образы, возникающие в результате непосредственного чувственного восприятия реального предмета; 2. мысленное представление об отсутствующем, но известном нам предмете; 3. представление о предметах, которые мы не знаем, но в существовании которых не сомневаемся; 4. представление о предметах, о существовании которых у нас нет точных данных; 5. самопроизвольно возникающие в духе «разнообразные формы телесных подобий», т.е. игра фантазии; 6. мысленные образы предстоящих действий; 7. мысленные представления о предстоящих движениях и намерениях в процессе действия; 8. образы сновидений; 9. бредовые образы при болезни; 10. яркие и рельефные образы реальных предметов, возникающие при некоторых видах болезни или скорби; 11. мир отчасти фантастических, отчасти реальных образов, созданных душой; 12. образы, связанные с полным погружением в духовное зрение (De Gen. ad lit. XII, 23, 49).
Большое значение, как мы уже видели (см. гл. III), придавал Августин «образу» и «подобию» в своей гносеологии, полагая, что процесс познания в чем-то тождествен с процессом уподобления и субъект познания в процессе познания приобретает некоторое «подобие» с объектом (De Trin. IX, 11, 16).
Наконец, многие события Священной истории Августин склонен рассматривать с позиций аллегорически-символического подхода к тексту Писания, т.е. в качестве особых «образов», имеющих ярко выраженный религиозно-символический характер. Так, становление христианской церкви Августин осмысливает в образах сотворения мира (Conf. XIII, 12, 13); основные события жизни Христа представляются ему «образами» христианской жизни вообще (Enchirid. 52–53); все события ветхозаветной истории являются для него прообразами пришествия и жизни Христа и становления христианской церкви (De cat. rud. 27, 9–28, 10); Св. Дух действует в мире в образе голубя (см. объяснения; In Ioan ev. 6, 1); Ноев ковчег выступает образом Церкви и Христа, спасшего древом своего креста грешное человечество (De civ. Dei XV, 26). Сарра благодаря своей красоте представляется христианам образом (figura) горнего Иерусалима, т. е. Града Божия, а Исаак – прообразом Христа, несшего свой крест (XVI, 31 – 32), и т. п.
Многомерность понятия образа показывает, что Августин уделял этой категории большое внимание и в своей онтологии, и в гносеологии, и в антропологии. В связи с его теорией творчества образ наполняется и собственно эстетическим смыслом. В качестве главного результата творческой деятельности идеального художника он занимает одно из важных мест в эстетике Августина. Создание произведения «по образу и по подобию» архетипа, т. е. некоторого идеального прообраза, составляет со времен ранней патристики идеальную основу творческого метода христианского художника. Реально земному художнику удавалось, по мнению Августина, осуществлять только вторую часть этого принципа – творить по закону «подобия», который лежал в основе красоты.
Несмотря на ряд неясных и противоречивых положений, теория творчества Блаженного Августина внесла существенный вклад в развитие эстетического сознания своего времени и послужила важным обоснованием творческой деятельности средневековых художников, вдохновлявшихся примером божественного Творца.
Глава VIII. Искусство
От художника и творческого акта внимание Августина регулярно переключается и на результаты творческой деятельности – произведения искусства, сами искусства.
Следует вспомнить, что античность, а вслед за ней и Средние века наделяли термин «искусство» (τέχνη, ars) существенно иным значением, чем то, в котором он употребляется в наше время. Практически все отрасли духовной и предметно-практической деятельности человека назывались в позднеантичный период artes. В античности наметилось и деление искусств на свободные (artes liberales) и служебные (artes vulgares). К последним относились искусства, требующие физических усилий, к первым – сугубо духовные. Во II в. Гален считал высокими искусствами риторику, диалектику, геометрию, арифметику, астрономию, грамматику и музыку как теоретическую дисциплину математического цикла. К служебным искусствам относились все ремесла. Живопись, скульптура и архитектура автоматически попадали в низший разряд, хотя уже Гален полагал, что изобразительные искусства могут быть отнесены и к свободным искусствам626. Служебные искусства рассматривались как имеющие утилитарное назначение, а свободные – служащими для удовольствия. В V в. в энциклопедическом трактате уроженца Карфагена Марциана Капеллы «О браке Филологии и Меркурия» приводится система семи свободных искусств, которая, будучи усовершенствованной Боэцием и Кассиодором, Стала традиционной для Средних веков627. Свободные искусства подразделялись на «тривий», включавший грамматику, риторику, диалектику, и «квадривий», состоявший из музыки, арифметики, геометрии и астрономии. К служебным, или «механическим», искусствам (artes mechaniсае) относили в этот период музыку, как исполнительское искусство, живопись, скульптуру, архитектуру, различные ремесла. Таким образом, «свободные» искусства состояли в основном из научных, с современной точки зрения, дисциплин, а «механические» включали в свой состав ремесла и те искусства, которые Новое время отнесло к разряду «изящных». Поэтому, как справедливо отмечает современный автор, средневековая философия искусства представляла собой или «эпистемологию», или «технологию»628.
Августин в этом вопросе стоял где-то между античностью и Средними веками. В понимании свободных искусств он опирался на Цицерона и Варрона, т. е. занимал традиционную для поздней античности позицию. Однако его мало волновала классификация искусств как таковая. Для идеолога новой духовной культуры искусство представляло интерес только с точки зрения его отношения к человеку, его пользы или вреда для жителя нового града, как в утилитарно-бытовом, так и в духовно-нравственном планах629. Античному академизму Августин противопоставлял христианский «утилитаризм», что не помешало ему сделать ряд интересных наблюдений и выводов и в этой области, использованных затем средневековой эстетикой. Он не акцентирует внимание на различении свободных искусств и механических, хотя первые, естественно, ценит выше. В рассуждениях по тем или иным вопросам он вовлекает в орбиту своего рассмотрения нередко в одном ряду самые различные науки, искусства и ремесла для подтверждения того или иного вывода.
Общие вопросы искусства активно интересовали Августина главным образом на раннем этапе его творчества, когда еще свежи были впечатления от юношеского увлечения ими и когда требовалось обосновать свое новое отношение к ним. Все основные тенденции позднеантичных теорий искусства нашли отражение во взглядах Августина. Для обозначения искусств и наук он употреблял практически как равнозначные термины ars и disciplina; «свободные искусства» у него соответственно называются artes liberales или disciplinae liberales (ср.: De immort. anim. 4, 6; Solil. II, 20, 34). Для обозначения «механических искусств» он использует только термин ars.
Все искусства ведут свое происхождение от разума, который составляет лучшую часть божественного творения, и соответственно несут в себе в той или иной форме черты разумности. В «рациональности» (rationabilis) искусств усматривает Августин их главную ценность. Последовательность возникновения «дисциплин» и их характеристики сложились у Августина под влиянием Варрона и неоплатонизма. В трактате «О порядке» (De ord. II, 12,35–15,43) он рисует красочную картину создания искусств разумом. Разум человека, наблюдая следы божественного разума (т. е. определенные закономерности) в чувственно воспринимаемом мире, постепенно пришел к необходимости их изучения (discere) и закрепления постигнутого в соответствующих «дисциплинах». Сначала разум изобрел слова, письменность, правила соединения букв, слогов, слов. Таким образом возникла грамматика, с помощью которой записывались для памяти все знания. Римляне назвали ее литературой (litteratura), и она включала в себя все письменные рассказы, в том числе и историю (historia), науку «бесконечную и многосложную, доставляющую больше хлопот, чем удовольствия или истины» (II, 12, 37). Далее разум решил отыскать и изучить ту «силу, которая породила искусство (ars)» и которую он усмотрел в «науке наук» (disciplina disciplinarum) – диалектике. «Она обучает учить, она же обучает учиться; в ней разум обнаруживает себя и показывает, каков он есть, что он желает и что может. Она знает знание (scit scire); она одна не только желает, но и может делать знающими» (II, 13, 38). Но среди людей много глупцов, которые неспособны прямо воспринимать истину, и необходимо прежде сильно возбудить их душу, поэтому разум наполнил одну из частей диалектики забавами и игрушками, предназначенными «для разбрасывания их народу», и назвал ее риторикой. Далее разум пожелал устремиться к созерцанию самих божественных вещей, но, чтобы иметь опору при подъеме к столь головокружительным высотам, он проложил себе путь (вверх) через свои же владения (т. е. в сфере умопостигаемого) в определенной последовательности. Он стремился к умопостигаемой красоте, но ему мешали чувства, отвлекая своей «докучливой трескотней» от истинного пути. Разуму предстояло выдержать борьбу с ними, показав, что все истинное, что они приписывают себе, происходит от него и покоится на разумных основаниях. Он начал со слуха, приписавшего себе слова, и сразу усмотрел различие между звуком и тем, знаком чего он является. Он показал, что «суждению слуха» подлежат только звуки, которые, в соответствии с позднеантичной традицией630, он разделил на три группы:631 звуки голоса, духовых инструментов и ударные. К первой группе относится пение, включая трагедию и комедию: ко вто-рой – звучание флейт и им подобных инструментов; к третьей – звуки кифар, лир, цимбал, т. е. струнных инструментов.
Сам по себе звуковой материал представлялся разуму недостойным внимания до тех пор, пока он не был упорядочен во времени. Здесь I разум подметил, что звуки (как музыкальные, так и словесные) организуются в нечто упорядоченное на основе одних и тех же законов долготы и кратности. В словесном материале эти элементы называются слогами и стопами, из которых можно складывать стихи и ритмы632. Таким образом разум создал поэзию и поэтов. Он усмотрел большую пользу поэзии не только в ее звуковом характере, но и в ее языке и содержании. Он предоставил в распоряжение поэтов бескрайнюю область «разумных вымыслов» (rationabilium mendaciorum), удостоил их высочайшим почетом, но судьями над ними поставил грамматиков, так как поэзия ведет свое происхождение от их дисциплины. Всматриваясь в поэзию и музыку (звучащую), разум заметил, что основу их и силу составляют числа (или ритмы), но звуковая и словесная материя затемняют их божественный блеск и ясность. Звуки, как предметы чувственно воспринимаемые, не вечны: они возникают и исчезают, сохраняясь только в памяти. Поэтому не без помощи поэтов было придумано, что покровительствующие этой науке музы – дочери Юпитера и Мемории (памяти), а сама наука, берущая начало как от ума, так и от чувства, получила название музыки.
Далее разум перешел к сфере зрительного восприятия. Он стал осматривать небо и землю и «почувствовал, что ему нравится не что иное, как красота, а в красоте – формы, в формах – размеренность, а в размеренности – числа» (II, 15, 42). Он начал сравнивать линии, окружности, формы реальных предметов с их идеальными прообразами, усматриваемыми умом, и увидел, что визуально воспринимаемые формы значительно хуже идеальных. Упорядочив последние, он образовал науку геометрию.
Большое впечатление произвело на него движение небесных тел и побудило к глубокому исследованию. И здесь нашел он господство размеренности и чисел и создал науку астрономию.
Таким образом, Августин рассмотрел практически все свободные искусства за исключением арифметики, но и она, естественно, имелась в виду, так как в основе всех наук Августин видел числа. Но не академический интерес руководил им в его изысканиях. Он стремился осмыслить значение и роль свободных искусств на путях поиска истины. Последовательность создания разумом наук соответствует у Августина пути их освоения, который ведет к философии, изучающей высшую истину непосредственно. Ее предмет, по Августину, – познание души и Бога, который лучше всего «познается незнанием». Однако понимает это только тот, кто уразумел числа простые и умом постигаемые. К познанию же чисел ведут свободные искусства (II, 16, 44). Их главную задачу Августин видел в подъеме человека от чисел телесных к числам духовным и вечным (Retr. I, 11, 1), от «следов чисел» к их средоточию, центру (cubilia) (De mus. V, 28; VI, 2). В ранних трактатах (где-то до 390 г.) Августин, как мы уже указывали, считал, что без знания «свободных наук» и философии человек вообще не может прийти к познанию Первопричины. Отсюда его особое внимание к искусствам. Не случайно он намеревался написать книги о всех свободных искусствах и частично осуществил этот замысел. К сожалению, кроме трактата «О музыке», работы его на эту тему до нас не дошли.
Ранний Августин настоятельно рекомендует всем любителям истины тщательно овладевать свободными искусствами, ибо они облегчают путь к блаженной жизни (De ord. Ι, 8, 24)633.
Из приведенного выше описания свободных искусств мы видим, что грамматика, или litteratura, у Августина включает в себя практически все словесные искусства, в том числе и ту литературу, которая может интересовать современную эстетику с точки зрения ее художественности. Риторика, или искусство красноречия, по сути дела, чисто эстетическая дисциплина. Disciplina musica лежит в основе целого ряда искусств, относимых теперь к разряду «изящных», – инструментальной, хоровой и вокальной музыки, театра, поэзии. Из законов геометрии вырастает архитектура, а живопись и скульптура немыслимы, по мнению Августина, без знания арифметических закономерностей и, в частности, правил пропорции. Сущность всех «изящных», а для поздней античности «механических», искусств Августин видел в искусствах свободных, обретших конкретную материальную и бытовую, или социальную, утилитарность. Многочисленные примеры из области живописи, скульптуры, архитектуры, поэзии он привлекает там, где речь заходит о закономерностях, входящих в компетенцию одной или нескольких «свободных наук».
В соответствии с платоновско-плотиновским идеализмом Августин склонен считать духовный мир более реальным, чем материальный. Поэтому свободные искусства, находящиеся в душе человека (художника), для него более истинны, чем реальные произведения, основанные на них. Если бы тело, к примеру, не имело формы и вида (forma et specie), то оно не было бы и телом, но если бы имело их истинными, то было бы уже душой, а не телом. Под «истинными» Августин имеет в виду геометрические основания формы, ибо он убежден, что только чистые геометрические фигуры содержат истину. «Телесные же фигуры, – пишет он, – хотя и представляются как бы стремящимися к ним, являются лишь некоторым подражанием истине, а потому – ложными» (Solil. II, 18, 32). Истинность свободных искусств коренится в их рациональности, в их тождественности разуму. Само искусство (ars) мыслится Августином реально существующим лишь в душе художника в качестве некоторой потенциальной способности к творчеству. Конкретные произведения содержат только его отблеск. «Кто станет утверждать, – риторически вопрошает Августин, – что основания чисел изменчивы; или что какое-либо искусство обязано своим существованием не разуму; или что искусство не существует в художнике, даже если он и не применяет его на деле; или что оно может существовать вне [его] души, или там, где нет жизни; или что неизменное может когда-нибудь не быть; или что одно есть искусство, а нечто иное разум? Ибо хотя и говорится, что искусство есть как бы некий единый свод многих разумных положений, однако мы имеем полное право понимать и называть искусство единым разумом» (De immort. anim. 4, 5). Свободные искусства представляются Августину сводом разумных закономерностей универсума, вечных и неизменных. Они постоянно существуют в душе (хотя и не всегда ясно осознаются человеком), и этим Августин, в частности, обосновывает бессмертие души.
Основу всех «механических» искусств, таких, как живопись, пластика, архитектура, звучащая музыка, также составляет разум (см.: De mus. Ι, 4, 6). Здесь «рациональность» (rationabile) проявляется во всех тех закономерностях, которые лежат в основе красоты, – в равенстве, пропорциональности, ритмичности, соразмерности, стройности и т. п. По мнению Августина, они хуже и менее истинны, чем их идеальные прообразы, но тем не менее, как сохраняющие следы разума и доставляющие нам удовольствие, обладают своей определенной ценностью. «Так, в этом самом здании, – рассуждает Августин об архитектурном сооружении, – хорошенько всматриваясь в частности, мы не можем не быть неприятно поражены, если видим одну из дверей поставленной сбоку, а другую почти посредине и, однако, не в самой середине. Нет сомнения, в любых сооружениях неодинаковость размеров частей, если она не вынуждена никакою необходимостью, кажется как бы наносящей оскорбление самому взгляду. А какое удовольствие доставляют нам при внимательном рассмотрении и какими восхитительными кажутся нам внутри эти три окна, одно – посредине и два – с боков, сквозь которые на равных промежутках друг от друга льется солнечный свет, – очевидно само собой и не требует многих слов для разъяснения вам. Вот почему сами архитекторы называют это на своем языке ratio, и о частях, расположенных нестройно, говорят, что в них нет ratio.
Сказанное имеет широкое применение и распространяется почти на все человеческие искусства и дела» (De ord. Π, 11, 34)634.
Эту же тему Августин развивает и в трактате «Об истинной религии». О наличии равенства, соответствия, пропорциональности членов в том или ином теле чувство человека судит само, опираясь на идеальные эстетические закономерности, хранящиеся в душе. Художники, или творцы «общепринятого искусства», обладают навыками воплощать в материале эти закономерности с большей или меньшей полнотой. Но как раз это-то и не ценилось высоко ни античностью, ни Августином. Умение правильно судить о законах искусства и красоты значило в поздней античности гораздо больше, чем способность к практической деятельности художника. «Таким образом, оказывается, что общепризнанное искусство (ars vulgara) есть не что иное, как сохранение в памяти испробованного и одобренного, с присоединением сюда определенных телодвижений и операций. Но если даже ты и не будешь владеть ими, ты сумеешь судить о произведениях, а это гораздо лучше, чем если бы ты и не умел сам сделать художественные вещи» (De vera relig. 30, 54)635. Создаются эти произведения по законам равенства, гармонии, соответствия, единства, т. е. по законам красоты (см. гл. VI), представление о которых находится в «уме» художника. Именно здесь Августин наиболее осознанно сближает красоту и искусство, усматривая в их основе одни и те же формальные признаки. Но если красота служит только удовольствию, то произведения «механических», или «вульгарных» в терминологии Августина, искусств – также и пользе. Все утилитарное в них преходяще, относится к уровню человеческого существования и не определяет их сущности. Красота же произведений искусства, создаваемая руками искусного художника по предначертаниям его духа, происходит от высшей красоты, отображает ее, напоминает о ней и заставляет зрителя возлюбить ее (Conf. X, 34, 54). В этом истинное назначение произведений «обыденного» искусства636, но далеко не все они ему соответствуют.
Красота и ее структурные закономерности выступают у Августина основой всех «механических» искусств, что позволяет ему поставить в один ряд все виды музыкального искусства, поэзию, архитектуру и изобразительные искусства. Пожалуй, впервые в истории духовной культуры Августин усмотрел в этих разных искусствах нечто общее – именно их эстетическую сущность – выражение красоты и возбуждение на этой основе чувства удовольствия у зрителя. Большой недостаток всех этих повсеместно распространенных и общепризнанных искусств (и это также объединяет их) состоит, по мнению христианского платоника, в том, что они все основываются на «подражании» (imitatio). Это – их главная специфическая черта (см.: De mus. I, 4, 6 – 9), определяющая их невысокое место в универсуме. Изобразительные искусства подражают видимым формам предметов и их идеальным прообразам одновременно, т. е. стремятся к воспроизведению идеальной красоты форм;637 музыка, поэзия, архитектура «подражают» законам единства, равенства, гармонии и т. п. духовным истинам. Но ведь подражание истине в общем-то является не чем иным, как созданием своего рода «неистинного» (falsum) (Solil. Π, 16, 30). Однако это ложное лежит в основе «механических» искусств и в какой-то мере является истинным. Августину приходится всерьез заняться этой сложной дилеммой и задуматься над проблемой истинного и ложного в искусстве. «Неистинное» в искусстве понимается им в двух смыслах. Во-первых, он усматривает его в самом способе «подражания» (imitatio) или «отражения» (relucentia) и, во-вторых, – в использовании вымысла в искусстве.
Опираясь на платоновско-неоплатоническую философию, Августин и произведения искусства, и предметы материального мира считает ложными, т. е. не содержащими духовных абсолютных истин, но лишь «отражающими» их. Однако он стремится отграничить эту их «ложность» от преднамеренной «обманчивости». Так, к примеру, один из главных эстетических принципов – единство предстает в телах «обманчиво». Но в чем состоит эта обманчивость: в том ли, что в теле имеется единство, или в том, что оно не достигается? Августин рассуждает здесь следующим образом. Если бы тела достигали единства, то «они полностью выражали (impleo) бы то, подражанием чему являются. А если бы они вполне выражали его, то были бы совершенно подобны ему, то между той и этой природой не было бы никаких различий. А если бы это было так, то они уже не обманывали бы относительно него (единства. – В. Б.), потому что были бы тем же, что и оно», т. е. были бы совершенно тождественны оригиналу. «Обманчивость» тел и произведений искусства, следовательно, состоит в том, что они не содержат того, за что их принимают, или в том, что их принимают за то, чем они не являются. Но ведь предметы сами по себе не стремятся и не могут стремиться к сознательному обману: «то же, что невольно считается иным, чем оно есть, не обманчиво, но только ложно» (De vera relig. 33, 61). Следовательно, в основе своей тела не обманывают нас, и если бы мы не принимали их за то, чем они не являются, они не были бы и ложными. «Ложность» материального мира – и здесь Августин отходит от платонизма – во многом обусловлена субъективизмом реципиента, принимающего тело за то, чем оно не является на самом деле. Искусство же использует этот прием сознательно, и в этом его принципиальное отличие от мира природных объектов638.
С одной стороны, искусство представляет собой тот вид «ложного», когда нечто, не имеющее онтологического бытия, стремится быть (esse tendit et non est). Речь здесь идет прежде всего об изобразительном искусстве и таких зрительных образах, как отражение в зеркале, сны, бред сумасшедшего. «А всякое живописное произведение или любое другое изображение, – вопрошает Августин, – и весь этот род художественных произведений (opificum), – разве не стремятся они быть тем, по подобию чего каждое из них сделано?» (Solil. II, 9, 17). К этому пониманию искусства Августина приводит одна из главных и популярных тенденций эллинистического искусства – стремление к предельному иллюзионизму. Не случайно в этой связи Августин вспоминает знаменитых медных телок Мирона (II, 10, 18), которые в период эллинизма с восхищением воспринимались «как живые». Однако уже ранние христиане (апологеты, Климент Александрийский) самым решительным образом выступили против иллюзионизма в искусстве, усматривая в нем источник идолопоклонства, ибо в народе принимали образы искусства за сами прообразы и поклонялись им639.
Соответственно и Августин, опираясь уже на раннехристианскую традицию, последовательно развивает мысль о том, что образы искусства не являются самой действительностью (и в этом смысле они ложны), но лишь отображают ее. Более того, именно эта их «ложность» и делает их «истинными» образами искусства. «Истинным трагиком» актер становится лишь потому, что он выступает «ложным» Приамом: «подражал Приаму, но самим Приамом не был». Отсюда вытекает «нечто удивительное», а именно: «...не оттого ли все это (имеется в виду искусство. – В. Б.) в одном отношении истинно, от чего в другом отношении ложно, и к истинности его в данном отношении не служит ли то, что в другом отношении оно ложно? Поэтому оно никоим образом не достигнет того, чем желает или должно быть, если избегает быть ложным» (II, 10, 18). Актер не является самим Гектором или Андромахой, а живописное изображение лошади – самой лошадью, да и Дедал никогда не летал, хотя в баснях и утверждается обратное, и тем не менее именно это и делает актера «истинным актером», изображение – «истинной живописью», а басню – «истинной басней». Истинное в искусстве не следует смешивать с истинным в действительности или в теории познания, ибо здесь оно должно быть понято по-своему. Таким образом, Августин стремится показать, что образы искусства не тождественны изображаемым явлениям и именно в этой нетождественности заключена истинность искусства. В конечном счете «истинное» в искусстве, равное «ложному» в другом отношении, несет в себе особое, но не буквальное знание. Учитель в школе, вспоминает Августин, никогда не настаивал на том, чтобы ученики верили в то, что Дедал летал, но он всегда говорил, что если они басню не выучат, то едва ли будут что-либо знать.
Здесь в поле внимания Августина попадает второй аспект «неистинного» в искусстве – проблема вымысла, которая приобрела особую актуальность в период эллинизма и поздней античности. Ведь многовековая художественная практика того времени развивалась в направлении отхода от буквального копирования реальной действительности. Особенно далеко в этом отношении пошли словесные искусства. В огромной литературной продукции Римской империи практически во всех жанрах (от историографии и философии до поэзии и романа) важное место занимали чудеса, фантастические истории, парадоксальные и удивительные события. Расцветает новый жанр литературы – парадоксография, появляется роман – особый вид литературы, сознательно основывающийся на вымысле и получивший широкое распространение во II -III вв.640. Вымысел (fictum) становится важным принципом художественного мышления, «фантасия» – важной эстетической категорией, вытесняющей «подражание». Назревает и теоретическое осмысление этого художественного процесса. Еще Плиний Младший (ок. 61 г. – ок. 113 г.) в одном из писем, рассказывая о дружбе мальчика с дельфином, писал: «Я наткнулся на правдивую тему, но очень похожую на выдумку (fictae)... Рассказчику можно вполне верить. – Хотя... что поэту до достоверности (quid poetae cum fide)» (Ep. IX, 33, 1)641.
Флавий Филострат, автор известного «Жизнеописания Аполлония Тианского», противопоставляет «фантасию» «мимесису». В беседе Аполлония с эфиопским гимнософистом Феспесионом заходит речь об изображении богов в Греции и Египте. Отстаивая преимущество греческих антропоморфных изображений, Аполлоний на вопрос Феспесиона о том, на чем же основываются греческие художники, ибо они не могут воспользоваться главным принципом искусства – подражанием, так как нельзя же предположить, что они бывали на небе и видели богов, вынужден был ответить следующим образом, указывая на преимущества «фантасии» перед подражанием: «Фантасия совершила это, более мудрый художник, чем мимесис; ибо подражание формирует только то, что оно видит, фантасия же и то, чего она не видит» (Vit. Apol. VI, 19). Здесь уже намечается важная тенденция к отходу от миметического (в узком смысле этого слова) принципа изобразительного искусства642, которая будет характерна для зрелого христианского художественного мышления и эстетики.
Другой Филострат, автор известных «Картин», считал, что «обман» в искусстве «приносит всем удовольствие и меньше всего заслуживает упрека» (Imag., praef. 4).
Таким образом, всем ходом развития позднеантичного художественного мышления и эстетической мысли Августин был ориентирован на принятие вымысла, как важного принципа искусства. О том, что искусство доставляет удовольствие, он хорошо знал и по собственному опыту, и от своего античного учителя философии Цицерона, писавшего, что если в истории все направлено на сообщение истины, то в поэзии – на то, «чтобы доставить удовольствие» (De leg. l, 5), что ритмы в стихах используются «для услаждения слуха» (Orat. 60, 203), и т. п. Эти идеи своих позднеантичных предшественников и имел в виду Августин, рассуждая об искусстве.
Далеко не всякий стремится к обману, когда говорит неправду (qui mentitur), считает Августин, «ибо и мимы, и комедия, и многие поэмы наполнены неправдивым более с целью доставить удовольствие, чем обмануть, да и все почти, кто шутит, говорит неправду» (Solil. II, 19, 16). Поэтический вымысел в искусстве воспринимается Августином как нечто вполне закономерное, направленное на возбуждение чувства удовольствия и придающее произведению своеобразную красоту643.
В целом принцип подражания в искусстве приобретает у Августина широкий диапазон значений. Гиппонский мыслитель как бы подводит итог многовековым античным дискуссиям о мимесисе. Подражание воспринимается им отнюдь не как иллюзионистическая копия действительности. Искусство не должно обманывать зрителя, как оно и не в состоянии подменять собой действительность. Подражание в искусстве не может быть механическим: оно всегда соединено с разумом и осуществляется по его законам. Вымысел является неотъемлемой частью такого подражания. Поэты для Августина – профессиональные обманщики (Contr. Faust. XX, 9). Под «действительностью» он имеет в виду, как правило, не чувственно воспринимаемый мир, но духовную реальность, абсолютные истины духа, которые для художника предстают в виде законов единства, порядка, равенства, гармонии, пропорции, оппозиции, размеренности, ритма и т. п. принципов. Даже в изобразительных искусствах эти закономерности выдвигаются Августином на первое место. Идеальные законы красоты находят свое отражение (relucentia), хотя и достаточно тусклое, в искусстве.
Сущность искусства, его главное содержание Августин усматривал в выражении абсолютных истин духа (прежде всего абсолютной красоты) путем подражания им самой структурой произведения искусства или системой изобразительно-выразительных средств и приемов. А главную задачу всех искусств, как свободных, так и механических, он видел в возведении ума человеческого к высшим истинам. Свободные искусства осуществляют этот процесс на более высоком в глазах раннего Августина дискурсивном уровне. Они ведут человека к философии, которая и занимается сознательным поиском истины (De ord. Π, 5 ,14). «Механические», или «популярные», искусства возводят ум к духовным истинам посредством удовольствия, возникающего на основе подражания и уподобления. Усмотрение красоты, единства, подобия, гармонии, ритма и других доставляющих удовольствие закономерностей в произведении искусства дает нам толчок к созерцанию их идеальных оснований, ибо, «обратившись от произведений искусства к закону искусств, мы будем умом постигать тот вид (speciem), по сравнению с которым предстанет безобразным то, что прекрасно по милости [Божией]» (De vera relig. 52, 101). В последние десятилетия своей жизни Августин занял позицию более жесткого религиозного функционализма в отношении искусств, причисляя многие из них, как мы увидим ниже, к «излишествам» человеческой деятельности. Однако, прежде чем перейти к рассмотрению собственно христианских тенденций в августиновской теории искусств, остановимся несколько подробнее на его отношении к отдельным видам искусства, отразившем общую ситуацию в раннехристианской культуре.
С юных лет Августин полюбил зрелищные искусства, а в более зрелом возрасте, отринув их и осудив, он пытался трезво разобраться в их сущности и значении для человека. Прежде всего он неоднократно подчеркивал «неистинность» происходящего на сцене, выдвигал игру в качестве основы зрелищного искусства. Хорошая игра актеров вызывала у юного африканского провинциала бурю чувств – от безграничной радости до глубокой печали и слез сострадания. Именно это эмоциональное воздействие театра на зрителя впоследствии было осуждено гиппонским епископом как неразумное и даже вредное. Чувства, возникающие у зрителя, представлялись ему неистинными, как имеющие своим источником не истинное событие, а игру актеров.
Более того, изображение трагических событий на сцене вызывает у зрителя печаль, доставляющую ему наслаждение, в чем теоретик христианства видит совершенное безумие. «Меня увлекали театральные зрелища, – писал Августин в «Исповеди», – они были полны изображениями моих несчастий и разжигали огонь моих страстей. Почему человек хочет печалиться при виде горестных и трагических событий, испытать которые он сам отнюдь не желает? И тем не менее он, как зритель, желает испытать печаль, и сама эта печаль для него наслаждение. Удивительное безумие! Человек тем больше волнуется в театре, чем меньше он сам застрахован от подобных переживаний, но, когда он мучится сам за себя, это называется обычно страданием; когда мучится вместе с другими – состраданием. Но как можно сострадать вымыслам на сцене? Слушателя ведь не зовут на помощь; его приглашают только печалиться, и он тем благосклоннее к автору этих вымыслов, чем больше печалится. И если старинные или вымышленные бедствия представлены так, что зритель не испытывает печали, то он уходит, зевая и бранясь; если же его заставили печалиться, то он сидит, поглощенный зрелищем, и радуется» (Conf. III, 2, 2). Августин знает все это на основе собственного эмоционального опыта, о котором он вспоминает с раскаянием и сожалением: «...тогда в театре я радовался вместе с влюбленными, когда они наслаждались в позоре, хотя все это было только вымыслом и театральной игрой. Когда же они теряли друг друга, я огорчался вместе с ними, как бы сострадая им, и в обоих случаях наслаждался, однако. <...> Но я тогда, несчастный, любил печалиться и искал поводов для печали: игра актера, изображавшего на подмостках чужое, вымышленное горе, больше мне нравилась и сильнее меня захватывала, если вызывала слезы» (III, 2, 3 – 4).
Мы видим, что юный Августин, как и большая часть древней зрительской аудитории, воспринимал театральное искусство с живой непосредственностью и повышенной эмоциональностью. Осмысляя в «Исповеди» свои театральные впечатления, он видит существенное различие в восприятии реального трагического события и того, что разыгрывается на театральной сцене. Печаль и слезы, вызванные игрой актеров, доставляют зрителю радость и наслаждение, т. е. то, чего никогда не бывает в реальной трагической ситуации и что поэтому представляется теоретику христианства малопонятным. Августин стремится осмыслить этот странный феномен восприятия, но он никак не укладывается в узкие рамки логического понимания. Почему слезы и печаль, вызванные страданиями актеров на сцене, доставляют нам радость? Ведь никто же не стремится сам испытать страдания, но сострадать несчастьям ближнего готов фактически любой. Не само ли сострадание приятно? Отчасти это так, но нормальный человек не может испытывать радость, видя горе другого. В чем же сущность и значение наслаждения театральным зрелищем? Ответить удовлетворительно на этот вопрос Августину не удается, и он относит театр к предметам, вредным для человеческой души, возбуждающим ненужные и беспричинные страсти.
Вообще к искусству Августин долгое время подходил с позиций строгого римского практицизма, помноженного на христианский ригоризм ранней патристики. Хорошо сознавая подражательный, игровой, «неистинный» характер искусства, он никак не мог признать его ценности. Позиция осознанного рационализма, на которой стоял гиппонский мыслитель, неизменно ориентировала его на признание только умопостигаемых истин и того, что непосредственно ведет к их познанию. Все остальное не представляло для него реальной ценности. Установив принципиальную «неистинность» искусства, Августин может частично оправдать его лишь тем, что эта сознательная «неистинность» указывает на нечто истинное. Так, искусство фокусника состоит в ловком обмане, о котором зрители знают заведомо, но стремятся понять, как же он осуществляется. Это стремление зрителей к истине и представляется Августину главной целью искусства иллюзиониста. Зрители внимательно следят за его действиями, сознавая, что он «занимается не чем иным, как обманом; и если поддаются этому обману, то потому, что сами не могут [сделать этого], что забавляются искусством того, кто их обманывает. Ведь если бы сам фокусник не знал, как обмануть зрителя, или если бы другие считали, что он не знает этого, то обманщику никто и не рукоплескал бы. И если кто-либо из толпы уличит его, то считает себя заслуживающим большей похвалы, чем он, и ни за что иное, как за то, что не дал себя обмануть. А если уличат его многие, то не его уже хвалят, а смеются над остальными, которые не смогли разгадать его фокусов. Итак, победа достанется знанию, искусству и постижению истины» (De vera relig. 49, 94).
Так же и искусство комедии забавляет и смешит нас до тех пор, «пока мы знаем, подражание какой истине в нем осмеивается». Однако сама истина забывается, «ложные призраки» искусства заслоняют ее, выдавая себя за истину и превращаясь в крепкие путы для человеческого разума, стремящегося к истине (49, 95). Нет спасения тогда душе человеческой, ибо увлекается она идолами искусства «в поток кипящей смолы, в свирепый водоворот черных страстей» (Conf. III, 2, 3). В «Исповеди» Августин красочно описывает, как цирковые игры, а затем и гладиаторские бои увлекли в этот водоворот его друга и ученика, будущего епископа Тагасты Алипия. Вначале Алипий с неприязнью и отвращением относился к зрелищам амфитеатра. Но однажды римские друзья силой повели его туда. Алипий решил не смотреть зрелище и крепко сомкнул глаза. «При каком-то случае боя, потрясенный неистовым воплем всего народа и побежденный любопытством, он открыл глаза, готовый как будто пренебречь любым зрелищем, какое бы ему ни представилось. И душа его была поражена раной более тяжкой, чем тело гладиатора, на которого он захотел посмотреть; он упал несчастливее, чем тот, чье падение вызвало крик, ворвавшийся в его уши и заставивший открыть глаза: теперь можно было поразить и низвергнуть эту душу, скорее дерзкую, чем сильную, и тем более немощную, что она полагалась на себя там, где должна была положиться на Тебя. Как только увидел он эту кровь, он упился свирепостью; он не отвернулся, а глядел не отводя глаз; он неистовствовал, не замечая того; наслаждался преступной борьбой, пьянел кровавым восторгом. Он был уже не тем человеком, который пришел, а одним из толпы, к которой пришел, настоящим товарищем тех, кто его привел. Чего больше? Он смотрел, кричал, горел и унес с собой безумное желание, гнавшее его обратно. Теперь он не только ходил с теми, кто первоначально увлек его за собой: он опережал их и влек за собой других» (VI, 8, 13)644.
Антигуманность и жестокость амфитеатра, подчеркнутая откровенность и грубость позднеантичных комических и мимических представлений, как и повальное увлечение зрелищами в последние века Империи, заставляли уже первых христианских апологетов выступить с резкой критикой подобных искусств645. Августин только продолжил традицию ранних греческих и латинских Отцов Церкви, выявляя отдельные специфические закономерности зрелищных искусств при общем негативном (особенно в поздний период) отношении к ним.
Больше всего возмущают его человеконенавистнические, животные страсти, разгорающиеся у зрителей жестоких зрелищ. «Люди, увлекающиеся зрелищами, – вторит Августин раннехристианским писателям646, – становятся похожи на демонов: своими криками они стравливают людей: пусть, злобно состязаясь, убивают друг друга. Если бойцы, желая угодить обезумевшему народу, все-таки не задевают друг друга и люди заподозревают их в сговоре, то они преисполняются к ним ненависти, гонят их, кричат, чтобы их избили палками, как обманщиков, и заставляют совершить эту несправедливость даже судью, наказывающего за несправедливости. Если же толпа видит, что те охвачены страшной взаимной ненавистью – будь то так называемые синты, актеры, певцы, возницы или охотники... – если она почувствует, что они обезумели в лютой вражде, она восхищается ими, любит их, поощряет стравленных и, поощряя, стравливает. Зрители болеют один за одного, другой за другого, неистовствуя сами против себя же, они безумны больше тех, чье безумие вызывают, и на кого, обезумев, хотят смотреть. Может ли душа, питая себя враждой и соревнованием, остаться здоровой и мирной? Какова пища, таково и здоровье» (De cat. rud. 22, 9–10).
Борьба за душевное здоровье, духовный покой и нравственную чистоту человека представлялась крупнейшим мыслителям поздней античности самой главной и актуальнейшей задачей. Душа и тело жителей града Божия должны сиять незапятнанной чистотой, а этому мало способствовали зрелищные искусства позднего Рима. Даже многие культовые действа, посвященные тем или иным богам, обставлялись в Риме безнравственными, с точки зрения христиан, театрализованными представлениями эротического содержания. Рассказывая о «бесстыдных» сценах в культе Целесты, Августин приходит к выводу, что эротические представления, особенно освященные божественным авторитетом, отвечали подавленным сексуальным потребностям людей. В этом он усматривал причину «нездорового» интереса к эротическим представлениям вообще. Вот одно из его описаний реакции зрителей на подобные действа: «Некоторые, более стыдливые, отводили взгляд от непристойных движений актеров и изучали искусство бесстыдства украдкой. Стесняясь людей, они не осмеливались прямо смотреть на бесстыдные жесты [актеров]; но, тем не менее, не решались и осуждать чистым сердцем культ той, которую почитали. В храме открыто преподавалось то, что дома готовилось, по крайней мере, тайно; чувство стыдливости смертных, если такое существует, было приведено в крайнее недоумение тем, что людям не было дано свободно совершать бесстыдные [дела] человеческие, которым они даже с благоговением учились у богов» (De civ. Dei II, 26).
В своем порицании театра за его безнравственность Августин, как и ранние апологеты, следует не столько даже христианской традиции, сколько общим положениям римских моралистов, уходящим своими корнями в глубокую древность. В «Граде Божием» он неоднократно с похвалой цитирует резкие высказывания в адрес театра и актеров Сципиона Африканского по цицероновскому трактату «О государстве». Если древние греки с почетом и уважением относились к актерам и назначали их на высокие государственные должности, то римляне с древности занимали иную позицию. По словам Сципиона, «так как они считали сценическое искусство и театр вообще позорящим человека, то они постановили, чтобы такие люди не только были лишены почета, подобающего другим гражданам, но даже подлежали исключению из трибы на основании порицания цензора» (Cic. Rep. IV, 10). Августин со своей стороны добавляет: «Благоразумие замечательное и [вполне заслуживающее] быть причисленным к римским достоинствам» (De civ. Dei II, 13). В наше же время, с сожалением констатирует он, хотя актеры и не пользуются уважением, но театральные представления идут с большим успехом. Где же логика и ваш трезвый разум, римляне? – вопрошает он. Вы лишаете всякой чести актеров, а в честь богов совершаете непристойные театральные представления. Да и на каком основании презирать актера, разыгрывающего «театральную мерзость», если бог, чьим именем она творится, всячески почитается? Единственно правильное решение здесь может быть выведено на основе силлогизма: «Греки заявляют: «Если почитают таких богов, то следует уважать и таких людей». Римляне дают вторую посылку: «Но людей подобного рода уважать не следует». Христиане заключают: «Следовательно, не должно почитать и богов такого рода» (II, 13). Неприязнь Августина к театральным искусствам основывается в первую очередь на его новой нравственно-религиозной установке. Отрицая религию и «безнравственность» античного мира, он вынужден был негативно оценить и зрелищные искусства, тесно связанные с языческими культами, что не помешало ему, однако, сделать интересные наблюдения и в этой области.
Не намного выше, чем зрелищные искусства, оценивает Августин живопись и скульптуру. Они также лишь слабо отражают истину, или реальность, на основе большего или меньшего подобия ей и поэтому – «ложны». Лежащие в их основании формальные закономерности типа равенства, единства, подобия, гармонии, пропорции и т. п. значительно «истиннее» конкретных изображений. Считая божественного Творца идеалом художника, Августин, как и вся патриотическая эстетика, ценил природные объекты значительно выше произведений земного живописца или ваятеля (ср.: De vera relig. 2, 2). Использование же античным миром изображений в культовых целях, превращение их в идолы никак не способствовало высокой оценке их со стороны христианских идеологов. Августин следует здесь уже сложившейся христианской традиции отрицания изобразительных искусств, как одной из главных причин идолопоклонства (De civ. Dei VIII, 23, 24). Изобразительные искусства Августин считал неотъемлемой частью античной языческой культуры, что определило и его в целом негативное отношение к христианским религиозным изображениям (Serm. 197, 1)647, которые были ему еще плохо известны, так как в этот период наибольшее распространение они имели в Риме648 и почти не проникали в Северную Африку. Возможно, что в последние годы жизни отношение Августина к христианскому изобразительному искусству изменилось, как предполагает К. Свобода на основе одного августиновского высказывания 425 г. (Serm. 316, 5)649.
Относительно словесных искусств и музыки у Августина заметны постоянные колебания. Что-то он принимает в них, многое – отрицает. Можно заметить определенную эволюцию в его отношении как к искусству слова, так и к исполняемой музыке. В общем она сводится к следующему. По мере углубления Августина в сущность христианства в его глазах «свободные искусства», столь почитаемые философствующей и интеллигентствующей античностью, все более обесцениваются, зато повышаются роль и значение «искусств механических», но уже не античных, а новых, христианских, поставленных на службу Церкви и новому культу. Эволюция вполне закономерная и исторически обоснованная. Церковь, претендовавшая на роль единственного духовного наставника человечества, став важным звеном в государственной системе, стремилась максимально использовать в своих целях весь арсенал средств воздействия на внутренний мир человека. Ясно, что «служебные искусства» легче было повернуть и направить в нужную сторону, чем «свободные», и Августин достаточно быстро понял это, конечно, не без влияния предшествующей патриотической традиции.
Мы уже видели, что ранний Августин хорошо знал поэзию как в ее формальных основаниях (вспомним его II-V кн. трактата «О музыке», полностью посвященные ритмо-метрической стороне поэзии), так и ее содержательную сторону. Поэтический вымысел (poeticum figmentum) выступал у него основой истинности поэзии как вида искусства650, что отнюдь не означало полного отсутствия элементов реального в ней. Отдельные моменты гомеровского эпоса Августин склонен принимать за достоверные сведения (см.: De quant. anim. 26, 50). Кроме того, сами образы поэзии выражают и олицетворяют определенные истины (см.: Contr. acad. III, 6, 13). Вымыслы постов Августин считал более полезными, чем «истины» заблуждающихся манихеев. «Насколько басни грамматиков и поэтов лучше, чем эти западни. Поэма в стихах о летящей Медее принесет, конечно, больше пользы, чем рассказ о пяти элементах, по-разному раскрашенных в виду пяти «пещер мрака», которые вообще не существуют... Стихи и поэмы я отношу к настоящей пище. Если я декламировал стихи о летящей Медее, то я никого не уверял в истинности самого события» (Conf. III, 6, 11).
Однако уже на раннем этапе Августину представляется недостаточной образность поэзии сама по себе. Как начинающий идеолог христианства, он требует от искусства прямого назидания и морализаторского тона. Отправляя своего друга и ученика Лиценция дописывать поэму о трагической любви Тисбы и Пирама, он рекомендует ему дать после трагической гибели героев назидательный конец: «Обрушься с проклятием на это мерзкое вожделение и ядовитое пламя, из-за которых случаются подобные несчастья; затем обратись весь в похвалу любви чистой и непорочной, которой души, обогащенные науками и добродетелью, прекрасным образом соединяются с разумом посредством философии, и не только избегают смерти, но и поистине наслаждаются блаженнейшею жизнью» (De ord. Ι, 8, 24). Уже здесь у Августина намечается тенденция к воздействию на художественное творчество, ставшая впоследствии неотъемлемой частью церковной политики в области искусства.
Августин ранних трактатов достаточно высоко ценил поэзию, полагая, как мы уже видели выше, что в ней значимы и содержательная и звуковая стороны. Поэзия активно воздействует на души людей, изгоняя своим обаянием страх смерти и уничтожая душевное оцепенение и холод (Solil. II, 14, 26).
Сами стихи являют собой вид динамической, существующей во времени красоты. Последняя отражает красоту искусства стихосложения, которое существует вне времени и не зависит от него. И хотя даже двух слогов нельзя выговорить одновременно и все они один за другим исчезают при произнесении следующего, «само искусство творить стихи не настолько подчинено времени, чтобы красота его уменьшилась последовательностью мор; 5 (Мора (тога) – единица просодического времени (краткий слог обычно имеет 1 мору, долги» – 2). напротив, оно сразу имеет все, из чего составляется стих, тогда как стих не сразу имеет все, но последующим [в нем] устраняется предыдущее; прекрасен же он по той причине, что выявляет последние следы той красоты, которую постоянно и неизменно сохраняет само искусство» (De vera relig. 22, 42).
В зрелом возрасте Августин будет порицать античную поэзию как раз за вымыслы и ложные красоты, за то, что она отвлекает души людей от истины, от подлинных знаний (Conf. I, 13, 22).
Не высоко ценит ранний Августин и красноречие, преподаванием которого он в юности зарабатывал на хлеб. Красноречие, по его глубокому убеждению, обычно служит для прикрытия лжи и затуманивания истины. Писатели же божественных текстов употребляли низкий и простой слог, чтобы истина говорила сама за себя без всяких словесных выкрутасов (XII 27, 37).
С углублением Августина в христианское миропонимание его отношение к отдельным видам искусств, к их роли и значению существенно меняется. На место античному пафосу свободных от всякого утилитаризма занятий науками и философией очень скоро приходит глубоко осознанный практицизм, правда, уже не римского, а христианского толка. Высший идеал продолжает оставаться сугубо духовным и надутилитарным, но все земное понимается теперь как путь к этому идеалу, причем позитивно оценивается только то, что способствует продвижению по этому пути. Греческий духовный аристократизм и римский, так сказать, государственно-бытовой практицизм превращаются в христианстве на основе библейского религиозного практицизма в некий духовный утилитаризм, ставший основой всей средневековой культуры. О новом христианском отношении к наукам и искусствам Августин подробно пишет в «De doctrina christiana» (II, 25, 38–39, 58). Эти рассуждения стали нормой для средневековой теории и практики, поэтому имеет смысл остановиться на них подробнее.
Весь род произведений живописи, ваяния и других изобразительных искусств, несмотря на то, что в них сразу видно, чему они подобны и что ими выражается, «должен быть зачислен в разряд излишних человеческих изобретений за исключением тех [случаев], когда имеет особое значение, по какой причине, где, когда и по чьей инициативе они появились». Эта мысль Августина представляет особый интерес. Вполне вероятно, что он делает исключение для христианских религиозных изображений, хотя и не указывает на них прямо, ибо сомнения его относительно этих изображений еще очень велики. Если это предположение верно, то оно лишь подкрепляет указанную выше гипотезу К. Свободы.
К «совершенно бесполезным» изобретениям человеческого разума относит теперь Августин «тысячи пустых басен и вымыслов, ложью которых [издавна] услаждаются люди». И вообще, скептически резюмирует он, «ни одна из вещей человеческих, изобретенных самими людьми, не ценится более тех, которые исполнены лжи и обмана» (II, 25, 39). Здесь следует указать, что Августин этого периода различает три типа наук и искусств по их происхождению: одни даны от Бога, другие сохранились от прежних времен и третьи – изобретены самими людьми (II, 25, 41). Эти последние и считаются им теперь наиболее удаленными от истины. Былые восторги в адрес «свободных искусств», изобретенных разумом и столь необходимых на пути к истине, заметно поутихли в душе умудренного новым опытом африканского епископа.
Полезными и необходимыми в обществе из человеческих «изобретений» Августин считает теперь прикладные искусства, причастные к изготовлению различных типов одежды как для женщин, так и для мужчин, для людей разного звания и положения, а также чеканку монет и вообще «бесчисленные виды знаков, без которых человеческое общество или вовсе не могло бы существовать, или было бы менее совершенным» (II, 25, 39). Утилитаризм Августина, таким образом, отнюдь не примитивен. Он признает полезными и нужными все науки и искусства, имеющие знаковую природу, а к таковым, как мы увидим в следующей главе, он относит почти все достижения человеческой культуры. Его утилитаризм имеет ярко выраженную семиотическую окраску. Если в кассициакский период он рассматривал все науки и искусства в их данности, то теперь они интересуют его лишь с точки зрения их знаковой функции, т. е. как указания на духовные реальности более высокого уровня.
Из установлений человеческих, пишет Августин, нужно признавать и изучать все, что полезно в жизни. Достойны порицания только искусства, связывающие человека с бесами, типа всяких волхвований, гаданий и т. п., а также искусства «излишние», т. е. бесполезные. Особо важными считает он искусства, «которыми люди соединяются с людьми»; среди них на первом месте стоит письменность. Полезно для нас все то, резюмирует Августин, что ведет «к достижению высших предметов, чему все это (искусства и науки. – В. Б.) и должно служить».
Из наук, «не самим человеком изобретенных», Августин высоко ценит историю, но не всякую, а только способствующую правильному пониманию священных книг. Вне отношения к церкви она представляется ему «детской наукой». Знание хронологии олимпиад и имен консулов позволяет, к примеру, точнее определить историю жизни Иисуса Христа, как и последовательность других библейских событий. Августин постоянно призывает сопоставлять хронологию библейских и греко-римских исторических событий (П. 28, 42). Амвросий Медиоланский, подчеркивает он, полемизируя с теми, кто склонен был считать учение Христа заимствованным у Платона, опирался на историю. С ее помощью он показал, что не христиане учились у Платона, но он сам, посещая Египет, учился там еврейской мудрости у Иеремии (II, 28, 43).
Кроме собственно истории (т. е. описания минувших событий) Августин говорит еще и о «естественной истории», изучающей различные страны, повадки животных, свойства деревьев, трав, камней и т. п. Знание всех этих вещей способствует правильному пониманию иносказательных мест в Писании и, следовательно, полезно. Из этих же соображений не нужно пренебрегать и астрономическими сведениями, которые позволяют правильно счислять время. Однако не следует и чрезмерно увлекаться астрономией и выводить из нее то, что в ней не содержится (Августин имеет здесь в виду составление астрологических гороскопов и т. п.) (II, 28, 45–46). Знание других наук и ремесел (медицины, земледелия, строительного или гончарного искусства, искусства управления государством) также полезно христианину, и не столько для личной пользы, сколько для уразумения иносказательного смысла тех мест Писания, где эти искусства упоминаются.
Для понимания трудных мест Писания полезны также и науки «умственные», и прежде всего диалектика и арифметика. В диалектике, однако, не следует увлекаться софизмами, ибо они могут ввести в заблуждение даже людей, изощренных в этой науке. К софистике Августин относит не только те случаи, когда на основе верных посылок делаются ложные, но правдоподобные выводы, но и те речи, красота и изысканность которых не соответствуют их предмету (II, 28, 48). Правильному соединению мыслей (т. е. логике) можно научиться в мирских школах, но содержание этих мыслей, их истина может быть почерпнута только из Св. Писания (II, 28, 49).
Все более частые ссылки на библейский авторитет не мешают, однако, Августину и в этот период делать интересные наблюдения в сфере «свободных искусств». Правда, если в «De musica» он был уверен, что диалектика, как и остальные науки, изобретена разумом, то в трактате «О христианской науке» он уже считает, что «истина соединения [мыслей] не изобретена людьми; но только была подмечена и воспринята ими для того, чтобы с ее помощью можно было учить и учиться; сама же она заложена в вечной идее вещей и установлена Богом» (II, 28, 50), т. е. законы логического мышления, по мысли Августина, отражают объективные закономерности природного бытия. Логика (диалектика), так же как история или «естественная история», содержит в себе объективную истину и передает ее людям. Однако и с помощью логики можно делать ложные с точки зрения содержания заключения. Поэтому следует отличать правила соединения мыслей от истинности самих мыслей, ибо это различные вещи. Истинное с точки зрения логики суждение может быть ложным по содержанию (II, 28, 51 – 52).
Также истинны сами по себе и законы красноречия, хотя и красноречие чаще используется для убеждения людей в чем-то ложном. Поэтому предосудительно не само красноречие, но злоупотребление им (II, 28,54). Красноречие – наука владения словом, и обращено оно больше к сердцу, в то время как диалектика воздействует на способность мышления. Но не следует думать, что, овладев красноречием и логикой, ты уже овладеваешь и самой истиной. Правила риторики и диалектики направлены на то, чтобы помочь человеку постигнуть истину. Сами же они достаточно трудны и сложны, поэтому часто бывает так, что люди скорее постигают сами предметы, чем правила, предназначенные для их постижения. Вообще говоря, резюмирует Августин, риторика и диалектика чаще доставляют нам удовольствие игрой слов и мыслей, образностью выражений, неожиданными поворотами мысли и т. п. вещами, чем ведут к истине. В их пользу, пожалуй, можно сказать еще и то, что они тренируют и обостряют ум, если, конечно, не делают его лицемерным и зловредным (II, 28,55). Объективные законы составляют и содержание науки о числах (II, 28, 56). Знания всех этих наук важны только в том случае, если они направлены на постижение верховного Творца. Того же, кто тщеславно кичится своими знаниями, но не направляет их к этой цели, если и можно назвать ученым человеком, то уж никак не мудрецом (II, 28, 57). Развивая дальше филологически-философский подход к библейским текстам, сложившийся еще у александрийских аллегористов, Августин тесно связывает с ним знание почти всех свободных искусств651.
Подводя в трактате «О христианской науке» итог своим рассуждениям об искусствах и науках, Августин заключает, что не следует заниматься теми из них, которые как-либо связаны с языческими культами или служат только для одного удовольствия. Сама жизнь человека в обществе с необходимостью требует знание законов, ее регулирующих. Все остальные «языческие» дисциплины бесполезны христианину за исключением истории, диалектики и арифметики, а также некоторых других, полезных для тела. Да и в изучении и применении этих искусств следует всегда держаться правила: ничего чрезмерного! (nequid nimis) (II, 39, 58).
В свете нового, уже чисто христианского, отношения к наукам и искусствам Августин пересматривает в зрелом возрасте и многие свои юношеские суждения о них, закладывая тем самым основы средневековой теории искусства. Особо показательно в этом плане новое отношение Августина к исполняемой музыке (т. е. к искусству музыки в собственном смысле слова, а не к научной дисциплине) и к искусству слова.
Последнее интересует Августина в двух главных аспектах. Во-первых – с точки зрения знаково-символической функции слова и словесного образа; прежде всего в связи с библейскими текстами, на основе чего вырастает целая знаково-символическая теория, о которой мы будем говорить подробнее в следующей главе. Во-вторых, – в плане нового осмысления красноречия. Будучи профессиональным ритором, но отказавшись перед принятием христианства от своего мирского занятия, Августин-епископ, однако, очень скоро понял, что его «языческая» специальность при умелом использовании может пригодиться ему и на новом посту.
Значение красноречия для христианства Августин смог оценить, слушая проповеди Амвросия. Незадолго до этого, порицая Фавстаманихея, Августин считал, что красноречие не является залогом истины. Оно – сосуд, в котором одинаково хорошо чувствуют себя и истина и ложь, но чаще его используют для прикрытия лжи (Conf. V, 6, 10). Слушая же речи Амвросия, он вдруг понял, что умело направленная и хорошо организованная речь сама собой заставляет принять и содержащуюся в ней истину, т. е. способствует ее активному усвоению. «Хотя я и не старался изучить то, о чем он говорил, – писал Августин в «Исповеди», – а хотел только послушать, как он говорит (эта пустая забота о словах осталась у меня и тогда, когда я отчаялся, что человеку может быть открыта дорога к Тебе), но в душу мою разом со словами, которые я принимал радушно, входили и мысли, к которым я был равнодушен. Я не мог отделить одни от других. И когда я открывал сердце свое тому, что было сказано красно, то тут же входило в него и то, что было сказано истинного, – входило, правда, постепенно» (V, 14, 24). Еще больше в необходимости и пользе красноречия для христианства Августин убедился, заняв епископскую кафедру. Публичное преподавание основ христианского учения очень скоро потребовало от него использования его риторских навыков в новых целях. Августин становится одним из первых в патристике теоретиков ораторского искусства, закладывая основы христианской риторики. Соответственно меняется и его отношение к риторской эстетике. В своих суждениях он опирается на весь огромный опыт античной риторики, и прежде всего на теорию и богатую ораторскую практику кумира его юности Цицерона. Для нас здесь важно, что из античного наследия и как стремился приспособить к задачам новой культуры один из первых теоретиков христианского красноречия.
Ораторское искусство представляется позднему Августину почти необходимым инструментом христианского учителя (проповедника). Без умения преподнести истину его педагогические цели вряд ли могут быть достигнуты. Проблемам красноречия и педагогики Августин посвящает четвертую книгу большого труда «О христианской науке» и многие страницы в трактате «Об обучении оглашаемых».
В «De doctrina christiana» он обращается к ораторскому искусству, когда речь заходит об умении донести до слушателей библейские истины. Вообще говоря, рассуждает теперь Августин, правила риторики нужны и полезны, «ибо если с помощью искусства риторики можно убеждать людей и в истинном, и в ложном, то кто отважится утверждать, что истина в руках ее защитников должна оставаться безоружной против лжи?» (De doctr. chr. IV, 2, 3). Просто неразумно оставлять такое сильное оружие в руках защитников лжи, чтобы они с его помощью вводили в заблуждение массы неискушенных людей, в то время как поборник истины не имел бы ничего, чтобы защитить ее. Конечно же, столь сильное оружие должно быть поставлено на защиту истины.
Изучать риторику надо с самого раннего возраста. Человеку зрелых лет уже не стоит тратить на это силы и время. Учиться красноречию лучше не по риторикам. запоминая те или иные правила, но – практически, читая и слушая ораторов. Библейская и особенно церковная литература богата образцами красноречия. Читая вслух, переписывая их под диктовку, можно и самому очень скоро научиться говорить подобным образом. Изучая содержание этой литературы, человек незаметно проникается и ее слогом, ее способом выражения (IV, 3, 4). Правила красноречия сложны и трудны для усвоения. Нужен особый талант, чтобы легко и свободно применять их на практике. Ведь ни один оратор не способен красноречиво говорить и одновременно думать о тех правилах и приемах, которые необходимо в данный момент применять. В противном случае, ему «следует остерегаться, чтобы не исчезло из души то, о чем надо говорить, пока он будет размышлять над тем, как бы ему [все] сказать по науке. И тем не менее в речах и словах красноречивых людей оказываются выполненными [все] правила красноречия, о которых они не думали – ни когда собирались говорить, ни когда уже говорили красноречиво, независимо от того, учились ли они им или никогда не прикасались к ним. Выполняются [эти правила], разумеется, только теми, которые суть [настоящие] ораторы, а не теми, кто ставит своей целью быть красноречивым» (IV, 3, 4).
На примере ораторского искусства Августин поднимает здесь две важнейшие эстетические проблемы. Во-первых, он утверждает, Что талант в искусстве имеет большее значение, чем знание теории652. Ему лично, утверждает он, были известны многие мужи, совершенно не знавшие правил риторики, но говорившие красноречивее тех, кто долго изучал эту дисциплину. Во-вторых, Августин по-новому ставит вопрос эстетического воспитания. Учиться красноречию надо не теоретически, штудируя риторику, но практически – читая и слушая ораторов. Ведь и грамматику детям не пришлось бы изучать, если бы они воспитывались в среде, где говорили бы на совершенно правильном языке. Естественный навык вполне может заменить науку (IV, 5). Поздний Августин, в отличие от многих античных авторов, считает более эффективным не теоретическое обучение искусствам, но практическое – путем эмоционально-интуитивного восприятия высоких образцов искусства и подражания им, ибо художник (оратор) в своей непосредственной деятельности больше руководствуется интуицией, внутренним опытом, чем теоретическими правилами. Он творит интуитивно, однако в соответствии с правилами, ибо они составлены на основе изучения самой художественной практики, конкретных произведений ораторского искусства.
Христианский учитель, по мнению Августина (и он здесь продолжает лучшие традиции античности), должен, с одной стороны, учить добру, а с другой – отвращать своих учеников от злых дел. Способ преподавания добра зависит от конкретной аудитории. Здесь Августин делает новый шаг по сравнению с античностью. Он призывает учителя ориентироваться в своей деятельности на конкретных учеников. Если слушателей необходимо чему-то научить, то лучше всего применить повествовательный тип речи, прибегая в неясных местах к прямым доказательствам. Если же нужно взволновать, растрогать учеников, чтобы они не ослабели в тех знаниях истины, которые у них уже есть, то следует использовать проникновенный тип речи, в котором уместны мольба, обличения, побуждения, запреты и другие способы активного возбуждения душ (IV, 6).
Настоящий учитель должен быть, по мнению Августина, прежде всего мудрым, а затем уж и красноречивым. Полезнее проповедник мудрый, но безыскусный в речи, чем краснобай, не знающий истины. Искусная речь нравится слушателям и заставляет их верить всему, о чем в ней говорится. Поэтому, отмечает Августин, еще великие учители красноречия (имеется в виду Цицерон) признавали, что если мудрость без красноречия несет мало пользы государству, то красноречие без мудрости часто причиняет большой вред и никогда не приносит пользы. Мудрость же христианскому учителю дает изучение Св. Писания (IV, 5, 7).
Библейские тексты лучше всего заучивать наизусть, стремясь понять то, о чем в них говорится. Тогда, даже если учитель и не обладает достаточным красноречием, он может восполнить его недостаток цитатами из Писания, приведенными к месту (IV, 5,8). Именно этот прием повсеместно использовали авторы бесчисленных христианских гомилий, как на Востоке, так и на Западе, хотя среди них встречались и люди с действительно высоким ораторским даром.
Идеал учителя состоит в том, чтобы говорить мудро и красноречиво. Мудрость спасительна для человека, а красноречие приятно. Для исцеления мы часто употребляем полезные, но горькие лекарства. «А что может быть лучше целительной сладости или сладостной целительности? Ведь здесь чем сильнее влечет сладость, тем легче происходит исцеление». У нас есть много церковных писателей, которые писали и мудро и красноречиво, да не хватает времени, сетует Августин, перечитать их писания (IV, 5, 8).
В противоположность своему юношескому неприятию библейских текстов из-за их безыскусного стиля Августин усматривает теперь и в них особое красноречие. Как различным возрастным группам присущи свои типы красноречия653, так и тексты Писания обладают своим особым красноречием, в котором твердость и основательность занимают видное место (IV, 9). Однако составители библейских книг не чурались и обычных для греко-римского мира приемов красноречия, хотя и не выставляли их напоказ, а применяли скромно и уместно. Приемы красноречия в Писании органично вытекают из самого предмета, о котором идет речь (IV, 10); форма следует за содержанием. Августин приводит целый ряд новозаветных текстов, прежде всего Павловы послания, и разбирает имеющиеся в них риторические фигуры (IV, 11–20). Таким образом, он предпринимает первую в истории культуры попытку анализа новозаветных текстов с точки зрения их художественности, которую он видит неразрывно связанной с их содержанием. Отрывок 2Cor. 11, 16 – 30 пленяет Августина своей музыкальностью, он подробно анализирует его структуру с точки зрения художественной выразительности. О его последних стихах он, например, пишет: «Почти невозможно высказать, сколько красоты, сколько приятности заключено в том, что после такой стремительности [речи] он (Павел. – В. Б.), вводя небольшое повествование, отдыхает некоторым образом и позволяет отдохнуть слушателю» (IV, 7, 13).
Далее Августин приводит текст из пророка Амоса (6, 1 – 6), разбирая его художественные особенности. Рассматривая, в частности, стихи 3 и 4654, он показывает, что они состоят из шести членов (membra), образующих попарно три периода:
Qui separati estis in diem malum,
et adpropinquatis solio iniquitatis.
Qui dormitis in lectis eburneis,
et lascivitis in stratis vestris:
qui comeditis agnum de grege,
et vitulos de medio armenti.[Вы], которые считаете день
бедствия далеким
И приближаете торжество насилия.
Которые возлежите на ложах из
слоновой кости
И нежитесь на постелях ваших,
Которые поедаете агнцев из стада
И тельцов из среды пасущихся.
Августин отмечает, что было бы прекрасно, если бы и каждый из шести членов начинался местоимением «которые» (qui), но в данном тексте больше красоты, так как к одному местоимению отнесено по два члена, образующих в совокупности три смысловые группы. Первая группа – пророчество о пленении, вторая – инвективы против роскоши, третья – против чревоугодия. Если первый, третий и пятый члены произносить с расстановкой, а второй соединить с первым, четвертый с третьим, шестой с пятым, то получится три «весьма красивых» периода (IV, 7, 18).
В следующем стихе Августин подмечает «удивительно красивый оборот речи» (mirabili decore dicendi), когда пророк переходит от второго лица (обращения к злоупотребляющим музыкой) к третьему:
qui canitis ad vocem psalterii sicut David
pulaverunt se habere vasa cantici[Вы], которые поете под голос
псалтири, подобно Давиду,
[они] полагали иметь сосуды песен.
Эта риторическая фигура имеет, по мнению Августина, глубокое смысловое значение. Обличая злоупотребляющих слуховыми удовольствиями, пророк знает, что люди мудрые могут заниматься музыкой благоразумно. Поэтому во втором члене, переходя от второго лица к третьему, он как бы сбивает темп обличения, давая этим понять, что кроме чрезмерного и неискусного употребления музыки возможно и мудрое ее использование (IV, 7, 19). Конечно, с точки зрения научной филологии, такое толкование представляется слишком вольным. Однако для историка эстетики оно важно самим своим фактом. Здесь Августин пытается выявить собственно художественные (эстетические даже, ибо он оценивает их постоянно как «прекрасные») элементы библейского текста и понять их художественное значение. Гиппонский епископ выступает, пожалуй, первым на латинском Западе сознательным художественным критиком Библии, рассматривая это грандиозное произведение не только как собрание религиозных текстов, но и как художественное, построенное по законам красоты произведение655.
Здесь не место приводить все примеры августиновского анализа художественных особенностей библейских текстов, следует лишь подчеркнуть, что главным критерием их оценки в IV кн. трактата «О христианской науке» выступает красота. И воспринимается она, по мнению Августина, только эмоционально, а не рассудочно. Типичным для этой книги является замечание: «Впрочем, о том, как он (троп. –В. Б.) прекрасен и каким образом воздействует на читающих и понимающих, не дело говорить тому, кто сам не чувствует (поп sentit) [этого]» (IV, 7, 20). Подтверждением истинной красноречивости библейских текстов для Августина служит их «боговдохновенность» (IV, 21).
Библейские тексты содержат много темных мест, но христианский учитель не должен излагать их также «темно». Его задача – понять смысл Писания и донести его до слушателя в ясных и точных выражениях (IV, 22–23). Ясность (evidentia) представляется Августину важнейшим свойством речи, даже если она вступает в противоречие с некоторыми риторическими приемами. В. целом же ясность никогда не ведет к обезображиванию речи, и умный оратор хорошо знает это (IV, 24). Оратор никогда не должен забывать, что главная его цель – быть правильно понятым слушателями, поэтому в своей речи он должен всегда ориентироваться на аудиторию. А так как слушатели христианских ораторов, особенно в провинциях, в массе своей были далеки вообще от какого-либо образования, то Августин призывает к демократизации красноречия. Какой смысл в изощренных фигурах речи или правильности языка, если они не воспринимаются слушателями? Лучше употребить слова и обороты не совсем правильные, народные, но понятные слушателям, излагающие суть дела (IV, 24).
Особенно важно следить за реакцией слушателей (понимают ли они смысл речи или нет), если выступаешь перед большой аудиторией, когда не принято переспрашивать наставника. Если слушатели не понимают сущности излагаемого, необходимо представить предмет речи с иных точек зрения, применить иные приемы подачи материала и варьировать их до тех пор, пока предмет не будет понят аудиторией (IV, 10, 25). Здесь, как и в трактате «Об обучении оглашаемых», Августин по-новому подходит к проблеме преподавания, настаивая на его ориентации на конкретную аудиторию, на достижении полного взаимопонимания между наставником и слушателями. Античность не знала такой глубокой постановки подобной проблемы на теоретическом уровне656.
Главную задачу красноречия Августин видел не в том, чтобы сделать «жесткое и корявое» приятным, а скучное занимательным, но в том, «чтобы выявить скрытое». С другой стороны, предупреждает он. не следует забывать, что если неясное выражено ясно, но непривлекательно, то оно становится достоянием лишь немногих ревностных искателей истины. Большинство же людей любят, чтобы даже самая непритязательная пища была приправлена специями. Ради них красноречие и должно прийти на помощь ясности, но не в ущерб ей (IV, 11, 26). Поэтому христианскому учителю полезно использовать опыт Цицерона, считавшего, что речь должна «учить, услаждать и увлекать» (Orat. 21) (IV, 12, 27). И далее Августин развивает известные риторские идеи Туллия, любимого автора своей юности. Первое (ut doceat) относится к сущности предмета, второе и третье (ut delectet, ut flectat) – к способу изложения, т. е. к вспомогательным средствам обучения. Удовольствие не может быть целью красноречия. Следует избегать тех сочинений, которые написаны только для одного удовольствия и не содержат истины (IV, 14, 30).
Под истиной, как мы помним, Августин имел в виду в первую очередь главные положения христианской религии. Поэтому его теория красноречия приобретает характер духовно-религиозного утилитаризма. Эстетическая сторона речи должна быть поставлена, по его глубокому убеждению, на службу христианской духовности. Цель оратора – нести людям любыми способами истинное, святое и доброе. Наставником же его в этом благородном деле является сам Бог, поэтому, прежде чем открыть уста свои, оратор должен вознести к нему в молитве свою душу (IV, 32). В момент произнесения речи не следует уже думать ни о том, что сказать, ни – как сказать; здесь необходимо руководствоваться словами Господа: «...не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать; ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас» (Мф 10, 19–20) (IV, 32). Здесь Августин на свой лад использует евангельскую цитату, наделяя ее эстетическим смыслом, которого нет в оригинале. Отнеся приведенную фразу к ораторам, он, по сути дела, формулирует свое понимание творческого метода христианского художника: он творит не по собственному усмотрению, но его духом и членами руководит божественный Художник. Такое понимание творчества имело свои истоки не в греко-римской, но в древнееврейской культуре и впоследствии легло в основу практически всей средневековой эстетики.
Со ссылкой на теорию стилей Цицерона (ср.: Orat. 21–29) Августин утверждает, что три стиля – простой, умеренный и высокий – соответствуют трем указанным выше функциям речи – учить, услаждать, увлекать, и трем предметам – простым, средним и важным (De doctr. chr. IV, 34).
Христианский проповедник всегда говорит о вещах важных, но использовать он может любой из трех стилей в зависимости от конкретной ситуации, а именно: «он должен употреблять простой слог там, где учит чему-нибудь в важном предмете; умеренный, или средний, – там, где что-либо хвалит или порицает; а там, где нужно побуждать к действию, где приходится беседовать с людьми, которые должны действовать, но не хотят, – там предметы важные необходимо требуют высокого слога, соразмерного потребности – убедить упорные умы». Поэтому нередко один и тот же важный предмет излагают по-разному: просто – когда ему учат; умеренным (т. е. красивым) слогом – когда оценивают его свойства, и высоким слогом – когда стремятся привлечь к нему уклонившееся в сторону чувство слушателя (IV, 38). На примере Павловых посланий Августин демонстрирует применение всех трех стилей в христианской литературе.
Отмечая (со ссылкой на Иеронима) музыкальность и ритмичность отдельных текстов Писания, Августин в целом считает, что излишняя мелодичность может снизить их духовность. Ему самому нравится в своих речах применять к месту ритмически организованный текст, но в библейских книгах музыкальное начало не доставляет ему удовольствия (IV, 41).
Высокий стиль (слог), по мнению Августина, отличается от умеренного тем, что он стремится не столько к красоте, сколько к возбуждению глубоких чувств, сильных душевных аффектов. Он может использовать весь арсенал слога умеренного, но не гоняется специально за красотой выражений. Главная его задача – возбудить, взбудоражить, увлечь за собой душу слушателей (IV, 42). Августин приводит примеры возвышенного стиля из Павловых посланий и образцы всех стилей – из латинских Отцов Церкви Киприана и Амвросия.
Большим искусством является чередование стилей в одной речи, ибо один слог быстро утомляет слушателя. Особенно краткими должны быть части речи в высоком стиле. Их необходимо перемежать простым изложением или умеренным слогом (IV, 41). По контрасту с простым стилем высокий слог представляется еще более возвышенным. В речи умеренного стиля простой слог применяется там, где приходится разрешать какие-либо вопросы, где требуется особая проницательность и тонкость и т. п. (IV, 52). О положительном результате воздействия высокого слога на слушателей можно судить по их сочувственным вздохам и слезам, а не по крикам одобрения оратору (IV, 53).
Простой и высокий стили обладают самостоятельным воздействием на слушателя: простой – дает ему знание каких-то предметов, высокий – побуждает его к определенному действию. Умеренный же стиль имеет целью нравиться своей красотой. Поэтому его не следует применять самостоятельно, но только в дополнение к простому или высокому стилям (IV, 25, 54 – 55). Августин руководствуется здесь все тем же церковным утилитаризмом, который будет господствовать во всей средневековой эстетике. «Посредством низкого слога он (оратор. – В. Б.) убеждает [нас] в истинности того, что он говорит; с помощью высокого слога он побуждает действовать тех, которые знают, что надо действовать, но не действуют; посредством умеренного слога он убеждает нас, что говорит изящно и красиво; но что пользы нам в этом убеждении?» Оставим эту пустую цель языческим риторам. Христианские наставники должны заменить ее другой, более существенной. Им необходимо пользоваться умеренным (средним) слогом для тех же целей, что и высоким: поставить красоту слова на пользу доброму делу (IV, 25, 55).
Какой бы слог ни использовал оратор, он должен говорить понятно, приятно и убедительно. Почему простой слог часто вызывает рукоплескания слушателей? «Потому что здесь нравится сама истина, изложенная просто, но верно, защищенная и представленная непобедимою» (IV, 26, 56). Для среднего стиля главной целью является приятность и удовольствие, но и он должен быть понятен и убедителен (IV, 26, 57). То же касается и высокого слога. Можно ли растрогать слушателя, если он не понимает, о чем идет речь, или если поучение ему не нравится? Нельзя. Поэтому и высокий слог, имеющий своей целью «с помощью величественной речи склонить черствое сердце к послушанию, не может быть убедительным, если он в то же время не будет понятным и приятным» (IV, 26, 58).
Проповедник истины и добродетели, по глубокой убежденности Августина, должен своей жизнью подтверждать то, к чему призывает других. Проповедовать необходимо не только словом, но и своим образом жизни (IV, 59–61). Таков для позднего Августина идеал оратора и проповедника христианской духовной культуры. Он во многом списан с античного оратора, но с новыми и исторически значимыми коррективами. Трактат «Об обучении оглашаемых» дополняет этот идеал еще некоторыми чертами657.
В своем понимании красноречия Августин возвращается как бы ко временам возникновения этого искусства, когда оно должно было служить в первую очередь усвоению тех или иных идей слушателями. В позднеантичный период содержательная сторона речи отошла на второй план; повсеместно торжествовал эстетский подход к ораторскому искусству. Риторы превратились в актеров, часто бродячих, которые гнались только за славой, забыв вообще об истине. Августин стремится восстановить утраченный союз красноречия с истиной, но уже с новой – христианской. Оратор превращается у него в учителя истины, который и словом и делом должен нести ее своим слушателям. Учительный тон имеют и многие поздние произведения самого Августина. В этом смысле особенно интересен трактат «Об обучении оглашаемых», в котором речь идет о методике обучения новичков, людей, только подошедших к христианству, т. е. о начальной ступени преподавания. Главное внимание здесь уделяется установлению психологического контакта, взаимопонимания между учителем и учениками. Более того, Августин, пожалуй впервые в истории педагогики, затрагивает в нем вопрос о неразрывной связи обучения с нравственным воспитанием.
Педагог, прежде всего, должен любить свое дело, не быть равнодушным к предмету своих лекций. Любовь к делу отражается и на речи учителя, призванной вдохновить слушателей. «В действительности же нас слушают гораздо охотнее, когда мы сами увлекаемся делом обучения; наша радость окрашивает всю словесную ткань нашей речи: нам легче говорить, нас лучше воспринимают» (De cat. rud. 2, 12). Речь учителя должна быть разнообразной, легкой, тщательно отделанной и законченной. Важно, чтобы учитель сам получал удовольствие от процесса преподавания, тогда и ученики легко и быстро усвоят предлагаемые им знания.
Начинать обучение надо с событий главных и наиболее удивительных и особыми приемами речи привлекать внимание к ним. «Показывать их нужно сначала как бы в обертке и не убирать сразу же прочь, но задержаться подольше, словно разворачивая вынутое из завязанного кулька; предлагать душам слушателей то, что требует всматривания и вызывает удивление; остальное можно присоединить в беглом обзоре» (3, 2). Необходимо вести речь так, чтобы слушатели узнали главное, не успев устать и перегрузить память.
Основной заповедью христианства и главным его достижением, по убеждению Августина, является заповедь любви. Она должна стать центральным предметом преподавания, основой самого учебного процесса. Августин формулирует важнейшее христианское правило: «В чем бы ни выражалась наша деятельность среди людей, она должна быть проникнута состраданием и самой искренней любовью» (17, 1). Рассуждая с катехуменом о любой проблеме христианского учения, наставник должен «свести весь рассказ к главной цели – к любви, от нее нельзя отводить глаз, что бы ты ни делал, что бы ни говорил». Любовь лежит в основе всех позитивных действий и явлений, происходящих в мире, и ею должна определяться всякая речь христианского учителя (7,1). «Поставь себе целью говорить об этой любви; пусть все твои слова возвращают к ней; что ни рассказываешь, рассказывай так, чтобы тот, к кому ты обращаешься, слушая, верил; веря, надеялся; надеясь, любил» (5, 11).
Учитель должен так строить свою речь, чтобы она не только повествовала о любви, но и возбуждала в сердцах слушателей эту любовь. А это возможно только в том случае, когда он сам искренне и горячо любит своих учеников. Это также новый мотив в педагогике, неизвестный античному миру. Вся деятельность учителя должна быть согрета глубокой любовью к ученикам. Именно любовь открывает ему путь к душам слушателей, позволяет быстро улавливать их реакцию и строить свое изложение в соответствии с ней. Учитель нового склада обязан постоянно чувствовать все внутренние движения своих учеников и строить речь, ориентируясь на них. Августин подмечает важный для педагогики психологический момент: не только учитель воздействует на души учеников, но и они (каждая конкретная аудитория) оказывают свое воздействие на внутренний мир наставника. Аудитория своим присутствием и своей реакцией всегда по-разному действует на учителя. Августин указывает, что он и сам испытывал различные чувства в зависимости от того, перед кем ему приходилось говорить (20, 4; ср.: 20, 3). Хорошая аудитория обычно вдохновляет чуткого учителя, и он перестает испытывать скуку, вполне объяснимую при многократном повторении одного и того же. Августин на собственном опыте знает, что «можно освежиться свежестью их восприятия настолько, что наше обычное холодное изложение согреется от их необычного внимания» (14, 4).
Гиппонский мыслитель отмечает еще одну интересную психологическую закономерность – особый род «вчувствования» учителя во внутренний мир ученика, позволяющего ему как бы глазами ученика увидеть то, о чем он говорит, и пережить его эмоциональную реакцию. «Если нам опротивело все время повторять слова привычные, приноровленные к детскому пониманию, то приноровимся сами к этим детям, полюбив их братской, отцовской, материнской любовью; соединим сердца наши, и эти слова даже нам покажутся новыми. Такова сила сочувствующей души: когда их трогают наши слова, мы, пока они учатся, вселяемся в них, а они в нас; слушатели словно говорят в нас, и сами мы как-то учимся тому, чему учим. Разве обычно не случается так: часто видя в городе и в деревне места обширные и прекрасные, мы проходим мимо, не испытывая уже никакого удовольствия; когда же мы показываем их тем, кто их раньше не видел, то от их восхищения новым не оживает ли и наше восхищение? Чем ближе нам эти люди, тем это чувство сильнее; поскольку, любя их, мы в них живем, постольку и для нас старое становится новым» (14, 1–2).
Августин великолепно изобразил здесь высшую ступень педагогической чуткости и учительского совершенства. Достигнувший ее учитель полностью овладевает душами слушателей. Однако он не должен упиваться этой своей властью, и если он желает сохранить ее, он обязан быть предельно чуток и внимателен к ученику. Если обучаемый устал (в данном случае речь идет об индивидуальном обучении), надо дать отдых его душе: приправить речь веселой шуткой, рассказать о чем-нибудь удивительном или потрясающем, печальном или горестном, а лучше всего поговорить о самом слушателе, «чтобы он встрепенулся, смущенный заботой лично о нем; при этом нельзя задевать его самолюбия какой-нибудь резкостью, а надо расположить к себе дружеским обхождением и помочь, принеся скамью» 6 (16, 2). (6. По заведенному обычаю катехумены слушали наставника стоя, что представляется Августину неразумным).
Соответственно и речь христианского наставника должна быть полностью ориентирована на слушателя – без излишних красот, но привлекательная: «...пусть истинный указанный нами смысл окажется как бы той золотой нитью, которая соединяет в один ряд драгоценные камни, но ничем лишним не нарушает стройный лад украшения» (7, 2). Чтобы речь не навевала скуку излишней назидательностью, ее необходимо оснащать загадками и аллегориями, которые возбуждают духовную активность слушателей, «заставляют искать истину именно потому, что они ее прячут: какой-то ясный рассказ не произвел на них никакого впечатления и вдруг: распутывается аллегория и извлекается некий тайный смысл (10, 3). Окончательный вывод Августина относительно красноречия состоит в том, что оно должно служить смыслу речи и способствовать внедрению его в души слушателей: «как душу предпочитают телу, так и словам надо предпочитать мысли» (10, 4).
Стремясь определить роль красноречия в новой духовной культуре, Августин выявляет, как мы видим, ряд новых интересных эстетических и психологических закономерностей, значимых для общей эстетической теории и для практики эстетического воспитания. Ораторское искусство у него тесно связывается с педагогикой, а последняя дополняется требованиями организации обучения на принципах любви и уважения к ученикам и необходимости нравственного воспитания обучающихся.
Словесные искусства интересовали Августина главным образом в двух аспектах. Во-первых, он стремился понять знаково-символическую природу слова и словесных образов для правильного осмысления библейских текстов (см. подробнее гл. IX) и, во-вторых, использовать искусство красноречия, чтобы донести смысл нового духовного учения во всей его глубине до сердца каждого, даже самого неискушенного человека, т. е. красноречие рассматривается теперь как важное вспомогательное средство христианского учителя и проповедника. Именно в этой утилитарно-религиозной функции оно и получило широкое распространение начиная с IV в. во всей средневековой культуре, как на греческом Востоке, так и на латинском Западе.
В ином плане открылось Августину позднего периода назначение музыки в христианской культуре. Тонкое музыкальное чутье гиппонского мыслителя позволило ему сделать выводы, находившие постоянный отклик в музыкальной эстетике последующих времен вплоть до XX в.658.
Новое обращение (после трактата «De musica») августиновской мысли к музыке было инспирировано самой практикой церковного пения, которое в IV в. повсеместно внедрялось в христианский культ и с которым Августин впервые познакомился в Медиолане. Инициатором введения нового церковного пения в христианских храмах были в IV в. на Востоке Василий Великий (в Неокесареи) и Иоанн Златоуст (в Константинополе), а на Западе папа Дамас I (в Риме) и Амвросий Медиоланский659. Как пишет Августин, Амвросий ввел пение в трудное для медиоланских христиан время, когда сам пастырь их подвергался преследованиям со стороны арианствующей Юстины, матери малолетнего императора Валентиниана. Верующие вместе с епископом день и ночь молились в храме, ожидая гонений. «Тогда и постановлено было петь гимны и псалмы по обычаю Восточной Церкви, чтобы народ совсем не извелся в тоске и печали; с тех пор и поныне обычай этот соблюдается, и его усвоили многие, да почти все стада Твои и в остальном мире» (Conf. IX, 7, 15).
Церковная музыка оказывала сильное эмоциональное воздействие на верующих, что и явилось главной причиной введения ее в состав культа. Она способствовала усвоению словесного содержания гимнов и псалмов. Сам Августин был очень восприимчив к этой музыке. Он неоднократно упоминает о слезах умиления, возбуждаемых пением, и о «дивной сладости», наполнявшей в эти моменты его душу. «Сколько плакал я над Твоими гимнами и песнопениями, горячо взволнованный голосами, сладостно звучавшими в Твоей Церкви. Звуки эти вливались в уши мои, истина отцеживалась в сердце мое, я был охвачен благоговением; слезы бежали, и хорошо мне было с ними» (IX, 6, 14). Августин ясно сознает, что мелодия в гимнах и псалмах не только содействует более глубокому усвоению текста, но и обладает самостоятельным воздействием на душу слушателя. «Иногда мне кажется, я уделяю им (духовным песнопениям. – В. Б.) больше почета, чем следует: я чувствую, что сами святые слова зажигают наши души благочестием более жарким, если они хорошо спеты; плохое пение такого действия не оказывает. Каждому из наших душевных движений присущи и только ему одному свойственны определенные модуляции в голосе говорящего и поющего и они, в силу какого-то тайного сродства, эти чувства вызывают. И плотское мое удовольствие, которому нельзя позволить расслабить душу, меня часто обманывает: чувство, сопровождая разум, не идет смирно сзади, хотя только благодаря разуму заслужило и это место, но пытается забежать вперед и стать руководителем» (X, 33, 49).
Здесь у Августина отчетливо слышны отголоски античной теории музыкального этоса. Он убежден, что музыкальные модуляции соответствуют определенным движениям души и возбуждают у слушателя подобные же чувства. Эстетический эффект музыки настолько силен, что часто заслоняет собой ее рациональные основания, в частности, тот текст, который она должна донести до слушателя. Этот момент иногда сильно беспокоит христианского поборника чистого ratio. Эстетическое и рациональное не только дополняют в его душе друг друга, но часто и конфликтуют. Душа и сердце гиппонского мыслителя с детства были широко открыты навстречу любым эстетическим феноменам, а его разум постоянно стремился найти рациональную сущность эстетического и показать его полную зависимость и подчиненность ratio. Однако он сам не раз с горечью признавал, что это далеко не всегда ему удавалось. Тем не менее, как мы уже не раз убеждались, теоретические изыскания Августина во многом обогатили историю эстетической мысли.
Музыка как временное искусство привлекает особое внимание Августина тем, что ее быстротечность, постоянное перетекание из будущего в прошлое напоминают ему поток земной жизни. Самой формой своего бытия музыка отражает главную закономерность жизни – постоянное движение во времени (XI, 28, 38). Музыка становится в глазах Августина и всего Средневековья символом времени, а время – символом жизни660.
Временной характер музыки вызывает у Августина размышления о соотношении и взаимодействии звуковой материи и музыкальной формы. Звук, как и бесформенная материя, имеет, по его мнению, приоритет только в отношении «происхождения» (в логическом смысле). Во всех остальных отношениях музыкальная форма преобладает над звуком. «Когда поют и мы слышим звук, то он не звучит сначала бесформенно, а затем уже в пении получает форму. И как бы он ни прозвучал, но он исчез, а ты ничего тут не найдешь, что можно было бы вернуть и превратить в стройное пение. Пение все в звуках: звуки – это его материя, которой придают форму, чтобы она стала пением. Поэтому, как я и говорил, звук, т. е. материал, имеет первенство над пением, звуком уже оформленным, но первенство не по способности «делать». Звук не создает пения; издаваемый телесным органом, он подчиняется душе певца, дабы стать песней. Нет у него первенства и во времени: звук и пение одновременны. Нет и по выбору: звук не лучше пения, поскольку пение есть не только звук, но еще и красивый звук. Он первенствующий происхождением: не пение приобретает форму, чтобы стать звуком, но звук приобретает форму, чтобы стать пением» (XII, 29, 40).
Теоретический анализ отдельных проблем музыки, и прежде всего психологии ее восприятия (см. подробнее в гл. X), выявление многих ее рациональных (числовых) закономерностей не заглушают в Августине чувства непосредственного эмоционального восприятия музыки. Правда, иногда под влиянием требований церковного утилитаризма он склоняется к тому, чтобы по примеру Афанасия Александрийского перейти на декламацию псалмов в церкви, но сразу же вспоминает о своем собственном опыте и отказывается от излишнего ригоризма: «...я вспоминаю слезы, которые проливал под звуки церковного пения, когда только что обрел веру мою; и хотя теперь меня трогает не пение, а то, о чем поется, но вот – это поется чистыми голосами, в напевах вполне подходящих, и я вновь признаю великую пользу этого установившегося обычая. Так и колеблюсь я – и наслаждение опасно, и спасительное влияние пения доказано опытом. Склоняясь к тому, чтобы не произносить бесповоротного суждения, я все-таки скорее одобряю обычай петь в церкви: пусть душа слабая, упиваясь звуками, воспрянет, исполняясь благочестия» (X, 33, 50).
Несколько позже, осмысляя содержание Псалтири и соотнося его с опытом церковного пения, Августин делает еще один важный шаг в понимании эстетической сущности музыки. Он приходит к осознанию юбиляции (jubilatio) в качестве важнейшей и наиболее высокой формы музыкального искусства. Под юбиляцией Августин имеет в виду ликующий напев без слов, направленный на восхваление Бога661.
Юбиляция, или, на Востоке, аллилуйя (αλληλούια от древнееврейского халлелуйя – хвалите Бога) – это восторженно-ликующего характера голосовые импровизации, украшенные мелизматическим распеванием гласных, чаще всего на слово «аллилуйя», особенно на его последний слог. В христианство аллилуйя пришла из культовой практики семитских народов и с IV в. получила широкое распространение в церковном культе662. На Западе пение аллилуйи ввел Амвросий Медиоланский, и оно, постепенно развиваясь, процветало в западной музыке вплоть до Генделя, Баха, Моцарта, а в церковном православном пении – до П. И. Чайковского (в его «Всенощной», «Литургии»). Именно аллилуйя произвела сильное впечатление на Августина в амвросианской церкви, и он попытался осмыслить сущность этого чисто музыкального явления и понять его роль и место в порядке человеческого бытия. Августин, как показал еще Г. Аберт, глубже других почувствовал сущность юбиляции, «он дал Церкви научное обоснование так сильно отклоняющегося от ее основных принципов способа пения»663.
Здесь Августину, пожалуй, впервые в его теоретических штудиях об искусствах, приходится признать, что юбиляция – это та музыкальная форма, которая проистекает непосредственно из эмоциональных глубин души. Ratio как некая разумно-рассудочная деятельность не участвует в этом процессе. «Юбиляция ведь, то есть невыразимая [словами] хвала, исходит только от души» (Enar. in Ps. 150, 8); «тот, кто поет в юбиляции (qui jubilat), не произносит слов, но лишь одними звуками без слов выражает ликование; голос же есть ликование всеведущего духа, выражающее, насколько возможно, аффект, не постигаемый чувством» (99, 4). Августин уже и в своей гносеологии, как мы видели (см. гл. III), не раз приходил к выводу об ограниченности словесного выражения даже при передаче мыслей664. Теперь он хорошо сознает, что многие движения души не могут быть выражены словами. Только музыка способна воплотить их в своем звуковом материале. «Что значит воспеть в юбиляции (jubilare)? – начинает Августин комментарий на первые слова 94-го псалма. – Радость нельзя передать словами, и, однако, голосом можно показать то, что содержится у нас внутри, но не может быть выражено словами. Это и значит воспеть [хвалу] в юбиляции (jubilare). Если внимательно наблюдать за теми, кто, как бы соревнуясь в мирской радости, восхваляет в песнях ваших Харит, то можно заметить, как среди пения слова вдруг как бы вытесняются безграничным ликованием, для выражения которого язык слов оказывается недостаточным; тогда воспевают они в юбиляции так. что их голоса выражают их душевное состояние (animi affectus); словами же нельзя передать то, что волнует сердце. Если же так можно ликовать (jubilare) о земных радостях, то не должны ли мы воспевать в юбиляции радости небесные, ибо не можем по достоинству воспеть их словами?» (94, 3).
Юбиляция – новая в целом для греко-римского региона форма музыкального исполнительства, предоставлявшая в рамках культового пения большие возможности музыканту (певцу) для художественного творчества. Часто повторяющийся в псалмах призыв: «Воспойте Господу песнь новую!» (Ps. 32; 95; 97) – Августин относит к юбиляции – хвалебно-ликующей песни души нового человека, заключившего с Богом новый союз (завет) и славящего его новой прекрасной песнью»665. А петь прекрасно у Августина позднего периода и значит «петь в юбиляции». «Каждый пусть спросит себя, как он должен петь Богу. Пусть поет Ему, но остерегается петь плохо. Он не желает, чтобы оскорбляли его слух <...> Петь в юбиляции – это и значит правильно петь Богу, т. е. воспевать Его в юбиляции. Но что означает это «петь в юбиляции»? Это значит сознавать, что слово не может выразить того, о чем поет сердце <...> И кому так подходят звуки юбиляции, как не неизрекаемому Богу? Ибо неизрекаемым является Тот, кого ты не можешь высказать. А если ты не можешь Его высказать и, однако, не можешь и молчать, что остается тебе, как не твоя юбиляция, как не бессловесная радость сердца, когда безмерная полнота радости преодолевает оковы слогов?» (Enar. in Ps. 32, 1, 8). Музыка, и прежде всего юбиляция, становится у Августина фактически единственным непосредственным способом общения души с Богом666. Она одна из всех искусств свободно устремляется от земли к небу и господствует во граде Божием, ибо единственным занятием блаженных будет вечное и немолчное восхваление Бога (ср.: 148).
Выведение музыки уже в новом христианском понимании на космический уровень приводит Августина к широким символическим обобщениям. Музыка, как «песнь новая», связывается им с истиной, красотой и мудростью. Она наделяется демиургическим значением, ибо призвана восстановить разрушенную в результате грехопадения гармонию мира. На руинах разрушенного храма должен быть сооружен храм новый – новый дом Бога, вселенская Церковь, которая с помощью любви восстановит гармонию на земле и во всем универсуме. Констатируя факт столь высокого значения музыки у Августина, К. Перл удивляется его парадоксальности: музыка, как самое преходящее из всех искусств и безвозвратно исчезающее во времени, является единственным видом искусства, которое имеет доступ в потустороннее и остается в вечности667. Для Августина в этом нет ничего удивительного, ибо «новая песнь» выражает глубинные основы новой жизни, которые нельзя передать словами.
В толковании на 95-й псалом он осмысливает пение как процесс созидания нового мира. «Если вся земля, – пишет Августин, – поет новую песню, тогда сооружение (нового храма. – В. Б.) заключается не в чем ином, как в пении: само пение есть сооружение, если только петь не по-старому. Старую песнь поет вожделение плоти, новую – любовь к Богу». Ты можешь петь все что угодно, но если ты будешь петь как чувственный человек, т. е. бездуховно, то это будет старая песнь. Лучше уж молчать по-новому, чем петь по-старому. Люди не смогут слышать тебя в этом случае, но новая песня будет звучать в твоем сердце, и она достигнет слуха Того, кто сделал тебя новым человеком. «Ты можешь [также] любить и молчать; любовь сама есть голос к Богу; сама любовь есть новая песнь. Слушай, что есть новая песнь: Господь говорит: «Новую заповедь даю я вам, чтобы вы любили друг друга» (In. 13,34). Итак, вся земля поет новую песнь, на всей земле строится дом. Вся земля есть дом Бога. Если вся земля – дом Бога, тогда всякий, кто не объединяется со всей землей, не является домом, но грудой развалин, старых руин, прообразом чего был старый храм. Но вот разрушился старый храм, чтобы можно было построить храм новый» (Enar. in Ps. 95, 2). Любовь и песнь объединяют людей для построения нового храма – нового мира.
Новая музыка, новое пение представляются Августину символом новой жизни, а вся жизнь человеческая должна стать песней, музыкой, хвалой Творцу. Важным жанром нового песенно-поэтического искусства становятся в христианстве псалмы Давида668. В первые века нашей эры они были практически единственной формой музыкального славословия; с IV в. появляются и собственно христианские гимны и песнопения669. Исполнение псалмов нередко сопровождалось игрой на псалтериуме. А так как игра на псалтериуме представляет собой определенную деятельность человека, то Августин призывает и любую другую его деятельность соразмерять с этой, т. е. с мелодическим восхвалением Творца. «Не только голосом своим воздавай хвалу Богу, но и дела свои согласуй со своим голосом. Если ты воспеваешь голосом и однажды ты замолчишь, то жизнью [своей] пой так, чтобы ты никогда не молчал». Пусть в сплошное псалмопение превратится жизнь человека, ибо всякое благое дело звучит музыкой в ушах Бога (ср.: De op. monach. 20). Когда ты ешь и пьешь, призывает Августин своих единоверцев, воспевай псалмы не сладкими звуками застольных песен, но скромностью и умеренностью в еде и питье. Также воспевай псалмы и в постели, соблюдая закон и порядок в общении с женой своей и во всех остальных деяниях, т. е. соблюдение моральных норм и законов человеческого общежития представляется Августину высшим песнопением Богу (Enar. in Ps. 146, 2). И даже если голос человека молчит, но сердце и дела его не отклоняются от добродетели, то и тогда Бог услышит его хвалебную песнь (148, 2). Даже мир бессловесных и неразумных вещей воспевает хвалу Творцу своей красотой (148, 15).
Упоминание в псалмах музыкальных инструментов, сопровождающих славословия Богу, побуждает Августина к символическому истолкованию игры на этих инструментах, и прежде всего на псалтире и кифаре670. На слова 90-го псалма, призывающего славить Господа на десятиструнном псалтире и петь ему на кифаре, Августин дает такой комментарий: десятиструнный псалтирь «означает десять заповедей закона. На псалтире нужно петь, а не только носить его с собой. Иудеи ведь тоже имеют закон, но они только носят его и не играют (psallunt). Каковы те, которые играют? Это те, кто делает добро. Но этого еще мало, ибо кто делает добро с печалью [в сердце], тот не играет. Каковы те, которые играют? Это те, которые делают добро с радостью». Если ты делаешь добро с печалью, то не ты делаешь его, а оно само совершается через тебя (91, 5). Августин поднимает здесь важную этико-эстетическую проблему. Истинное свершение добра должно быть глубоко искренним и органичным для человека, должно быть естественной потребностью его души, песнью радости, ликующей музыкой души. Выражение «с песнью на кифаре» Августин предлагает понимать в смысле единства слова и дела в добрых делах. Песнь есть слово, игра на кифаре – дело. «Объедини с добрым словом доброе дело, если ты желаешь сопровождать пение игрой на кифаре» (91, 5).
Псалтирь и кифара отличаются по характеру звучания и строению. Это дает повод Августину по-разному классифицировать и их символическое значение. У псалтиря часть, издающая звуки, находится вверху, а у кифары – внизу. Музыка псалтиря представляется Августину более духовной, бесстрестной, подобной ангельской. Звучание кифары, страстное, чувственное, сладостное, больше соответствует человеческой природе (42, 5). Даже двойную природу Христа Августин усматривает в символике этих инструментов. «Что есть псалтирь, что есть кифара? Через свое тело осуществлял Господь двойное действие: [творил] чудеса и [претерпел] страдания; чудеса происходили сверху, страдания – снизу. Ведь сила, которая творила чудеса, была божественной, а страдания тела происходили от плоти. Божественно действующее тело есть псалтирь; по-человечески страдающее тело есть кифара. Звучит псалтирь – слепые прозревают, глухие обретают слух, расслабленные укрепляются, калеки начинают ходить, больные исцеляются, мертвые воскресают – таково звучание псалтиря. А вот звучит кифара: Он (Иисус. – В. Б.) голодает, томится жаждой, спит, его хватают, бичуют, издеваются над ним, распинают его, погребают. Так видишь ты это, когда звучит: то сверху, то снизу; то – воскресает плоть, то – воскрес Он во плоти; [в обоих случаях] узнаем мы в одном и том же теле как псалтирь, так и кифару» (56, 16).
Подводя итог новому августиновскому отношению к музыке и к искусствам вообще, можно сделать следующие выводы.
В исполняемой музыке Августин увидел высшее из искусств671в современном понимании этого слова, и поэтому музыка выступает у него как бы идеалом всех искусств. Главное ее назначение состоит в выражении глубинных движений души человека, которые не могут быть переданы словами. Прежде всего это касается религиозных переживаний лаудационного характера. Музыка призвана выражать неописуемую радость души. Печальные мотивы, по мнению Августина, не соответствуют чистой духовности, они – следствие порчи и дисгармонии мира, греховности человека.
Далее, музыка, сопровождающая словесный (как правило, поэтический) текст, способствует своим эмоциональным воздействием более глубокому усвоению его духовного содержания.
Наконец, музыка и музыкальные инструменты приобретают у Августина особое знаково-символическое значение, вытекающее из общей духовной проблематики христианства.
Эти главные аспекты августиновского понимания музыки составили не только основу музыкальной эстетики Средневековья и Возрождения, но и во многом – основу понимания сущности искусства как художественного феномена вообще.
В целом у Августина начинает складываться фактически новое, уже характерное для Средних веков понимание места и роли искусств в новой религиозной культуре – как вспомогательного средства для приобщения к высшим истинам духа, к христианской доктрине во всех ее формах и проявлениях.
Глава IX. Знак
Одной из главных проблем, принадлежащих в мировоззренческой системе Августина одновременно и гносеологии и эстетике, связующей их между собой, является проблема знака, имени, слова. Она интересовала африканского мыслителя на протяжении всего творческого пути, и на разных этапах своего духовного развития решал он ее по-разному.
Ранние представления Августина о знаке наиболее полно изложены в трактате «Об учителе» (389 г.). Они были уточнены и развиты в первых книгах сочинения «О христианской науке» (относящихся к 397 г., закончен трактат был в 426 г.), отдельные положения переосмыслены в последних книгах «Исповеди» и в ряде других поздних, особенно экзегетических работ. В своих семантических исследованиях Августин как бы подводил итог исканиям античной и раннехристианской мысли в этой области. В теории знака Августина просматривается знакомство с учениями Платона и Аристотеля об именах, с суждениями Филодема и Секста Эмпирика о знаках, с полемикой стоиков и эпикурейцев на эту тему. Встречаются у него мысли и даже почти дословные формулировки Филона, Плотина и Оригена, наконец, отчетливо слышится эхо борьбы между Евномием и каппадокийцами по поводу сущности имен. Подводя внутренний итог античной знаковой теории и делая выводы, близкие к платоновским или раннехристианским (Ориген, каппадокийцы), Августин, однако, идет своим путем. Он не ищет в знаке сущности предмета (традиция, идущая с Ближнего Востока), а стремится выяснить возможность передачи знания с его помощью.
К исследованию проблемы знака Августин пришел от двух гносеологических вопросов: возможно ли и как возможно знание и возможна ли и как возможна передача знания (т. е. проблема обучения). Оба вопроса упираются в теорию знака, и Августин стремится подробно разработать ее.
Знаком (signum), по его мнению, может быть названа, очевидно, «такая вещь (res), которая употребляется для обозначения другого» (De doctr. chr. I, 2; De mag. 2, 2), т. е. такая вещь, которая интересна не сама по себе, но указывает на что-то другое. Это определение традиционно. Из латинских авторов у Цицерона, авторитет которого в вопросах философии и риторики непререкаем для Августина, можно найти такое высказывание: «Знаком является то, что кем-то непосредственно ощущается, и означает нечто, что из [него] самого, конечно, видится» (De inv. I, 30). Из христианских писателей Ориген, чье влияние сильно ощутимо в семантических исследованиях Августина, писал: «Знаком же считается, когда посредством того, что мы видим, выражается нечто другое» (Сот. in ер. ad Rom. IV, 2)672 . Августин в своем определении настаивает на предметной стороне знака. Знак – это прежде всего некая вещь (res)673, имеющая самостоятельное бытие независимо от того, включена она или не включена в знаковую ситуацию. Им может быть камень, ягненок, конкретный человек, т. е. любое существо, предмет или слово. Всякий знак обязательно является вещью, но далеко не всякая вещь есть знак. Знак, воздействуя своей формой на психику человека, возбуждает в ней мысль о чем-то ином, чем сама эта форма: «Знаком же является вещь, которая, помимо того, что дает чувствам [свою] форму, привносит в мышление, производя из себя, нечто иное» (De doctr. chr. II, 1, 1). Этой формулировке суждено было стать классической для всего Средневековья. Позже, уточняя смысловое значение словесного знака – имени (nomen), Августин писал, что оно служит для отграничения одного предмета от другого: «Действительно, всякое слово служит для различения [предметов]. Оттого оно и называется именем (nomen), что обозначает (noto) предмет, именует [его], является как бы значком (notamen). Обозначает же – то же, что различает и, говоря по-ученому, способствует разграничению» (De Gen. ad lit. imp. 6, 26).
Все знаки Августин делит на два вида – естественные (signa naturalia) и «данные» (signa data) (De doctr. chr. Π, 2), или условные, «условленные» (placita. – De mus. VI, 13, 41). Естественными знаками являются такие, «которые без чьего бы то ни было желания и побуждения что-либо обозначить дают нам возможность познать из них, помимо их самих, нечто другое». Примерами таких знаков являются дым – знак огня; следы животных; непроизвольные жесты и выражения лица человека, указывающие на состояние его духа и т. п. (De doctr. chr. II, 2, 2). Последняя группа знаков – жесты, выражения лица, глаз, интонация голоса, отражающие душевное состояние человека, желание-нежелание и т. п., составляют «естественный, общий всем народам язык», который усваивается детьми еще до того, как они научатся говорить (Conf. I, 8, 13).
Ко второму виду относятся знаки, с помощью которых живые существа сообщают друг другу свои мысли и чувства (De doctr. chr. II, 3). Они делятся на предметные и вербальные. Наиболее выразительные из них связаны со сферами зрительного и слухового восприятия. Главный и самый обширный класс этих знаков составляют лингвистические знаки – слова, «то есть обозначающие нечто звуки». Слова были изобретены разумом для передачи мыслей и чувств от человека к человеку (De ord. II, 12, 35). Слова могут заменять все другие знаки, обратное – невозможно; они – знаки в наиболее точном смысле, так как изобретены и используются исключительно для «обозначения» чего-то; значение их вне знаковой ситуации невелико (De doctr. chr. I, 2, 2). Слово своей формой практически не отвлекает внимание реципиента (употребим здесь современный термин, как поступил бы и сам Августин, придававший больше значения сущности дела, чем словам) от своего значения674. Знаковое отношение в случае со словами необратимо, в отличие от ситуации с предметными знаками: и знак и обозначаемое не находятся здесь в причинно-следственных отношениях, как это наблюдается в случае с «естественными» знаками. Значение такому знаку дает знакопроизводитель, т. е. разум675.
Вербальным знакам посвящен ранний трактат Августина «Об учителе»676. Знаки, пишет здесь автор, имеют различную природу, и одно и то же может быть обозначено знаками разного рода. К примеру, то, что означает слово «из» (ех), можно, видимо, передать и каким-либо жестом (De mag. 3, 6). Знаки указывают или на другие знаки, или на что-либо не являющееся знаком, например, на камень. Предметы, «которые могут обозначаться знаками, но сами знаками не являются», Августин предлагает называть «обозначаемыми» (significabilia) (4, 8). «Знаками вообще (signa universaliter), – формулирует он, – мы называем все, что означает что-либо, среди них могут быть и слова. <...> Итак, всякое слово есть знак, но не всякий знак – слово» (4, 9). Как правило, знаки означают нечто иное, чем они сами, но есть знаки, означающие и самих себя. К ним относятся, например, слова «знак», «слово» (4, 10). Различные знаки могут иметь различные по характеру значения – более общие и частные («слово» и «имя», «животное» и «лошадь»). Бывают знаки «взаимообозначающие» (signa mutua), т.е. обозначающие друг друга, как «слово» и «имя» (в грамматическом смысле). Имя является словом и слово – именем (существительным). Более того, именем могут называться все части речи, ибо они все что-либо обозначают (significari), а если обозначают, то и называют (appellari), а если называют, то и именуют (nominari), а если именуют, то обязательно «именем». Следовательно, все слова могут быть названы именами (5, 15).
Среди взаимообозначающих знаков не все обладают «равносильным» (tantumdem) значением. «Знак», например, охватывает больший диапазон значений, чем «слово». «Имя» же и «слово» – взаимообозначающие знаки, равносильные, но не тождественные по значению. Они отличаются друг от друга лишь звучанием. К ним Августин относит слова nomen и όνομα (7, 20), означающие «имя», соответственно по-латыни и по-гречески.
Переходя далее к тому главному случаю, когда знаки относятся не к знакам же, но к «обозначаемому», Августин показывает, что словесный знак (а его интересует прежде всего именно этот знак)677 может быть воспринят двояко: и как знак (слово), и одновременно – как предмет, им обозначаемый. По естественному закону, подчеркивает он, внимание наше тотчас переносится со слова на обозначаемое. Когда мы слышим слово «человек», мы сразу же представляем себе человека, а не думаем о том, что было произнесено слово, имя существительное, означающее «животное разумное и смертное», т. е. человека. С точки зрения теории познания, по мнению Августина, в знаковой ситуации больший вес имеют обозначаемые предметы, чем их знаки (9, 25)678. Ибо слова, как неоднократно подчеркивал он в трактате «О музыке», условны и относительны, так как они продукт того или иного времени и определенного народа, а обозначаемая ими сущность или явление практически неизменны. Не случайно для некоторых явлений в латинском языке нет соответствующих слов и их приходится заимствовать из греческого (типа analogia, phantasia, phantasma и др.).
Употребляя какой-либо термин, не совсем точный или не очень ясный, Августин не рекомендует особо заботиться о словах, ибо только вещь стоит твердо, а слова достаточно условны. Происхождением конкретных слов не следует слишком увлекаться. «Если сам предмет, который данным именем обозначен, достаточно ясен, то не стоит трудиться над изысканием происхождения слова» (De mus. V, 3, 4). Часто бывает легче дать представление о самой вещи, чем об имени, ее обозначающем, ибо знания о вещах заложены в нас от природы, а имена даны случайно и основаны на вкусах людей, традициях, привычках (III, 2, 3). Это скептическое отношение к словам, знакам, традиции (auctoritas) – позиция раннего Августина, основанная еще на сильном влиянии платонизма и скептицизма. Позже, полностью осознав себя христианином, Августин существенно изменит ее, хотя основной тезис, что обозначаемое важнее знака, останется неколебимым.
Однако, пытается «поймать» себя на противоречии Августин, как быть тогда с негативными явлениями и предметами типа грязи, порока и т. п.? Неужели и они предпочтительнее слов, их означающих? И здесь, как и всегда в затруднительной теоретической ситуации, он обращается к сфере эстетического. Развивая традиционную для античной эстетики аристотелевскую мысль о том, что изображение в искусстве неприятного и отвратительного может доставить удовольствие (Poet. 4, 1448b), Августин стремится показать, что знак отрицательного явления в поэзии может служить созданию особой красоты. Так, слово «порок» в стихе Персея «но он изумился пороку» не только не вносит в стихотворение ничего порочного, но, напротив, придает ему особое украшение. Сам же предмет, обозначенный этим словом, делает порочным того, в ком находится. Этот эстетический пример позволяет Августину сделать дополнительный вывод о том, что в случае с отрицательным объектом обозначения знак имеет преимущество над обозначаемым (De mag. 9, 28). Августин, таким образом, вплотную подходит к мысли о том, что в искусстве знак, слово могут иметь некое особое значение, но эта проблема со всей остротой встанет перед ним позже.
Слова, по мнению Августина, могут употребляться в строгом и нестрогом смыслах. Так, в трактате «О музыке» он, опираясь на античную традицию, дает определения ритма, метра, стиха, но замечает, что в соответствующей ситуации вполне допустимо метр называть стихом, ритм – метром, ибо эти слова при их внешнем различии близки по смыслу. Здесь Августин усматривает два разных способа употребления слов: одно дело – использовать слово в нестрогом, свободном смысле для обозначения одного из родственных предметов и совсем иное – назвать вещь своим собственным именем. При всем своем скептическом отношении к словам Августин выступает сторонником второго, более точного способа, ибо древние писатели, давшие обозначения вещам, по его мнению, обладали достаточно тонким чувством их природы (De mus. V, 1, 1). В этом двойственность позиции раннего Августина, которая выявится рельефнее при рассмотрении его понимания гносеологической функции знака, слова.
Однако вернемся к августиновской классификации знаков. Условные, или «данные», знаки, в свою очередь, делятся на две группы: знаки в собственном смысле, буквальные (signa propria) и «знаки переносные» (signa translata) (De doctr. chr. II, 15)679. Буквальные знаки служат для обозначения тех предметов и явлений, для которых они и были изобретены. Например, слово «теленок» означает определенное животное. Знаки переносные – когда само обозначаемое является знаком. Так, сам теленок (телец) в христианской культуре служит знаком евангелиста. Переносные знаки практически относятся уже не к просто вербальным знакам, но скорее – к художественным, ибо представляют собой фактически тропы, определенные фигуры речи. Если «собственные» знаки познаются изучением языка, то «переносные» – изучением наук и искусств680. Эти знаки будут особенно интересовать Августина в более поздний период его экзегетической деятельности.
Уже в трактате «Об учителе», подробно рассуждая о вербальных знаках, Августин стремится осмыслить их функцию в человеческой жизни. Конечно, она связана с познанием. Однако где же познается истина – в знаках или в самих предметах? – задается традиционным для античности, но так и не решенным к его времени, вопросом Августин. «Познание предметов, обозначаемых знаками, – отвечает он себе, – если и не лучше познания знаков, то лучше, по крайней мере, самих знаков» (De mag. 9, 28). Знаки необходимы лишь для познания предметов, ибо ничему нельзя научиться без знаков, в данном случае без слов (10, 30).
Обозначив этот тезис, Августин приступает к его проверке. На примерах таких «родов искусств», как птицеловство, театр, зрелища, он показывает, что есть вещи, которым можно научиться «без [словесных] знаков – самим делом». Явления природы также познаются непосредственным созерцанием, без знаков. Да и вообще, заключает Августин в лучших традициях античного скептицизма, с помощью знаков нельзя ничего узнать, ибо прежде необходимо знать, что тот или иной знак означает. «Итак, скорее узнается знак по познанному предмету, чем сам предмет, данный в знаке» (10, 33). Ранний Августин полностью солидарен со скептиками, которые считали, что если слово «обозначает что-нибудь по установлению (т. е. является условным знаком. – В. Б.), то ясно, что люди, заранее знающие вещи, с которыми соотнесены слова, воспримут эти вещи, не научаясь из них тому, чего они не знают, но лишь вспоминая то, что уже они знали раньше, причем те, кто еще нуждается в изучении неизвестного, не достигнут и этого» (Sext. Emp. Adv. math. I, 38)681. Развивая эту скептическую традицию, Августин также полагает, что с помощью слов ничему нельзя научиться682, ибо знание заключено не в словах, а в душе человека от природы, а точнее, от Бога. Знание «вещей вообще присуще [от природы] всем духовным [существам]; имена же установлены так, как кому нравилось, их сила ( значение) основывается большей частью на традиции и на привычке; поэтому в языках могут быть различия, в вещах же, основывающихся на самой истине, конечно, не могут» (De mus. III, 2, 3). Критерием истинности любой речи, любого трактата и даже понимания Моисеевых Книг Бытия служит эта живущая внутри каждого человека истина: «Как бы то ни было, но живущая внутри меня, в центре мышления истина, не еврейская, не греческая, не латинская и не варварская, [но абсолютная], сказала бы мне без уст и органа речи, без звучания слогов, что он (Моисей. – В. Б.) говорит истину» (Conf. XI, 3, 5).
Слова лишь побуждают душу к внутреннему обучению, к всматриванию в эти от природы заложенные в ней, но далеко не всегда осознаваемые знания вещей. «О всем, постижимом для нас, – писал Августин уже в раннем трактате, – мы спрашиваем не у того говорящего, который внешним образом произносит звуки, а у самой внутренне присущей нашему уму истины, словами, пожалуй, побуждаемые к тому, чтобы спросить. Тот, у кого мы спрашиваем и кто нас учит, есть обитающий во внутреннем человеке Христос, т. е. неизменная сила Божия и вечная Премудрость» (De mag. 11, 36).
Упоминаемые здесь «внутреннее знание», «внутренний человек» подводят Августина к развернутой в более поздних трактатах теории о «слове внешнем» и «слове внутреннем». В свое время этот вопрос активно обсуждали стоики. Августин, видимо, слышал об их суждениях, хотя прямого заимствования у него нет, да и идет он в своих выводах дальше стоиков. Внешнее слово – это произнесенное слово, звук голоса. Оно является знаком «внутреннего слова» (verbum quod intus lucet – «слова, которое внутри светит»). Внешнее слово различно у разных народов, то же, что им обозначается, часто бывает одним и тем же. Внешнее слово условно и произвольно. Предмет, и это нередко подчеркивает Августин, может быть назван каким угодно словом (De Gen. ad lit. imp. 6, 26). Поэтому внутреннее слово является в большей мере словом, чем произнесенное, однако особым словом – Августин не говорит о нем как о знаке. Звук же называется словом только потому, что является знаком внутреннего слова. Точнее было бы его назвать «голосом слова» (vox verbi) (De Trin. XV, 19). От самого реально звучавшего слова Августин отличает образ этого звука, сохраненный памятью и воспроизводимый воображением, когда мы можем петь или произносить слова про себя. Образ звука, хотя и находится в душе, относится не к внутреннему, а к внешнему слову683.
Внутреннее слово – это «слово ума» (verbum mentis), в отличие от произносимого – verbum vocis, т. е. некая особая «мысль», существующая еще до оформления в словах. Не всякое внутреннее представление является внутренним словом, «но только то, – разъясняет И. В. Попов мысль Августина в De Trin. XV, 19, – которое находится в центре сознания и, в данный момент занимая мышление, может быть высказано в произносимом слове. Память содержит много знаний, но не все они предмет мышления. Мышление, получившее определенную форму от того, что мы знаем, но не всегда мыслим, и есть внутреннее слово. <...> Внутренним словом называется мысль в ее актуальном состоянии потому, что только такую мысль мы можем выразить во внешнем слове»684.
Процесс словесной коммуникации у Августина выглядит следующим образом: от внутреннего слова говорящего к его внешнему слову, от него – к ушам слушающего, от них – к его душе, где возбуждается его внутреннее слово. При этом передачи мысли не происходит. Души собеседников замкнуты в себе, хотя в душе слушателя под действием слов и возбуждаются мысли, близкие к мыслям говорящего: «Когда же мы говорим с кем-либо, мы призываем на службу внутреннему слову голос или какой-нибудь иной телесный знак, чтобы посредством его и в душе слушающего возникло бы до некоторой степени такое чувственное воспоминание, которое не уклоняется от мысли, заключенной в душе говорящего» (IX, 12). Таким образом, собственно семантическая сторона знака отступает у Августина на второй план, а на первый выходит особая психологически-гносеологическая функция – коммеморативно-побудительная685 . Парадокс знаковой теории будущего гиппонского епископа заключается в том, что последовательно, на основе античных учений, построив развернутую теорию знака, он, в отличие от александрийцев и каппадокийцев, практически не нашел ей места в своей теории познания. Вернее, роль лингвистико-семиотической теории оказалась у него очень ограниченной, что вполне объясняется общим кризисом формально-логических теорий в период поздней античности. Однако, сосредоточивая особое внимание на побудительной функции знака, Августин тем самым невольно сблизил свою знаковую теорию с эстетикой. Его знак, по сути дела, является не лингвистическим знаком (хотя и описан как таковой), по своей функции он – скорее знак художественный, близкий к тому, что позже на Востоке автор «Ареопагитик» назовет символом и образом, подчеркивая их возбудительно-психологическую функцию686.
Таким образом, мы видим, что обсуждавшиеся еще у Секста Эмпирика два типа знаков: «индикативные» и «напоминательные» (Adv. math. VIII, 151 и др.) нашли свое отражение в индикативной и напоминательной (точнее, коммеморативно-побудительной) функциях языка у Августина687. Первая заключается в том, что знак указывает реципиенту на обозначаемое. Это собственно знаковая функция языка, которую так подробно разработал Августин в «De magistro» и в «De doctrina christiana». При этом он, как отмечает Р. Маркус, пожалуй, первым пришел к пониманию триадической природы знакового отношения: обозначаемый предмет – знак – реципиент688. Этот фактически системный подход вообще присущ мышлению Августина. В трактате «О музыке» он с тех же позиций подходит к искусству, рассматривая систему: художник – произведение искусства – реципиент. Интересно, что обозначаемый предмет там у него фактически отсутствует, хотя он и декларирует постоянно миметический характер искусства.
Гносеологическое значение индикативной функции языка у раннего Августина, как мы видим, очень ограничено. Только на более позднем этапе своей деятельности он глубже свяжет эту функцию с гносеологией, выделяя три способа, какими знак может указывать на объект обозначения. Первый – непосредственное указание, когда знак прямо указывает на объект, второй – указание на неизвестный нам предмет путем сравнения его с известным и третий – «по контрасту» (ех contrariis) с тем, что мы уже знаем, если это – понятия отрицательные» (De Gen. ad lit. VIII, 16, 35). С помощью последнего способа мы познаем, что такое зло, ничто, безобразное и т. п. Разъясняя этот последний способ указания, Августин пишет, что «по большей части неизвестное понимается из противоположного ему известного; даже названия вещей, которые не существуют, раз они включаются в речь, не остаются темными для слушателя. Ибо то, чего совсем нет (non est), никак не называется; а между тем эти два слога понимает всякий, кто знает латынь. Откуда же, как не из вглядывания в то, что есть, и из его отрицания наши чувства узнают то. чего нет?.. И каким бы другим именем и на каком бы языке мы это самое ни называли, уму нашему в голосе говорящего дается знак, в звучании которого он познает то, что мыслит помимо знака» (VIII, 16, 34).
Коммеморативно-побудительная функция языка связана с возбуждением глубин памяти, где хранится «истинное знание вещей, которым мы обладаем, так сказать, в форме слова, задуманного внутренним произнесением» (De Trin. IX, 7, 12). Объективно, как мы уже сказали, эта функция стоит ближе к эстетической, чем к строго гносеологической. Косвенным, но достаточно веским подтверждением этого являются и мысли Августина о процессе знаковой (вербальной) коммуникации, высказанные им в «De musica». Там Августин показал, что процесс воздействия одной души на другую осуществляется с помощью слов так же, как происходит и художественная коммуникация. Душа производит внешнее слово с помощью тех же творческих чисел (progressores), которые управляют и деятельностью художника. Восприятие слов осуществляется также по аналогии с восприятием произведения искусства. Здесь участвуют «воспринимающие числа» (occursores), числа памяти (recordabiles) и числа чувственной способности суждения (sensuales), которые одновременно «являются и чувственно воспринимаемыми знаками (sensibilia signa), показывающими, как одни души воздействуют на другие» (De mus. VI, 13, 42)689.
Здесь следует особо подчеркнуть, что восприятие «условных знаков» Августин ограничивает именно эстетической ступенью, ибо числа sensuales судят только на основе чувства удовольствия или неудовольствия. Следующая же, и высшая, ступень его системы восприятия – судящие числа разума (judiciales) – в процессе восприятия в данном случае не участвуют. Конечно, это не парадокс и не результат гениальной рассеянности одного из виднейших Отцов Церкви. Ревностный поклонник разума, Августин никогда не забывал, что слова созданы разумом и значение их понятно прежде всего разуму. Однако именно в трактате, практически целиком посвященном эстетической проблематике, он стремится показать, с одной стороны, ограниченность и условность вербальных знаков (на что мы уже указывали), а с другой – подчеркнуть, что механизм вербальной коммуникации в принципе идентичен механизму художественной коммуникации. При этом акцент сделан Августином на том, что именно знаковая коммуникация подобна художественной и воздействие знака оценивается прежде всего на уровне чувственного суждения, а не в сфере разума.
Это важный и значимый для истории эстетической мысли факт. Применительно к самому Августину он дает возможность рассматривать его семантическую теорию в эстетическом ключе. Тогда становятся отчасти понятными и пристальное внимание Августина к напоминательно-побудительной функции языка, и его скепсис относительно формально-логического познания, и, наконец, его подход к толкованию текста Библии часто с сугубо эстетических позиций. Не следует также забывать, что Августин по образованию был ритором и до принятия христианства обучал красноречию, т. е. дисциплине, которая на первое место ставила эстетическую, а не смысловую сторону речи. Правда, ко времени написания своих первых трактатов он уже, как мы помним, скептически относился к этой «пустой» науке именно за то, что в ней эстетическое преобладало над рациональным, и тем не менее именно красноречие помогло ему глубоко почувствовать многогранность, многозначность и чувственную красоту слова, что так рельефно выделяет его произведения в безбрежном море патристики, а его «Исповедь» ставит в ряд выдающихся памятников мировой литературы.
Полное осознание себя христианином, внутреннее приятие христианского учения во всей его полноте, как единственно истинного, заставляло Августина в новом свете посмотреть и на проблему знака, слова. Христианская идеология все больше и больше переключает его внимание в гносеологии от «дел человеческих» к «делам божественным». И процесс этот, как мы знаем из «Исповеди», проходил в душе Августина очень болезненно и растянулся на долгие годы. Что должно стать главным инструментом богопознания? Неужели условные, произвольно данные и во всех языках различные слова? Но ведь они не несут даже знаний о «делах человеческих», как показал Августин еще в «De magistro». А что уж говорить о «делах божественных».
Три главных постулата христианства оказывают теперь влияние на направление его семантически-лингвистических исследований. Первый, поддерживающий его гносеологический скептицизм, гласит, что Бог, первопричина и создатель мира, – невыразим в слове (De doctr. chr. I, 6; Enar. in Ps. 35, 4; 99, 6). При его описании «и красноречие немотствует» (Conf. I, 4, 4), т. е. риторика, которой он обучался с детства и которую сам преподавал, оказывается здесь бессильной. Однако два других постулата позволяют противопоставить этому тезису антитезис и этим вселяют оптимизм в душу стремящегося к высшему познанию христианина. Первый заключен в начальных словах Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин 1, 1–3). Своим творящим Словом Бог создал и мир, и человека, и в нем – тварное слово нашего языка. Но в чем состояло это Слово? Оно явно не было похоже на слово нашей речи. Это было «вечное в безмолвии Слово» Божие, в котором обитал сам Бог. «И потому посредством Слова твоего, которое тебе совечно, что ты ни изрекаешь в один и вечный момент, все приемлет бытие, что вызываешь ты этим Словом из небытия в бытие» (Conf. XI, 7, 9).
Слово стоит в начале всего, и, значит, не так уж бесполезны и человеческие слова. Еще больше укрепляет Августина в этой мысли другой постулат христианства – о вочеловечивании, воплощении Слова. Догмат о воплощении, во-первых, позволял описывать обретшее плоть Слово – богочеловека Иисуса, прожившего среди людей 33 года. «Все другие вещи, – писал Августин, – можно выразить каким-либо образом; Он единственный является невыразимым, кто сказал – и были сотворены все предметы. Он сказал – и мы были сотворены; но мы не можем говорить о Нем. Его Словом, которым мы были высказаны, является Его Сын. Он был сделан слабым, так что Он может быть выражен нами, несмотря на нашу слабость» (Enar. in Ps. 99, 6). Это-то Слово «и благовествует нам в Евангелиях» и стало доступно внешним чувствам человека (Conf. XI, 8. 10).
Во-вторых, воплощение Логоса в «Исповеди» настойчиво сопоставляется Августином с выражением мысли в слове690. Как божественное Слово получило тело в Христе, так и мысль обретает плоть в звучащем или написанном слове. Столь высокая для христианского мира аналогия, конечно, необходима была Августину, чтобы реабилитировать, прежде всего в его собственных глазах, написанное слово. Слово опять наполняется для него смыслом, притом смыслом новым, высвеченным новым мировоззрением и часто далеким от своего буквального значения. Относится все это, конечно, прежде всего к библейскому слову, т. е. к текстам, восходящим, по Преданию, в той или иной мере к самому Богу и повествующим о его деяниях.
Как божественный Логос стал в Христе посредником между Богом и людьми, так и человеческое слово воспринимается теперь Августином в качестве посредника истины. Ибо сам Бог, оказывается, придает слову как средству коммуникации большое значение. «Закон» Моисею был дан Богом в форме написанного слова «скрижалей завета», поэтому «телесные знаки Писания» выступают одним из главных способов (наряду со звуками и эстетическими образами) общения Бога с людьми (De Gen. ad lit. VIII, 25, 47). Само воплощение явилось результатом стремления Бога к установлению контактов с людьми, в том числе и в словесной форме – в Христе Бог говорил с людьми на их языке (ср.: Conf. IV, 12, 19). Отсюда происходит и надежда христиан на возможность словесной коммуникации с Богом, которая доступна всем людям в формах молитвы и славословия. «До того, как ты постиг Бога, – пишет Августин, – ты полагал, что мысль может выразить Бога. Теперь ты начинаешь постигать Его и видишь, что ты не можешь выразить [словами] то, что ты постигаешь. Но, обнаружив, что ты не можешь выразить то, что ты постигаешь, будешь ли ты молчать, не будешь ли ты восхвалять Бога?» (Enar. in Ps. 99, 6).
Таким образом, речь у Августина идет о словесной, но не формально-логической, а скорее об эстетической коммуникации, ибо славословие, восхваление Бога еще по ветхозаветной традиции осуществлялось в гимнах, псалмах и других специальных поэтических или музыкально-поэтических формах. Именно их и противопоставляет теперь Августин античной поэзии, как «суете, недостойной внимания» (Conf. I, 13, 22 – 17, 27). Молитвы, с которыми христианин обращается к Богу и которые мы встречаем и в «Исповеди» Августина, так же организовывались с первых веков христианства и на протяжении всего Средневековья по особым ритмическим законам и составляли особый жанр средневековой поэзии.
Бог сотворил мир своим Словом, поэтому и человеческое слово, полагает Августин, может привести человека к Богу; христианское красноречие, как мы видели в гл. VIII, становится носителем божественного Слова, зеркалом, отражающим Его, посредником между Богом и человеком691. Слово человеческое может и должно служить познанию высшей истины, Первопричины всего, непостигаемого Бога. Интересна парадоксальная закономерность позднеантичного мышления. Культ разума и философии на раннем этапе привел Августина к агностицизму в области вербального познания, что отражало реальную кризисную ситуацию позднеантичной философии, пришедшей на главных своих направлениях к скепсису в области рационального мышления. Переход же юного африканца на религиозный путь укрепил его в уверенности познания с помощью слова. Однако речь уже идет не о буквальном значении слов и словесных конструкций, а о переносном. Signum translatum выходит теперь в гносеологии Августина на первое место. К этому пониманию, как писал сам Августин, он пришел под влиянием Амвросия Медиоланского: «Я с удовольствием слушал, как Амвросий часто повторял в своих проповедях к народу, усердно рекомендуя, в качестве правила: «буква убивает, а дух животворит» (2Кор. 3, 6). Когда, снимая таинственный покров, он объяснял в духовном смысле те места, которые, будучи поняты буквально, казались мне проповедью извращенности, то в его словах ничто не оскорбляло меня, хотя мне еще было неизвестно, справедливы ли эти слова» (Conf. VI, 4, 6).
Особую авторитетность Писания Августин видел теперь в том, что оно «всем было открыто и в то же время хранило достоинство своей тайны для ума более глубокого; по своему общедоступному словарю и совсем простому языку оно было книгой для всех и заставляло напряженно думать тех, кто не легкомыслен сердцем; оно раскрывало объятия всем и через узкие ходы препровождало к Тебе немногих» (VI, 5, 8). Теперь Августин твердо знает, что Бог и его деяния постигаются не из буквального значения библейских текстов, а в особых словесных образах – «через отражение в загадке» (рег speculum in aenigmate) (X, 5, 7; Enar. in Ps. 99, 6; Enchirid. 63). Здесь он опирается на известную мысль ап. Павла, во многом определившую направление эстетической и художественной мысли Средневековья, которая дословно звучит так: «Теперь видим мы через отражение (зеркало) в загадке (иносказании), потом же – лицом к лицу» (1 Сог. 19, 12)692. Средневековая экзегетика, эстетика и культовое искусство положили эту мысль в основу своих методологий. Зеркало, загадки, иносказание заняли теперь важное место в культуре.
В западную эстетику эти понятия, пожалуй, впервые и наиболее полно, ввел именно Августин. Однако думал он, конечно, не об эстетике. В «энигме» апостола Павла (лучше оставить этот греческий термин без перевода, как это сделал и сам Августин, ибо и «загадка» и «иносказание» не покрывают в отдельности поле его значений) он нашел выход из тупиков дискурсивной гносеологии. Только в многозначных неясных энигмах может быть «выражено невыразимое»693. Вслед за Цицероном, определявшим энигму как особую фигуру речи694, Августин также полагал, что она является тропом, входящим в класс аллегорий (De Trin. XV, 9, 15 – 16). Он описывает ее как особый род неясного и трудного для понимания сравнения. Но именно с помощью таких «загадок» только и могут быть выражены труднопонимаемые реальности, особенно бесконечная невыразимость Бога. Неясность и многозначность энигмы лишь усиливают ее выразительность и, соответственно, воздействие на человеческий дух. В Библии энигма – специальный прием передачи особого знания. Как видим, по способу своей организации (сравнение, метафора, аллегория) и по механизму воздействия на психику человека она оказывается близкой к носителю художественного значения. Выявляя некоторые ее особенности в русле своей экзегетической теории Августин, по сути дела, вскрывал ряд закономерностей организации художественного текста, хотя (подчеркнем еще раз) сам он, естественно, не считал Библию ни художественным, ни мифологическим памятником, но чтил «богооткровенным Священным Писанием».
Писание, однако, полагал он, хотя и является результатом откровения, записано людьми, большим числом «писателей», среди которых первым и ближе всех стоящим к Богу почитается Моисей. Августин искренне верит каждому библейскому слову, не уставая восхищаться глубиной Писания. «Дивная глубина словес Твоих! – восклицает он. – Мы останавливаемся на поверхности их, как младенцы; но глубина их, Боже мой, глубина дивная!» (Conf. XII, 14, 17). Много таинственного (arcana valde) в словах Писания, и Августин сомневается, правильно ли он понимает их. С другой стороны, он не лишен и уверенности в том, что при восприятии текстов Книги Бытия сама истина могущественным словом своим внушает знания его внутреннему слуху (XII, 15, 18), и это приводит его к выводу о возможности различного понимания слов Моисея.
Все читатели Книги Бытия, пишет Августин, стремятся постигнуть тот смысл, какой имел в виду их писатель, т. е. Моисей. А так как все считают его любящим истину человеком, то никто не допускает мысли, что он имел намерение ввести в заблуждение читателя. Однако «понимают» (важно, что Августин везде использует здесь глагол sentire – чувствовать, ощущать, т. е. скорее не интеллектуальное, но эстетическое восприятие) все текст Книги Бытия по-разному. И в этом нет ничего плохого, если такое понимание, хотя оно и отличается от того, что имел в виду писатель, не противоречит истине (XII, 18, 27). Августин хорошо почувствовал полисемию сакрального текста и считал вполне закономерным многозначное понимание его.
Критерий истинности восприятия текстов Писания он усматривал во внутреннем знании, заложенном в каждом человеке «самим источником света истины», которое, как полагал Августин, у всех людей различно. Поэтому одна и та же истина и писателями выражается по-разному, и читателями воспринимается по-своему. Многозначность словесного текста определяется, с одной стороны, различиями в духовном мире людей, с другой – сущностью знака и объективными возможностями передачи идей в знаках, о которых так много рассуждал Августин в трактатах «Об учителе» и «О христианской науке».
К знаковому сообщению (Августин имеет здесь в виду словесные тексты) можно подойти с двух разных сторон: «Я полагаю, что два различных стремления (dissensio) могут возникнуть, когда что-нибудь передается в знаках вестниками, несущими истину: одно, когда [стремятся выяснить] истину о предметах, другое, когда [желают знать] мысли самого писателя». Так, одно дело искать истину в рассказе Моисея о самом творении, а другое – выяснять, что он сам думал о нем и что хотел передать в своем рассказе читателям и слушателям. И то и другое, по мнению Августина, заслуживает внимания, но это разные вещи и при анализе текста необходимо ясно сознавать, какую цель, из указанных, ставит перед собой исследователь (XII, 23, 32). Глубокий фидеистический оптимизм убеждает его в том, что в тексте легче постичь саму истину, ибо к пониманию ее «ведет озарение божественным светом», чем то, что думал о ней писатель. Мысли читателя и писателя могут не совпадать и быть тем не менее верными, если и тот и другой правильно понимают предмет, отраженный в словесном тексте (XII, 24, 33). Поэтому Августин порицает толкователей, заявляющих: «Моисей не то разумел, что ты говоришь, а то, что мы говорим». Они, полагает Августин, больше любят себя, чем истину. «Иначе они одинаково уважали бы мнения и других, если эти мнения не противоречат истине, точно так же, как и я уважаю, что они говорят, когда говорят истину, не потому, что это они говорят, а потому, что говорят истину; а раз это истина, то она не составляет уже исключительной их собственности» (XII, 25, 34). Если же мы не хотим выступать против самой истины, «то зачем нам спорить о мыслях ближнего нашего, которые для нас более сокрыты и менее доступны, чем сама неизменная истина?» (XII, 25, 35).
Августин не знает, что имел в виду Моисей, когда писал Книгу Бытия, но он уверен, что «разность мнений не есть еще противоречие истине и разные мнения могут быть истинны, за исключением нелепостей» (XII, 30, 41). Если один читатель настаивает на том, что Моисей имел в виду то, что он имеет в виду, а другой – другое, то им резонно сказать: «А почему же не то и другое вместе, если и то и другое истинно?» Это относится ко всем возможным вариантам понимания текста, ибо текст этот организован таким образом, чтобы единая истина понималась в нем всеми, но по-разному – в соответствии с воспринимающими способностями каждого. Бог, по Августину, наделил своего писателя даром иметь в виду все, что мы вычитываем в его словах, и даже то, что еще не вычитали, но что не противоречит истине (XII, 31, 42).
Человек, находящийся на стадии духовного детства, понимает в словесном тексте все буквально, «пока у птенца не окрепнут крылья» для духовного полета. Ученые же эрудиты под покровом словесных истин (листьев) находят плоды и собирают их (XII, 28, 38). Августин развивает здесь идеи, возникшие еще у Филона Александрийского, неоплатоников, христиан-александрийцев в связи с толкованием и пониманием мифологических и сакральных текстов, вкладывая в них много своего. Главной заслугой его в этом направлении является последовательное и глубоко осмысленное утверждение принципиальной многозначности сакрально-мифологического текста. Причину этой многозначности Августин в духе и традициях мировоззрения поздней античности усматривает в сфере религиозной гносеологии. «Темнота божественной речи, – писал он, – полезна в том отношении, что она приводит к весьма многим истинным суждениям и вводит в свет знания, когда один понимает ее так, другой иначе. (Но нужно, чтобы смысл, заключенный в темном месте, подтверждался или очевидностью вещей, или другими местами, менее сомнительными; или, если речь идет о многом, чтобы приходили к тому, что имел в виду (quod sensit) сам писатель; а если это сокрыто, то чтобы в процессе глубинного толкования темного места были бы выяснены некоторые другие истины.)» (De civ. Dei XI, 19).
В соответствии с предметом богословской теории знания Августин стремится выработать принципы подхода к анализу библейских текстов. Еще в 389 г. он наметил четыре способа их понимания: буквальный, исторический, профетический (толкования о будущем) и иносказательный – «образный и энигматический» (De Gen. contr. Man. II, 2, 3). Несколько позже, около 393 г., он указывал со ссылкой на других толкователей еще четыре способа, отчасти перекрывающие предыдущие, «названия которых могут быть даны по-гречески, а определены и разъяснены они на латыни: исторический, аллегорический, аналогический и этиологический695 . Исторический – когда припоминают какое-либо божественное или человеческое деяние; аллегорический – когда высказывания понимаются образно (figurate); аналогический – когда указывается согласие Ветхого и Нового Заветов; этиологический – когда излагаются причины высказываний и действий» (De Gen. ad lit. imp. 2, 5). Историческое содержание Писания, как правило, тесно связано с другими смыслами, и прежде всего с аллегорическим. Нередко оно выступает носителем иносказательного значения, но часто имеет только буквальный смысл (De civ. Dei XVI, 2; XX, 21).
В трактате «О христианской науке» Августин, как подчеркивает А. Шёпф, развивает историко-филологический подход к библейским текстам696 . Августин уверен, что для глубокого и правильного понимания неясных мест Писания важно, во-первых, знать его первоначальные языки – еврейский и греческий, так как латинский перевод может отличаться по смыслу от оригинала (De doctr. chr. II, 11, 16). Во-вторых, исследователю необходимо знание исторической ситуации, в которой тот или иной текст возник, даже если эта история выходит за рамки церковных дисциплин: «В понимании священных книг нам больше всего помогает наука, которая изучает порядок прошедших времен и называется историей, даже если она изучается вне церкви в рамках школьного обучения детей» (II, 28, 42). Наконец, в-третьих, для уяснения смысла темных мест необходимо привлекать примеры из ясных мест (II, 9, 14), т. е. Августин выступает поборником сравнительного и всестороннего анализа литературного текста.
Много внимания, например, он уделяет проблеме перевода, особенно актуальной для латинского христианства того времени, пользовавшегося, как правило, латинскими переводами не еврейского Ветхого Завета, но греческой Септуагинты. Особую сложность для перевода представляют двусмысленные слова, различные устаревшие выражения, идиомы и т. п. «Из-за двусмысленности слов языка оригинала переводчик часто заблуждается; не поняв точно смысл, он придает [слову] в переводе такое значение, которое было чуждо истинному намерению писателя» (II, 12, 18). Для точного понимания таких мест необходимо хорошее знание языка оригинала, а также очень полезно сличение разных переводов. Особенно ценны в этом плане переводы буквальные, а не художественные. Они, правда, часто оскорбляют слух своими корявыми оборотами, но зато точно передают мысль оригинала (II, 12, 21). Кроме того, отмечает Августин, предвосхищая современных кодикологов, необходимо иметь в виду, что в отдельных кодексах могут встречаться ошибки переписчиков или переводчиков, поэтому необходимо тщательное сличение их друг с другом (II, 12. 21). Из латинских переводов Библии Августин отдает предпочтение «италийскому», т. е. переводу Иеронима Стридонского, а из греческих – Септуагинте, ставшей на Востоке каноническим текстом (II, 12, 22). Кроме языка для правильного понимания текста необходимо знать и многие конкретные вещи типа животных, птиц, насекомых, трав и т. п.. о которых идет речь в том или ином повествовании (II, 12, 23–26).
Большое значение для понимания смысла текста имеет правильная пунктуация, ибо в древних текстах ее не было и слова в строках писались слитно. Поэтому различное разделение текста на слова и фразы приводит к разным смыслам (III, 2, 2–5). Это же касается ударения, произношения, правильного толкования падежей, различие в которых также может породить двусмысленности или неясности в понимании текста (III, 3, 6–4, 8). Все это относится к тексту в его буквальном значении, или, если можно так выразиться, к его материальному уровню. Только после полного уяснения и правильного прочтения буквального смысла текста можно говорить о переносном значении тех или иных мест в нем.
Иносказательное значение Августин ценит, естественно, выше буквального и порицает буквалистов, считая их. как и Григорий Нисский, «рабами знака». Неумение видеть под знаком обозначаемой вещи Августин называет «рабством души». В «плотском рабстве» пребывает тот, кто принимает знак за обозначаемую им вещь. Не сам знак достоин почитания, но то, что им обозначается: «ибо раболепствует перед знаком тот, кто чтит некую выступающую знаком вещь или служит ей, не понимая ее значения; но кто служит действительно полезному, установленному Богом знаку, или чтит его, понимая его значение и силу, тот чтит не внешнее и преходящее, но то, что передается им» (III, 9, 13).
Одним из главных критериев оценки текстов Писания, с точки зрения их знаковости, для Августина выступает нравственность. Все. что в Писании может показаться безнравственным, следует воспринимать в переносном смысле (III, 10, 14 – 15). Августин, как и ранние Отцы Церкви, выступает поборником строгой нравственности, а так как Ветхий Завет содержит описание многих безнравственных, с точки зрения христианства, поступков уважаемых религиозной традицией лиц, то он вынужден прилагать много усилий для оправдания «неблаговидных» деяний почтенных праотцов. Семиотика активно помогает здесь христианским идеологам поддерживать «высоконравственный» авторитет Писания и тем самым укреплять свою теорию нравственности.
Обращаясь к конкретным случаям полисемии отдельных слов и фраз в тексте, Августин показывает, что одно и то же слово (например, закваска, лев, змей, хлеб и др.) может иметь или различные (diversa), или противоположные (contraria) значения в зависимости от контекста (III, 25, 36; ср. также: De civ. Deí XIV, 7–8). В целом тексте слова подчинены его общим законам не только в грамматическом, но и в семантическом плане. Значение каждого слова определяется его связью с другими словами. «Так, – пишет Августин, – и другие предметы, не отдельно, но в связи с другими, могут иметь не только два, но иногда и много различных значений в зависимости от их положения в тексте» (III, 25, 37). Если значение отдельного слова или места остается неясным, то для его понимания необходимо привлечь другие, более понятные места текста и имеющие общий контекст с данным отрывком (III, 26, 37–27, 38).
Анализируя псалмы, Августин приходит к выводу, что каждый из них представляет собой нечто целостное в смысловом плане. Поэтому нельзя для понимания их смысла вырывать из них отдельные строки и толковать их вне общего контекста, в отрыве от всего псалма. Так поступают составители центонов, которые вырывают для своей цели отдельные стихи из большого произведения и используют их в совсем иных целях, чем те, для которых они были написаны изначально (De civ. Dei XVII, 15). Подобный произвол не одобряется теоретиком «христианской науки», хотя на практике и он нередко впадает в этот грех «свободной герменевтики».
Многозначность текста определяется, по мнению Августина, наличием в нем тропов, т. е. специальных художественных приемов небуквального использования слов. Эти приемы подробно изучаются грамматикой и риторикой, поэтому Августин отсылает своих читателей к этим наукам и лишь указывает на некоторые тропы. В библейских текстах, по его наблюдениям, регулярно встречаются такие виды тропов, как аллегория, загадка, притча, метаформа, катахреза, ирония, антифразис и т. п. (III, 29, 40–41). Августин приводит примеры и показывает, что «значение тропов необходимо для разрешения двусмысленностей, встречающихся в Писании» (III, 29, 41). В тех случаях, когда буквальный смысл текста кажется непонятным, следует поискать здесь тот или иной троп.
Обилие типов образного выражения смысла почти безгранично – в этом сложность анализа словесного текста. Тропы бывают ясные и привычные, но встречаются и сложные и труднопостигаемые. К простым Августин относит, например, случаи, когда «через содержание обозначается содержимое». Когда мы говорим: «театры рукоплещут» или «луга ревут», то имеем в виду, что в театрах рукоплещут зрители, а в лугах ревут коровы. Также часто бывает, что «через производящего действие обозначается само действие»; так, к примеру, письмо называют «радостным», когда хотят показать, что оно возбуждает радость у читающих его (XI, 8). Более сложным, хотя и достаточно ясным, является такой троп, как гипербола – особый прием речи, когда то, о чем говорится, представляется в нарочито преувеличенном или преуменьшенном виде. Гиперболы нередко встречаются в псалмах и других библейских текстах (см.: In Ioan. ev. 124, 8; De civ. Dei XVI, 21).
Реальные тексты, однако, не ограничиваются тропами, изложенными в грамматике и риторике, но используют много образов, вообще не имеющих названий и не попавших в научные классификации. Наша речь, пишет Августин, значительно шире и разнообразнее любых правил науки. «Ведь повсюду, где говорится одно, а подразумевается другое, имеет место язык тропов, хотя в науке говорить, может быть, нет даже и названия того или иного тропа. Если они (тропы. – В. Б.) употребляются так, как их обычно принято употреблять, то ум наш без труда следует за ними; но если они отступают от обычного употребления, то мы затрудняемся их понимать – одни более, другие – менее» (De doctr. chr. III, 37, 56). Все это необходимо иметь в виду при анализе библейских текстов. Экзегетическая задача заставила Августина, усмотревшего множество художественных элементов в этих текстах, поднять и целый ряд вопросов художественной критики. В латинской литературе Августин бесспорно является наиболее последовательным зачинателем литературной критики, точно подметившим многие ее фундаментальные проблемы.
В трактате «Об истинной религии», отмечая аллегорически-иносказательный характер библейских текстов, Августин поднимает в связи с этим столько вопросов, что уже одно их перечисление показывает, насколько глубоко он чувствовал проблему литературной критики. «Каким способом нужно интерпретировать аллегорию?» Достаточно ли от видимого древнего явления переносить ее смысл на видимое же явление более близкого времени, или же ее следует относить к природе и движению души или – к вечной истине? А может быть, есть такие аллегории, которые означают все это сразу? «Какое различие между аллегорией исторической (historiae), аллегорией фактической (facti), аллегорией речи (sermonis) и аллегорией таинства (sacramenti)?» Как следует понимать текст в связи с особенностями и идиомами каждого конкретного языка? Что означают столь «недостойные» суждения о Боге, как о гневающемся, печалящемся, помнящем, забывающем, раскаивающемся, ревнующем и т. п.? Как следует понимать руки, ноги и другие органы, о которых говорится в Писании применительно к Богу, и т. д. и т. п. (De vera relig. 50, 99).
Интересно отметить эволюцию августиновского подхода к библейским текстам. В свой дохристианский период он понимал их буквально и не принимал из-за их наивности, сказочности и грубости. Амвросий открыл ему аллегорический подход к этим текстам, и Августин увлекся им и стал рассматривать Библию в качестве авторитетного религиозного текста. Тогда, по его собственным словам, он «еще не понимал его в буквальном смысле и считал, что оно все иносказательно. Потом и сам начал постигать буквальный смысл Писания» (De Gen. ad lit. VIII, 2, 5). На позднем этапе он считал, что почти все библейские тексты имеют и буквальный и аллегорический смыслы, и лишь некоторые только буквальный или только иносказательный.
Стремясь разработать принципы толкования библейского текста, Августин поднимает важную проблему внутренней смысловой соединенности текста – контекста (contextio), близкого к нашему пониманию этого термина, помогающего ему на основе смысла всего сочинения или отдельных законченных частей понять значение неясной мысли.
Любое мнение относительно той или иной мысли текста подвергается прежде всего проверке на «истинность». Эта проверка проводится с помощью того внутреннего знания, которое присуще душе человека. Если же разум покажет, что мнение это истинно, то еще неизвестно, хотел ли писатель (scriptor) в данных словах высказать именно это мнение, а не какое-либо иное, не менее верное. Для дальнейшего выявления мысли писателя надо обратиться к контексту, в котором эта мысль употреблена. «Если остальной контекст (caetera contextio) речи не подтвердит, что он хотел [сказать] именно это, от того еще не будет ложным другое, что он сам хотел осмыслить, но будет истинным и полезным для познания. Если же контекст Писания не отвергнет того, что писатель имел в виду именно это, то остается еще спросить, не мог ли он иметь в виду что-либо другое? И если мы найдем, что он мог иметь в виду и другое, то будет неизвестно, какое именно из них он хотел [высказать]; можно, [далее], предположить, что он имел в виду оба эти мнения, если только известные обстоятельства благоприятствуют им обоим» (De Gen. ad lit. I, 19, 38; ср.: De doctr. chr. III, 27, 38). Ясно сознавая, таким образом, всю сложность и многозначность сакрального текста, Августин тем не менее стремится показать, какими путями можно попытаться выявить мысль автора или круг его возможных мыслей. Большую роль в этом играет контекст, т. е. значение того или иного отрезка текста определяется не только из него самого, но и на основе той целостной смысловой структуры, в которую он включен. Это важный и значимый в историко-эстетическом плане вывод, постоянно следовать которому не удавалось ни средневековым последователям Августина, ни ему самому.
Окончательный вывод его относительно критериев понимания библейских текстов, «заключающих в себе такое множество истинных значений», сводится к следующим трем положениям. Прежде всего, желательно выявить то, что представляется несомненной мыслью самого писателя. Если она остается неизвестной, то выбирают то, что не противоречит контексту (circumstantia) Писания, если же и в этом трудно разобраться, то необходимо принять то суждение, которое находится в согласии с правой верой (De Gen. ad lit. I, 21, 41). Таким образом, Августин предоставляет толкователю и исследователю словесного текста очень широкий диапазон возможностей, и прежде всего в плане аллегорического или иносказательного понимания текста.
Интересно отметить определенные изменения во взглядах позднего Августина на происхождение и сущность знака. Если в молодости он считал, что знаки изобретены для коммуникации между людьми, то теперь эта их функция отходит на второй план. Главное же назначение слов, голоса и других «телесных знаков» Августин усматривает в представлении мира духовного под покровом чувственных форм, в «облечении невидимого в видимое», т. е. в передаче высших, идущих от Бога знаний людям. И знания эти могут быть восприняты людьми только в форме материальных знаков, так как дух человека скован покровом его тела (Conf. XIII, 23, 34). Под знаками Августин имеет здесь в виду уже не просто слова, но словесные образы, которые могут быть поняты как в буквальном, так и в иносказательном смысле. При этом Августин отмечает интересную особенность передачи информации в таких знаках-образах. «Я знаю, – пишет он, – [ситуации], когда многоразлично обозначается в телесных образах то, что понимается умом [просто], в одном смысле; и наоборот, – когда многоразлично понимается умом то, что обозначается одним способом в телесных образах» (XIII, 24, 36), т. е. одна и та же мысль может быть передана различными знаковыми образами, и обратно, одна и та же словесная фигура может возбуждать различные мысли у читателя697. И то и другое непосредственно относится к функциям художественного образа.
Что может быть проще, поясняет он свою мысль примером, библейской заповеди о любви к Богу и ближнему своему (Мф 22, 37–39; Втор 6, 5; Лев 19, 18), но как многообразно выражается она на различных словесных, иносказательных, символических и аллегорических образах. И напротив, как многообразно различными людьми понимается простая фраза: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт 1, 1)698. Чтобы придать максимальную весомость своим идеям о многозначности словесных образов и многообразии форм выражения одной и той же мысли, Августин прибегает к божественному авторитету. Слова Бога, обращенные в Книге Бытия к первым людям (Августин полагал, что они обращены к человеку, рыбам и птицам – Conf. XIII, 24, 35 и др.): «плодитесь и размножайтесь» (Быт 1, 28), – автор «Исповеди» считает возможным понимать не только буквально, но и иносказательно, именно относящимися к множественности смыслов и образов в сфере обозначения: «Но как плодиться и размножаться, чтобы одна и та же вещь могла быть выражена многообразно (multis modis) и одно выражение могло быть понимаемо многоразлично, – этого мы [нигде] не находим, кроме как в знаках, чувственно выражаемых, и в предметах, умственно постигаемых... На это благословение я смотрю как на дарованную нам Тобою возможность и способность и многообразно выражать то, что мы понимаем разумом в одном смысле, и многоразлично понимать то, что мы неясно вычитываем в одном выражении. Так наполняются воды моря [наших мыслей], которые приходят в движение не иначе как от различных значений; и также наполняется плодами человеческими земля, чья суша погружена в желания, а господствует над ней разум» (XIII, 24, 37). Этот отрывок интересен также и как образец весьма свободного, философско-поэтического, сказали бы мы, понимания библейского текста, что лишний раз подчеркивает неосознанно эстетическую устремленность всего творчества Августина.
Еще одна важная знаковая проблема поднимается Августином в XII кн. «De Genesi ad litteram». Она связана с механизмом зрительно-слухового восприятия мира и ставится им при обсуждении вопроса о пророчествах, видениях, знамениях, которые он относит к особой группе знаков. В своих рассуждениях Августин стремится истолковать и развить одно интересное апостольское высказывание (1Кор 14), где Павел призывает коринфян особенно ратовать о даре пророчества, который он отличает от не менее высокого дара глоссолалии – «говорить языком» (λαλών γλώσση, loquitur lingua). Под глоссолалией он имеет в виду особый сакральный язык, который доступен пониманию лишь избранных людей. Он должен быть еще истолкован и выражен обычными словами – это и будет пророчество. «Говорить языком» – польза только для того, кто обладает этим даром, а пророчествовать – для всей церковной общины. Первое существует только в духе человека, второе – в его уме.
Опираясь на это различие духа и ума в человеческой психике, Августин выделяет три рода зрения. Первый – физическое зрение (corporalis) – когда мы непосредственно смотрим на предмет. Ко второму роду относится зрение духовное (spiritualis) – когда созерцаются образы того, что известно по опыту или по представлению. Третий вид – усмотрение с помощью ума (mens), который, полагает Августин, надо было бы назвать «умственным» (mentalis), но в связи с «новизной» этого термина он отклоняет его и останавливается на привычном intellectualis (De Gen. ad lit. XII, 6, 15–7, 16). В 14-й гл. Послания к Коринфянам апостол Павел, по мнению Августина, имеет в виду такой «язык, которым обозначаются образы и подобия вещей, постигаемые только зрением ума». До того, как они будут поняты, они находятся в духе. Когда же соединится с ними «разумение, составляющее уже принадлежность ума, тогда и является откровение, или познание, или пророчество, или поучение» (XII, 8, 19).
Итак, знаки-образы сначала постигаются в сфере духа, а затем понимаются умом и выражаются в форме словесных конструкций. «Духом, – определяет Августин, – является низшая по сравнению с умом сила души, в которой воспроизводятся подобия телесных предметов» (XII, 9, 20). Пророком поэтому в большей мере является тот, кто может понять и истолковать образы чужого духа, чем тот, кто их только видит, но не понимает. Но большим пророком является тот, кто «и видит в духе значимые подобия телесных предметов, и живо понимает их умом», как это мог делать пророк Даниил, узнавший, какой сон видел царь Навуходоносор, и сумевший его понять и объяснить царю (Дан 2, 27 – 45). Для полного понимания знакового образа необходимо, «чтобы и знаки предметов отображались в духе, и понимание их сияло (refulgeo) в уме» (De Gen. ad lit. XII, 9, 20). Сам процесс восприятия знака-образа (на примере визуальных знаков) представляется Августину в следующем виде: «Когда мы видим что-нибудь глазами, то образ его тотчас же отпечатывается в духе, но не распознается [нами] до тех пор, пока мы, оторвав взгляд от того, что видим глазами, не найдем образ его в духе. И если это – дух неразумный, как у скота, то образ видимого так и останется в нем; если же – разумная душа, то он передается разуму, который управляет и духом; так что то, что видели глаза и передали духу, чтобы в нем составился образ виденного, представляет собой знак какой-либо вещи, тотчас ли его значение понимается или же только отыскивается, ибо оно может быть понято и найдено только при помощи деятельности ума» (XII, 11, 22).
Отрывок этот интересен в нескольких аспектах. Во-первых, тем, что сложные визуальные образы, типа знамений, видений, сновидений, – обозначаются Августином как знаки (signa), и, следовательно, он распространяет на них все положения своей знаковой теории. Во-вторых, эти «знаки» близки по своему характеру к иносказательным «энигмам» словесного текста, речь о которых шла выше. Наконец, в-третьих, описанный процесс восприятия знако-образов имеет много общего с эстетическим восприятием, когда объект сначала переживается непосредственно в своей конкретно-чувственной данности и лишь затем может быть понят разумом.
В этот поздний период своего творчества Августин снова обращается к разуму, который помогает ему оптимистически, уже на христианском материале, осмыслить функции знаков – сложных, неясных, но все-таки в принципе постигаемых разумом. Именно разум (intellectus) в конечном счете приходит на помощь физическому и духовному зрению, чтобы понять, что же «означают эти знаки или чему полезному они учат» (quid illa significent vel utile doceant) (De Gen. ad lit. XII, 14, 29). Таков диалектический вывод, к которому пришел Августин в своей знаковой теории. Поставив, как мы помним, еще в «De magistro» «в качестве тезиса мысль классической античности о том, что все познается только с помощью знаков, он, опираясь на скептицизм и свое раннее понимание христианства, там же противопоставил ему антитезис: ничто не познается с помощью знаков и они ничему не учат. Углубленное осмысление христианства и постоянный, вольный или невольный, интерес к эстетической сфере, энигматической и полисемантичной, в отличие от одномерной причинно-следственной, привели его в зрелый период к принятию поставленных ранее тезиса и антитезиса в качестве гносеологической антиномии, частичное снятие которой он нашел в тезисе, наполненном новым содержанием, усиливающим, с точки зрения новоевропейского человека, парадоксальность вывода. Речь теперь идет о познании не «вещей человеческих», но «предметов божественных», и не с помощью знаков-слов, но в знаках-образах. Выход из противоречий формально-логического мышления Августин усматривает в эстетике, поднимая при этом важные проблемы как в области семантики, так и в эстетической сфере, что и определяет объективную значимость для истории эстетики его теория знака, которая более десяти веков была актуальной в западноевропейской культуре699.
Кратко классификация знаков у Августина может быть представлена в следующем виде (см. рис. на стр. 506).
Знаки делятся на естественные и условные. Условные, в свою очередь, подразделяются на знаки предметные, визуальные и вербальные. Последние две группы имеют в своем составе каждая знаки буквальные и переносные. К буквальным визуальным знакам можно отнести все миметические изображения, а к переносным – аллегорические изображения, различные мистические видения, визуально воспринимаемые чудеса и знамения. К буквальным вербальным знакам принадлежит язык, а переносные вербальные знаки могут быть подразделены на религиозные (пророчества, знамения) и на художественные (загадки, притчи, аллегории, разнообразные тропы).
Знак у позднего Августина становится важной всеобъемлющей категорией, позволяющей понять и осмыслить весь мир материальных и преходящих духовных предметов и явлений в качестве пути к предметам вечным, доставляющим истинное непреходящее наслаждение. Современный исследователь выразил эту августиновскую идею в наглядной пропорции: res frui res aeternae ------- -------- -------------------- 700 signum uti res temporales
Все искусства, как мы уже видели в предыдущей главе, и свободные и механические, оказываются вписанными в нижний ряд этой пропорции, как «предметы временные» и «полезные» для достижения «вещей вечных». На первое место выступает их знаковая функция в двух своих аспектах. Во-первых, искусства ведут человека от внешних форм вещей и слов к содержащимся в их глубинах духовным истинам701, и, во-вторых, они создают произведения – знаки этих истин. Даже удовольствие, доставляемое произведениями искусства, понимается теперь Августином и последующей средневековой традицией как знак высшего духовного наслаждения (блаженства), достижение которого ставило своей конечной целью христианство. Знаково-символический характер искусства станет отныне главной доминантой художественного мышления Средних веков.
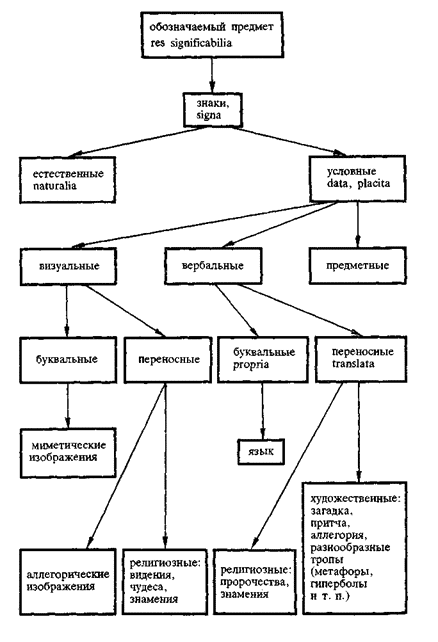
Глава X. Восприятие эстетического
Любая эстетическая проблема так или иначе связана с проблемой восприятия, и Августин был одним из первых мыслителей, глубоко осознавших эту связь. Наиболее интересные и оригинальные страницы августиновской эстетики посвящены именно осмыслению психологии эстетического восприятия. Специально эта проблема была освещена Августином в VI кн. «De musica», однако вопросы чувственного восприятия, лежащего в основе эстетического, интересовали Августина на протяжении всего его творчества, составляя важную часть его гносеологии. Поэтому, прежде чем перейти к собственно эстетической теории, остановимся кратко на августиновском понимании чувственного восприятия.
Если теория эстетического восприятия является оригинальной находкой самого Августина, то в вопросе чувственного восприятия он в основном зависит от Плотина703. Проблему восприятия Августин, как правило, рассматривает на примере зрительного восприятия, как наиболее совершенного и наиболее духовного в человеке (De Trin. XI, 1, 1), хотя нередко обращается и к слуховому восприятию.
Вслед за Плотином704 Августин различает три рода зрения, или видения: зрение телесное, когда мы глазами видим обычные предметы (visio corporalis), зрение духовное (visio spiritualis), когда мы внутри себя видим образы того, что знаем или по опыту, или по представлению, и зрение умственное, или интеллектуальное (visio intellectualis), когда мы в своем уме созерцаем абстрактные, не имеющие зрительного образа представления (De Gen. ad lit. XII, 6, 15–9, 16)705. Высшим является, естественно, умственное зрение, низшим – телесное. Телесного зрения не может быть без духовного, а духовного – без умственного (XII, 24, 51), т. е. эти три рода зрения служат одновременно и тремя ступенями восприятия материального мира. Предмет воспринимается телесным зрением, в результате чего в духе запечатлевается его образ. Если перед нами дух неразумный, как у животных, то этот образ так и остается в нем; если же речь идет о разумном существе, то образ духа в нем осмысляется разумом и происходит познание предмета – или «интеллектуальное видение» его (XII, 11, 22). Первые две ступени чреваты различными ошибками, и только разумное зрение избегает их.
Для нас особый интерес представляют как раз первые две ступени восприятия, ибо здесь, при переходе от первой ко второй, возникают духовные образы видимых предметов, а также – образы воображения, когда не действует первая ступень восприятия. В раннем трактате «О свободном выборе» (391) Августин называет вторую ступень восприятия «внутренним чувством» (interior sensus), находящимся в душе человека (De lib. arb. II, 3, 8 – 9). Никакой акт чувственного восприятия невозможен без участия «внутреннего чувства», но и над ним господствует разум.
Рассматривая процесс восприятия, Августин различает три состояния: бытие объекта (цвета), видение его и ощущение, или восприятие, его, когда его даже нет перед глазами. Только сам объект мы видим глазами, два остальных состояния могут быть усмотрены лишь разумом (II, 3, 9).
Человек обладает своими собственными телесными чувствами, внутренним чувством и разумом, и тем не менее, несмотря на различие этих чувств у каждого, одни и те же объекты мы видим одинаково. Августин считает чувственное восприятие объективным, мало зависящим от субъекта восприятия: «Как бы ни отличалось мое чувство от твоего, но то, на что мы оба смотрим, не может представляться мне одним, а тебе иным; но оно является нам обоим одним и тем же и мы видим его одновременно» (II, 7, 16).
В трактате «О Троице» Августин останавливается на трех моментах зрительного восприятия: 1) объект зрения (ipsa res quam videmus), 2) процесс зрения (visio) и 3) внимание души (animi intentio), которое удерживает чувство зрения на рассматриваемом предмете, т. е. определенный акт воли (De Trin. XI, 2, 2).
Введение волевого момента в процесс чувственного познания является оригинальной находкой Августина; его нет в плотиновской теории восприятия706.
Внимание, или направленность, души, «интенция души» (intentio animi) организует процесс зрительного восприятия, объединяя предмет зрения и сам процесс зрения. В момент рассматривания предмета «в чувстве» зрителя возникает образ предмета, настолько подобный формам самого предмета, что зрителю бывает трудно различить их. Этот образ существует только в процессе зрения и исчезает почти сразу же по его прекращении. Он, подобно отпечатку перстня на воде (XI, 2, 3), хотя и исчезает не мгновенно, но достаточно быстро (XI, 2, 4).
Воля играет важную роль на всех этапах чувственного познания. В процессе непосредственного смотрения она сосредоточивает зрение на рассматриваемом предмете. По окончании этого процесса образ предмета из «чувства» передается памяти, где он и хранится долгое время. Память содержит образы всего увиденного, и при желании человек всегда может увидеть их своим «внутренним зрением» (In Ioan. ev. 23, 11). Вызывает образ из памяти в сферу «внутреннего чувства» опять же воля. Происходит процесс, аналогичный внешнему смотрению, только теперь воля направляет душу не на внешний предмет, а внутрь себя, на образы памяти. Августин склонен различать образы, хранящиеся в памяти, и возникшие в представлении, на основе вызванных из памяти, хотя они и подобны друг другу (De Trin. XI, 3, 6). Иногда образы представления бывают настолько яркими, что их принимают за реальные предметы. Обычно яркие образы представления возникают во сне, у сумасшедших, у пророков и предсказателей (XI, 4, 7). Процесс видения зависит не только от того, что находится перед глазами человека, но прежде всего от того, на что направлено внимание его души. Интенция души при этом далеко не всегда подчиняется разуму.
В процессе обычного зрительного восприятия Августин усматривает, по крайней мере, три этапа, на каждом из которых формируется свой зрительный образ: «В том членении, которое мы начинаем образом (формой – species) тела и доходим до образа, возникающего в понимании познающего (in contuitu cogitantis), открываются четыре образа, как бы поступенчато возникающие один из другого: второй от первого, третий от второго, четвертый от третьего. От образа тела, который мы видим, возникает образ в чувстве (in sensu) смотрящего; а от него появляется образ в памяти, и от этого – тот, который получается в уме (in acie) познающего. Таким образом, воля как бы трижды объединяет родителя с порождением: во-первых, образ тела с тем, который возникает в телесном чувстве, во-вторых, этот – с тем, который возникает из него в памяти, и этот последний, в-третьих, – с тем, который рождается от него в созерцании воспринимающего» (in cogitantis intuitu) (XI, 9, 16). Процесс зрительного восприятия представляется Августину (на основе плотиновских изысканий в этом направлении) весьма сложным, включающим в себя как органы чувств, так и все основные компоненты психики. Теория Августина предвосхищает некоторые современные научные открытия в области психологии зрительного восприятия707.
Изложенная здесь кратко августиновская теория зрительного восприятия во многом была перенесена ее автором и на восприятие произведений искусства, в частности поэзии и музыки. Но специфика объекта и результата восприятия заставила Августина обратить внимание и на особенности самого эстетического восприятия, чему он в целом и посвятил VI кн. трактата «О музыке'708. В тесной связи с проблемой восприятия и эстетического суждения Августин поднимает в этой книге и некоторые другие эстетические вопросы. В частности, это касается проблемы числа и ритма (см. гл. V), которая в этой книге находит свое окончательное завершение. Здесь она теснейшим образом переплетается с вопросами восприятия, психическими закономерностями (числами психики) внутреннего мира человека. Само восприятие здесь как бы математизируется. Августин стремится выявить объективные законы (числа) восприятия и увязать их с общими космическими закономерностями. Он пытается не только понять механизм воздействия эстетического объекта на человека и механизм создания этого объекта, но и определить место эстетических закономерностей в порядке всего универсума, понятого в качестве всеобъемлющей числовой системы. Практически все эстетические явления, о которых шла речь в этой работе, находят здесь свое место в глобальной иерархии чисел.
В начале VI кн. Августин вводит классификацию из пяти разрядов чисел (или ритмов), которую затем дополняет и корректирует. К первому разряду относятся числа, находящиеся в самих звуках даже тогда, когда их никто не слышит, т. е. речь идет об объективно существующих закономерностях произведения искусства. Они-то и дают практически начало всем числам сферы восприятия. Второй вид – числа, существующие в чувстве или в ощущении субъекта восприятия. Августина в данном трактате интересует в основном слуховое восприятие, но он неоднократно показывает, что его выводы правомерны и для любого другого восприятия, ибо, по его мнению, любые ощущения связаны с числом. Даже при прикосновении пальцем к чувствительному месту тела «будет ощущаться число» (VI, 2, 3). Числа (ритмы) в ощущающей способности возникают только в том случае, когда на соответствующий орган чувств воздействуют числа объекта, и они исчезают, как только прекращается процесс восприятия объекта. Они подобны «следу, запечатлеваемому на воде». Как поясняет Августин в IV гл., речь здесь идет о физических процессах, происходящих в ухе под воздействием звука. «Отсюда вывод, что числа, находящиеся в самом звуке, могут существовать без тех, которые находятся в слышащей способности, тогда как эти последние существовать без первых не могут» * (VI, 2, 3). Числа ощущения необходимо отличать от чисел (ритмов) способности суждения, которые существуют и тогда, когда нет звука, и о которых речь впереди.
Числа третьего вида находятся в душе того, кто производит звук (в музыканте, к примеру). Этот вид не зависит от других видов и может проявляться в биении пульса, вздохах и т. п. Четвертый вид чисел находится в памяти; это способность запоминать. Он может существовать без первых трех видов, но только благодаря тому, что те ему предшествовали (VI, 3, 4). Наконец, существует еще и «пятый вид чисел, заключающийся в естественном суждении ощущающей способности, – когда нас радует равенство чисел и оскорбляет его нарушение»* (VI, 4, 5).
Таким образом, Августин различал пять элементов (или, как сказали бы мы теперь, – этапов), в коммуникативной цепи «художник – воспринимающий субъект» (несколько позже он дополнит ее еще одним элементом). При этом каждый элемент обладает, по мнению Августина, своими закономерностями (является особым видом чисел). Первый этап. – создание произведения («порождение чисел (ритмов) – более протяженное или краткое»), далее само произведение («звучание, которое приписывается телу») и процесс восприятия, состоящий из трех этапов: 1) непосредственное восприятие произведения (слушание), 2) работа памяти и 3) суждение о произведении на основе чувства удовольствия или неудовольствия. Последний этап, или пятый вид чисел, Августин считает высшим с точки зрения большей стабильности и вечности. Другим важным достоинством этих чисел является их полная принадлежность душе.
Как представитель христианско-неоплатонической мысли Августин, естественно, ценит душу значительно выше тела, но и телу он отдает должное с точки зрения гносеологии и эстетики. Душу он понимает еще в широком античном смысле, как средоточие всего духовного мира человека. А так как процесс восприятия осуществляется совместными усилиями души и тела, то он уделяет особое внимание соотношению и взаимодействию этих важных составляющих человека. Как неоплатоник и христианин, Августин предпочитает душу, но, как человек, еще принадлежащий античности с ее стихийным материализмом и пластическим мышлением и верующий, одновременно, в сотворение мира из ничего, воплощение Христа и грядущее воскресение всех во плоти, он, продолжая традиции своих предшественников – апологетов, стремится оправдать и телесную природу. Для этого ему приходится прибегать к достаточно примитивным суждениям. Истина, находящаяся в теле, полагает Августин, лучше лжи, заключенной в душе. Под истиной он имеет в виду реально существующий предмет (дерево), под ложью – его психический образ (дерево, увиденное во сне). Но не из-за тела – лучше, а ради самой истины, тут же добавляет он, ибо под действием греха тело изменилось к худшему. Однако, не унимается античный христианин в Августине, и тело «имеет красоту своего рода и тем самым значительно возвышает достоинство души, где и скорбь и болезнь заслуживают части какой-то красы». Поэтому не следует думать, что если душа «лучше тела, то все, что в ней происходит, лучше, чем то, что происходит в теле» * (VI, 4, 7). Здесь у Августина отчетливо просматривается та диалектика души и тела, которая была присуща всему христианскому неоплатонизму.
Что же роднит душу и тело, создает возможность их общения, с одной стороны, и дает общий критерий для их сравнения – с другой? Конечно же числа, хотя и различные. Чем больше тело пронизано присущими ему числами, тем оно лучше. Душу же эти числа ухудшают. Она, напротив, «будучи лишена тех чисел, которые она получает от тела, становится лучше, так как отвращается от телесных ощущений и преобразуется божественными числами мудрости» * (VI, 4, 7). Числа божественной мудрости далеки от тех, что находятся в произведениях искусства. Приведя цитату из Екклесиаста: «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и число'709 (Eccl. 7, 25) – Августин добавляет: «Эти слова отнюдь нельзя относить к тем числам, которыми оглашаются позорища театров, их, как я уверен, нужно относить к тем числам, которые душа получает не от тела, но скорее сама запечатлевает в теле, получив от всевышнего Бога» * (VI. 4, 7).
Далее, полемизируя с манихеями, Августин стремится показать, что тело не воздействует на душу в процессе восприятия; вернее, тело не формирует душу, как художник, придающий форму материалу. Душа не является материалом, так как она лучше тела, а всякий материал – хуже мастера, его обрабатывающего. Процесс творения заключается в придании материалу числа, но тело не создает в душе чисел. Когда «мы слушаем, в душе не возникают числа от тех [ритмов], которые мы воспринимаем в звуках» (VI, 5, 8). Но если тело прямо не воздействует на душу и, тем не менее, участвует в процессе восприятия, то как же осуществляется этот процесс? «Мы, вероятно, не сможем, – заявляет Августин, сознавая всю сложность задачи, – ни обосновать, ни объяснить это», – однако предлагает все же читателю свое решение.
Душа под божественным руководством господствует над телом и в теле. В одном случае это осуществляется легко, в другом – с большим трудом, в зависимости от того, как ей повинуется телесная природа. Если на тело извне осуществляется какое-либо воздействие, то «в этом теле, не в душе, возникает некое [действие], которое или противодействует действию души, или соответствует». Душа сопротивляется противодействию ниже ее стоящей материи и в результате этой борьбы становится напряженнее. И «эта, [возникшая] в результате трудности борьбы, напряженность (attentio), когда она не скрыта, называется восприятием (чувствованием – sentire)», которое в данном случае именуется болью и страданием. Когда же внешнее действие соответствует душе, «то она легко переносит все это в процессе своей деятельности. И эта акция, в результате которой она соединяет свое тело с внешней телесностью, осуществляется напряженно, вследствие участия внешнего члена, и она не скрывает [это]; но вследствие наличия соответствия (convenientia) восприятие происходит с удовольствием (cum voluptate sentitur). Когда же отсутствует соответствие, душа стремится его восполнить с помощью своего тела; и эта работа из-за своей трудности будет очень напряженной, и она не скрывает такую свою деятельность; называется же это голодом, жаждой или как-либо по-иному. Если же внешнее воздействие преобладает, так что деятельность [души] становится затруднительной и осуществляется не без напряжения и если эта деятельность не скрыта (non latet), то ощущается тошнота. Напряженность также возникает, когда [душа] отталкивает излишек, если спокойно – с удовольствием, если резко – с болью» (VI, 5, 9). «Я не хочу быть утомительным, – резюмирует свою мысль Августин, – мне представляется, что душа, когда она чувствует в теле, не от чего иного претерпевает, как от напряженного действия в своих страстях, и от нее не скрыто, что эти действия бывают или легкими вследствие соответствия, или тяжелыми из-за несоответствия – и это есть то, что называется чувствовать (sentire). Само же чувство, которое, пока мы ничего не воспринимаем, живет внутри нас, является инструментом тела, и его (чувства. – В. Б.) соразмерность (temporatio) определяется душой таким образом, чтобы оно было посредником телу в ощущениях, чтобы объединяло подобное с подобным и отталкивало вредное» (VI, 5, 10)710.
Таким образом Августин показывает, что чувственное восприятие – это сложный психофизиологический процесс, проходящий не механически, но при активном действии всех духовных сил человека (души, в терминологии Августина)711. Главной характеристикой любого восприятия и ощущения является напряженность, или внимание (attentio), души, которое обязательно возникает в психике как реакция на внешний раздражитель. Последний действует на телесные органы человека, возбуждая соответствующую реакцию души, осуществляемую посредством телесного же инструмента – чувства. Как заключает в конце этой главы Августин, «само восприятие (чувствование – sentire) есть движение тела, направленное против того движения, которое в нем имеется» (VI, 5, 15). Здесь Августин подметил некоторые признаваемые и современной психологией моменты в механизме чувственного восприятия, особо значимые для эстетического восприятия и связанные с возникновением в психике субъекта восприятия противоположно направленных аффектов.
Августин рассматривает пять различных ситуаций восприятия и ощущения. Первая – когда внешний раздражитель оказывает на психику действие, противоположное ее стремлениям. Возникшая при этом слишком сильная напряженность (перенапряженность) ощущается как боль или страдание. Когда раздражитель действует согласованно с душевной ориентацией, возникшее напряжение доставляет удовольствие, т. е. мы имеем дело практически с эстетическим восприятием, критерием которого, по Августину, является традиционная согласованность (convenientia), но не в самом объекте восприятия, а объекта с субъективной направленностью души. Эта интересная мысль, присущая и восточной патристике (Василию Великому, Псевдо-Дионисию и др.), играла важную роль во всей средневековой эстетике.
Третий случай – когда напряжение возникает в связи со стремлением души восполнить отсутствие соответствия с помощью своего тела. Соответствующие ощущения классифицируются Августином как чувство жажды, голода и т. п. Четвертый случай связан с избытком внешнего воздействия. Душа не успевает на него реагировать по существу и подает сигнал к прекращению такого воздействия, и как следствие – ощущение тошноты. Напряженность, возникшая в результате отбрасывания излишка внешнего воздействия, может доставлять удовольствие или причинять боль. Пятый случай имеет место, когда душа встречается с каким-либо расстройством своего тела. Напряжение, возникшее при борьбе с этим расстройством, называется чувством болезни или недомогания (VI, 5, 9). Во всех пяти случаях восприятия (к эстетическому восприятию, как мы видим, относится целиком только второй случай) Августин постоянно подчеркивает, что восприятием соответствующее напряжение называется только тогда, когда оно «не скрыто» (non latet). Вероятнее всего, речь идет о некотором осознаваемом душой напряжения или о сознательном внимании души, ибо еще в трактате «О количестве души» Августин, определяя чувство (или чувственное восприятие), писал: «...чувство есть претерпеваемое телом состояние, само по себе от души не укрывающееся» (De quant. anim. 25, 48)702. Однако неясной остается, к примеру, следующая фраза Августина: «Итак, не является нелепой наша вера в то, что душа не скрывает свои движения ли, деятельность ли, работу ли, – какими бы именами ни называли ее действия, – когда воспринимает [что-либо]» (VI, 5, 11). Не скрывает от себя, от разума? В целом этот рационалистический момент августиновской теории остается не совсем ясным.
Механизм восприятия для всех органов чувств, подчеркивает Августин, одинаков. Те или иные чувства включаются в действие в зависимости от характера внешнего раздражителя. Так, светлое воздействует на глаза, «очень чистый и подвижный воздух» – на уши, «насыщение парами» – на обоняние, влажное – на вкусовое ощущение, «земляное и как бы грязное» – на осязание. При всех этих воздействиях возникают напряженные действия (attentiores actiones) в теле, «соответствующие месту и органу чувства: так говорят о зрении, о слухе, об обонянии, о вкусе или об осязании; этими действиями охотно принимается все согласное и с неудовольствием отклоняется все несоответствующее. Я думаю, что этими действиями руководит душа, побуждаемая воспринимающим телом, когда она ощущает, что чувства (passiones) также не отклоняются» (VI, 5, 10). При восприятии любых внешних раздражителей: света, запаха или звука, – перемещается что-то в самом теле или все оно приходит в движение. Эти действия осуществляются душой на основе предшествующих ощущений (восприятий) (VI, 5, 12), т. е. восприятие зависит от сенсуального опыта субъекта.
Изложение этой теории восприятия, опирающейся во многом на учение Плотина, Августин предпринял, конечно, отнюдь не ради самой теории. Она, в его глазах, служила подтверждением того, что «если душа в результате этих действий что-либо претерпевает, то претерпевает она от себя самой, а не от тела». Вывод этот, однако, вряд ли следует из изложенной теории, но Августину необходимо показать, что в иерархической «лестнице»: Бог – душа – тело, – воздействие возможно только в одном направлении – сверху вниз.
Сделав экскурс в психологию восприятия, Августин опять возвращается к пяти видам чисел, с тем чтобы упорядочить их в строгую иерархию. Из трех видов чисел – звучащих, находящихся в чувстве слуха и обитающих в памяти – первым он отводит последнее место, как числам телесным. Из двух остальных видов, находящихся, как отмечает Августин, в душе, он отдает предпочтение «находящимся в чувстве слуха», так как от них происходят и те, которые хранятся в памяти. Числа, находящиеся у производящего звук (или относительно искусства – у художника), Августин ставит выше чисел чувcтва слуха, так как они существуют и при полном молчании, и без поддержки памяти и производятся самой душой. И высший вид, как уже было показано, – числа судящие. Августин дает всем числам и соответствующие названия. (Не все из них поддаются адекватному переводу. Приводя здесь достаточно удачный перевод В. П. Зубова, в дальнейшем мы все же для большего удобства оставим их латинские наименования, как это и принято во многих научных исследованиях данного трактата.) «Пусть первые числа назовутся судящими (judiciales), вторые – движущимися вперед (progressores), третьи – откликающимися (occursores), четвертые – содержимыми в памяти (recordabiles), пятые – звучащими (sonantes) * (VI, 6, 16).
К. Перл считает эту иерархическую расстановку оригинальной находкой самого Августина, не встречающейся у других авторов713. Особый интерес она представляет для истории эстетики. Выделив, как мы уже показали, основные этапы в цепи «художник – произведение – субъект восприятия», Августин подчеркивает, что способность суждения на основе чувства удовольствия-неудовольствия выше даже творческой способности, чем косвенно утверждает, что закономерности (числа) способности суждения в какой-то мере определяют и законы творчества. Порядок остальных трех видов чисел менее очевиден, и его обоснование Августином не очень убедительно. Исходя из логики нашего автора, следовало бы, к примеру, числа памяти поставить выше чисел откликающихся, так как первые более духовны, ибо целиком находятся в душе, а occursores являют собой рубеж между телесным и духовным. Они находятся, как показал раньше Августин, в самом органе восприятия. Это первичное звено сферы восприятия. Именно между ними и судящими числами возникает то напряжение, которое Августин называет собственно восприятием (или ощущением), ибо здесь происходит встреча сигналов, идущих от внешнего раздражителя и от самой психики. С другой стороны, если последовательно проводить причинный принцип Августина в области чисел (occursores выше, так как они являются причиной recordabiles), то придется признать, что звучащие числа должны быть выше и recordabiles, и occursores. Здесь Августин, конечно, непоследователен, но заслуга его состоит в том, что он предпринял попытку системно, сказали бы мы теперь, подойти к проблеме творчества и восприятия, и попытку далеко не безрезультатную.
Из всех названных видов чисел судящие имеют наибольший срок жизни, но и они не вечны, а исчезают со смертью человека. Это числа, присущие только человеку. Притом они имеют свой характер и диапазон действия для каждого конкретного индивида. Одни люди судят быстрее, другие медленнее, одни – на основе сравнения с другими образцами, другие – опираясь на свое внутреннее чувство. Соответственно и воспринимают все люди по-разному, хотя и в определенных рамках. Различие восприятия зависит от природных данных и от практики восприятия, определенной тренировки (VI, 7, 19). Субъективный характер восприятия (особенно искусства) отмечали многие авторы и до Августина, но попытку теоретически разобраться в этом мы встречаем, пожалуй, впервые только у него.
Числа чувственной (или эстетической) способности суждения ставятся Августином выше остальных видов чисел еще и потому, что они завершают процесс восприятия и руководят всей творческой деятельностью, т. е. числами progressores. На их основе Августин связывает в единую систему процессы восприятия и творчества. «Ведь и числа, называемые progressores, – пишет он, – когда стремятся к какому-нибудь численно выразимому действию в теле, соразмеряются скрытно в соответствии с этими судящими числами714. В самом деле: то, что нас удерживает при хождении от неравных шагов, или... при ваянии от неодинаковых движений пальцев, – чтобы не перечислять многочисленные другие действия, – то, что сдерживает нас, понуждая при намерении осуществить что-либо посредством телесных членов, избегать неравных движений и молчаливо внушая нам некое равенство, – это и есть нечто судящее» * (VI, 8, 20). Процесс творчества, таким образом, регулируется и приводится в соответствие с законами восприятия, ибо judiciales – это прежде всего высшая ступень восприятия715.
Сам процесс восприятия осуществляется, по мнению Августина, при сложном взаимодействии чисел ощущения (occursores) и чисел памяти (recordabiles). Любой акт восприятия длится во времени и, если бы память не участвовала в процессе восприятия, мы не могли бы ничего воспринять, так как при переключении внимания на следующий слог, или звук, или другую сторону статуи, мы забывали бы мгновенно предыдущий слог, звук или ракурс скульптуры. Для истории эстетики имеет большое значение, что Августин специально подчеркивает временной характер зрительного восприятия, тем самым приравнивая по механизму восприятия временные виды искусства (поэзию, музыку) и статические (изобразительные искусства, архитектуру). «Ведь и в самих телесных формах, – пишет он, – видимых глазом, мы не можем судить ни о круглом и четырехугольном, ни о любом другом объекте, и вообще не можем ощущать их, не вращая их перед глазами; но если забывается виденное с одной стороны, когда смотрят на другую, то намерение судящего вовсе не достигает цели, ибо и здесь есть некая длительность времени, за изменением которой должна бдительно следить память» * (VI, 8, 21). Одни числа occursores без recordabiles ничего практически не могут воспринять. Так случается, когда мы не направляем свое внимание на восприятие чего-то, происходящего в нашем присутствии, например, разговора, когда мы увлечены каким-то делом. Мы слышим с помощью occursores голоса, но не понимаем и не воспринимаем разговора, так как recordabiles здесь направлены на другое и «вследствие внимания к другому тотчас же угасает импульс движения» (VI, 8, 21).
Августин отмечает две формы участия чисел (ритмов) памяти в восприятии. Первый – непосредственное восприятие, когда числа памяти доводят до судящих чисел числа ощущения. Второй – воспоминание. В этом случае память приносит судящей способности «следы» того, что было воспринято когда-то716. Числа occursores в этом процессе не участвуют (VI, 8, 22).
Итак, числа чувственной способности суждения являются главными и в процессе восприятия, и в акте творчества. Однако и они не до конца удовлетворяют Августина, так как действенны они только в определенном временном пространстве, могут судить только о том, что заключено в определенных границах времени, к тому же – только о том, что может быть расчленено в памяти. Нет ли более высоких чисел? – спрашивает себя Августин. Он берет для примера стих из гимна Амвросия Медиоланского «Deus creator omnium'717 и рассуждает следующим образом: Когда мы поем его, «мы слышим с помощью чисел occursores, узнаем – с помощью recordabiles, воспроизводим – с помощью progressores, получаем удовольствие через судящие числа и оцениваем (aestimare) с помощью некоторых других чисел, которых я еще не знаю; и от того удовольствия, которое является как бы суждением этих судящих чисел, возникает это другое, вторичное, более скрытое и более верное суждение» (VI, 9, 23).
Таким образом, Августин развивает дальше свою теорию эстетического восприятия. На основе чувственного суждения, «чувственного наслаждения» (delectari sensu) возникает более глубокая и верная «разумная оценка» (aestimare ratione). Августин сразу же стремится показать, что это две совершенно различные ступени, два разных вида чисел. Если мы различаем процессы восприятия, активного творчества и воспоминания, то должны различать и следующие два вида. Первый – принятие или отклонение движений на основе чувства удовольствия (in delectatione), получаемого от соответствия и согласованности в них, или – неудовольствия – от несоответствия; второй – оценка: правильно или неправильно возникло чувство удовольствия. Это чисто рациональный момент, рассудочная оценка (ratiocinando).
Если правильно, рассуждает далее Августин, что существуют некоторые числа, дающие возможность на основе чувства удовольствия признавать соизмеримые интервалы и отклонять беспорядочные, то необходимо признать, что разум, который возвышается над чувством удовольствия, тоже имеет свои числа и с их помощью может судить о нижестоящих числах. Если же это так, то нет сомнения, что в душе находится пять видов чисел, к которым присоединяется еще тот телесный вид, который был назван «звучащие» (sonantes). Теперь Августин считает необходимым внести уточнение в свою числовую иерархию. Высшими являются, конечно, те числа, которые дают оценку на основе разума. Они и выносят истинное суждение, следовательно, их и нужно назвать «судящие» (judiciales). Названные же сначала judiciales, дающие собственно эстетическое суждение, следует назвать sensuales (чувственные, судящие на основе чувства)718. Кроме того, и sonantes Августин считает теперь нужным назвать corporales (телесные), чтобы резче (уже в самом названии) противопоставить их пяти остальным видам, как принадлежащим душе (VI, 9, 24).
Введение рациональной оценки как высшей вполне закономерно для Августина, поставившего уже в трактатах кассициакского периода разум выше всего в человеке и верящего в почти безграничные его возможности. Эту тему он развивает несколько ниже и в «De musica». Интересно другое: почему Августин сначала дает только пятичастную иерархию, выводит эстетическое суждение на первое место, присвоив ему высший титул, и много и подробно говорит о нем? Только ли это традиционный риторический прием? Но ведь и любой словесный прием имеет у учителя красноречия свое значение. В данном случае он направлен на привлечение максимального внимания читателя к эстетическому суждению. Случайно ли это? К. Перл считал, что Августин мало заботился о словах вообще. И в этом случае он руководствовался своим излюбленным принципом, введенным еще в трактате «Против академиков»: «Когда речь идет о деле, не стоит спорить о словах» (Contr. acad. III, 20)719. Конечно, Августин всегда ценил сущность значительно выше обозначения, но он отнюдь не был равнодушен к словам. Он подробно обсуждает многие основополагающие термины в своих трактатах. Использовав в тексте какое-либо греческое слово, он обязательно указывает на причину такого словоупотребления – или потому, что в латыни нет ему адекватного слова (чаще, называя традиционный греческий термин, он тут же дает его латинский эквивалент), или потому, что не стоит, как он считает, вводить иностранных слов для тех понятий, которые хорошо обозначены в родном языке. Так что вряд ли он мог бездумно ввести такой важный термин, как judiciales, а затем поменять его содержание.
В логике обоснования шести видов чисел, как и процесса восприятия в целом, отразилось двойственное отношение и самого Августина, и шире, всей поздней античности, к проблеме чувственного (в том, более возвышенном смысле, какое мы вкладываем сейчас в понятие «эстетическое») и рационального. Греко-римская древность умела как-то безболезненно и органично сочетать и переплетать эстетическое и рациональное. Эти две составляющие человеческого духа не мешали друг другу в классической древности. Но уже эллинистический период принес с собой кризис разума, столкнув его с глубинными неосознаваемыми тайниками человеческой психики, в которые восточные «брахманы, маги и волшебники» проникали, по мнению эллинов, отнюдь не с помощью разума. Все это заставляло позднюю античность, особенно после активного распространения христианства в Империи, обратиться к «не-разумному» – к чувству, вере, эстетическому. При этом с чувством связывались почти все вербально не выражаемые движения человеческого духа, что особенно актуально было для различных культовых действ и искусства. Мы помним, к примеру, как высоко ставил Цицерон эстетическую оценку в вопросах ритма. Зрелища, разжигавшие чувственность, процветали в позднем Риме, и как реакция на них – ригоризм, аскетизм в суждениях многих христианских и нехристианских мыслителей поздней античности. По «Исповеди» Августина мы знаем, как болезненно протекал в нем самом процесс борьбы разума с необузданной чувственностью, как тяжело было отказываться ему от прекрасных женщин, от роскошных театральных зрелищ, от блестящей служебной карьеры и светской суеты буйного предзакатного Рима.
Не все ли это отразилось и в последнем эстетическом трактате Августина, когда он, может быть в последний раз, особым риторическим приемом вывел на первое место эстетическое суждение, чтобы затем свергнуть его с помощью разума, но перенеся на этот разум название, уже тесно связанное в душе читателя с эстетическим суждением. Что это? Ностальгия по отринутой сфере? Отзвук уходящих увлечений юности? Или уже новое понимание ограниченности и разума, и рациональной оценки и ощущение необходимости возвращения к чувству, но уже на каком-то ином, новом уровне? Так ли уж случайна игра в слова: rationales теперь стало judiciales, а judiciales превратилось в sensuales? Августин был человеком своего времени, жил им и выражал главные духовные тенденции этого времени, меньше всего задумываясь об этом.
Однако введение рациональной оценки опять возвращает нас от искусства к науке, ибо, конечно, все ее математические достижения, изложенные в первых пяти книгах «De musica». по достоинству могут быть оценены только разумом. Августин стремится исследовать далее сферы деятельности разума и чувственного суждения. Разуму доступно все то, о чем до сих пор писалось в трактате, и прежде всего он постигает, «что есть сама хорошая модуляция, которая заключается в некотором свободном движении, стремящемся к красоте» (VI, 10, 25). Он постигает законы организации ритмов и все числа, связанные с созданием и восприятием искусства, включая и свои собственные числа, как наиболее высокие.
А что же входит в сферу чувственного суждения и на основе чего оно судит? Здесь Августин обращается к тем эстетическим проблемам ритма, которые он наметил во II-V кн. трактата, и развивает их дальше. Прежде всего это касается закона равенства. Именно на нем во всех его модификациях (равенство, соразмерность, соответствие, пропорция – все это объемлет многозначный термин aequalitas) и основывается «чувственное суждение», или чувство удовольствия (радости, наслаждения – delectatio). На этой ступени восприятия душа не может познать закона равенства, но только чувствует радость от восприятия самого равенства720. «Телесное удовольствие души» не способно даже оценить, истинное ли это равенство, т. е. оно может допустить ошибку, принять неравенство за равенство, и у него нет критерия для исправления ошибки. А что может быть хуже, чем •принять подражание равенству за само равенство, хотя «мы не можем отрицать, что само подражание в своем роде и в своем порядке является прекрасным». Только разум признается Августином окончательным и законным судьей чувственной красоты. Он постигает те закономерности, к которым чувственность лишь стремится (VI, 10, 28)721.
Обращаясь, далее, к вопросу о пределах и границах восприятия, Августин опять напоминает, что числами пронизано все бытие от самых грубых материальных предметов до бескрайних космических далей и высших сфер духа, и доводит до логического конца свою теорию числовой организации бытия. Далеко не все из чисел (т. е. закономерностей) универсума доступны нашему восприятию. Правильно ориентированный в духовной сфере человек находится в системе числовой иерархии между высшими и низшими числами. При этом низшие числа не оскорбляют и не раздражают его, но только высшие доставляют удовольствие. Здесь Августин опять вспоминает антипод разума – delectatio, как средоточие всей духовной радости, высшего неописуемого наслаждения души, возникающего при восприятии всего соразмерного и вечного, т. е. практически эстетическое наслаждение. «Ибо, без сомнения, наслаждение является как бы основанием души» (VI, 11, 29)722. Оно упорядочивает душу. А что может быть выше тех чисел, которые содержат высшее, неизменяемое, вечное равенство? Там нет времени, так как нет изменяемости. Эти неизменяемые числа являются причиной и времени, которое создается и упорядочивается как подражание вечности, и всего космического порядка. Вращение неба, возникновение небесных тел и все остальное на звездных путях подчиняются «законам равенства, единства и упорядоченности». С небесными телами объединяются в единую космическую мелодию и подчиненные им земные предметы в круговороте своих исчисляемых времен (VI, 11, 29). «В этом, – развивает далее свою мысль Августин, – многое представляется нам неупорядоченным и расстроенным, ибо о каждом порядке мы судим по своим меркам и не знаем, что божественное Провидение представляет нам [все] прекрасным. Если, к примеру, кто-то встанет как статуя между роскошнейшими и прекраснейшими домами, он не сможет почувствовать красоты всего архитектурного ансамбля, так как сам будет его частью. Столь же мало может увидеть порядок построения всего войска солдат, находящийся на линии битвы. И в любом стихотворении, если слоги звучат какое-либо время, то они живут и чувствуют, но никоим образом им не может нравиться числовая соразмерность и красота соединенных [частей], так как они не могут ни обозреть, ни одобрить целого, ибо каждый из них образуется и имеет совершенство в продолжение быстротечного отрезка времени» (VI, 11, 30).
Таким образом, вечная красота и упорядоченность универсума, по мнению Августина, недоступны восприятию преходящего человека. Знание о высшем равенстве, единстве и упорядоченности он должен принять на веру. Ни восприятию, ни постижению высшая красота, понимаемая здесь как красота универсума, не поддается. Тем не менее она-то и является абсолютной ценностью. Числа же, возникшие в душе, ориентированной на преходящие вещи, также обладают красотой своего рода, но это красота преходяща, и божественное Провидение с досадой взирает на душу, устремленную к ней (VI, 11, 30).
Помимо непосредственного восприятия Августин подробно останавливается на двух видах представлений, связанных, как он считает, с памятью и «действующих против телесных восприятий». Августин обозначает их греческими терминами phantasia и phantasma (ср.: De Trin. XI, 10, 17). Под фантасией он понимает представления, образы, возникшие на основе когда-то бывшего реального восприятия. Однако эти образы неустойчивы и создают предпосылки для ложных суждений. На основе фантасий, которые в различных и противоположных направлениях волнуют душу, возникают новые духовные движения, которые уже не имеют прямой связи с предыдущими телесными восприятиями и чувственными впечатлениями и относятся к ним (подобны им – similes) как «образы образов» (imaginum imagines). Их Августин и называет phantasma. По-одному ибо, пишет он, представляю я себе отца своего, которого часто видел, и по-иному – деда, которого никогда не видел. Первое представление я нахожу в памяти – это фантасия, второе – в движении духа, берущем свое начало в памяти, – это фантасма. «Каким образом возникает и то и другое, трудно понять и объяснить. Все же, я думаю, что, если бы я никогда не видел человеческого тела, никоим образом не смог бы я мысленно образовать его видимую форму. Но и то, что делаю я из того, что я видел, я делаю с помощью памяти; и все же одно – находить в памяти фантасию и другое – делать из памяти фантасму» (VI, И, 32). Фантасмы возникают на основе свободных комбинаций образов когда-то виденных предметов и их элементов. Так, пишет Августин в «De Trinitate», никто не видел черных лебедей или четвероногих птиц, но наше воображение легко может представить себе и тех и других. Управляет фантасией и фантасмой (сознательно или неосознанно) воля (De Trin. XI, 10, 17).
Эти идеи, хотя они во многом и опираются на соответствующие мысли Плотина723, представляют большой интерес и для истории средневековой гносеологии, и для истории эстетики. Фантасия означает у Августина нечто близкое к нашему «представлению», но имеющему уже некое отступление от действительности, а фантасма близка к нашему «воображению», «фантазии». Важно, что обе формы мыслительных образов Августин производит от конкретного чувственного восприятия и видит в них две последовательные ступени отхода мысли от этого восприятия в область достаточно свободного воображения. И фантасию и, тем более, фантасму нельзя принимать за истинное представление. Истинное суждение на основе чувственного восприятия составляет, как мы видели, только разум с помощью своих судящих чисел. Тем не менее доля истины, но особой, неформализуемой, содержится и в фантасии, и в фантасме. Не бессмысленно ведь говорим мы, что в первом случае «мы чувствуем это так», а во втором – «мы так это воображаем (imaginari)». «Не без основания я могу сказать, что я имел отца и деда; но сказать, что они были точно такими, как их сохранил мой дух в фантасии или в фантасме, было бы в высшей степени неразумно». Есть, однако, люди, которые все суждения основывают только на своих фантасиях и фантасмах, принимая их за знания, постигаемые чувствами. Августин с осуждением относится к ним (VI, 11, 32).
Последовательно разбирая сначала структуру произведений искусства, затем механизм их восприятия, Августин постоянно помнит изначальную цель своего исследования в данном трактате: подняться от анализа низших материальных чисел к высшим, вечным724. Один разряд таких чисел он нашел в упорядоченной организации космоса. Но те числа практически непостигаемы и далеки от искусства. Выявив пять видов чисел в душе, а также способность образования в ней на основе памяти таких образов, как фантасия и фантасма, он чувствует, что не исчерпал еще внутренний мир человека, и опять пристально всматривается в него. Снова его внимание привлекает память. Оказывается, она способна не только производить «телесные движения духа» типа фантасии и фантасмы, но и содержит еще новый вид чисел – духовные (spirituales). Что же это за числа?
Если мы обратимся к искусству ритмическому и метрическому, рассуждает Августин, «которое производит стихи», то мы увидим, что это искусство обладает некоторыми числами, в соответствии с которыми и образуются стихи. Числа эти существуют и тогда, когда стиха еще нет. В данном случае термином ars Августин обозначает и искусство как творческую деятельность, и искусство как науку, соответствующую теории искусства. Искусством в первом смысле «является некоторое настроение (или состояние) духа художника'725, которое бывает только у того, кто сведущ в теории искусства (VI, 12, 35). В основе законов искусства лежат числа двух видов – преходящие и непреходящие. Первые меняются в различные исторические периоды – с ними связаны, например, изменения длительности тех или иных слогов. Эти числа необходимо изучать. Вторые числа (законы) никогда не меняются, наподобие суммы одного и двух, всегда равной трем. Эти вечные числа постоянно находятся в глубинах нашего духа (они-то и есть spirituales) и, отпечатываясь в уме человека, производят то «настроение» (affectio), которое и называется «искусством». Числа эти даны душе Богом. Поэтому даже тот, кто никогда не слышал об искусстве и его числах, с помощью наводящих вопросов может ему научиться. Он просто вспомнит, побуждаемый словами спрашивающего, то, что находится в глубинах его духа, но еще не всплыло в памяти.
Для истории эстетики приведенные мысли интересны тем, что Августин дает здесь новую дефиницию искусства с точки зрения непосредственного творческого акта. Определяющим в этом акте оказывается настроение, состояние духа художника, а не ratio, хотя далее он дает понять, что это «настроение» не субъективное состояние духа, а отпечаток в уме вечных духовных чисел.
Законы искусства Августин разделяет на непреходящие и изменяющиеся во времени. Эта важная для эстетики мысль, по всей видимости, была впервые сформулирована именно Августином.
Далее автор трактата «О музыке» ставит интересный вопрос. Если вечные числа заложены в душе, то почему же дух наш всякий раз, а часто и изначально, уклоняется от их рассмотрения? Что отвлекает его от «вечного равенства», выше которого ничего нет? Конечно же то, что мы больше всего любим. А что можем мы любить больше, чем прекрасное? Правда, говорят, что есть и «такие, которые любят безобразное (deformia) и которых греческое простонародье называет σαπροφίλοι (любители тухлятины);726 различие, однако, состоит лишь в том, насколько меньше содержится прекрасного в этом (т. е. безобразном. – В. Б.), чем в том, что нравится большинству. Ясно, однако, что никто не любит того, от чьего безобразия (foeditas) чувство терпит неудовольствие» (VI, 13, 38). Прервем на минуту мысль Августина, ибо здесь мимоходом он высказывает, опять же впервые в истории эстетики, очень важную и основополагающую для всей средневековой эстетики мысль. В глазах христианина мир – творение божественного Художника (см. гл. VII), и ничто в нем не может быть абсолютно безобразным. Существует только абсолютная красота. То, что кажется безобразным, просто содержит очень мало прекрасного. Недостаток прекрасного и расценивается как безобразное. Но и в безобразном можно усмотреть свою, хотя и малую красоту. Не зря же существуют σαπροφίλοι? И для безобразного Августин вводит определенную градацию. То безобразное, которое еще хоть кто-то может любить, – это deformia, а то, которое доставляет страдание чувству, – это уж нечто совсем мерзкое – foeditas.
Итак, развивая дальше свою мысль о том, что прекрасное в материальном мире, которое все так любят, отвлекает дух от созерцания «вечных, абсолютных истин», Августин расширяет и дополняет свое изложенное ранее понимание прекрасного и лежащего в его основе «равенства». «Прекрасное, – пишет Августин, – нравится через число, в котором, как мы уже говорили, [оно] достигает равенства (соразмерности). Эта красота встречается не только в области слышимого или в движениях тела, но также и в самих визуальных формах, в связи с которыми чаще всего говорится о красоте». Однако не следует думать, что равенство (или симметрия) бывает только одного типа, когда один, непарный член занимает место посредине, а по обе стороны от него парные члены располагаются на равных расстояниях. Как же тогда оценивать красоту цвета и света, которые тоже радуют нас, т, е. красоту простых, не состоящих из частей, образующих равенство, предметов? – вслед за Плотином спрашивает Августин и отвечает уже по-своему. «Что же иное ищем мы в свете и цветах, если не то, что соответствует (congruit) нашим собственным глазам? Ибо от чрезмерного блеска мы отворачиваемся, но не желаем видеть и сплошную тьму, так же и чрезмерно громкие звуки нам неприятны, но не любим мы и невнятное бормотанье... В этом [восприятии] стремимся мы к тому, что соответствует мере нашей природы (convenientia pro naturae nostrae modo), а несоответствие мы отвергаем, хотя знаем, что другие существа его принимают. Не радуемся ли мы закону равенства, когда узнаем, что все существующее таинственным образом распределено в соответствии с этим законом? Доказательство того, что в области обоняния, вкуса и осязания мы чувствуем все по тем же законам, увело бы нас далеко, но легко показать, что и в сфере этих ощущений нет ничего, что нравилось бы нам не по закону равенства или подобия; а где равенство или подобие, там – числовое соответствие; нет ничего более равного или более подобного, чем один и один» (VI, 13, 38).
Итак, для простых, не состоящих из частей эстетических объектов «закон равенства» сводится к «соответствию мере нашей природы», т. е. к соответствию объекта определенным психическим характеристикам субъекта. Этот вывод, собственно, напрашивался уже ранее, когда Августин излагал теорию чувственного восприятия, но там его интересовали другие стороны вопроса. Эстетическая мысль поздней античности, таким образом, все активнее и последовательнее обращается от анализа закономерностей только произведения искусства к анализу системы: произведение искусства – психика субъекта восприятия, ибо уже осознается, что без анализа последней и в первом далеко не все оказывается ясным. Закон соответствия и соразмерности частей объекта теперь переносится на соответствие отдельных элементов объекта элементам психики (души) субъекта. Конечно, приоритет здесь принадлежит не Августину. Идеи эти в той или иной форме встречаются у его предшественников – как христианских (Василий Великий), так и нехристианских мыслителей. Во многом они восходят к плотиновскому пониманию красоты и ее восприятия (см. гл. VI). Августин, неплохо зная и по-своему переосмысливая плотиновские идеи, стремился развить их дальше, ибо они хорошо соответствовали философско-эстетической атмосфере его времени. В частности, в рассматриваемой книге трактата «О музыке» он пытается конкретизировать, с одной стороны, и математизировать – с другой, самую сущность красоты. В основу равенства и соответствия, составляющих ядро красоты, и в основу самих процессов восприятия и творчества Августин закладывает не абстрактную плотиновскую идею, но более конкретное «число» (numerus), что позволяет ему усмотреть нечто общее в законах творчества, восприятия, теории искусства и в самом произведении искусства. Это, конечно, новый шаг в истории эстетической мысли после слишком уж абстрактной эстетической эйдологии Плотина, хотя и базирующейся на ней.
Продолжая далее исследовать причины, отвлекающие душу от созерцания вечных истин, Августин постоянно вращается в круге эстетических проблем, ибо оказывается, что все связанное с искусством и прекрасным наиболее активно привлекает душу. Забота о чувственных удовольствиях уводит душу в область откликающихся чисел (occursores). Стремление к активной творческой деятельности возбуждает числа progressores. «Если отвлекают ее фантасия и фантасма, то так работает она с числами памяти (recordabiles). Если, наконец, ее отвлекает любовь к суетнейшему познанию подобных же вещей, то тогда действует она с чувственными числами (sensuales), в которых как бы обитают некие правила искусства, доставляющего радость через подражание» (VI. 13, 39). В последнем случае имеется в виду собственно эстетическое восприятие, основанное на чувстве удовольствия. Важно, что и этот вид восприятия Августин считает познанием (cognitio) и. более того, усматривает в законах восприятия «правила искусства» (regulae artis), притом искусства миметического. Сфера восприятия и чувственного суждения (числа sensuales) оказывает, таким образом, на что уже указывалось выше, прямое воздействие на процесс создания произведений искусства. Эту же мысль он развивает подробнее и в 14-й гл. VI кн. Именно «чувственные числа» (числа чувственной способности суждения – sensuales) участвуют в организации ритмов, метров, стихов. С их помощью возникают различные стопы, долгие слоги сменяются краткими, замедляется чтение в нужных местах, т. е. везде, где музыка расходится с грамматикой, действуют числа sensuales. Разум судит, опираясь на них, сравнивая одни размеры (стихотворные) с другими. Ими определяются и правила о начале и завершении стиха и т. п. (VI, 14, 47).
Высказывая столь интересные мысли в области эстетического, Августин в последних главах VI кн. «De musica» относится к этой сфере уже не очень одобрительно. Ведь она отвлекает душу (и так активно отвлекает!) от созерцания абсолютных божественных истин, порождает любопытство, которое «является врагом душевного спокойствия и в [своей] суетности лишено истины» (VI, 14, 47). Здесь Августина терзают противоречия, не оставлявшие его на протяжении всей последующей жизни. С одной стороны, он ощущает огромную притягательность эстетической сферы, видит ее гносеологическую, прежде всего, а иногда и морально-этическую ценность и поэтому уделяет так много внимания ее анализу, высказывая ряд глубоких и оригинальных мыслей. С другой стороны, ему никак не удается ввести ее на основе равноправного, имеющего свое определенное место элемента в систему своего христианско-неоплатонического миропонимания. В своей онтологии (лучше всего он показал это в трактате «О порядке») Августин нашел уже свое определенное место не только красоте, но и злу, и безобразному, и всему негативному в общей упорядоченной системе мироздания, притом такое место, где все это негативное, находясь на своем месте, способствует организации общего порядка и красоты универсума. В гносеологии же, поставившей своей главной целью постижение Бога, а в связи с искусством – высших, вечных истин искусства, высших законов равенства и т. п., найти место чувственно воспринимаемым и доставляющим радость объектам и самому эстетическому восприятию Августину удается только отчасти, причем в поздний период своего творчества в суждениях о музыке и о красноречии (см. гл. VIII). В трактате «О музыке» он только ведет активный поиск в этом направлении.
Интересно отметить, что поиск новых духовных ценностей хотя и проходит в «De musica» под знаком только что принятого Августином христианства, но далеко не всегда в своих выводах соответствует ему. В частности, в области мимесиса Августин стоит на твердых классических позициях, близких к аристотелевской, и часто как бы вообще ничего не знает ни о неоплатонической, ни о христианской тенденциях в этом плане727.
Показывая достаточно подробно, на что отвлекается душа от «вечных истин», хотя она часто и знает о их существовании, Августин нередко опирается на свой жизненный опыт, о чем он так ярко писал в «Исповеди». Это придает его теоретическим рассуждениям особую ценность, ибо они не книжны, а основаны на личном опыте, на личных переживаниях и душевных противоречиях. Так, делает вывод Августин, вспоминая, видимо, свое еще близкое прошлое, «душа, обладая знаниями, на которых она могла бы основываться, необязательно может укрепиться в них» (VI, 13, 42). Душа разрывается между земным и небесным, преходящим и вечным, чувственной красотой и абсолютным идеалом, часто отдавая предпочтение первому. И это не дает покоя африканскому мыслителю, мучительно ищущему выход из создавшегося противоречия, ибо отбросить чувственное, земное, материальное он не может, но не может и полностью принять их, когда вспоминает об абсолютном. Августин постоянно стремится показать, что сам по себе материальный мир, с его «низшей» красотой и телесными числами неплох и прочно занимает свое место в универсуме, но любовь души к этому миру не поощряется им, так как она, останавливаясь на этой ступени бытия, утрачивает перспективу высших духовных ценностей. Что легко для души? – вопрошает он и с горечью отвечает: любить цвета и звуки, сладость и розы, т. е. все то, в чем она ничего не желает иного, кроме равенства и подобия (именно эстетический объект, добавили бы мы теперь). Но ведь в этом она познает только их (равенства и подобия) слабую тень и полустершийся след. А любить Бога, в котором не может содержаться ничего неравного, неподобного себе, ничего заключенного в определенном месте, ничего преходящего во времени, для души тяжело. При возведении больших зданий и им подобных сооружений, если не насмехаются над «законом искусства», не радуют ли нас исключительно числа, которые здесь являются соразмерными и подобными? «Если это так, то зачем душа спускается от того истиннейшего свода равенства к этому и возводит на его руинах земной помост?.. Очень трудна любовь этого мира. Ибо то, чего душа ищет – постоянства и вечности, не обретает в нем, так как в преходящих вещах содержится низшая красота и они только подражают постоянству, которое передается через душу от высшего Бога» (VI, 14, 44).
Подходя к завершению трактата «О музыке» и вроде бы уже окончательно выяснив отношения между числами телесными и абсолютными, небесными, Августин вспоминает христианскую идею воскресения и восстановления плоти и опять обращается к телесным числам, дополняя свою числовую систему новыми штрихами из области творчества и онтологии. Предварительно он останавливается еще на восьми добродетелях, которые помогают душе избегать превратности судьбы и не отклоняться от истинного пути. Это четыре низшие добродетели: благоразумие (prudentia), воздержание (temporantia), твердость (fortitudo) и справедливость (justitia), и еще четыре – высшие и совершенные: упорядоченность (ordinatio), бесстрастие (impassibilitas), освященность (sanctificatio) и созерцание (contemplatio) (VI, 16, 51 – 55). С их помощью душа преодолевает любовь к преходящим вещам и вкушает «сладость» вечного.
Подводя итог своим исследованиям в области метафизики чисел, Августин резюмирует: весь мысленный и материальный космос – упорядоченная система чисел. Душа человека находится между Богом и миром. Она управляется Богом с помощью чисел и сама управляет числами (ритмами) телесного уровня. Все соисчислимое прекрасно, но числа телесного уровня обладают минимальной красотой. Прекрасны числа благодаря законам равенства, подобия и порядка.
Однако как возникли телесные числа, т. е. практически весь материальный мир? Христианство утверждает, что он был создан Богом из ничего, и Августин, еще во власти античной философии, стремится доказать эту заведомо недоказуемую (в восточной патристике уже и в это время она считалась априорной) посылку если не «диалектическим» способом, то хотя бы с помощью аналогии. Как к ближайшей аналогии он обращается к творчеству художника и рассматривает его в данном случае с сугубо идеалистической позиции, хотя до этого он постоянно придерживался классической миметической теории. Смысл доказательства сводится к тому, что если художник может из одних (разумных) чисел создавать другие (телесные), то всемогущий творец – Бог, конечно же, может создать все числа, т. е. мир из ничего. Имеет смысл подробнее проследить эти заключительные рассуждения.
«Если художник (faber), – пишет Августин, – действительно может из чисел разума (rationahiles), которые находятся в его искусстве, сделать чувственные числа (sensuales), которые ему присущи, и эти sensuales превратить в движущиеся вперед числа (progressores), с помощью которых он движет своими членами при работе, и при этом уже появляются временные интервалы, и если он ими (progressores. – В. Б.) изготовит видимые формы из дерева, которые в своем пространственном членении соответствуют числовым закономерностям, то не может ли сама природа вещей, само дерево (в данном случае. – В. Б.), повинуясь указанию Бога, быть изготовлено из земли и других элементов? А эти, последние, не должны ли сами [возникнуть] из ничего?» Конечно, и дереву предшествовали пространственные и временные числа, ибо в каждом корне шевелится уже в скрытых числах та сила, которая приходит от семени и создает в соответствующее время ростки, стебли, листья, плоды и новые семена. Значительно сильнее открывается это в телах живых существ, чьи члены еще больше выявляют числовое равенство (parilitas). Если все это может состоять из элементов, не могут ли сами элементы возникнуть из ничего? В них содержится нечто более низкое (в смысле структурной организации), чем земля. Последняя обладает основным свойством тел, которое обнаруживается в единстве, числе и порядке. Неотъемлемым свойством земли (как вещества) является то, что каждая ее мельчайшая частица имеет три измерения (длину, ширину, высоту), чтобы быть способной принять форму тела. «Откуда у земли и соразмерность (aequalitas) частей, которые в длину, ширину и высоту простираются? Откуда и разумное соотношение (corrationalitas – так именно хотел бы я назвать аналогию), которое сообщается даже самым маленьким неделимым частям, так что [отношение] ее ширины к длине и ее высоты к ширине находятся в разумном отношении? Откуда, спрашиваю я, все это может прийти, если не от того высшего и вечного начала чисел, подобия, равенства и порядка? И если ты лишишь землю всего этого, станет она ничем (nihil erit). Только так всемогущий Бог создал землю, и из ничего земля была создана» (VI, 17, 57). Коснувшись земли, Августин должен традиционно сказать и о других основных элементах. Исходя из принципа максимального единства частей и степени их подобия друг другу, он заключает, что вода прекраснее земли, воздух прекраснее воды, а прекраснее его верхние слои неба. Во всех этих элементах находятся пространственные числа и постоянно протекают временные числа. Без них эти элементы ни существовать, ни иметь своей формы не могут.
Еще выше их – «разумные и духовные числа существ духовных и святых, которые воспринимают без посредствующей природы закон Бога; тот закон, без которого ни один листок не упадет с дерева, по которому сосчитан каждый наш волос и который они, ангелы, передают земным и подземным силам» (VI, 17, 58). Этой проникновенной мыслью, отчасти предвосхищающей то, что вскоре так подробно разработает знаменитый на все Средние века Doctor hierarhicus – Псевдо-Дионисий Ареопагит, и заканчивает Августин свое сочинение «О музыке». Логикой внутреннего развития христианское мышление и на Западе, и на Востоке приходит к иерархическому пониманию универсума. У Августина – это иерархия чисел. В ней «мир расчленен на ступени таким образом, что внутри этого порядка каждая ступень имеет свою позитивную ценность; так же и чувственность, которая лишь подражает равенству, обладает своей специфической красотой, поскольку и она этому равенству подражает'728. Смысл иерархической лестницы чисел в том, что она может стать регулятором жизни, устремленной к познанию универсума и его Первопричины. В этом плане и числа, принадлежащие искусству, должны возводить человека от чувственной жизни к жизни в ratio.
С определенной степенью условности числовая система Августина, включающая процессы эстетического творчества и восприятия, может быть представлена следующим образом. Высшее место среди созданных Богом чисел занимают вечные неизменяющиеся числа: разумные и духовные числа небесных чинов и пространственные и временные космические числа – источник всякого пространства и времени. Далее идут преходящие числа, а также числа материального мира, включающие верхние слои неба, воздух, воду и землю, и числа человека, состоящие из телесных чисел и чисел души. Последние, как мы видели, Августин подверг детальной разработке, постоянно обращаясь к тому или иному их аспекту на протяжении всей VI кн. «De musica».
Здесь проявились, с одной стороны, христианская неоплатоническая духовная ориентация автора, а с другой – его эстетические склонности и интересы. Именно этим объясняется отсутствие интереса у Августина к числам материального мира. О них, как мы видим, он вспоминает только в конце трактата, да и то мельком. Скажем, традиционный для античности огонь вообще ускользает здесь от его внимания. Не останавливается он и на такой категории, как «свет», хотя в одном месте, мельком опять же, показывает, что и свет может быть отождествлен с Христом и с Премудростью Божией (VI, 16, 52). Что касается чисел души, то среди них высшее место занимают числа разума, который берет начало от самого Бога. Эти числа имеют два названия: «судящие» – для процесса восприятия и «разумные» – для творчества. Далее идут sensuales, progressores, occursores и recordabiles с фантасией и фантасмой. О них уже было достаточно сказано.
Разум является изобретателем искусств. Самой системы искусств здесь Августин не дает, так как он занимался ею еще в трактате «О порядке», поэтому и мы не останавливаемся на них особо. Числа искусств делятся на теоретические и практические (телесные). Теоретические – это правила, или законы, искусства, в соответствии с которыми и творит художник. Это прежде всего духовные числа (spirituales), данные художнику от Бога и хранящиеся в глубинах памяти. Воздействуя на разум, они вызывают у художника особое творческое «настроение», «переживание» (affectio), которое и составляет основу творческого процесса. Это, так сказать, аффективный, внесознательный компонент творческого процесса, берущий начало непосредственно от Бога. Далее идут «рациональные» (или разумные) числа – правила искусства, диктуемые разумом. Однако, как показывает Августин, они входят и в теорию искусства, хотя и участвуют в творческом процессе не непосредственно, а через «чувственные» числа (числа эстетической способности суждения – sensuales). Кроме того, в теорию искусства входят и преходящие, исторически меняющиеся законы искусства и миметические числа, ибо искусство мыслится Августином прежде всего как подражательное. При этом одни искусства больше «подражают» числам материального мира (живопись, скульптура), другие – космическим числам (поэзия и музыка). Практические числа искусства – это те телесные (corporales) числа, которые звучат в стихах, метрах, ритмах и т. п.
Процесс творчества заключается в том, что все числа, отнесенные к теории искусства, воздействуют (rationabiles через sensuales, а spirituales через affectio) на производительные числа (progressores), волитивные числа, которые руководят телесными числами, т. е. определенными движениями рук, голоса художника, в результате чего и возникает произведение искусства. Процесс восприятия прост, и о нем уже много говорилось в данной главе. Такова условная схема эстетического творчества и восприятия, по Августину.
Конечно, не все нашло в ней отражение. Скажем, главные эстетические принципы, такие, как единство, равенство, соразмерность, подобие, порядок, красота, основанные на числах и пронизывающие всю представленную им систему, от высших ступеней к низшим, как на онтологическом, так и на психологическом уровнях, наглядно изобразить не удается. Но и то, что удалось показать, отчетливо выявляет как безусловные находки Августина, так и определенную однобокость его числовой системы. О находках мы уже много говорили. Однобокость является прежде всего следствием абстрактно-рационалистической ориентации автора. И эта ориентация, возникшая под влиянием в первую очередь пифагорейства, неоплатонизма и, отчасти, христианства, в целом далека и от античной классической эстетики, и от средневековой. Она – специфический продукт переходного периода. Суть ее сводится к тому, что Августина в трактате «О музыке» почти не интересует содержательная сторона искусства729. Все его внимание направлено на систему абстрактных закономерностей (чисел), воплощающихся в определенной форме искусства и доставляющих удовольствие при восприятии, и ни слова, даже мимоходом, не сказано о его содержательной стороне. И классики древности, которых знал Августин, – Платон, Аристотель, Феофраст, Цицерон, и практически все христианские мыслители, начиная с апологетов II – III вв. и кончая поздним Средневековьем и Возрождением, выдвигали на первое место в искусствах именно содержательную сторону730. Но, несмотря на это, эта односторонность, как это ни парадоксально, позволила Августину уделить основное внимание психологии творчества и восприятия, сделать интересные эстетические выводы.
Пристальное внимание Августина к внутреннему миру человека, к механизмам восприятия, познания, творчества, дало ему возможность поставить на обсуждение проблему эстетического восприятия и связать в одну систему сферы творчества, восприятия и само произведение искусства на основе психологии и теории чисел. Именно психологическая часть эстетики Августина, наиболее подробно изложенная в VI кн. трактата «О музыке», явилась самой оригинальной частью его эстетического учения731, отделившей августиновскую эстетику от эстетических учений древности и наметившей многие черты эстетики средневековой.
Глава X ВОСПРИЯТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
Любая эстетическая проблема так или иначе связана с проблемой восприятия, и Августин был одним из первых мыслителей, глубоко осознавших эту связь. Наиболее интересные и оригинальные страницы августиновской эстетики посвящены именно осмыслению психологии эстетического восприятия. Специально эта проблема была освещена Августином в VI кн. «De musica», однако вопросы чувственного восприятия, лежащего в основе эстетического, интересовали Августина на протяжении всего его творчества, составляя важную часть его гносеологии. Поэтому, прежде чем перейти к собственно эстетической теории, остановимся кратко на августиновском понимании чувственного восприятия.
Если теория эстетического восприятия является оригинальной находкой самого Августина, то в вопросе чувственного восприятия он в основном зависит от Плотина703. Проблему восприятия Августин, как правило, рассматривает на примере зрительного восприятия, как наиболее совершенного и наиболее духовного в человеке (De Trin. XI, 1, 1), хотя нередко обращается и к слуховому восприятию.
Вслед за Плотином704 Августин различает три рода зрения, или видения: зрение телесное, когда мы глазами видим обычные предметы (visio corporalis), зрение духовное (visio spiritualis), когда мы внутри себя видим образы того, что знаем или по опыту, или по представлению, и зрение умственное, или интеллектуальное (visio intellectualis), когда мы в своем уме созерцаем абстрактные, не имеющие зрительного образа представления (De Gen. ad lit. XII, 6, 15–9, 16)705. Высшим является, естественно, умственное зрение, низшим – телесное. Телесного зрения не может быть без духовного, а духовного – без умственного (XII, 24, 51), т. е. эти три рода зрения служат одновременно и тремя ступенями восприятия материального мира. Предмет воспринимается телесным зрением, в результате чего в духе запечатлевается его образ. Если перед нами дух неразумный, как у животных, то этот образ так и остается в нем; если же речь идет о разумном существе, то образ духа в нем осмысляется разумом и происходит познание предмета – или «интеллектуальное видение» его (XII, 11, 22). Первые две ступени чреваты различными ошибками, и только разумное зрение избегает их.
Для нас особый интерес представляют как раз первые две ступени восприятия, ибо здесь, при переходе от первой ко второй, возникают духовные образы видимых предметов, а также – образы воображения, когда не действует первая ступень восприятия. В раннем трактате «О свободном выборе» (391) Августин называет вторую ступень восприятия «внутренним чувством» (interior sensus), находящимся в душе человека (De lib. arb. II, 3, 8 – 9). Никакой акт чувственного восприятия невозможен без участия «внутреннего чувства», но и над ним господствует разум.
Рассматривая процесс восприятия, Августин различает три состояния: бытие объекта (цвета), видение его и ощущение, или восприятие, его, когда его даже нет перед глазами. Только сам объект мы видим глазами, два остальных состояния могут быть усмотрены лишь разумом (II, 3, 9).
Человек обладает своими собственными телесными чувствами, внутренним чувством и разумом, и тем не менее, несмотря на различие этих чувств у каждого, одни и те же объекты мы видим одинаково. Августин считает чувственное восприятие объективным, мало зависящим от субъекта восприятия: «Как бы ни отличалось мое чувство от твоего, но то, на что мы оба смотрим, не может представляться мне одним, а тебе иным; но оно является нам обоим одним и тем же и мы видим его одновременно» (II, 7, 16).
В трактате «О Троице» Августин останавливается на трех моментах зрительного восприятия: 1) объект зрения (ipsa res quam videmus), 2) процесс зрения (visio) и 3) внимание души (animi intentio), которое удерживает чувство зрения на рассматриваемом предмете, т. е. определенный акт воли (De Trin. XI, 2, 2).
Введение волевого момента в процесс чувственного познания является оригинальной находкой Августина; его нет в плотиновской теории восприятия706.
Внимание, или направленность, души, «интенция души» (intentio animi) организует процесс зрительного восприятия, объединяя предмет зрения и сам процесс зрения. В момент рассматривания предмета «в чувстве» зрителя возникает образ предмета, настолько подобный формам самого предмета, что зрителю бывает трудно различить их. Этот образ существует только в процессе зрения и исчезает почти сразу же по его прекращении. Он, подобно отпечатку перстня на воде (XI, 2, 3), хотя и исчезает не мгновенно, но достаточно быстро (XI, 2, 4).
Воля играет важную роль на всех этапах чувственного познания. В процессе непосредственного смотрения она сосредоточивает зрение на рассматриваемом предмете. По окончании этого процесса образ предмета из «чувства» передается памяти, где он и хранится долгое время. Память содержит образы всего увиденного, и при желании человек всегда может увидеть их своим «внутренним зрением» (In Ioan. ev. 23, 11). Вызывает образ из памяти в сферу «внутреннего чувства» опять же воля. Происходит процесс, аналогичный внешнему смотрению, только теперь воля направляет душу не на внешний предмет, а внутрь себя, на образы памяти. Августин склонен различать образы, хранящиеся в памяти, и возникшие в представлении, на основе вызванных из памяти, хотя они и подобны друг другу (De Trin. XI, 3, 6). Иногда образы представления бывают настолько яркими, что их принимают за реальные предметы. Обычно яркие образы представления возникают во сне, у сумасшедших, у пророков и предсказателей (XI, 4, 7). Процесс видения зависит не только от того, что находится перед глазами человека, но прежде всего от того, на что направлено внимание его души. Интенция души при этом далеко не всегда подчиняется разуму.
В процессе обычного зрительного восприятия Августин усматривает, по крайней мере, три этапа, на каждом из которых формируется свой зрительный образ: «В том членении, которое мы начинаем образом (формой – species) тела и доходим до образа, возникающего в понимании познающего (in contuitu cogitantis), открываются четыре образа, как бы поступенчато возникающие один из другого: второй от первого, третий от второго, четвертый от третьего. От образа тела, который мы видим, возникает образ в чувстве (in sensu) смотрящего; а от него появляется образ в памяти, и от этого – тот, который получается в уме (in acie) познающего. Таким образом, воля как бы трижды объединяет родителя с порождением: во-первых, образ тела с тем, который возникает в телесном чувстве, во-вторых, этот – с тем, который возникает из него в памяти, и этот последний, в-третьих, – с тем, который рождается от него в созерцании воспринимающего» (in cogitantis intuitu) (XI, 9, 16). Процесс зрительного восприятия представляется Августину (на основе плотиновских изысканий в этом направлении) весьма сложным, включающим в себя как органы чувств, так и все основные компоненты психики. Теория Августина предвосхищает некоторые современные научные открытия в области психологии зрительного восприятия707.
Изложенная здесь кратко августиновская теория зрительного восприятия во многом была перенесена ее автором и на восприятие произведений искусства, в частности поэзии и музыки. Но специфика объекта и результата восприятия заставила Августина обратить внимание и на особенности самого эстетического восприятия, чему он в целом и посвятил VI кн. трактата «О музыке»708. В тесной связи с проблемой восприятия и эстетического суждения Августин поднимает в этой книге и некоторые другие эстетические вопросы. В частности, это касается проблемы числа и ритма (см. гл. V), которая в этой книге находит свое окончательное завершение. Здесь она теснейшим образом переплетается с вопросами восприятия, психическими закономерностями (числами психики) внутреннего мира человека. Само восприятие здесь как бы математизируется. Августин стремится выявить объективные законы (числа) восприятия и увязать их с общими космическими закономерностями. Он пытается не только понять механизм воздействия эстетического объекта на человека и механизм создания этого объекта, но и определить место эстетических закономерностей в порядке всего универсума, понятого в качестве всеобъемлющей числовой системы. Практически все эстетические явления, о которых шла речь в этой работе, находят здесь свое место в глобальной иерархии чисел.
В начале VI кн. Августин вводит классификацию из пяти разрядов чисел (или ритмов), которую затем дополняет и корректирует. К первому разряду относятся числа, находящиеся в самих звуках даже тогда, когда их никто не слышит, т. е. речь идет об объективно существующих закономерностях произведения искусства. Они-то и дают практически начало всем числам сферы восприятия. Второй вид – числа, существующие в чувстве или в ощущении субъекта восприятия. Августина в данном трактате интересует в основном слуховое восприятие, но он неоднократно показывает, что его выводы правомерны и для любого другого восприятия, ибо, по его мнению, любые ощущения связаны с числом. Даже при прикосновении пальцем к чувствительному месту тела «будет ощущаться число» (VI, 2, 3). Числа (ритмы) в ощущающей способности возникают только в том случае, когда на соответствующий орган чувств воздействуют числа объекта, и они исчезают, как только прекращается процесс восприятия объекта. Они подобны «следу, запечатлеваемому на воде». Как поясняет Августин в IV гл., речь здесь идет о физических процессах, происходящих в ухе под воздействием звука. «Отсюда вывод, что числа, находящиеся в самом звуке, могут существовать без тех, которые находятся в слышащей способности, тогда как эти последние существовать без первых не могут» * (VI, 2, 3). Числа ощущения необходимо отличать от чисел (ритмов) способности суждения, которые существуют и тогда, когда нет звука, и о которых речь впереди.
Числа третьего вида находятся в душе того, кто производит звук (в музыканте, к примеру). Этот вид не зависит от других видов и может проявляться в биении пульса, вздохах и т. п. Четвертый вид чисел находится в памяти; это способность запоминать. Он может существовать без первых трех видов, но только благодаря тому, что те ему предшествовали (VI, 3, 4). Наконец, существует еще и «пятый вид чисел, заключающийся в естественном суждении ощущающей способности, – когда нас радует равенство чисел и оскорбляет его нарушение»* (VI, 4, 5).
Таким образом, Августин различал пять элементов (или, как сказали бы мы теперь, – этапов), в коммуникативной цепи «художник – воспринимающий субъект» (несколько позже он дополнит ее еще одним элементом). При этом каждый элемент обладает, по мнению Августина, своими закономерностями (является особым видом чисел). Первый этап. – создание произведения («порождение чисел (ритмов) – более протяженное или краткое»), далее само произведение («звучание, которое приписывается телу») и процесс восприятия, состоящий из трех этапов: 1) непосредственное восприятие произведения (слушание), 2) работа памяти и 3) суждение о произведении на основе чувства удовольствия или неудовольствия. Последний этап, или пятый вид чисел, Августин считает высшим с точки зрения большей стабильности и вечности. Другим важным достоинством этих чисел является их полная принадлежность душе.
Как представитель христианско-неоплатонической мысли Августин, естественно, ценит душу значительно выше тела, но и телу он отдает должное с точки зрения гносеологии и эстетики. Душу он понимает еще в широком античном смысле, как средоточие всего духовного мира человека. А так как процесс восприятия осуществляется совместными усилиями души и тела, то он уделяет особое внимание соотношению и взаимодействию этих важных составляющих человека. Как неоплатоник и христианин, Августин предпочитает душу, но, как человек, еще принадлежащий античности с ее стихийным материализмом и пластическим мышлением и верующий, одновременно, в сотворение мира из ничего, воплощение Христа и грядущее воскресение всех во плоти, он, продолжая традиции своих предшественников – апологетов, стремится оправдать и телесную природу. Для этого ему приходится прибегать к достаточно примитивным суждениям. Истина, находящаяся в теле, полагает Августин, лучше лжи, заключенной в душе. Под истиной он имеет в виду реально существующий предмет (дерево), под ложью – его психический образ (дерево, увиденное во сне). Но не из-за тела – лучше, а ради самой истины, тут же добавляет он, ибо под действием греха тело изменилось к худшему. Однако, не унимается античный христианин в Августине, и тело «имеет красоту своего рода и тем самым значительно возвышает достоинство души, где и скорбь и болезнь заслуживают части какой-то красы». Поэтому не следует думать, что если душа «лучше тела, то все, что в ней происходит, лучше, чем то, что происходит в теле» * (VI, 4, 7). Здесь у Августина отчетливо просматривается та диалектика души и тела, которая была присуща всему христианскому неоплатонизму.
Что же роднит душу и тело, создает возможность их общения, с одной стороны, и дает общий критерий для их сравнения – с другой? Конечно же числа, хотя и различные. Чем больше тело пронизано присущими ему числами, тем оно лучше. Душу же эти числа ухудшают. Она, напротив, «будучи лишена тех чисел, которые она получает от тела, становится лучше, так как отвращается от телесных ощущений и преобразуется божественными числами мудрости» * (VI, 4, 7). Числа божественной мудрости далеки от тех, что находятся в произведениях искусства. Приведя цитату из Екклесиаста: «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и число»709 (Eccl. 7, 25) – Августин добавляет: «Эти слова отнюдь нельзя относить к тем числам, которыми оглашаются позорища театров, их, как я уверен, нужно относить к тем числам, которые душа получает не от тела, но скорее сама запечатлевает в теле, получив от всевышнего Бога» * (VI. 4, 7).
Далее, полемизируя с манихеями, Августин стремится показать, что тело не воздействует на душу в процессе восприятия; вернее, тело не формирует душу, как художник, придающий форму материалу. Душа не является материалом, так как она лучше тела, а всякий материал – хуже мастера, его обрабатывающего. Процесс творения заключается в придании материалу числа, но тело не создает в душе чисел. Когда «мы слушаем, в душе не возникают числа от тех [ритмов], которые мы воспринимаем в звуках» (VI, 5, 8). Но если тело прямо не воздействует на душу и, тем не менее, участвует в процессе восприятия, то как же осуществляется этот процесс? «Мы, вероятно, не сможем, – заявляет Августин, сознавая всю сложность задачи, – ни обосновать, ни объяснить это», – однако предлагает все же читателю свое решение.
Душа под божественным руководством господствует над телом и в теле. В одном случае это осуществляется легко, в другом – с большим трудом, в зависимости от того, как ей повинуется телесная природа. Если на тело извне осуществляется какое-либо воздействие, то «в этом теле, не в душе, возникает некое [действие], которое или противодействует действию души, или соответствует». Душа сопротивляется противодействию ниже ее стоящей материи и в результате этой борьбы становится напряженнее. И «эта, [возникшая] в результате трудности борьбы, напряженность (attentio), когда она не скрыта, называется восприятием (чувствованием – sentire)», которое в данном случае именуется болью и страданием. Когда же внешнее действие соответствует душе, «то она легко переносит все это в процессе своей деятельности. И эта акция, в результате которой она соединяет свое тело с внешней телесностью, осуществляется напряженно, вследствие участия внешнего члена, и она не скрывает [это]; но вследствие наличия соответствия (convenientia) восприятие происходит с удовольствием (cum voluptate sentitur). Когда же отсутствует соответствие, душа стремится его восполнить с помощью своего тела; и эта работа из-за своей трудности будет очень напряженной, и она не скрывает такую свою деятельность; называется же это голодом, жаждой или как-либо по-иному. Если же внешнее воздействие преобладает, так что деятельность [души] становится затруднительной и осуществляется не без напряжения и если эта деятельность не скрыта (non latet), то ощущается тошнота. Напряженность также возникает, когда [душа] отталкивает излишек, если спокойно – с удовольствием, если резко – с болью» (VI, 5, 9). «Я не хочу быть утомительным, – резюмирует свою мысль Августин, – мне представляется, что душа, когда она чувствует в теле, не от чего иного претерпевает, как от напряженного действия в своих страстях, и от нее не скрыто, что эти действия бывают или легкими вследствие соответствия, или тяжелыми из-за несоответствия – и это есть то, что называется чувствовать (sentire). Само же чувство, которое, пока мы ничего не воспринимаем, живет внутри нас, является инструментом тела, и его (чувства. – В. Б.) соразмерность (temporatio) определяется душой таким образом, чтобы оно было посредником телу в ощущениях, чтобы объединяло подобное с подобным и отталкивало вредное» (VI, 5, 10)710.
Таким образом Августин показывает, что чувственное восприятие – это сложный психофизиологический процесс, проходящий не механически, но при активном действии всех духовных сил человека (души, в терминологии Августина)711. Главной характеристикой любого восприятия и ощущения является напряженность, или внимание (attentio), души, которое обязательно возникает в психике как реакция на внешний раздражитель. Последний действует на телесные органы человека, возбуждая соответствующую реакцию души, осуществляемую посредством телесного же инструмента – чувства. Как заключает в конце этой главы Августин, «само восприятие (чувствование – sentire) есть движение тела, направленное против того движения, которое в нем имеется» (VI, 5, 15). Здесь Августин подметил некоторые признаваемые и современной психологией моменты в механизме чувственного восприятия, особо значимые для эстетического восприятия и связанные с возникновением в психике субъекта восприятия противоположно направленных аффектов.
Августин рассматривает пять различных ситуаций восприятия и ощущения. Первая – когда внешний раздражитель оказывает на психику действие, противоположное ее стремлениям. Возникшая при этом слишком сильная напряженность (перенапряженность) ощущается как боль или страдание. Когда раздражитель действует согласованно с душевной ориентацией, возникшее напряжение доставляет удовольствие, т. е. мы имеем дело практически с эстетическим восприятием, критерием которого, по Августину, является традиционная согласованность (convenientia), но не в самом объекте восприятия, а объекта с субъективной направленностью души. Эта интересная мысль, присущая и восточной патристике (Василию Великому, Псевдо-Дионисию и др.), играла важную роль во всей средневековой эстетике.
Третий случай – когда напряжение возникает в связи со стремлением души восполнить отсутствие соответствия с помощью своего тела. Соответствующие ощущения классифицируются Августином как чувство жажды, голода и т. п. Четвертый случай связан с избытком внешнего воздействия. Душа не успевает на него реагировать по существу и подает сигнал к прекращению такого воздействия, и как следствие – ощущение тошноты. Напряженность, возникшая в результате отбрасывания излишка внешнего воздействия, может доставлять удовольствие или причинять боль. Пятый случай имеет место, когда душа встречается с каким-либо расстройством своего тела. Напряжение, возникшее при борьбе с этим расстройством, называется чувством болезни или недомогания (VI, 5, 9). Во всех пяти случаях восприятия (к эстетическому восприятию, как мы видим, относится целиком только второй случай) Августин постоянно подчеркивает, что восприятием соответствующее напряжение называется только тогда, когда оно «не скрыто» (non latet). Вероятнее всего, речь идет о некотором осознаваемом душой напряжения или о сознательном внимании души, ибо еще в трактате «О количестве души» Августин, определяя чувство (или чувственное восприятие), писал: «...чувство есть претерпеваемое телом состояние, само по себе от души не укрывающееся» (De quant. anim. 25, 48)В. Отт также предлагает понимать под non latere сознание (Ott W. Op. cit., S. 52).. Однако неясной остается, к примеру, следующая фраза Августина: «Итак, не является нелепой наша вера в то, что душа не скрывает свои движения ли, деятельность ли, работу ли, – какими бы именами ни называли ее действия, – когда воспринимает [что-либо]» (VI, 5, 11). Не скрывает от себя, от разума? В целом этот рационалистический момент августиновской теории остается не совсем ясным.
Механизм восприятия для всех органов чувств, подчеркивает Августин, одинаков. Те или иные чувства включаются в действие в зависимости от характера внешнего раздражителя. Так, светлое воздействует на глаза, «очень чистый и подвижный воздух» – на уши, «насыщение парами» – на обоняние, влажное – на вкусовое ощущение, «земляное и как бы грязное» – на осязание. При всех этих воздействиях возникают напряженные действия (attentiores actiones) в теле, «соответствующие месту и органу чувства: так говорят о зрении, о слухе, об обонянии, о вкусе или об осязании; этими действиями охотно принимается все согласное и с неудовольствием отклоняется все несоответствующее. Я думаю, что этими действиями руководит душа, побуждаемая воспринимающим телом, когда она ощущает, что чувства (passiones) также не отклоняются» (VI, 5, 10). При восприятии любых внешних раздражителей: света, запаха или звука, – перемещается что-то в самом теле или все оно приходит в движение. Эти действия осуществляются душой на основе предшествующих ощущений (восприятий) (VI, 5, 12), т. е. восприятие зависит от сенсуального опыта субъекта.
Изложение этой теории восприятия, опирающейся во многом на учение Плотина, Августин предпринял, конечно, отнюдь не ради самой теории. Она, в его глазах, служила подтверждением того, что «если душа в результате этих действий что-либо претерпевает, то претерпевает она от себя самой, а не от тела». Вывод этот, однако, вряд ли следует из изложенной теории, но Августину необходимо показать, что в иерархической «лестнице»: Бог – душа – тело, – воздействие возможно только в одном направлении – сверху вниз.
Сделав экскурс в психологию восприятия, Августин опять возвращается к пяти видам чисел, с тем чтобы упорядочить их в строгую иерархию. Из трех видов чисел – звучащих, находящихся в чувстве слуха и обитающих в памяти – первым он отводит последнее место, как числам телесным. Из двух остальных видов, находящихся, как отмечает Августин, в душе, он отдает предпочтение «находящимся в чувстве слуха», так как от них происходят и те, которые хранятся в памяти. Числа, находящиеся у производящего звук (или относительно искусства – у художника), Августин ставит выше чисел чувcтва слуха, так как они существуют и при полном молчании, и без поддержки памяти и производятся самой душой. И высший вид, как уже было показано, – числа судящие. Августин дает всем числам и соответствующие названия. (Не все из них поддаются адекватному переводу. Приводя здесь достаточно удачный перевод В. П. Зубова, в дальнейшем мы все же для большего удобства оставим их латинские наименования, как это и принято во многих научных исследованиях данного трактата.) «Пусть первые числа назовутся судящими (judiciales), вторые – движущимися вперед (progressores), третьи – откликающимися (occursores), четвертые – содержимыми в памяти (recordabiles), пятые – звучащими (sonantes) * (VI, 6, 16).
К. Перл считает эту иерархическую расстановку оригинальной находкой самого Августина, не встречающейся у других авторов712 . Особый интерес она представляет для истории эстетики. Выделив, как мы уже показали, основные этапы в цепи «художник – произведение – субъект восприятия», Августин подчеркивает, что способность суждения на основе чувства удовольствия-неудовольствия выше даже творческой способности, чем косвенно утверждает, что закономерности (числа) способности суждения в какой-то мере определяют и законы творчества. Порядок остальных трех видов чисел менее очевиден, и его обоснование Августином не очень убедительно. Исходя из логики нашего автора, следовало бы, к примеру, числа памяти поставить выше чисел откликающихся, так как первые более духовны, ибо целиком находятся в душе, а occursores являют собой рубеж между телесным и духовным. Они находятся, как показал раньше Августин, в самом органе восприятия. Это первичное звено сферы восприятия. Именно между ними и судящими числами возникает то напряжение, которое Августин называет собственно восприятием (или ощущением), ибо здесь происходит встреча сигналов, идущих от внешнего раздражителя и от самой психики. С другой стороны, если последовательно проводить причинный принцип Августина в области чисел (occursores выше, так как они являются причиной recordabiles), то придется признать, что звучащие числа должны быть выше и recordabiles, и occursores. Здесь Августин, конечно, непоследователен, но заслуга его состоит в том, что он предпринял попытку системно, сказали бы мы теперь, подойти к проблеме творчества и восприятия, и попытку далеко не безрезультатную.
Из всех названных видов чисел судящие имеют наибольший срок жизни, но и они не вечны, а исчезают со смертью человека. Это числа, присущие только человеку. Притом они имеют свой характер и диапазон действия для каждого конкретного индивида. Одни люди судят быстрее, другие медленнее, одни – на основе сравнения с другими образцами, другие – опираясь на свое внутреннее чувство. Соответственно и воспринимают все люди по-разному, хотя и в определенных рамках. Различие восприятия зависит от природных данных и от практики восприятия, определенной тренировки (VI, 7, 19). Субъективный характер восприятия (особенно искусства) отмечали многие авторы и до Августина, но попытку теоретически разобраться в этом мы встречаем, пожалуй, впервые только у него.
Числа чувственной (или эстетической) способности суждения ставятся Августином выше остальных видов чисел еще и потому, что они завершают процесс восприятия и руководят всей творческой деятельностью, т. е. числами progressores. На их основе Августин связывает в единую систему процессы восприятия и творчества. «Ведь и числа, называемые progressores, – пишет он, – когда стремятся к какому-нибудь численно выразимому действию в теле, соразмеряются скрытно в соответствии с этими судящими числами713. В самом деле: то, что нас удерживает при хождении от неравных шагов, или... при ваянии от неодинаковых движений пальцев, – чтобы не перечислять многочисленные другие действия, – то, что сдерживает нас, понуждая при намерении осуществить что-либо посредством телесных членов, избегать неравных движений и молчаливо внушая нам некое равенство, – это и есть нечто судящее» * (VI, 8, 20). Процесс творчества, таким образом, регулируется и приводится в соответствие с законами восприятия, ибо judiciales – это прежде всего высшая ступень восприятия714.
Сам процесс восприятия осуществляется, по мнению Августина, при сложном взаимодействии чисел ощущения (occursores) и чисел памяти (recordabiles). Любой акт восприятия длится во времени и, если бы память не участвовала в процессе восприятия, мы не могли бы ничего воспринять, так как при переключении внимания на следующий слог, или звук, или другую сторону статуи, мы забывали бы мгновенно предыдущий слог, звук или ракурс скульптуры. Для истории эстетики имеет большое значение, что Августин специально подчеркивает временной характер зрительного восприятия, тем самым приравнивая по механизму восприятия временные виды искусства (поэзию, музыку) и статические (изобразительные искусства, архитектуру). «Ведь и в самих телесных формах, – пишет он, – видимых глазом, мы не можем судить ни о круглом и четырехугольном, ни о любом другом объекте, и вообще не можем ощущать их, не вращая их перед глазами; но если забывается виденное с одной стороны, когда смотрят на другую, то намерение судящего вовсе не достигает цели, ибо и здесь есть некая длительность времени, за изменением которой должна бдительно следить память» * (VI, 8, 21). Одни числа occursores без recordabiles ничего практически не могут воспринять. Так случается, когда мы не направляем свое внимание на восприятие чего-то, происходящего в нашем присутствии, например, разговора, когда мы увлечены каким-то делом. Мы слышим с помощью occursores голоса, но не понимаем и не воспринимаем разговора, так как recordabiles здесь направлены на другое и «вследствие внимания к другому тотчас же угасает импульс движения» (VI, 8, 21).
Августин отмечает две формы участия чисел (ритмов) памяти в восприятии. Первый – непосредственное восприятие, когда числа памяти доводят до судящих чисел числа ощущения. Второй – воспоминание. В этом случае память приносит судящей способности «следы» того, что было воспринято когда-то715. Числа occursores в этом процессе не участвуют (VI, 8, 22).
Итак, числа чувственной способности суждения являются главными и в процессе восприятия, и в акте творчества. Однако и они не до конца удовлетворяют Августина, так как действенны они только в определенном временном пространстве, могут судить только о том, что заключено в определенных границах времени, к тому же – только о том, что может быть расчленено в памяти. Нет ли более высоких чисел? – спрашивает себя Августин. Он берет для примера стих из гимна Амвросия Медиоланского «Deus creator omnium»716 и рассуждает следующим образом: Когда мы поем его, «мы слышим с помощью чисел occursores, узнаем – с помощью recordabiles, воспроизводим – с помощью progressores, получаем удовольствие через судящие числа и оцениваем (aestimare) с помощью некоторых других чисел, которых я еще не знаю; и от того удовольствия, которое является как бы суждением этих судящих чисел, возникает это другое, вторичное, более скрытое и более верное суждение» (VI, 9, 23).
Таким образом, Августин развивает дальше свою теорию эстетического восприятия. На основе чувственного суждения, «чувственного наслаждения» (delectari sensu) возникает более глубокая и верная «разумная оценка» (aestimare ratione). Августин сразу же стремится показать, что это две совершенно различные ступени, два разных вида чисел. Если мы различаем процессы восприятия, активного творчества и воспоминания, то должны различать и следующие два вида. Первый – принятие или отклонение движений на основе чувства удовольствия (in delectatione), получаемого от соответствия и согласованности в них, или – неудовольствия – от несоответствия; второй – оценка: правильно или неправильно возникло чувство удовольствия. Это чисто рациональный момент, рассудочная оценка (ratiocinando).
Если правильно, рассуждает далее Августин, что существуют некоторые числа, дающие возможность на основе чувства удовольствия признавать соизмеримые интервалы и отклонять беспорядочные, то необходимо признать, что разум, который возвышается над чувством удовольствия, тоже имеет свои числа и с их помощью может судить о нижестоящих числах. Если же это так, то нет сомнения, что в душе находится пять видов чисел, к которым присоединяется еще тот телесный вид, который был назван «звучащие» (sonantes). Теперь Августин считает необходимым внести уточнение в свою числовую иерархию. Высшими являются, конечно, те числа, которые дают оценку на основе разума. Они и выносят истинное суждение, следовательно, их и нужно назвать «судящие» (judiciales). Названные же сначала judiciales, дающие собственно эстетическое суждение, следует назвать sensuales (чувственные, судящие на основе чувства)717. Кроме того, и sonantes Августин считает теперь нужным назвать corporales (телесные), чтобы резче (уже в самом названии) противопоставить их пяти остальным видам, как принадлежащим душе (VI, 9, 24).
Введение рациональной оценки как высшей вполне закономерно для Августина, поставившего уже в трактатах кассициакского периода разум выше всего в человеке и верящего в почти безграничные его возможности. Эту тему он развивает несколько ниже и в «De musica». Интересно другое: почему Августин сначала дает только пятичастную иерархию, выводит эстетическое суждение на первое место, присвоив ему высший титул, и много и подробно говорит о нем? Только ли это традиционный риторический прием? Но ведь и любой словесный прием имеет у учителя красноречия свое значение. В данном случае он направлен на привлечение максимального внимания читателя к эстетическому суждению. Случайно ли это? К. Перл считал, что Августин мало заботился о словах вообще. И в этом случае он руководствовался своим излюбленным принципом, введенным еще в трактате «Против академиков»: «Когда речь идет о деле, не стоит спорить о словах» (Contr. acad. III, 20)718. Конечно, Августин всегда ценил сущность значительно выше обозначения, но он отнюдь не был равнодушен к словам. Он подробно обсуждает многие основополагающие термины в своих трактатах. Использовав в тексте какое-либо греческое слово, он обязательно указывает на причину такого словоупотребления – или потому, что в латыни нет ему адекватного слова (чаще, называя традиционный греческий термин, он тут же дает его латинский эквивалент), или потому, что не стоит, как он считает, вводить иностранных слов для тех понятий, которые хорошо обозначены в родном языке. Так что вряд ли он мог бездумно ввести такой важный термин, как judiciales, а затем поменять его содержание.
В логике обоснования шести видов чисел, как и процесса восприятия в целом, отразилось двойственное отношение и самого Августина, и шире, всей поздней античности, к проблеме чувственного (в том, более возвышенном смысле, какое мы вкладываем сейчас в понятие «эстетическое») и рационального. Греко-римская древность умела как-то безболезненно и органично сочетать и переплетать эстетическое и рациональное. Эти две составляющие человеческого духа не мешали друг другу в классической древности. Но уже эллинистический период принес с собой кризис разума, столкнув его с глубинными неосознаваемыми тайниками человеческой психики, в которые восточные «брахманы, маги и волшебники» проникали, по мнению эллинов, отнюдь не с помощью разума. Все это заставляло позднюю античность, особенно после активного распространения христианства в Империи, обратиться к «не-разумному» – к чувству, вере, эстетическому. При этом с чувством связывались почти все вербально не выражаемые движения человеческого духа, что особенно актуально было для различных культовых действ и искусства. Мы помним, к примеру, как высоко ставил Цицерон эстетическую оценку в вопросах ритма. Зрелища, разжигавшие чувственность, процветали в позднем Риме, и как реакция на них – ригоризм, аскетизм в суждениях многих христианских и нехристианских мыслителей поздней античности. По «Исповеди» Августина мы знаем, как болезненно протекал в нем самом процесс борьбы разума с необузданной чувственностью, как тяжело было отказываться ему от прекрасных женщин, от роскошных театральных зрелищ, от блестящей служебной карьеры и светской суеты буйного предзакатного Рима.
Не все ли это отразилось и в последнем эстетическом трактате Августина, когда он, может быть в последний раз, особым риторическим приемом вывел на первое место эстетическое суждение, чтобы затем свергнуть его с помощью разума, но перенеся на этот разум название, уже тесно связанное в душе читателя с эстетическим суждением. Что это? Ностальгия по отринутой сфере? Отзвук уходящих увлечений юности? Или уже новое понимание ограниченности и разума, и рациональной оценки и ощущение необходимости возвращения к чувству, но уже на каком-то ином, новом уровне? Так ли уж случайна игра в слова: rationales теперь стало judiciales, а judiciales превратилось в sensuales? Августин был человеком своего времени, жил им и выражал главные духовные тенденции этого времени, меньше всего задумываясь об этом.
Однако введение рациональной оценки опять возвращает нас от искусства к науке, ибо, конечно, все ее математические достижения, изложенные в первых пяти книгах «De musica». по достоинству могут быть оценены только разумом. Августин стремится исследовать далее сферы деятельности разума и чувственного суждения. Разуму доступно все то, о чем до сих пор писалось в трактате, и прежде всего он постигает, «что есть сама хорошая модуляция, которая заключается в некотором свободном движении, стремящемся к красоте» (VI, 10, 25). Он постигает законы организации ритмов и все числа, связанные с созданием и восприятием искусства, включая и свои собственные числа, как наиболее высокие.
А что же входит в сферу чувственного суждения и на основе чего оно судит? Здесь Августин обращается к тем эстетическим проблемам ритма, которые он наметил во II-V кн. трактата, и развивает их дальше. Прежде всего это касается закона равенства. Именно на нем во всех его модификациях (равенство, соразмерность, соответствие, пропорция – все это объемлет многозначный термин aequalitas) и основывается «чувственное суждение», или чувство удовольствия (радости, наслаждения – delectatio). На этой ступени восприятия душа не может познать закона равенства, но только чувствует радость от восприятия самого равенства719. «Телесное удовольствие души» не способно даже оценить, истинное ли это равенство, т. е. оно может допустить ошибку, принять неравенство за равенство, и у него нет критерия для исправления ошибки. А что может быть хуже, чем •принять подражание равенству за само равенство, хотя «мы не можем отрицать, что само подражание в своем роде и в своем порядке является прекрасным». Только разум признается Августином окончательным и законным судьей чувственной красоты. Он постигает те закономерности, к которым чувственность лишь стремится (VI, 10, 28)720.
Обращаясь, далее, к вопросу о пределах и границах восприятия, Августин опять напоминает, что числами пронизано все бытие от самых грубых материальных предметов до бескрайних космических далей и высших сфер духа, и доводит до логического конца свою теорию числовой организации бытия. Далеко не все из чисел (т. е. закономерностей) универсума доступны нашему восприятию. Правильно ориентированный в духовной сфере человек находится в системе числовой иерархии между высшими и низшими числами. При этом низшие числа не оскорбляют и не раздражают его, но только высшие доставляют удовольствие. Здесь Августин опять вспоминает антипод разума – delectatio, как средоточие всей духовной радости, высшего неописуемого наслаждения души, возникающего при восприятии всего соразмерного и вечного, т. е. практически эстетическое наслаждение. «Ибо, без сомнения, наслаждение является как бы основанием души» (VI, 11, 29)721. Оно упорядочивает душу. А что может быть выше тех чисел, которые содержат высшее, неизменяемое, вечное равенство? Там нет времени, так как нет изменяемости. Эти неизменяемые числа являются причиной и времени, которое создается и упорядочивается как подражание вечности, и всего космического порядка. Вращение неба, возникновение небесных тел и все остальное на звездных путях подчиняются «законам равенства, единства и упорядоченности». С небесными телами объединяются в единую космическую мелодию и подчиненные им земные предметы в круговороте своих исчисляемых времен (VI, 11, 29). «В этом, – развивает далее свою мысль Августин, – многое представляется нам неупорядоченным и расстроенным, ибо о каждом порядке мы судим по своим меркам и не знаем, что божественное Провидение представляет нам [все] прекрасным. Если, к примеру, кто-то встанет как статуя между роскошнейшими и прекраснейшими домами, он не сможет почувствовать красоты всего архитектурного ансамбля, так как сам будет его частью. Столь же мало может увидеть порядок построения всего войска солдат, находящийся на линии битвы. И в любом стихотворении, если слоги звучат какое-либо время, то они живут и чувствуют, но никоим образом им не может нравиться числовая соразмерность и красота соединенных [частей], так как они не могут ни обозреть, ни одобрить целого, ибо каждый из них образуется и имеет совершенство в продолжение быстротечного отрезка времени» (VI, 11, 30).
Таким образом, вечная красота и упорядоченность универсума, по мнению Августина, недоступны восприятию преходящего человека. Знание о высшем равенстве, единстве и упорядоченности он должен принять на веру. Ни восприятию, ни постижению высшая красота, понимаемая здесь как красота универсума, не поддается. Тем не менее она-то и является абсолютной ценностью. Числа же, возникшие в душе, ориентированной на преходящие вещи, также обладают красотой своего рода, но это красота преходяща, и божественное Провидение с досадой взирает на душу, устремленную к ней (VI, 11, 30).
Помимо непосредственного восприятия Августин подробно останавливается на двух видах представлений, связанных, как он считает, с памятью и «действующих против телесных восприятий». Августин обозначает их греческими терминами phantasia и phantasma (ср.: De Trin. XI, 10, 17). Под фантасией он понимает представления, образы, возникшие на основе когда-то бывшего реального восприятия. Однако эти образы неустойчивы и создают предпосылки для ложных суждений. На основе фантасий, которые в различных и противоположных направлениях волнуют душу, возникают новые духовные движения, которые уже не имеют прямой связи с предыдущими телесными восприятиями и чувственными впечатлениями и относятся к ним (подобны им – similes) как «образы образов» (imaginum imagines). Их Августин и называет phantasma. По-одному ибо, пишет он, представляю я себе отца своего, которого часто видел, и по-иному – деда, которого никогда не видел. Первое представление я нахожу в памяти – это фантасия, второе – в движении духа, берущем свое начало в памяти, – это фантасма. «Каким образом возникает и то и другое, трудно понять и объяснить. Все же, я думаю, что, если бы я никогда не видел человеческого тела, никоим образом не смог бы я мысленно образовать его видимую форму. Но и то, что делаю я из того, что я видел, я делаю с помощью памяти; и все же одно – находить в памяти фантасию и другое – делать из памяти фантасму» (VI, И, 32). Фантасмы возникают на основе свободных комбинаций образов когда-то виденных предметов и их элементов. Так, пишет Августин в «De Trinitate», никто не видел черных лебедей или четвероногих птиц, но наше воображение легко может представить себе и тех и других. Управляет фантасией и фантасмой (сознательно или неосознанно) воля (De Trin. XI, 10, 17).
Эти идеи, хотя они во многом и опираются на соответствующие мысли Плотина722, представляют большой интерес и для истории средневековой гносеологии, и для истории эстетики. Фантасия означает у Августина нечто близкое к нашему «представлению», но имеющему уже некое отступление от действительности, а фантасма близка к нашему «воображению», «фантазии». Важно, что обе формы мыслительных образов Августин производит от конкретного чувственного восприятия и видит в них две последовательные ступени отхода мысли от этого восприятия в область достаточно свободного воображения. И фантасию и, тем более, фантасму нельзя принимать за истинное представление. Истинное суждение на основе чувственного восприятия составляет, как мы видели, только разум с помощью своих судящих чисел. Тем не менее доля истины, но особой, неформализуемой, содержится и в фантасии, и в фантасме. Не бессмысленно ведь говорим мы, что в первом случае «мы чувствуем это так», а во втором – «мы так это воображаем (imaginari)». «Не без основания я могу сказать, что я имел отца и деда; но сказать, что они были точно такими, как их сохранил мой дух в фантасии или в фантасме, было бы в высшей степени неразумно». Есть, однако, люди, которые все суждения основывают только на своих фантасиях и фантасмах, принимая их за знания, постигаемые чувствами. Августин с осуждением относится к ним (VI, 11, 32).
Последовательно разбирая сначала структуру произведений искусства, затем механизм их восприятия, Августин постоянно помнит изначальную цель своего исследования в данном трактате: подняться от анализа низших материальных чисел к высшим, вечным723. Один разряд таких чисел он нашел в упорядоченной организации космоса. Но те числа практически непостигаемы и далеки от искусства. Выявив пять видов чисел в душе, а также способность образования в ней на основе памяти таких образов, как фантасия и фантасма, он чувствует, что не исчерпал еще внутренний мир человека, и опять пристально всматривается в него. Снова его внимание привлекает память. Оказывается, она способна не только производить «телесные движения духа» типа фантасии и фантасмы, но и содержит еще новый вид чисел – духовные (spirituales). Что же это за числа?
Если мы обратимся к искусству ритмическому и метрическому, рассуждает Августин, «которое производит стихи», то мы увидим, что это искусство обладает некоторыми числами, в соответствии с которыми и образуются стихи. Числа эти существуют и тогда, когда стиха еще нет. В данном случае термином ars Августин обозначает и искусство как творческую деятельность, и искусство как науку, соответствующую теории искусства. Искусством в первом смысле «является некоторое настроение (или состояние) духа художника»724, которое бывает только у того, кто сведущ в теории искусства (VI, 12, 35). В основе законов искусства лежат числа двух видов – преходящие и непреходящие. Первые меняются в различные исторические периоды – с ними связаны, например, изменения длительности тех или иных слогов. Эти числа необходимо изучать. Вторые числа (законы) никогда не меняются, наподобие суммы одного и двух, всегда равной трем. Эти вечные числа постоянно находятся в глубинах нашего духа (они-то и есть spirituales) и, отпечатываясь в уме человека, производят то «настроение» (affectio), которое и называется «искусством». Числа эти даны душе Богом. Поэтому даже тот, кто никогда не слышал об искусстве и его числах, с помощью наводящих вопросов может ему научиться. Он просто вспомнит, побуждаемый словами спрашивающего, то, что находится в глубинах его духа, но еще не всплыло в памяти.
Для истории эстетики приведенные мысли интересны тем, что Августин дает здесь новую дефиницию искусства с точки зрения непосредственного творческого акта. Определяющим в этом акте оказывается настроение, состояние духа художника, а не ratio, хотя далее он дает понять, что это «настроение» не субъективное состояние духа, а отпечаток в уме вечных духовных чисел.
Законы искусства Августин разделяет на непреходящие и изменяющиеся во времени. Эта важная для эстетики мысль, по всей видимости, была впервые сформулирована именно Августином.
Далее автор трактата «О музыке» ставит интересный вопрос. Если вечные числа заложены в душе, то почему же дух наш всякий раз, а часто и изначально, уклоняется от их рассмотрения? Что отвлекает его от «вечного равенства», выше которого ничего нет? Конечно же то, что мы больше всего любим. А что можем мы любить больше, чем прекрасное? Правда, говорят, что есть и «такие, которые любят безобразное (deformia) и которых греческое простонародье называет σαπροφίλοι (любители тухлятины);725 различие, однако, состоит лишь в том, насколько меньше содержится прекрасного в этом (т. е. безобразном. – В. Б.), чем в том, что нравится большинству. Ясно, однако, что никто не любит того, от чьего безобразия (foeditas) чувство терпит неудовольствие» (VI, 13, 38). Прервем на минуту мысль Августина, ибо здесь мимоходом он высказывает, опять же впервые в истории эстетики, очень важную и основополагающую для всей средневековой эстетики мысль. В глазах христианина мир – творение божественного Художника (см. гл. VII), и ничто в нем не может быть абсолютно безобразным. Существует только абсолютная красота. То, что кажется безобразным, просто содержит очень мало прекрасного. Недостаток прекрасного и расценивается как безобразное. Но и в безобразном можно усмотреть свою, хотя и малую красоту. Не зря же существуют σαπροφίλοι? И для безобразного Августин вводит определенную градацию. То безобразное, которое еще хоть кто-то может любить, – это deformia, а то, которое доставляет страдание чувству, – это уж нечто совсем мерзкое – foeditas.
Итак, развивая дальше свою мысль о том, что прекрасное в материальном мире, которое все так любят, отвлекает дух от созерцания «вечных, абсолютных истин», Августин расширяет и дополняет свое изложенное ранее понимание прекрасного и лежащего в его основе «равенства». «Прекрасное, – пишет Августин, – нравится через число, в котором, как мы уже говорили, [оно] достигает равенства (соразмерности). Эта красота встречается не только в области слышимого или в движениях тела, но также и в самих визуальных формах, в связи с которыми чаще всего говорится о красоте». Однако не следует думать, что равенство (или симметрия) бывает только одного типа, когда один, непарный член занимает место посредине, а по обе стороны от него парные члены располагаются на равных расстояниях. Как же тогда оценивать красоту цвета и света, которые тоже радуют нас, т, е. красоту простых, не состоящих из частей, образующих равенство, предметов? – вслед за Плотином спрашивает Августин и отвечает уже по-своему. «Что же иное ищем мы в свете и цветах, если не то, что соответствует (congruit) нашим собственным глазам? Ибо от чрезмерного блеска мы отворачиваемся, но не желаем видеть и сплошную тьму, так же и чрезмерно громкие звуки нам неприятны, но не любим мы и невнятное бормотанье... В этом [восприятии] стремимся мы к тому, что соответствует мере нашей природы (convenientia pro naturae nostrae modo), а несоответствие мы отвергаем, хотя знаем, что другие существа его принимают. Не радуемся ли мы закону равенства, когда узнаем, что все существующее таинственным образом распределено в соответствии с этим законом? Доказательство того, что в области обоняния, вкуса и осязания мы чувствуем все по тем же законам, увело бы нас далеко, но легко показать, что и в сфере этих ощущений нет ничего, что нравилось бы нам не по закону равенства или подобия; а где равенство или подобие, там – числовое соответствие; нет ничего более равного или более подобного, чем один и один» (VI, 13, 38).
Итак, для простых, не состоящих из частей эстетических объектов «закон равенства» сводится к «соответствию мере нашей природы», т. е. к соответствию объекта определенным психическим характеристикам субъекта. Этот вывод, собственно, напрашивался уже ранее, когда Августин излагал теорию чувственного восприятия, но там его интересовали другие стороны вопроса. Эстетическая мысль поздней античности, таким образом, все активнее и последовательнее обращается от анализа закономерностей только произведения искусства к анализу системы: произведение искусства – психика субъекта восприятия, ибо уже осознается, что без анализа последней и в первом далеко не все оказывается ясным. Закон соответствия и соразмерности частей объекта теперь переносится на соответствие отдельных элементов объекта элементам психики (души) субъекта. Конечно, приоритет здесь принадлежит не Августину. Идеи эти в той или иной форме встречаются у его предшественников – как христианских (Василий Великий), так и нехристианских мыслителей. Во многом они восходят к плотиновскому пониманию красоты и ее восприятия (см. гл. VI). Августин, неплохо зная и по-своему переосмысливая плотиновские идеи, стремился развить их дальше, ибо они хорошо соответствовали философско-эстетической атмосфере его времени. В частности, в рассматриваемой книге трактата «О музыке» он пытается конкретизировать, с одной стороны, и математизировать – с другой, самую сущность красоты. В основу равенства и соответствия, составляющих ядро красоты, и в основу самих процессов восприятия и творчества Августин закладывает не абстрактную плотиновскую идею, но более конкретное «число» (numerus), что позволяет ему усмотреть нечто общее в законах творчества, восприятия, теории искусства и в самом произведении искусства. Это, конечно, новый шаг в истории эстетической мысли после слишком уж абстрактной эстетической эйдологии Плотина, хотя и базирующейся на ней.
Продолжая далее исследовать причины, отвлекающие душу от созерцания вечных истин, Августин постоянно вращается в круге эстетических проблем, ибо оказывается, что все связанное с искусством и прекрасным наиболее активно привлекает душу. Забота о чувственных удовольствиях уводит душу в область откликающихся чисел (occursores). Стремление к активной творческой деятельности возбуждает числа progressores. «Если отвлекают ее фантасия и фантасма, то так работает она с числами памяти (recordabiles). Если, наконец, ее отвлекает любовь к суетнейшему познанию подобных же вещей, то тогда действует она с чувственными числами (sensuales), в которых как бы обитают некие правила искусства, доставляющего радость через подражание» (VI. 13, 39). В последнем случае имеется в виду собственно эстетическое восприятие, основанное на чувстве удовольствия. Важно, что и этот вид восприятия Августин считает познанием (cognitio) и. более того, усматривает в законах восприятия «правила искусства» (regulae artis), притом искусства миметического. Сфера восприятия и чувственного суждения (числа sensuales) оказывает, таким образом, на что уже указывалось выше, прямое воздействие на процесс создания произведений искусства. Эту же мысль он развивает подробнее и в 14-й гл. VI кн. Именно «чувственные числа» (числа чувственной способности суждения – sensuales) участвуют в организации ритмов, метров, стихов. С их помощью возникают различные стопы, долгие слоги сменяются краткими, замедляется чтение в нужных местах, т. е. везде, где музыка расходится с грамматикой, действуют числа sensuales. Разум судит, опираясь на них, сравнивая одни размеры (стихотворные) с другими. Ими определяются и правила о начале и завершении стиха и т. п. (VI, 14, 47).
Высказывая столь интересные мысли в области эстетического, Августин в последних главах VI кн. «De musica» относится к этой сфере уже не очень одобрительно. Ведь она отвлекает душу (и так активно отвлекает!) от созерцания абсолютных божественных истин, порождает любопытство, которое «является врагом душевного спокойствия и в [своей] суетности лишено истины» (VI, 14, 47). Здесь Августина терзают противоречия, не оставлявшие его на протяжении всей последующей жизни. С одной стороны, он ощущает огромную притягательность эстетической сферы, видит ее гносеологическую, прежде всего, а иногда и морально-этическую ценность и поэтому уделяет так много внимания ее анализу, высказывая ряд глубоких и оригинальных мыслей. С другой стороны, ему никак не удается ввести ее на основе равноправного, имеющего свое определенное место элемента в систему своего христианско-неоплатонического миропонимания. В своей онтологии (лучше всего он показал это в трактате «О порядке») Августин нашел уже свое определенное место не только красоте, но и злу, и безобразному, и всему негативному в общей упорядоченной системе мироздания, притом такое место, где все это негативное, находясь на своем месте, способствует организации общего порядка и красоты универсума. В гносеологии же, поставившей своей главной целью постижение Бога, а в связи с искусством – высших, вечных истин искусства, высших законов равенства и т. п., найти место чувственно воспринимаемым и доставляющим радость объектам и самому эстетическому восприятию Августину удается только отчасти, причем в поздний период своего творчества в суждениях о музыке и о красноречии (см. гл. VIII). В трактате «О музыке» он только ведет активный поиск в этом направлении.
Интересно отметить, что поиск новых духовных ценностей хотя и проходит в «De musica» под знаком только что принятого Августином христианства, но далеко не всегда в своих выводах соответствует ему. В частности, в области мимесиса Августин стоит на твердых классических позициях, близких к аристотелевской, и часто как бы вообще ничего не знает ни о неоплатонической, ни о христианской тенденциях в этом плане726.
Показывая достаточно подробно, на что отвлекается душа от «вечных истин», хотя она часто и знает о их существовании, Августин нередко опирается на свой жизненный опыт, о чем он так ярко писал в «Исповеди». Это придает его теоретическим рассуждениям особую ценность, ибо они не книжны, а основаны на личном опыте, на личных переживаниях и душевных противоречиях. Так, делает вывод Августин, вспоминая, видимо, свое еще близкое прошлое, «душа, обладая знаниями, на которых она могла бы основываться, необязательно может укрепиться в них» (VI, 13, 42). Душа разрывается между земным и небесным, преходящим и вечным, чувственной красотой и абсолютным идеалом, часто отдавая предпочтение первому. И это не дает покоя африканскому мыслителю, мучительно ищущему выход из создавшегося противоречия, ибо отбросить чувственное, земное, материальное он не может, но не может и полностью принять их, когда вспоминает об абсолютном. Августин постоянно стремится показать, что сам по себе материальный мир, с его «низшей» красотой и телесными числами неплох и прочно занимает свое место в универсуме, но любовь души к этому миру не поощряется им, так как она, останавливаясь на этой ступени бытия, утрачивает перспективу высших духовных ценностей. Что легко для души? – вопрошает он и с горечью отвечает: любить цвета и звуки, сладость и розы, т. е. все то, в чем она ничего не желает иного, кроме равенства и подобия (именно эстетический объект, добавили бы мы теперь). Но ведь в этом она познает только их (равенства и подобия) слабую тень и полустершийся след. А любить Бога, в котором не может содержаться ничего неравного, неподобного себе, ничего заключенного в определенном месте, ничего преходящего во времени, для души тяжело. При возведении больших зданий и им подобных сооружений, если не насмехаются над «законом искусства», не радуют ли нас исключительно числа, которые здесь являются соразмерными и подобными? «Если это так, то зачем душа спускается от того истиннейшего свода равенства к этому и возводит на его руинах земной помост?.. Очень трудна любовь этого мира. Ибо то, чего душа ищет – постоянства и вечности, не обретает в нем, так как в преходящих вещах содержится низшая красота и они только подражают постоянству, которое передается через душу от высшего Бога» (VI, 14, 44).
Подходя к завершению трактата «О музыке» и вроде бы уже окончательно выяснив отношения между числами телесными и абсолютными, небесными, Августин вспоминает христианскую идею воскресения и восстановления плоти и опять обращается к телесным числам, дополняя свою числовую систему новыми штрихами из области творчества и онтологии. Предварительно он останавливается еще на восьми добродетелях, которые помогают душе избегать превратности судьбы и не отклоняться от истинного пути. Это четыре низшие добродетели: благоразумие (prudentia), воздержание (temporantia), твердость (fortitudo) и справедливость (justitia), и еще четыре – высшие и совершенные: упорядоченность (ordinatio), бесстрастие (impassibilitas), освященность (sanctificatio) и созерцание (contemplatio) (VI, 16, 51 – 55). С их помощью душа преодолевает любовь к преходящим вещам и вкушает «сладость» вечного.
Подводя итог своим исследованиям в области метафизики чисел, Августин резюмирует: весь мысленный и материальный космос – упорядоченная система чисел. Душа человека находится между Богом и миром. Она управляется Богом с помощью чисел и сама управляет числами (ритмами) телесного уровня. Все соисчислимое прекрасно, но числа телесного уровня обладают минимальной красотой. Прекрасны числа благодаря законам равенства, подобия и порядка.
Однако как возникли телесные числа, т. е. практически весь материальный мир? Христианство утверждает, что он был создан Богом из ничего, и Августин, еще во власти античной философии, стремится доказать эту заведомо недоказуемую (в восточной патристике уже и в это время она считалась априорной) посылку если не «диалектическим» способом, то хотя бы с помощью аналогии. Как к ближайшей аналогии он обращается к творчеству художника и рассматривает его в данном случае с сугубо идеалистической позиции, хотя до этого он постоянно придерживался классической миметической теории. Смысл доказательства сводится к тому, что если художник может из одних (разумных) чисел создавать другие (телесные), то всемогущий творец – Бог, конечно же, может создать все числа, т. е. мир из ничего. Имеет смысл подробнее проследить эти заключительные рассуждения.
«Если художник (faber), – пишет Августин, – действительно может из чисел разума (rationahiles), которые находятся в его искусстве, сделать чувственные числа (sensuales), которые ему присущи, и эти sensuales превратить в движущиеся вперед числа (progressores), с помощью которых он движет своими членами при работе, и при этом уже появляются временные интервалы, и если он ими (progressores. – В. Б.) изготовит видимые формы из дерева, которые в своем пространственном членении соответствуют числовым закономерностям, то не может ли сама природа вещей, само дерево (в данном случае. – В. Б.), повинуясь указанию Бога, быть изготовлено из земли и других элементов? А эти, последние, не должны ли сами [возникнуть] из ничего?» Конечно, и дереву предшествовали пространственные и временные числа, ибо в каждом корне шевелится уже в скрытых числах та сила, которая приходит от семени и создает в соответствующее время ростки, стебли, листья, плоды и новые семена. Значительно сильнее открывается это в телах живых существ, чьи члены еще больше выявляют числовое равенство (parilitas). Если все это может состоять из элементов, не могут ли сами элементы возникнуть из ничего? В них содержится нечто более низкое (в смысле структурной организации), чем земля. Последняя обладает основным свойством тел, которое обнаруживается в единстве, числе и порядке. Неотъемлемым свойством земли (как вещества) является то, что каждая ее мельчайшая частица имеет три измерения (длину, ширину, высоту), чтобы быть способной принять форму тела. «Откуда у земли и соразмерность (aequalitas) частей, которые в длину, ширину и высоту простираются? Откуда и разумное соотношение (corrationalitas – так именно хотел бы я назвать аналогию), которое сообщается даже самым маленьким неделимым частям, так что [отношение] ее ширины к длине и ее высоты к ширине находятся в разумном отношении? Откуда, спрашиваю я, все это может прийти, если не от того высшего и вечного начала чисел, подобия, равенства и порядка? И если ты лишишь землю всего этого, станет она ничем (nihil erit). Только так всемогущий Бог создал землю, и из ничего земля была создана» (VI, 17, 57). Коснувшись земли, Августин должен традиционно сказать и о других основных элементах. Исходя из принципа максимального единства частей и степени их подобия друг другу, он заключает, что вода прекраснее земли, воздух прекраснее воды, а прекраснее его верхние слои неба. Во всех этих элементах находятся пространственные числа и постоянно протекают временные числа. Без них эти элементы ни существовать, ни иметь своей формы не могут.
Еще выше их – «разумные и духовные числа существ духовных и святых, которые воспринимают без посредствующей природы закон Бога; тот закон, без которого ни один листок не упадет с дерева, по которому сосчитан каждый наш волос и который они, ангелы, передают земным и подземным силам» (VI, 17, 58). Этой проникновенной мыслью, отчасти предвосхищающей то, что вскоре так подробно разработает знаменитый на все Средние века Doctor hierarhicus – Псевдо-Дионисий Ареопагит, и заканчивает Августин свое сочинение «О музыке». Логикой внутреннего развития христианское мышление и на Западе, и на Востоке приходит к иерархическому пониманию универсума. У Августина – это иерархия чисел. В ней «мир расчленен на ступени таким образом, что внутри этого порядка каждая ступень имеет свою позитивную ценность; так же и чувственность, которая лишь подражает равенству, обладает своей специфической красотой, поскольку и она этому равенству подражает»727. Смысл иерархической лестницы чисел в том, что она может стать регулятором жизни, устремленной к познанию универсума и его Первопричины. В этом плане и числа, принадлежащие искусству, должны возводить человека от чувственной жизни к жизни в ratio.
С определенной степенью условности числовая система Августина, включающая процессы эстетического творчества и восприятия, может быть представлена следующим образом. Высшее место среди созданных Богом чисел занимают вечные неизменяющиеся числа: разумные и духовные числа небесных чинов и пространственные и временные космические числа – источник всякого пространства и времени. Далее идут преходящие числа, а также числа материального мира, включающие верхние слои неба, воздух, воду и землю, и числа человека, состоящие из телесных чисел и чисел души. Последние, как мы видели, Августин подверг детальной разработке, постоянно обращаясь к тому или иному их аспекту на протяжении всей VI кн. «De musica».
Здесь проявились, с одной стороны, христианская неоплатоническая духовная ориентация автора, а с другой – его эстетические склонности и интересы. Именно этим объясняется отсутствие интереса у Августина к числам материального мира. О них, как мы видим, он вспоминает только в конце трактата, да и то мельком. Скажем, традиционный для античности огонь вообще ускользает здесь от его внимания. Не останавливается он и на такой категории, как «свет», хотя в одном месте, мельком опять же, показывает, что и свет может быть отождествлен с Христом и с Премудростью Божией (VI, 16, 52). Что касается чисел души, то среди них высшее место занимают числа разума, который берет начало от самого Бога. Эти числа имеют два названия: «судящие» – для процесса восприятия и «разумные» – для творчества. Далее идут sensuales, progressores, occursores и recordabiles с фантасией и фантасмой. О них уже было достаточно сказано.
Разум является изобретателем искусств. Самой системы искусств здесь Августин не дает, так как он занимался ею еще в трактате «О порядке», поэтому и мы не останавливаемся на них особо. Числа искусств делятся на теоретические и практические (телесные). Теоретические – это правила, или законы, искусства, в соответствии с которыми и творит художник. Это прежде всего духовные числа (spirituales), данные художнику от Бога и хранящиеся в глубинах памяти. Воздействуя на разум, они вызывают у художника особое творческое «настроение», «переживание» (affectio), которое и составляет основу творческого процесса. Это, так сказать, аффективный, внесознательный компонент творческого процесса, берущий начало непосредственно от Бога. Далее идут «рациональные» (или разумные) числа – правила искусства, диктуемые разумом. Однако, как показывает Августин, они входят и в теорию искусства, хотя и участвуют в творческом процессе не непосредственно, а через «чувственные» числа (числа эстетической способности суждения – sensuales). Кроме того, в теорию искусства входят и преходящие, исторически меняющиеся законы искусства и миметические числа, ибо искусство мыслится Августином прежде всего как подражательное. При этом одни искусства больше «подражают» числам материального мира (живопись, скульптура), другие – космическим числам (поэзия и музыка). Практические числа искусства – это те телесные (corporales) числа, которые звучат в стихах, метрах, ритмах и т. п.
Процесс творчества заключается в том, что все числа, отнесенные к теории искусства, воздействуют (rationabiles через sensuales, а spirituales через affectio) на производительные числа (progressores), волитивные числа, которые руководят телесными числами, т. е. определенными движениями рук, голоса художника, в результате чего и возникает произведение искусства. Процесс восприятия прост, и о нем уже много говорилось в данной главе. Такова условная схема эстетического творчества и восприятия, по Августину.
Конечно, не все нашло в ней отражение. Скажем, главные эстетические принципы, такие, как единство, равенство, соразмерность, подобие, порядок, красота, основанные на числах и пронизывающие всю представленную им систему, от высших ступеней к низшим, как на онтологическом, так и на психологическом уровнях, наглядно изобразить не удается. Но и то, что удалось показать, отчетливо выявляет как безусловные находки Августина, так и определенную однобокость его числовой системы. О находках мы уже много говорили. Однобокость является прежде всего следствием абстрактно-рационалистической ориентации автора. И эта ориентация, возникшая под влиянием в первую очередь пифагорейства, неоплатонизма и, отчасти, христианства, в целом далека и от античной классической эстетики, и от средневековой. Она – специфический продукт переходного периода. Суть ее сводится к тому, что Августина в трактате «О музыке» почти не интересует содержательная сторона искусства728. Все его внимание направлено на систему абстрактных закономерностей (чисел), воплощающихся в определенной форме искусства и доставляющих удовольствие при восприятии, и ни слова, даже мимоходом, не сказано о его содержательной стороне. И классики древности, которых знал Августин, – Платон, Аристотель, Феофраст, Цицерон, и практически все христианские мыслители, начиная с апологетов II – III вв. и кончая поздним Средневековьем и Возрождением, выдвигали на первое место в искусствах именно содержательную сторону729. Но, несмотря на это, эта односторонность, как это ни парадоксально, позволила Августину уделить основное внимание психологии творчества и восприятия, сделать интересные эстетические выводы.
Пристальное внимание Августина к внутреннему миру человека, к механизмам восприятия, познания, творчества, дало ему возможность поставить на обсуждение проблему эстетического восприятия и связать в одну систему сферы творчества, восприятия и само произведение искусства на основе психологии и теории чисел. Именно психологическая часть эстетики Августина, наиболее подробно изложенная в VI кн. трактата «О музыке», явилась самой оригинальной частью его эстетического учения730, отделившей августиновскую эстетику от эстетических учений древности и наметившей многие черты эстетики средневековой.
Заключение
Многообразные пути развития позднеантичной средиземноморской цивилизации привели в начале нашей эры к поискам некоторых синтетических образований на основе греко-римских и древнееврейских (и шире – ближневосточных) духовных и культурных феноменов. Реальную почву они обрели в новом религиозно-мировоззренческом движении – христианстве. Его первые теоретики, защитники и пропагандисты – апологеты, опираясь на новый религиозный опыт, Св. Писание (и прежде всего – на только что обретенные тексты Нового Завета), а также – на весь культурно-духовный опыт античности, предприняли критический анализ многих сторон предшествующей культуры с позиций новой религиозной идеологии. Построение христианской культуры они начали фактически с создания своего рода несистематизированной критической культурологии, в рамках которой значительное место заняли проблемы, определяемые современной наукой как эстетические.
На основе Св. Писания апологеты заложили такие фундаментальные предпосылки новой художественно-эстетической культуры и нового эстетического сознания, как вера в Воплощение Логоса, христианское понимание человека в единстве его души и тела; концепция любви; идея творения мира из ничего; антиномизм на дискурсивном уровне мышления и осознание сверхразумного опыта в качестве его более высокой формы; концепция сотворения человека «по образу и подобию» Бога; глобальный символизм.
Естественно, что основные богословско-мировоззренческие проблемы христианства были лишь частично поставлены апологетами. До их окончательной разработки и канонизации было еще далеко. Только в IV в. Отцы Церкви займутся их подробным и всесторонним осмыслением. Однако пафос первооткрывателей истины, характерный для ранних Отцов Церкви, как и вера в абсолютность этой истины, побуждал их смело высказываться по всем вопросам культуры, приводя нередко к глубоким интуитивным прозрениям, в том числе и в эстетической сфере. Именно апологеты выдвинули многие из тех эстетических идей (касающихся понятий образа, символа, аллегории, знака, их места в культуре; прекрасного, искусства), которые затем более основательно будут разработаны их последователями по aesthetica patrum, и в частности Блаженным Августином.
Первые Отцы Церкви подходили к культуре античности с позиций христианского гуманизма. Особо непримиримо относились они к зрелищным искусствам, осуждая жестокость гладиаторских боев, травли зверей, безнравственность мимических представлений, бездуховность «массовой культуры» имперского Рима. Критическое отношение к изобразительным искусствам побудило ранних Отцов Церкви поставить и ряд интересных теоретических проблем. Одна из них – о роли искусств в происхождении античных религий и культов. Отсюда – иконоборческие тенденции в раннехристианской эстетике. Другая проблема связана с иллюзионизмом позднеантичных изображений. Многие мыслители того времени относились скептически, а порой и резко враждебно к этим изображениям и выдвинули на смену античной категории мимесиса понятие фантасии, более «мудрой художницы», по выражению Флавия Филострата, чем подражание.
Большое внимание апологеты уделили вопросам творчества и отношения к художнику в новой культуре в связи с идеей творения мира из ничего. Понимание мира как высшего художественного произведения, созданного Богом по законам меры, порядка и красоты, подняло на новую высоту и проблему человеческого творчества, в частности художественного. Художника начинают отличать от ремесленника. По-новому понимается в этот период и прекрасное в мире и в искусстве. Природная естественная красота, и особенно красота человека, ценится многими апологетами значительно выше красоты искусства. Отсюда борьба с роскошью, косметикой, украшениями. При этом раннехристианские мыслители руководствовались не только эстетическими мотивами. Борьба с богатством, как источником зла, насилия и несправедливости в мире, играла здесь не меньшую роль. Особенно это характерно для II – нач. III в.
Апологетам принадлежит приоритет во введении в обиход христианской культуры такой важной категории, как символический образ в трех его главных модификациях: подражательный (миметический), символико-аллегорический и знаковый.
Анализ эстетических концепций и представлений Аврелия Августина показывает, что им фактически была создана сложная эстетическая система, единая и достаточно стабильная в целом, хотя и не лишенная противоречий и определенных моментов развития в частностях. Не изложенная систематически, эта своего рода «несистематическая система» Августина тем не менее, без сомнения, является наиболее полной и развитой эстетической системой античности731. И это не случайно. Ряд объективных и субъективных факторов способствовал появлению этой системы. Среди них можно указать хотя бы на следующие. В духовной культуре поздней античности ко времени Августина преобладали внерациональные формы и движения. Истину искали не в естественнонаучных знаниях или в философии, но на путях религиозного, мистического, сверхразумного опыта. В этой атмосфере эмоционально-эстетический подход к миру приобретал особое значение. Августин, на что мы неоднократно указывали, был от природы одарен обостренной эстетической восприимчивостью. Кроме того, он хорошо знал, хотя и не всегда из первых рук, основные эстетические концепции античности, как западной, так и восточной. Все это побуждало его постоянно обращаться к эстетической проблематике, притом в самых ответственных моментах своей общей философско-богословской теории. Это и привело его к созданию собственной эстетической системы, хотя, естественно, такой задачи перед собой он и не ставил.
Эстетическая система Августина теоцентрична и составляет важную часть его общемировоззренческой системы. Центром ее – абсолютной Красотой, но также и абсолютным Благом и абсолютной Истиной является Бог. Весь материальный и духовный мир предстает в этой системе произведением Бога, высшего Художника, сотворившего его по законам красоты. Поэтому все в мире (материальном и духовном) носит на себе ее следы. В онтологической иерархии прекрасное выступает одним из главных показателей бытийственности. Безобразное свидетельствует об отсутствии красоты и, соответственно, бытия. Понятно, что духовная красота занимает в этой системе верхние иерархические ступени. Все сказанное относится в одинаковой мере как к универсуму, так и к социуму и отдельному человеку.
В реальном человеческом обществе, представлявшемся Августину сложным конфликтным взаимопереплетением двух градов – града земного и града Божия, восхождение по ступеням красоты является одним из главных путей духовного совершенствования человека, ведущим его к достижению вечной блаженной жизни. Само блаженство предстает в изображении Августина, по сути дела, высшей ступенью эстетического наслаждения – это некое состояние бесконечно длящейся неописуемой радости, беспредельного ликования духа, высшее духовно-эмоциональное наслаждение: это абсолютно бескорыстное, лишенное малейшего элемента утилитаризма удовольствие. И оно в системе Августина является главной целью устремлений человека, пределом его мечтаний. Блаженство, по Августину, – не только высшая (будущего века) ступень бытия человека, но и желанный итог его познавательной деятельности – это состояние высшего, бесконечного абсолютного познания Истины. И хотя Августин, в силу, может быть, известной молодости и неискушенности латинского философского мышления того времени, оставался даже в облачении епископа последовательным приверженцем ratio, безраздельно верившим в его безграничные возможности, высшая ступень познания – vita beata представлялась ему состоянием сверхразумным. Отсюда и удивительно высокое место любви в его системе, в качестве главнейшего экзистенциального и гносеологического фактора. Любят же люди только прекрасное. Мир, однако, как ясно видит Августин, наполнен отнюдь не только прекрасными и добрыми вещами и явлениями. Он приходит к осознанию глобальной упорядоченности в мире (ведь он – прекрасное творение Бога!) всех позитивных и негативных явлений, т. е. в определенном смысле к одному из первых в истории философии осмыслений диалектической взаимосвязанности всех природных и социальных явлений. Для эстетики существенным оказывается возведенный Августином в норму закон контраста, или оппозиции, на котором и держится гармония мира.
Основные структурные закономерности бытия у Августина почти полностью сводятся к собственно эстетическим законам. Это прежде всего целостность и единство, затем число (или ритм), которое определяет все формы бытия, далее – равенство, подобие, соответствие, соразмерность, симметрия, гармония. Все они лежат и в основе искусства. Как Бог сотворил мир по законам красоты, так и человек-художник стремится строить на них свою деятельность. Содержащееся в его духе искусство и есть комплекс всех законов красоты, по которым он должен создавать конкретные произведения. Главным содержанием искусства является красота, и ценность произведения искусства определяется степенью выраженности в нем этой красоты. Понятно, что большей ценностью обладают искусства, выражающие более высокую ступень красоты, т. е. прежде всего красоту духовную. Августин не отрицает этим миметическую функцию искусства, но выше ценит «подражание» духовной красоте, чем красоте конкретно-чувственной. Поэтому музыка и искусство слова стоят в его системе на более высокой ступени, чем изобразительные или зрелищные искусства. Все искусства, по Августину, должны способствовать или непосредственному постижению той или иной ступени красоты, или приобщению человека к духовным, в частности философско-религиозным, ценностям. Выполнить это свое назначение они могут одним из двух способов: или путем прямого эмоционально-эстетического воздействия на субъект восприятия (например, как юбиляция в музыке), или с помощью своей знаково-символической функции. Изучение этих способов эмоционально-эстетического воздействия приводит Августина, с одной стороны, к детальной разработке знаковой теории, а с другой – к исследованиям в области эстетического восприятия, т. е. к созданию двух наиболее оригинальных концепций в его эстетической системе.
Таким образом, Августин, пожалуй, впервые в истории эстетической мысли, оказался невольным создателем целостной эстетической системы, включающей в себя все ее основные компоненты: эстетический объект (природа и искусство), эстетическое содержание (красота), эстетический субъект, процесс эстетического восприятия (и суждения) и творчества. И компоненты эти представлены в системе Августина не механически (тогда бы, собственно, и нельзя было говорить о системе), но в их реальной взаимосвязи и сложных переплетениях.
Эстетическая система Августина включает в себя почти все основные достижения эстетической мысли античности. Наряду с этим в ней много и новых, собственно августиновских находок, на которых мы подробно останавливались. Историки эстетики по праву видят в нем последнего античного и первого средневекового эстетика732 и почитают его, наряду с Псевдо-Дионисием, как родоначальника «тысячелетней эпохи средневековой эстетики»733. К этому можно, пожалуй, добавить только следующее.
Еще при жизни Августина Рим пал и непрерывная линия развития эстетики надолго прервалась на Западе. Следы эстетики, «не только античной, но и новой эстетики Августина», стали быстро стираться734. Поэтому Августин не имел прямых последователей и продолжателей. Только эстетика зрелого Средневековья активно восприняла и развила дальше многие его идеи. Однако в Средние века не нашлось мыслителя, который смог бы построить более полную эстетическую систему, чем августиновская. Эстетика Августина явилась нормой и образцом для средневековой эстетики, а многие ее положения оказались созвучными и художественному мышлению Средневековья. Более того, некоторые идеи Августина (к примеру, отдельные положения его знаковой теории, его учения о механизме эстетического восприятия и суждения, его рассуждения о структурных закономерностях красоты и искусства, в частности, закон контраста и т. п.) сохранили свою актуальность и до наших дней.
Итак, у первых Отцов Церкви в основном апологетической ориентации (на этом основании, как мы помним, в этот том был помещен и Блаженный Августин) начали складываться основы новой, христианской культурологии и новой эстетики. Последнее для нас имеет не только чисто академический интерес. Как известно, искусство, как и художественная культура в целом, является концентрированным носителем практически непроходящих ценностей. Во всяком случае, духовные ценности, нашедшие выражение в художественной культуре, оказываются, как свидетельствует исторический опыт, значительно более долговечными, чем ценности научные, философские и даже религиозные... Вспомним хотя бы об эстетической значимости многих наскальных росписей неолита, древнеегипетского, шумерского или вавилонского искусства. Да и Древняя Греция актуальна для нас сегодня вовсе не своей религией, и даже – не аристотелевской философией (хотя вся последующая западноевропейская философия и базируется на ней), а своим искусством – пластическим и словесным. Аристотель интересен сегодня только историкам философии, а поэмы Гомера, античная трагедия или греческая пластика классического периода являются мощным источником духовной пищи для нашего современника, обладающего, естественно, достаточно развитым эстетическим восприятием, т. е. эстетическим сознанием.
Эстетическое сознание – наиболее древняя и универсальная форма духовного мира человека, при этом – высокоразвитая и ориентированная на глубинные, сущностные основы бытия. Именно поэтому эстетические ценности, как универсальная квинтэссенция духовного потенциала Культуры, оказываются менее всего подвержеными коррозии времени и менее всего зависят от языковых, этнических, религиозных и т. п. границ, существенно влияющих на другие ценности и формы сознания. Отсюда – особая значимость изучения эстетического сознания других народов, других периодов истории культуры и прежде всего – древних. Это относится и к патристике. И хотя Отцы Церкви специально не занимались эстетической сферой и даже не подозревали о ее существовании, объективно они были «полноценными» и «добросовестными» носителями эстетического сознания своего времени, которое в их период, пожалуй, наиболее полно и адекватно воплотилось (хотя и в крайне диффузном виде) именно в их бесчисленных текстах, посвященных самой разнообразной богословской проблематике. Несколько позже оно (в Византии и Древней Руси) найдет и более адекватные формы в художественной культуре. Однако в период перехода от античной культуры к христианско-средневековой (и особенно – православной) новое эстетическое сознание и формировалось, и выражалось, и сохранялось наиболее полно в святоотеческой письменности. И, может быть, для будущих поколений именно этот пласт патристики, aesthetica patrum, окажется наиболее значимым и актуальным.
Список сокращений
БТ – Богословские труды. Москва.
ВВ – Византийский временник.
ВДИ – Вестник древней истории.
ПМЭМ – История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли.
CSEL – Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum. Wien.
DOP – Dumbarton Oaks Papers. Cambridge/Mass.
GCS – Griechische christliche Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Berlin.
PG – Patrologiae cursus completus. Ed. J.-P. Migne. Series graeca. Paris.
PL – Patrologiae cursus completus. Ed. J.-P. Migne. Series latina. Paris.
SP – Studia Patristica. Berlín.
TU – Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Berlin.
Указатель произведений отцов церкви
Августин
Aductationes in Job (Aduct. in Job) – Примечания к книге Иова
Confessiones (Conf.) – Исповедь
Contra academicos (Contr. acad.) – Против академиков
Contra epistulam Manichaei (Contr. ep. Man.) – На послание манихея
Contra Faustum Manichaeum (Contr. Faust.) – Против Фавста-манихея
De beata vita (De beat. vit.) – О жизни блаженной
De catechisandis rudibus (De cat. rud.) – Об обучении оглашаемых
De civitate Dei (De civ. Dei) – О Граде Божием
De consensu evangelistarum (De cons. evang.) – О согласии евангелистов
De diversis quaestionibus (De div. quaest.) – О различных рассмотрениях
De doctrina christiana (De doctr. chr.) – О христианской науке
De fide et operibus (De fid. et oper.) – О вере и деяниях
De fide et symbolo (De fid. et symb.) – О вере и символах
De Genesi ad litteram (De Gen. ad lit.) – О Книге Бытия буквально
De Genesi ad litteram liber imperfectura (De Gen. ad lit. imp.) – О Книге Бытия буквально, незаконченный трактат
De Genesi contra Manicheos (De Gen. contr. Man.) – О Книге Бытия против манихеев
De immortalitate animae (De immort. anim.) – О бессмертии души
De libero arbitrio (De lib. arb.) – О свободном выборе
De magistro (De mag.) – Об учителе
De musica (De mus.) – О музыке
De natura boni contra Manicheos (De nat. bon.) – О природе добра против манихеев
De opere monachorum (De op. monach.) – О деяниях монахов
De ordine (De ord.) – О порядке
De quantitate animae (De quant. anim.) – О количестве души
De spiritu et littera (De spirit. et lit.) – О духе и букве
De Trinitate (De Trin.) – О Троице
De utilitate credendi (De util. cred.) – О пользе веры
De vera religione (De vera relig.) – Об истинной религии
Enarrationes in Psalmos (Enar. in Ps.) – Толкования на псалмы
Enchiridion ad Laurentium (Enchirid.) – Руководство для Лаврентия
Epistulae (Ер.) – Послания
Tractatus in Ioannis evangelium (In Ioan. ev.) – Трактат на Евангелие от Иоанна
Retractationes (Retr.) – Обзор [своих сочинений]
Sermones (Serm.) – Беседы
Soliloquia (Solil.) – Монологи
Аристид
Apologia (Apol.) – Апология
Арнобий
Adversus nationes (Adv. nat.) – Против язычников
Афинагор
De resurrectione mortuorum (De res. mort.) – О воскресении мертвых
Legatio pro christianis (Leg.) – Прошение в защиту христиан
Гермий Философ
Irrisio gentilium philosophorum (Irris.) – Осмеяние чуждых философов
Дионисий Александрийский
Commentarium in principium Ecclesiastae (In princ. Eccl.) – Толкование на начало Книги Екклесиаста
De natura (De nat.) – О природе
De promissionibus (De promis.) – Об обетованиях
Ерм
Pastor – Пастырь
Ипполит Римский
Contra Noetum (Contr. Noet.) – Против Ноэта
Demonstratio de Christo et Anticristo (Dem. de Chr.) – Показание о Христе и Антихристе
Philosophumena (Phil.) – Философумены
Sermo in sancta theophania (Serm. in theoph.) – Слово на святое Богоявление
Ириней Лионский
Contra haereses (Contr. haer.) – Против ересей
Киприан
Ad Demetrianum (Ad Demetr.) – К Деметриану
Ad Donatum (Ad Donat.) – К Донату
De bono patientiae (De bono pat.) – О благе терпения
De habitu virginium (De hab. virg.) – Об одежде девственниц
De lapsis (De laps.) – О падших
De laudi martyrii (De laud. mart.) – О похвале мученичеству
De opere et eleemosynis (De op. et eleem.) – О [благих] делах и милостынях
Quod idola dii non sint (Quod idol.) – О суете идолов
Климент Александрийский
Paedagogus (Paed.) – Педагог
Protrepticus (Protr.) – Увещание к эллинам
Stromata (Str.) – Строматы
Лактанций
De divinis institutionibus (Div. inst.) – Божественные наставления
De opificio Dei (De opif. Dei) – О божественном творчестве
De ira Dei – О гневе Божием
Минуций Феликс
Octavius (Octav.) – Октавий
Ориген
Commentarium in Evangelium secundum Ioannem (In Ioan. Com.) – Комментарий к Евангелию от Иоанна
Commentarium in Evangelium secundum Matthaeum (In Matth. Com.) – Комментарий к Евангелию от Матфея
Contra Celsum (Contr. Cels.) – Против Цельса
De oratione (De orat.) – О молитве
De principiis (De princ.) – О началах
In Ieremiam Homiliae (In Ierem. Ноm.) – Гомилии на книгу пророка Иеремии
Exhortatio ad martyrium (Exhort.) – Увещание к мученичеству
Homiliae in Genesim (In Gen. Нот.) – Гомилии на Книгу Бытия
Homiliae in Psalmos (In Ps. Нот.) – Гомилии на Книгу Псалмов
Татиан Сириец
Oratio adversus graecos (Adv. gr.) – Слово к эллинам
Тертуллиан
Ad martyrus (Ad martyr.) – К мученикам
Ad nationes (Ad nat.) – К язычникам
Ad Scapulam (Ad Scap.) – К Скапуле
Adversus Hermogenes (Adv. Herm.) – Против Гермогена
Adversus Judeos (Adv. Jud.) – Против иудеев
Adversus Marcionen (Adv. Marc.) – Против Маркиона
Adversus Praxeam (Adv. Prax.) – Против Праксеана
Adversus Valentianos (Adv. Valent.) – Против валентиниан
Apologeticus (Apol.) – Апологетик
De baptismo (De bapt.) – О крещении
De carne Christi (De carn. Chr.) – О плоти Христа
De carnis resurrectione (De carn. resur.) – О воскресении плоти
De corona militis (De cor.) – О венке воина
De cultu feminarum (De cult. fem.) – Об одеянии женщин
De idololatria (De idol.) – Об идолопоклонстве
De oratione (De orat.) – О молитве
De paenitentia (De paenit.) – О покаянии
De pallio (De pal.) – О плаще
De patientia (De pat.) – О терпении
De praescriptione haereticorum (De praes. haer.) – Об отводе дела против еретиков
De spectaculis (De spect.) – О зрелищах
De testimonio animae (De test. anim.) – О свидетельстве души
Scorpiace (Scorp.) – Скорпиак
Феофил Антиохийский
Ad Autolycum (Ad Aut.) – К Автолику
Иустин Философ
Apologia I (Apol. I) – Апология I
Apologia II (Apol. II) – Апология II
Dialogus cum Tryphone (Tryph.) – Диалог с Трифоном
Псевдо-Иустин
Cohortatio ad Graecos (Coh. ad gr.) – Увещание к эллинам
Oratio ad Graecos (Orat. ad gr.) – Речь к эллинам
Epistola ad Diognetum (Ad Diogn.) – Послание к Диогнету (Христианский памятник II – III вв.)
Zusammenfassung
Das vorliegende Buch ist der erste Band der grundlegenden Forschungen des Verfassers zur «AESTHETICA PATRUM». Die Kirchenväter befaßten sich – wie insgesamt die antiken und mittelalterlichen Denker – nicht ausdrücklich mit den Problemen der Ästhetik, da die ästhetische Problematik erst später, nämlich in der Neuzeit, der wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen wurde. Doch das ästhetische Bewußtsein, das eins von den ältesten Formen des Bewußtseins darstellt, verkörperte sich implizit in vollkommener Form im künstlerischen Schaffen und im Kult und drückte sich hinreichend in zahlreichen patristischen Werken aus. Das vorliegende Werk ist der systematischen Analyse der ästhetischen Vorstellungen der Kirchenväter gewidmet. Die Notwendigkeit einer Aufarbeitung der unterschiedlichen Auffassungen der Kirchenväter resultiert insbesondere aus der Tatsache, daß viele ihrer Probleme, wie in der Monographie immer wieder nachzuweisen versucht wird, die Basis für die mittelalterlich-christliche Ästhetik sowohl des Westens, der lateinisch sprechenden Welt, als auch der des Ostens, von Byzanz und Rußland, bildete.
Die Einleitung legt den methodologischen Standpunkt der historischästhetischen Studie dar, nämlich die Auffassung, daß man die gesamte (natürliche, gegenständliche, soziale und geistige) Umwelt des Menschen, die sich irgendwie in gefühlsmäßig wahrnehmbaren Formen ausdrückt oder (und) als Objekt der nichtutilitären, sich selbst genügenden Betrachtung auftritt und dem Wahrnehmungssubjekt einen geistigen Genuß verschafft, der Sphäre des Ästhetischen zuordnen muß. Ein weiterer wichtiger methodologischer Einstieg in die Analyse der ästhetischen Anschauungen der Kirchenväter bietet sich im breiten Kontext vieler allgemeiner Probleme der philosophischen und theologischen Auffassungen zur Kultur dieser komplizierten Übergangsperiode. Diese Problemsicht gibt die Möglichkeit, eine Vielzahl von Fragestellungen zum Gedankengut der frühen Christen aufzuwerfen.
Der erste Teil des Buches ist der Geisteswelt der Apologeten gewidmet. Der erste der insgesamt fünf Abschnitte des Teiles gibt unter der Überschrift «Grundlegende Entwicklungstendenzen der spätantiken Kultur und Ästhetik» einen kurzen Überblick über die Kultur der Spätantike in der Periode des Entstehens und der Entwicklung des frühen Christentums (I – III. Jh.) Es ergibt sich von selbst, daß im Zusammenhang mit der Thematik nur bestimmte Aspekte dieser Zeit dargestellt werden konnten, die im Kontext der Gesamtproblematik stehen. So werden hauptsächlich jene Tendenzen der römischen Kultur beleuchtet, die von den Kirchenvätern besonders kritisiert bzw. völlig abgelehnt und bekämpft wurden. Schließlich geht es um das Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher Kulturtraditionen innerhalb des römischen Imperiums, der griechischrömischen und der orientalischen. Aufgezeigt werden insbesondere die inneren Faktoren dieser Synthese in der Periode des Hellenismus, die sich unter anderem widerspiegeln in den Auffassungen Philos von Alexandrien und in den erhaltenen Schriften früher christlicher Autoren. Ein besonderes Kapitel dieses Abschnittes ist der Ästhetik Philos von Alexandrien gewidmet, von dem sich die symbolisch-allegoretische Richtung in der patristischen Ästhetik herleitet.
Gemäß dem «Prinzip des breiten Kontextes» leitet der zweite Abschnitt zur Analyse der Kulturauffassungen der frühen Kirchenväter über. Auf Grundlage einer Auswertung praktisch aller uns überlieferter Texte jener griechischen und lateinischen Autoren (Justinus der Philosoph und Märtyrer, Tatian der Syrer, Athenagoras, Theophil von Andochien, Irenäus von Lyon, Hippolyt von Rom, Klemens von Alexandrien, Tertullian, Minucius Felix, Cyprian, Arnobius und Lachtantius) läßt sich erweisen, daß sie die Begründer einer prinzipiell neuen Kulturauffassung, nämlich der christlichen, waren und Theoretiker einer Kultur wurden, die das Leben in Europa bis ins 20. Jh. hinein bestimmte oder mitbestimmte.
Weiter ergab sich, daß die Apologeten, ausgehend von einer tendenziösen Kritik der antiken Kultur und dem Aufzeigen des ihrer Meinung nach unvermeidlichen Untergangs dieser Epoche, alle wichtigen Aspekte einer weiteren Entwicklung der Menschheit auf Grundlage der Evangelien durchdachten. Diese zwei Aspekte der Lehren der Kirchenväter – die ethische Kritik am Bestehenden und die Entwicklung einer neuen christlichen Weltanschauung – werden in der gesamten Monographie sorgfältig voneinander unterschieden und doch auch in ihrer Bezogenheit aufeinander dargestellt, so daß insgesamt deutlich wird, welche Elemente der Lehren aus dem geistigen Umfeld übernommen wurden und welche als eigener Beitrag des frühen Christentums zum kulturtheoretischen und ästhetischen Denken angesehen werden müssen.
Der zweite Teil des Abschnittes «Die philosophisch-teologische Konzeption der frühen Patristik» entwickelt die Gedanken weiter, indem er die wesentlichen Aspekte der patristischen Ontologie, Gnoseologie und Ethik darstellt und eine Analyse des Begriffs «Held» folgen läßt, der sich in dieser Periode im Christentum herausbildete. Denn das frühe Christentum entwarf ein bis zu dieser Zeit unbekanntes Bild vom "Krieger Christí, von den Krieger-Märtyrern, den Krieger-Bekennern, die dem Feuer und Schwert ihrer Gegner mit mannhafter Geduld, Widerstandskraft und Demut, mit dem Wort der Wahrheit und mit Tugend entgegentreten.
Der dritte Abschnitt «Die ethisch-religiöse Dominante im künstlerischen Schaffen» wendet sich der Problematik des Menschen, genauer der Frage nach dem frühchristlichen Humanismus zu und zeigt, daß das Christentum, das in der Dornenkrone, im Leiden und schmachvollem Tod des Gottessohnes die Rettung der Menschen sah, einen für die antike Welt völlig neuen Zugang zur Frage nach dem Sein des Menschen entwickelte. Sich an die Ideen der Stoiker und Kyniker anlehnend und entsprechend der neutestamentlichen Forderung auf Nächstenliebe bezeichneten die Kirchenväter der ersten Jahrhunderte Menschlichkeit und Nächstenliebe als die wichtigsten Prinzipien des menschlichen Zusammenlebens, erhoben also Forderungen, die bis in die heutige Zeit reichen.
Im christlichen Humanismus sieht der Autor eine wesentliche Quelle der frühchristlichen «Ästhetik der Verneinung», deren Wesen in der mehr oder weniger konsequenten «Enthüllung» und Verneinung praktisch aller entscheidenden Bestandteile der heidnischen künsthlerischen Kultur besteht. In drei Kapiteln versucht er deutlich zu machen, wie trotz dieser allgemeinen Grundhaltung die Kirchenväter die einzelnen Kunstgattungen – darstellende Kunst, Rhetorik, Theater – doch unterschiedlich bewerteten. Er gelangt zu dem Schluß, daß die Ästhetik der Verneinung (der frühen Christen) von keinem globalen Antiästhetizismus zeugt, sondern von einem anderen für die Antike nicht traditionellen Verständnis der ästhetischen Problematik. Den Christen schien es vor allem notwendig, sich von der antiken Emotionalität und Affektivität in der Kunst zu distanzieren, um von neuem, von der Struktur der neuen Ästhetik her, zu ihr wieder zurückzukehren. Am Ende des dritten Abschnittes zeigt er, wie auf Grundlage der negativen Beziehung zur antiken Kunst im frühen Christentum die Idee von der Notwendigkeit einer neuen, christlichen Kunst heranreifte, entsprechend dem Interesse der neuen Weltanschauung.
Der vierte Abschnitt der Monographie «Die neue ästhetische Problematik» zeigt, daß die eigentlichen ästhetischen Anschauungen der Patristik in vielerlei Hinsicht im Dienst und in Abhängigkeit von der christlichen Schöpfungslehre standen. Das Verständnis der Welt als Werk eines göttlichen Künstlers führte dazü das Schaffen des menschlichen Künstlers sehr hoch zu bewerten; den Künstler höher einzuschätzen als das Werk seiner Hände; die Schönheit und nicht den Nutzen als Grundlage des schöpferischen Aktes anzusehen; die Sphäre der geistig-moralischen Vervollkommnung des Menschen mit der ästhetischen zu verbinden.
Als ästhetisches Problem stellten die christlichen Denker die Fragen nach dem Schönen und nach dem Bild. Die Idee der Schöpfung der Welt durch Gott aus dem Nichts zwang die frühen Christen, das Schöne in bezug auf die Welt und den Menschen neu zu durchdenken. Da für die Christen die Welt das Werk eines göttlichen Künstlers war und der Mensch ihnen als Gipfel der Schöpfung erschien, galt ihnen im Gegensatz zu den Platonikern und orientalischen Denkern das natürliche Schöne der sichtbaren Welt und vor allem die natürliche Schönheit des Menschen als höchster ästhetischer Wert des Seins. Diesen stellten die Apologeten jedem beliebigen «künstlerischen» Schönen gegenüber, wie es im «heidnischen» Rom kultiviert wurde, so insbesondere der dekorativ-angewandten und der darstellenden Kunst. Höher als jedes sichtbare schöne bewerteten die Kirchenväter das moralisch-geistige Schöne. Dieses war ihrer Meinung nach besonders charakteristisch für Christus und die Märtyrer, die ihr Leben für den christlichen Glauben ließen. In den Tugenden sahen sie den höchsten Ausdruck menschlicher Schönheit. In diesem Zusammenhang kommt dem Verständnis des Häßlichen eine besondere Funktion zu. Im vorliegenden Werk wird gezeigt, daß das Häßliche auftritt als besondere Kategorie, die dem Schönen nicht entgegengesetzt wurde, aber eine gewichtige Zeichenfunktion besaß und in einer Reihe mit solchen Kategorien wie der des Symbols oder des Zeichens stand.
Weiter wendet sich der Autor dem Problem des Bildes in der frühchristlichen Ästhetik zu. Da die Welt und alle Schöpfung der menschlichen Hände von den Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte als ein System von Rätseln, Symbolen und Bildern verstanden wurde, die jeweils eine gewisse geistige Realität ausdrücken, erarbeiteten sie eine interessante Theorie des bildhaft-symbolischen Ausdrucks. In der Eikonologie der Apologeten werden drei Gruppen von Bildern unterschieden: mimetische (nachahmende, gegenständlich-plastische), symbolisch-allegorische und zeichnenhafte, die sich voneinander unterscheiden durch den Charakter, durch ihre Beziehung zum widergespiegelten Objekt und durch den Grad der Ähnlichkeit. Auch wird darauf aufmerksam gemacht, daß nicht alle Apologeten überzeugt waren, daß Bilder geistige Inhalte ausdrücken können. So haben denn bestimmte Vertreter der frühen Patristik eine geistige Grundlage für die bilderfeindlichen Bewegungen im Mittelalter gelegt.
Im 5. Abschnitt «Das Ästhetische in der ersten systematischen christlichen Dogmatik» werden hauptsächlich die ästhetischen Ansichten von Origenes und Dionysios, eines der Nachfolger des Origenes in der alexandrinischen katechetischen Schule, untersucht. Die Analyse von Texten des Origenes brachte den Verfasser zur Überzeugung, daß ästhetisches Bewußtsein und ästhetische Erfahrung (freilich unreflektiert) eine wesentliche Rolle beim Ausformen der christlichen Erkenntnistheorie und der Lehre vom Sein spielten. Dies gilt besonders dann, wenn sich das diskursive Denken als ungenügend erwies beim Ausdrücken tiefer Seinswahrheiten. So wurde die ästhetische Erfahrung zu einer Hilfe für das formal-logische Denken des ersten christlichen Systematikers und später vieler anderer Kirchenväter. Im Abschnitt wird die theologisch-ästhetische Bedeutung der symbolisch-allegorischen Methode in der Exegese des Origenes und die Bedeutung einiger vom ihm erarbeiteter Symbole für die mittelalterliche Kultur aufgezeigt (z.B. das Verständnis von der Arche Noes als einer Bibliothek geistiger und geistlicher Bücher). Dort wird auch das Verständnis des Origenes von den Grundkonzepten christlicher Kultur wie Weisheit, Bild, Ähnlichkeit usw analysiert.
Der zweite Teil dieses Bandes widmet sich der Ästhetik des hl. Augustinus, des größten Representanten lateinischen Patristik, der die Tradition der Apologeten im Westen fortsetzte. (Sein geistiger Weg ging ähnlich dem Weg vieler früher Apologeten vom Heidentum zum Christentum, und «De Civitate Dei» ist die letzte großartige Apologie des Christentums). Beim Studium des überaus reichen literarischen Erbes dieses Geistesmannes kam der Verfasser zu der Überzeugung, daß die philosophischen und ästhetischen Auffassungen des Aurelius Augustinus in der komplizierten Übergangsperiode von der Antike zum Mittelalter eine besondere Bedeutung erlangten. In vielerlei Hinsicht stellten sie ein Bilanz der antiken Philosophie und Ästhetik und ihrer Entwicklung dar, wiesen jene neuen Wege, auf denen sich dann das philosophisch-ästhetische Denken des Mittelalters bewegte.
Die Analyse der ästhetischen Auffassungen des Aurelius Augustinus zeigt, daß wir hier einem komplizierten ästhetischen System gegenüberstehen. Dieses ist insgesamt einheitlich und in sich auch ausreichend stabil, aber in Einzelheiten enthält es auch Widersprüche und hat in bestimmten Momenten eine Weiterentwicklung erfahren. Ohne Zweifel ist es innerhalb der antiken und patristischen Ästhetik das vollständigste und am weitesten entwickelte System. Dies ist nicht zufällig! Eine Reihe objektiver und subjektiver Faktoren begünstigten das Entstehen dieses Systems, von denen einige im Folgenden aufgezeigt werden sollen. In der geistigen Kultur der Spätantike zur Zeit des Augustinus überwogen nichttraditionelle Wege und Formen des Weltverständnisses. Man suchte die Wahrheit nicht mit Hilfe der Naturwissenschaften und der Philosophie, sondern auf Wegen religiöser, mystischer und «übervernünftiger» Erfahrung. In dieser Atmosphäre gewann die emotional-ästhetische Einstellung zur Welt besondere Bedeutung. Augustinus war mit einer besonderen ästhetischen Aufnahmefähigkeit begabt. Außerdem kannte er sehr gut, wenn auch nicht immer aus erster Hand, die grundlegenden ästhetischen Konzeptionen der Antike des Westens sowie des Ostens. All dieses führte ihn dazu, sich häufig mit ästhetischen Problemen zu beschäftigen. Sie sind bei ihm oft ein sehr wichtiger Teil seiner philosophischen Theorie (und zwar genau dort, wo man keine befriedigende Lösung mit Hilfe diskursiven Denkens finden konnte), was schließlich auch zum Entstehen eines eigenständigen ästhetischen Systems führte, obwohl er selbst natürlich dies nicht eigentlich beabsichtigt hatte.
Das ästhetische System des Augustinus ist ein theozentrisches und stellt einen wichtigen Teil seines allgemeinen Weltbildes dar. Im Zentrum seiner Ästhetik steht die absolute Schönheit, aber auch als das absolute Gute und die absolute Wahrheit: Gott ist der große Künstler, der alles nach den Gesetzen der Schönheit geschaffen hat; deshalb trägt in der Welt alles – als materielles und als geistiges – Gottes Spur in sich. In der ontologischen Hierarchie tritt das Schöne als eines der Hauptmerkmale des Seins auf. Das Häßliche zeugt von der Abwesenheit der Schönheit und entsprechend des Seins. Es ist verständlich, daß die geistige Schönheit in diesem System eine hohe hierarchische Stufe inne hat. Alles Gesagte trifft in gleichem Maße auf das Universum, auf die Gesellschaft und auf den einzelnen Menschen zu.
In der real existierenden menschlichen Gesellschaft ortet Augustinus wegen der gegenseitigen Verflechtungen der beiden Reiche (civitas) komplizierte Konflikte. Der Weg über die Stufe der Schönheit ist seiner Ansicht nach einer der wichtigsten zur geistigen Vollkommenheit, zum ewigen seligen Leben. Der Zustand der Seligkeit erscheint bei Augustinus im Grunde genommen als die höchste Stufe des ästhetischen Genusses. Dieser ist ein Zustand unendlichen, unbeschreiblichen Frohlockens und Freude des Geistes; den höchsten emotionalen geistigen Genuß aber sieht er in der absoluten Selbstlosigkeit, die ein Fehlen auch des geringsten Strebens nach utilitaristischem Genuß besteht. Dieser Zustand ist im System des Augustinus das wichtigste und höchste Ziel menschlichen Strebens, der Gegenstand aller seiner Träume. Die Seligkeit ist nach Augustinus nicht nur eine hohe Stufe menschlichen Seins (im zukünftigen Zeitalter), das wünschenswerte Ergebnis seiner Erkenntnistätigkeit; sie ist der Zustand höchsten, selbstlosen und absoluten Wissens um die Wahrheit. Obwohl Augustinus vielleicht in seiner Jugend und wegen der bekannten Mangelhaftigkeit der lateinischen Philosophie seiner Zeit ein konsequenter Anhänger der Ratio war und an deren fast grenzenlose Möglichkeiten auch noch in Ausübung seines Amtes als Bischof unverbrüchlich glaubte, verstand er die höhere Stufe des Wissens (die vita beata) als einen über das Vernünftige hinausgehenden Zustand. Von hier wird auch der Platz der Liebe in seinem System als der wichtigste existenzielle und gnoseologische Faktor verständlich. Er ging davon aus, daß die Menschen in der Regel das Schöne lieben. Wie Augustinus klar sah, ist aber die Welt nicht nur mit schönen und guten Dingen angefüllt. Darum kam er zur Erkenntnis von der globalen Regulierbarkeit (hier sieht er das schöne Werk Gottes) der positiven und der negativen Erscheinungen in der Welt, und in dieser Hinsicht ist er der erste Denker in der Geschichte der Philosophie, bei dem wir auf ein Nachdenken über dialektische Wechselbeziehungen zwischen allen natürlichen und sozialen Erscheinungen stoßen. Für das Verständnis der Ästhetik ist wichtig, daß Augustinus das Gesetz vom Kontrast und von der Gegenüberstellung als Norm erkannt hat, auf deren Grundlage die Harmonie der Welt beruht.
Die grundlegenden strukturellen Gesetzmäßigkeiten des Universum lassen sich bei Augustinus fast vollständig auf eigentlich ästhetische Gesetze zurückführen. Es sind dies vor allem Gesamtheit und Einheit, sodann Zahl und Rhythmus, die die Basis einer jeden Form bilden, weiterhin Gleichheit, Abbild, Übereinstimmung, Angemessenheit, Symmetrie und Harmonie. Alle diese Gesetzmäßigkeiten liegen auch den Künsten zugrunde. Wie Gott die Welt nach den Gesetzen der Schönheit schuf, so bemüht sich auch der menschliche Künstler, seine Tätigkeit auf derselben Basis zu begründen. In seinem Verstand, in dem „Kunst" enthalten ist, existiert die Gesamtheit der Gesetze der Schönheit, auf deren Grundlage der Künstler konkrete Werke schaffen muß. Der Hauptinhalt der Kunst ist die Schönheit. Den Wert der Kunstwerke bestimmt Augustinus nach dem Maß ihrer Schönheit, in wieweit durch sie Schönheit ausgedrückt wird. Augustinus verneint nicht die mimetische Funktion der Kunst, bewertet aber die „Nachahmung» (faktisch den Ausdruck) der geistigen Schönheit höher. Deshalb stehen ihm zufolge die Musik und die Kunst des Wortes auf einer höhren Stufe als die darstellende Kunst oder die Kunst der Bühne. Alle Künste müssen nach Augustinus zum unmittelbaren Erfassen dieser oder jener Stufe der Schönheit befähigen bzw. zu einem bestimmten geistigen Wert, insbesondere dem philosophisch-religiösen hinführen. Dies können die Künste entweder dem Weg der unmittelbaren emotional-ästhetischen Einwirkung auf das Wahrnehmungssubjekt (z. B. in Form der Jubilatio in der Musik) oder mit Hilfe ihrer Funktion als Zeichen bzw. Symbol bewirken. Seine Auffassung von diesen Fähigkeiten der Künste führte Augustinus zu einer detaillerten Ausarbeitung einer Zeichentheorie und zu Forschungen auf dem Gebiet der ästhetischen Wahrnehmung, d. h. zur Ausarbeitung der beiden wichtigsten und originellsten Konzeptionen in seiner Ästhetik.
So ist Augustinus, ohne es vielleicht selbst gewollt zu haben, der erste in der Geschichte das ästhetischen Denkens, bei dem sich ein einheitliches ästhetische Inhalt (die Schönheit), das ästhetische Subjekt, die Prozesse der ästhetisches System einschließlich aller grundlegenden Komponenten dieses Systems nachweisen läßt: das ästhetische Objekt (Natur und Kunst), der ästhetische Inhalt (die Schönheit), das ästhetische Subjekt, die Prozesse der ästhetischen Wahrnehmung (und des Urteilens) und jene des ästhetischen Schaffens. Diese Komponenten sind in seinem System nicht von mechanischer Art (wäre es so, würde im Grunde niemand darüber sprechen); sie stellen reale wechselseitige Zusammenhänge und komplizierte Beziehungen dar. Darin besteht die wichtigste historische Bedeutung der Ästhetik des Augustinus; sie ist der eingehenden Beachtung wert.
Noch zu Lebzeiten Augustinus fiel Rom, und damit wurde die lange Linie ästhetischen Denkens, die zu Augustinus hinführte, im Westen für lange Zeit unterbrochen. Die Spuren ästhetischen Denkens, des antiken und auch des neuen augustinischen, wurden schnell verwischt. Deshalb fand Augustinus keinen direkten Nachfolger, der sein Denken fortgesetzt hätte. Erst als die mittelalterliche Ästhetik voll entwickelt war, nahm sie seine Ideen auf und entwickelte viele von ihnen weiter. Doch kennt das Mittelalter keinen Denker, der ein vollständigeres ästhetisches System entwerfen hatte als Augustinus. Die Ästhetik des Augustinus blieb Norm und Vorbild, und wir stoßen im künstlerischen Denken des gesammten Mittelalters auf viele seine Ideen. Überdies behalten einige seine Ideen (z. B. Aspekte seiner Zeichentheorie, seine Lehre vom Mechanismus der ästhetischen Wahrnehmung und des ästhetischen Urteilens, seine Überlegungen zu strukturellen Gesetzmäßigkeiten der Schönheit und der Kunst, insbesondere das Gesetz des Kontrastes usw.) ungebrochene Bedeutung bis in unsere Tage.
Summary
«AESTHETICA PATRUM» in its systematic treatment of the early Christian aesthetics as reflected in Patristic literature is a pioneering study in international scholarship. The Church Fathers, like the ancient and medieval thinkers in general, did not deal with the problems of aesthetics as such; it was not until much later, in the Modern era, that these questions became the object of scholarly reflection. Aesthetic consciousness, however, as one of the most ancient non-verbal forms of consciousness which was embodied most fully in artistic culture and religious cult, manifested itself distinctly in the numerous theological treaties of the Church Fathers. The author demonstrates that the aesthetic, in its many forms of manifestation, appears as one of the essential ways by which a human being comes to God through a system of sense-perceptible symbols. Thereby his approach extends far beyond the frame of traditional (in a modern European sense) aesthetics.
The aesthetic consciousness of the Church Fathers is considered in the context of the formation of their general philosophical and theological views. The author discusses the formation of the fundamental propositions of the Christian doctrine (concerning God, the incarnation of Logos-Christ, the creation of the world, the sophijnost» of the creation, the concept of love, the problem of the relationship between the human person and the Church etc.) and the place and role of aesthetic ideas and phenomena in the formation of these.
The book consists of two parts. The first part is dedicated to the aesthetic-culturological ideas of the early Church Fathers (the 2 – 3th c. apologists): Justin Martyr, Irenaeus of Lyons, Athenagoras, Clement of Alexandria, Origen, Dionysius of Alexandria, Tertullian, Minucius Felix, Cyprian, Arnobius, Lactantius. The author traces their Graeco-Roman and Middle East sources, in particular the elements of Ciceronian aesthetics (whose influence on the Latin Fathers was substantial), the aesthetic ideas of Philo of Alexandria, the teaching on beauty of Plotinus, the Old Testament ideas of Sophia, art, the creation of the world and artistic activity etc.
However, the main attention is focused on the birth of new Christian aesthetic consciousness on the basis of the «aesthetics of negation» (an attitude towards pagan artistic culture), in particular, on the understanding of art, artistic activity, imitation, image, likeness, symbol, sign, allegory, the beautiful and the sublime. The author demonstrates the change of aesthetic preferences in the new culture as compared to the ancient.
Many ideas and principles of the apologists in the Latin world were developed by one of the most celebrated Fathers of Western Christianity, St.Augustine. The second part of the book is dedicated to the detailed analysis of his aesthetic system (perhaps, a unique system of such kind in Patristics). Here the author demonstrates the role that aesthetic phenomena and paradigms have in the Augustinian historiography and his teachings on being, cognition and the Church. The rather detailed Augustinian concepts and ideas of the universal order, number and rhythm, the beautiful (and its numerous laws such as harmony, commensurability, likeness etc.), artistic activity, the Christian understanding of art (and especially rhetoric and music – the meaning of jubilatio), his theories of the sign and aesthetic perception have formed a solid foundation for Western European medieval aesthetics. Moreover, some of the questions examined by Augustine are still important for contemporary aesthetics.
The book is based on the study of Greek and Latin sources, many of which still have not been translated into modern languages, as well as on the most recent critical literature on Patristics.
At the present time the author is working on the second volume of the Aesthetica Patrum which is dedicated to the Church Fathers of the 4th century, the «Golden Age» of Patristics.
RÉSUMÉ
«Aesthetica Patrum» représente une étude systématiquce première dans la science mondiale de l'esthétique des débuts du christianisme reflétée dans la littérature patristique. Naturellement, les pères de l'église, comme les penseurs de l'antiquité et du Moyen Age en général, ne se penchaient pas particulièrement sur les problèmes de l'esthétique, car la réflexion scientifique en est venue bien plus tard, seulement au temps nouveau. Pourtant la conscience esthétique comme une des formes de conscience non-verbale la plus ancienne, s'incarnant implicietment le plus pleinement dans la culture artistique et le culte religieux, a été mise en relief dans plusieurs textes théologiques des pères de l'église. L'étude démontre que l'esthétique dans plusieures formes de son expression est représenté comme une des voies importantes de l'homme vers Dieu à travers un système de symboles perçus sensuellement. Ainsi le lecteur est conduit loin des cadres de l'esthétique traditionelle (dans le sens européen des temps nouveaux).
La consience esthétique des pères de l'église est considérée dans le contexte de la formation de leurs idées théologiques-philosophiques générales; est démontrée la genèse des postulats fondamentaux du dogme chrétien (Dieu, Incarnation du Logos-Christ, création de l'univers, Sophie de la création, conceptions de l'amour, problèmes de l'homme et de l'église etc.), la place et le rôle dans leur formation des conceptions et phénomènes esthétiques.
Le livre contient deux parties. La première est consacrée aux options esthétiques-culturologiques des premiers pères de l'église (apologistes du II – III siècles): Justinus Philosophe et Martyre, Irenaeus de Lyon, Athenagoras, Clément d'Alexandrie, Origènes, Dionysius d'Alexandrie, Tertullian, Minucius Félix, Cyprian de Carthage, Arnobius, Laktantius. Leurs sources gréco-romaines et de proche Orient sont démontrées, notamment des éléments de l'esthétique de Cicéron (qui a beaucoup influencé les pères latins), les idées esthétiques de Philo d'Alexandrie, la conception du beau chez Plotin, les regards de l'Ancien Testament sur la Sophie, l'art, la création de l'univers et la création artistique etc.
L'attention principale est attachée à la naissance sur la base de «l'esthétique de la négation» (attitude envers la culture artistique païenne) d'une nouvelle conscience esthétique chrétienne – notamment, de la conception de l'art, de la création, de l'imitation, de l'image, du simulacre, du symbole, du signe, de l'allégorie, du beau, du sublime. La transformation des dominantes esthétiques dans la nouvelle culture par rapport à l'antique est démontrée.
Plusieurs idées et principes des apologistes dans le monde latin ont été développées par un des pères les plus importants du chrétianisme occidental Saint Augustin. La deuxième partie du livre est consacrée à l'analyse munitieuse de son système esthétique (probablement unique dans son genre dans la patristique). Y est démontré quelle place occupent les phénomènes et paradygmes esthétiques dans l'historiosophie et les dogmes de l'archevêque sur l'être, la connaissance, l'église. Les conceptions et idées travaillées en détail par Augustin sur l'ordre dans l'Univers, le nombre et le rythme, le beau (et plusieurs de ses régularités du type harmonie, proportion, simulacre etc.), la création, la conception chrétienne de l'art (surtout de l'éloquence et de la musique – le sens de jubilation); sa théorie du signe et de la perception de l'esthétique ont formé une base solide de l'esthétique moyennageuse de l'Europe occidentale. Certains des problèmes qúil a révélé gardent jusqúaujourd'hui leur actualité.
L'étude est basée sur des sources grecques et latines, qui ne sont pas encore toutes traduites en langues modernes, ainsi que sur la littérature scientifique actuelle sur la patristique.
A présent l'auteur travaille sur le deuxième volume de « Aesthetica Patrum » consacré aux pères de l'église du IV siècle, âge d'or de la patristique.
* * *
Jaspers K. Die grossen Philosophen. München, 1957, Bd. I, S. 390–391.
См.: Grabmann M. Die Geschichte der scholastischen Methode. Freiburg i. Br., 1909, Bd. l, S. 125–147.
См.: The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy/.Ed. by A. H. Armstrong. Cambridge, 1967. p. 348; Майоров Г. Г. Формирование средневековой философии: Латинская патристика. М., 1979, с. 181 – 340.
Jaspers К. Op. cit., S. 392.
Ibid., S. 393–394.
См. гл. I.
Svoboda K. L'esthétique de Saint Augustin et ses sources. Brno, 1933, p. 199.
Tatarkiewicz Wł. Estetyka Sredniowieczna, s. 58.
См.: Трубецкой Е. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. М., 1892, ч. Ï Миросозерцание Блаженного Августина, с. 54–55; Jaspers К. Op. cit., S. 386; Gilson E. The Christian Philosophy of Saint Augustine. London, 1961.
См.: Andresen C. Bibliographia Augustiniana. Darmstadt, 1973 г. и выходящие ежегодно с 1955 г. «Revue des Etudes augustiniennes. Bulletin Augustinien», Paris, в каждом из которых содержится не менее 400 названий новых работ по Августину.
Berthaud A. Sancti Augustini doctrina de pulchro ingenuisque artibus. Poitier, 1891; Thimme W. Literarisch-ästhetische Bemerkungen zu den Dialogen Augustins.– Zeitschrift für Kirchengeschichte. Gotha, Bd. 29, 1908; Hruban J. Esthetika sv. Augustina. Olomütz, 1920.
См.: Eschweiler K. Die ästhetischen Elemente in der Religionsphilosophie des hl. Augustin. Euskirchen, 1909; Wikman A. Beiträge zur Ästhetik Augustins. Weida i. Th., 1909.
См.: Wikman A. Op. cit., S. 9.
Ibid., S. 11; 101.
См.: Edelstem H. Die Musikanschauung Augustins nach seiner Schrift «De musica». Freiburg im Br.. 1929.
См. сноску 7.
См.: Svoboda K. Op. cit., p. 196.
См.: Chapman E. Saint Augustiné's Philosophy of Beauty. New York; London, 1939.
См.: Manferdini T. L'estetica religiosa in S. Agostino. Bologna. 1969.
См.: Balthasar H. U. von. Herrlichkeit: Eine theologische Ästhetik. Einsiedeln, 1962, Bd. II. S. 95–144.
См. сноску 8, с. 58–80.
См.: Спасский А. А. Эллинизм и христианство. Сергиев Посад, 1913.
Основными источниками биографии Августина являются его «Исповедь» и его жизнеописание, составленное Поссидием. епископом Каламенским, другом и учеником Августина (см.: PL, t. 32). Из современных исследований лучшей биографической работой, пожалуй, можно считать монографию П. Брауна: Brown P. Augustinus von Hippo. Leipzig, 1972; английский оригинал: Brown P. Augustine of Hippo. London, 1967. По-русски см. очерк А. А. Столярова в издании: Аврелий Августин. Исповедь Блаженного Августина, епископа Гиппонийского. М., 1991. с. 5 – 50.
Работы Августина цитируются по изданиям: CSEL (отдельные тома); PL, t. 32–47; частично использован русский перевод: Творения Блаженного Августина Епископа Иппонийского, 2-е изд., Киев, 1901 – 1915, ч. 1 – 8; «Исповедь» и «Об обучении оглашаемых» цитируются в новых переводах M. E. Сергеенко, опубликованных в «Богословских трудах», – М.. 1976, т. 15; 1978, т. 19. При цитации даются общепринятые сокращения названий трактатов с указанием последовательно цифрами книги (римская), главы и параграфа (арабские) трактата.
До нас дошли только отрывки «Гортензия», написанного Цицероном по образцу также сохранившегося только фрагментарно аристотелевского «Протрептика». Ища утешения после смерти дочери Туллии в философии. Цицерон утверждал, что мудрость выше всех земных благ и невзгод, что только жизнь духа является истинной жизнью человека. Здесь же он дал и краткий очерк истории философии. Содержание «Гортензия» см.: Plasberg О. De M. Tulii Ciceronis Hortenzio dialogo. Lipsiae, 1892.
Подробнее о манихействе см. в работах: Alfaric P. Les écritures manichéennes. Paris, 1918, v. 1–2; Burkitt F. С. The religion of the Manichees. Cambridge, 1925; Schaeder H. H. Urform und Fortbildungen des manichäischen Systems. Leipzig, 1927; Peuch H. C. Le manichéism, son fondateur. Paris, 1949; Widengren G. Mani und der Manichäismus. Stuttgart, 1961; Décret Fr. L'Afrique manichéene (IV-V siècle): Étude historique et doctrinale. Paris, 1978, v. 1–2.
См.: Brown P. Op. cit., S. 39–51.
См.: Прохоров Г. Нравственное учение св. Амвросия, епископа Медиоланского. СПб., 1912, с. 52–110; Courcelle P. Recherches sur les «Confessions» de S. Augustin. Paris, 1950, p. 106–138.
О Викторине и его философских взглядах см.: Benz E. Marius Viktorinus und die Entwicklung der abendländischen Willensmethaphysik. Stuttgart, 1932; Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 169 – 176.
См.: Boyer Ch. Christianisme et Néo-Platonisme dans la formation de Saint Augustin. Paris, 1953; Theiler W. Porphyrios und Augustinus. Halle, 1933; Courcelle P. Op. cit.
Трубецкой Е. Указ. соч., с. 41.
Как отмечал К. Ясперс, после обращения изменился смысл философского мышления Августина. Он начал философствовать на библейской основе, осуществляя «рефлексию над тем, что в Библии было нерефлектированным» (Jaspers К. Op. cit., S. 323–324).
См.: Possid. Vita August. 3.
Подробнее о донатистском движении см.: Thümmel W. Zur Beurteilung des Donatismus. Halle, 1893; Frend W. H. The Donatist Church: a Movement of Protest in Roman North Africa. London, 1952; Brisson J.-P. L'Autonomisme et le Christianisme dans l'Afrique romaine. Paris, 1958; Белоликов В. Литературная деятельность Бл. Августина против раскола донатистов. Киев, 1912; Дилигенский Г. Г. Северная Африка в IV-V веках. М., 1961.
Possid. Vita August. 7.
См.: Дилигенский Г. Г. Указ. соч., с. 217; Brown P. Op. cit., S. 119–125.
пелагианстве и борьбе с ним у Августина см.: Brown P. Op. cit., S. 298–308; там же дана и специальная библиография вопроса.
Подробнее о епископской деятельности Августина и его духовной жизни в этот период см.: Possid. Vita August.; Brown P. Op. cit.
О философских взглядах этих мыслителей см.: Майоров Г. Г. Указ. соч.. с. 101 – 142.
По этому же пути, кстати, шли и первые христианские школы, например александрийская, руководимая Климентом, Оригеном и их последователями.
Altaner B. Patrologië Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter. 5. Aufl. Freiburg, 1958, S. 378.
Ср.: Трубецкой Е. Указ. соч., с. 23; среди главных негативных сил той эпохи Э. Ауэрбах отмечает «садизм, кровожадность, перевес магически-чувственного над разумным и этическим. <...> Против плебейского омассовления, против иррациональных и безмерных желаний, против магических сил с их чарами у просвещенной классической культуры было оружие – аристократическое, индивидуалистическое, рациональное, исполненное меры владения собою». Однако в период поздней античности это оружие было уже малоэффективным. Ему на смену пришло оружие христианское. «У христианства в борьбе с магическим опьянением есть иное оружие, не то, что у рациональной индивидуалистической античной культуры, достигшей своего наивысшего развития. Христианство недаром есть движение, идущее из глубин непосредственного чувства; христианство способно побивать врага его же собственным оружием. У христианства тоже магия, но это не та магия, что опьяняет кровью, она сильнее, потому что человечнее и богаче надеждами» (Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе. М.. 1976. с. 85).
Ср.: Jaspers K.Op. cit., S. 391.
См.: Часть первая, глава III настоящего тома.
Попов Я. В. Личность и учение Блаженного Августина. Сергиев Посад, 1917, т. I, ч. 1: Личность Бл. Августина, с. 15.
Там же, с. 2.
De civitate Dei – точнее: «О государстве Божием» или «О божественном обществе», однако русскому уху представляется более благозвучным традиционный перевод «О граде Божием».
О работе Августина над «De civitate Dei» см.: Brown P. Op. cit., S. 261–273.
См.: Бычков В. В. Эстетика поздней античности, с. 50–55.
См. работы: Ziegenfuß W. Augustinus, christliche Transzendenz in Gesellschaft und Geschichte. Berlin, 1948; Burleigh J. The City of God: A study of St. Augustiné's Philosophy. London, 1949; Markus R. A. Saeculum: History and Society in the Theology of S. Augustine. Cambridge, 1970; Deane H. A. The political and social ideas of St. Augustine. New York; London. 1963; Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 330–340.
De cat. rud. 24, 12; De civ. Dei I, 35. 57.
Ср.: Adam A. Der manichäische Ursprung der Lehre von den zwei Reichen bei Augustin.– Theologische Literaturzeitung. Leipzig, 1952, № 77, S. 385–390.
Подробный анализ древнеримских концепций культуры см. в работе: Кнабе Г. С. Понимание культуры в древнем Риме и ранний Тацит. – История философии и во просы культуры. М., 1975, с. 62 – 130
Полный анализ использования Августином латинских авторов см. в работе: Hagendahl H. Augustine and the Latin Classics. Göteborg, 1967, Vol. 1–2.
Подробнее о понятии времени у Августина см.: Wundt M. Der Zeitbegriff bei Augustin. – Neue Jahrbücher für das klassische Altertum: Geschichte und Literatur. Leipzig. 1918; Boros L. Das Problem der Zeitlichkeit bei Augustinus. München, 1954; Lampey E. Das Zeitproblem nach den Bekenntnissen Augustins. Regensburg. 1960.
Ср.: Соколов В. В. Средневековая философия. М., 1979, с. 79.
Августиновской экклесиологии посвящена работа: Benz E. Augustins Lehre von der Kirche. Mainz, 1954.
Подробнее см.: Nvgren G. Das Prädestinationsproblem in der Theologie Augustins.– Studia Theologica. Lund, 1956, vol. 12: Brown P. Op. cit., S. 348–356.
См: De vera relig. 19, 37; De civ. Dei XI, 10.
См. подробнее: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 26–27.
См. там же, с. 23–43.
Подробнее об эпикурейской эстетике см.: Лосев. А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]; Ранний эллинизм, с. 179–317.
Достаточно, в частности, сослаться хотя бы на следующие работы: Mausbach J. Die Ethik des hl. Augustinus. Freiburg, 1909, Bd. 1–2; Schmaus M. Die psychologische Trinitätslehre des hl. Augustinus. Münster, 1927; Ritter J. Mundus intelligibilis: Eine Untersuchung zur Aufnahme und Umwandlung der neuplatonischen Ontotogie bei Augustinus. Frankfurt, 1935; Hendrix E. Augustins Verhältnis zur Mystik. Würzburg, 1936; Stumpf M. Selbsterkenntnis und illumination bei Augustinus. München, 1944; Burnaby J. Amor Deï A Study of the Religion of St. Augustin. London, 1947; Hessen J. Die Philosophie des hl. Augustinus. Glock, 1948; Körner F. Das Prinzip der Innerlichkeit in Augustins Erkenntnislehre. Würzburg, 1952; Berlinger R. Augustins dialogische Methaphysik. Frankfurt, 1962; Schöpf A. Wahrheit und Wissen: Die Begründung der Erkenntnis bei Augustin. München, 1962; Mandouze A. Saint Augustin: L'aventure de la raison et de la grâce. Paris, 1968; Sage A. La vie religieuse selon Saint Augustin. Paris, 1972; Попов И. В. Указ. соч.; Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 181–340.
См., в частности, работы: Barion J. Plotin und Augustinus: Untersuchungen zum Gottesproblem. Berlin, 1935; Dahl A. Augustinus und Plotin: Philosophische Untersuchung zum Trinitätsproblem und der Nuslehre. Lund, 1945.
См.: Drewniok P. De Augustini contra Academicos libris III. Breslau, 1913; специально полемике Августина со скептиками посвящена статья: Гаджикурбанов А. А. Августин и академический скептицизм. – Из истории западноевропейской культуры. М.: Изд. МГУ, 1979, с. 53–67.
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 14–64.
Как убедительно показал А. Ф. Лосев, вся греческая философия теснейшим образом связана с эстетикой и без последней не может быть понята (см.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930, т. 1, с. 84 и далее).
Один из русских исследователей творчества Августина писал: «Вся философия Бл. Августина носит на себе печать эстетического направления его духа. На мир, на все явления природы и истории он смотрит преимущественно с точки зрения красоты» (Попов И. В. Личность и учение Блаженного Августина, т. I, ч. 1, с. 22). О платоновских и неоплатонических корнях августиновской притчи о филокалии и философии см.: Svoboda К. Op. cit., p. 17–19.
Ср.: Svoboda К. Op. cit., p. 185.
Ср.: Gercken J. Inhalt und Aufgabe der Philosophie in den Jugendschriften Augustins. Münster, 1939.
О влиянии на мировоззрение Августина античных традиций см., в частности: Edlhofer R. Die Erkenntnislehre des Aurelius Augustinus und ihr wesentlicher Zusammenhang mit der Lehre Platos. Wien, 1938; Leder H. Untersuchung über Augustins Erkenntnistheorie in ihren Beziehungen zur antiken Skepsis, zu Plotin und Descartes. Marburg, 1901; Testard M. Saint Augustin et Cicéron. Paris, 1958, vol. 1–2; Hagendahl H. Augustine and the Latin Classics. Göteborg, 1967, vol. 1–2.
См.: Hessen J. Die Begründung der Erkenntnis nach dem heiligen Augustins. Münster in. W., 1916, S. 23–26.
См.: Schöpf A. Wahrheit und Wissen: Die Begründung der Erkenntnis bei Augustin. München, 1965, S. 47–48. О единстве веры и знания у Августина см.: Thonnard F. J, La Philosophie et sa méthode rationelle en augustinisme. – Revue des éitudes augustiniennes. Paris, 1960, vol. VI/4. p. 27; Майоров Г. Г. Указ. соч., с, 224–229.
Подробнее см.: Lütcke К. П. «Auctoritas» bei Augustin: Mit einer Einleitung zur römischen Vorgeschichte des Begriffs. Stuttgart, 1968, S. 84–96.
Jaspers K. Op. cit., S. 335.
Основанный на этой евангельской мысли принцип «поиска» истины вообще присущ патриотической философии, особенно греческой, причем в значительно большей мере, чем последующей схоластике. (См.: Daniélou J. Recherche et tradition chez les Pères.– SP. Berlin, 1975, vol. XII, p. 3–13.)
Ср.: Rusch H. Studien über Augustinus. – Festschrift für F. Dornseiff. Leipzig, 1953, S. 145.
Hoffmann W. Philosophische Interpretation der Augustinusschrift de arte musica. Marburg, 1931, S. 5. Далее В. Гофман подчеркивает, что и полярная категория stultitia (глупость) означает не просто незнание, но непонимание себя в своем бытии (das Sich-nicht-in-seinem-Sein-verstanden-haben).
Подробнее о проблеме мудрости у Августина см.: Cayré F. La notion de Sagesse chez Saint Augustin. – L'année théologique. Paris, 1943, p. 433–456 (автор этой статьи выявляет 31 значение слова sapientia y Августина); Forster K. Metaphysische und heilsgeschichtliche Betrachtungsweise in Augustins Weisheitsbegriff. – Augustines Magister. 1955, Bd. III, S. 381–389; Stein W. Sapientia bei Augustinus. Bonn, 1973, а также практически во всех работах о теории познания Августина.
Ср.: Edelstem H. Op. cit., S. 64; см. также: Offenberg M. Die scientia bei Augustinus. Freiburg. 1921.
См.: Hessen J. Op. cit., S. 38, 116.
Bourke V. J. Wisdom in the Gnoseology of St. Augustine. – Augustinus: Revista trimestral publicada por los Padres Augustinos recoletos. Madrid, 1958, p. 332.
См.: Edelstein H, Op. cit., S. 62, 122; Stein W. Op. cit., S. 109.
В оригинале она звучит еще лаконичнее и выразительнее: Deus semper idem, noverim me, noverim te. Oratum est.
Мы не останавливаемся здесь на августиновском разделении мудрости на божественную и человеческую. См.: Stein W. Op. cit., S. 75 – 133.
Sapientia simpliciter multiplex et uniformiter multiformis.
invisibiles atque incommutabiles rationes rerum; ср.: Wolfson H. A. The Philosophy of the Church Fathers. Cambridge, 1956, vol. 1, p. 282.
Подробнее на проблеме чувственного восприятия мы останавливаемся в гл. X; см. также: Попов И. В. Личность и учение Блаженного Августина, т. I, ч. 2, с. 20–65.
Подробнее см.: Schöpf A. Op. cit., S. 95 – 171. Процесс познания понимается Августином как восхождение от телесного к бестелесному, к предметам высшего порядка, среди которых важное место занимают соразмерности и числа (см.: Kuypers K. Der Zeichen- und Wortbegriff im Denken Augustins. Amsterdam, 1934, S. 26).
Ср.: Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 266–267.
Possunt et sic: pulchre de alio; pulchre per aliud; pulchra circa aliud: pulchre ad pulchrum; pulchre in pulchro; pulchre ad pulchritudinem; pulchre apud pulchritudinem.
См.: Solil. I, 7. 14; I, 10, 17; De ord. II, 19, 51.
Однако адекватно передать это racionabile по-русски затруднительно и примененные у нас далее термины «рациональное», «целесообразное», а также употребляемые другими переводчиками понятия «объективно разумное» или просто «разумное» достаточно непривычно воспринимаются в русском переводе соответствующих текстов Августина.
Здесь и ниже De ord. II, 11, цит. с некоторыми уточнениями в перев. В. П. Зубова по: ПМЭМ, М., 1962, т. I, с. 275–276.
Ср.: Jaspers К. Op. cit.. S. 346–347.
Ср.: Ibid., S. 345.
О влиянии Плотина на теологию Августина см. подробнее: Верещацкий П. И. Плотин и Бл. Августин в их отношении к тринитарной проблеме. Казань, 1911; Boyer Ch. Christianisme et néo-platonisme dans la formation de S. Augustin. Paris, 1920; Barion J. Op. cit.
К. Ясперс, к примеру, выделяет у Августина следующие «бесчисленные» триады. В душе: бытие, познание, жизнь; бытие, знание, любовь; память, познание, воля; дух, знание, любовь. В отношении Бога: Бог в свете нашего познания, носитель нашей действительности, высшее благо наших действий; Он есть основа понимания, причина существования, порядок жизни; Он истина учения, первопричина природы, счастье жизни. Во всем сотворенном мире: существование, бытие в различии, соответствие; быть, знать, желать; природа, познание, польза. В самом Боге: вечность, истина, воля (см.: Jaspers К. Op. cit., S. 351–352).
О методологическом значении аналогии в теории религиозного познания Августина см. в работе: Mader J. Die logische Struktur des personalen Denkens: Aus der Methode der Gotteserkenntnis bei Aurelius Augustinus. Wien, 1965, S. 127–151, 208–221.
См.: Enar. in ps. 14,4; 26, И; 77, 7; 101, 2, 2.
По поводу мира и покоя как определенного идеала августиновской философии можно напомнить интересные замечания русского исследователя начала века: «От раздвоения и разлада временной действительности Августин ищет спасения в созерцании вечности. Основной мотив его философии есть искание такой новой, идеальной вселенной, которая преодолевала бы в себе контрасты временной действительности, ее дурную двойственность в единстве всеобщего мира и покоя»; «Центральный интерес всей философии Августина вращается вокруг этого основного вопроса: как спастись от смерти, от раздвоения нашей человеческой природы? Пред Августином носится идеал целостной личности, пребывающей в состоянии мира и покоя»; «Его идеал есть новая вселенная, как единство всеобщего покоя» (Трубецкой Е. Указ. соч., с. 27, 30, 31).
О гносеологической значимости любви у Августина см.: Girkon P. Augustinus. Berlin, 1929, S. 209 f.; Arend H. Der Liebesbegriff bei Augustinus. Berlin, 1929; Burnaly J. Amor Dei. London, 1947.
Э. Жильсон называет последний этап ступенью «мистического созерцания» (см.: Gilson E, Introduction à l'étude de Saint Augustin. Paris, 1949, p. 10, 126 и др.).
См.: Ratzinger J. Der Weg der religiösen Erkenntnis nach dem heiligen Augustinus. – Kyriakon: Festschrift Johannes Quasten. Münster (Westf.), 1970, vol. 2, S. 553.
На роли «свободных наук» в религиозной гносеологии мы останавливаемся подробнее в гл. 8.
См., в частности, работы, указанные в сноске 1; а также – цитированные исследования И. В. Попова, Э. Жильсона, И. Гессена, К. Ясперса; многие положения августиновской теории познания нашли отражение в следующих работах: Kratzer A. Die Erkenntnislehre des Aurelius Augustinus. München, 1913; Kälin B. Die Erkenntnislehre des hl. Augustinus. Freiburg, 1920; Hessen J. Die augustinische und thomistische Erkenntnislehre. Paderborn, 1922; Geyer J. Theorie Augustins von der Selbsterkenntnis der menschlichen Seele. Münster, 1935; Edlhoffer R. Die Erkenntnislehre des Aurelius Augustinus und ihr wesentlicher Zusammenhang mit der Lehre Platos. Wien, 1938; Korger M. E. Grundprobleme der augustinischen Erkenntnislehre. – Recherches augustuniennes. Paris, 1962, vol. 2.
Ср.: Jaspers K. Op. cit., S. 368, 363–369.
См. подробнее: Часть первая, гл. III/1 данной работы.
См.: Ratzinger J. Op. cit., S. 555.
Ibid., S. 555–561.
См.: Ratzinger J. Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. München, 1954, S. 41.
Ratzinger J. Der Weg der religiösen Erkenntnis, S. 557.
Ср.: Van der Meer F. Augustinus der Seelorger. Köln, 1951, S. 306–307; 319.
См.: Ratzinger J. Der Weg der religiösen Erkenntnis, S. 561.
Ср. также: De Gen. ad lit. imp. 5, 21; De Gen. ad lit. I, 3, 6; XII, 16, 32.
См. подробнее: Körner F. Das Prinzip der Innerlichkeit in Augustins Erkenntnislehre. Würzburg, 1952, S. 117 – 165; Falkenhahn W. Augustins Illuminationstheorie im Lichte der jüngsten Forschungen. Köln, 1948; Körner F. Die Entwicklung Augustinst von der Anamnesis zur Illuminationslehre im Lichte seines Innerlichkeitsprinzips. – Theologische Quartalschrift. Tübingen, 1954, Bd. 134, S. 397–447; Balthasar H. U. von. Op. cit., Bd. 2, S. 111–112.
Körner F. Das Prinzip der Innerlichkeit, S. 134.
В своей теории порядка Августин во многом развивает, а иногда и буквально повторяет идеи Плотина. У последнего можно найти, в частности, и такую мысль: «Нелепо обвинять целое, исходя из его частей; следует соотносить части с самим этим целым, насколько они созвучны и прилажены к нему, а не рассматривать это целое под впечатлением от его незначительных частей» (En. III, 2, 3)
Ср.: Svoboda К. Op. cit., p. 20–48; Chapman E. Op. cit., p. 38–44.
Ср. у Плотина: «...если бы не было зла, универсум был бы несовершенным» (En. II, 3, 18).
Ср. у Плотина: «Все представляет собой части живого универсума, и целое остается тождественным себе при постоянно борющихся друг с другом частях, ибо все происходит на основе логоса; необходимо же, чтобы этот единый логос складывался в своем единстве из противоположных друг другу логосов: его состав и сущность словно замешаны на этих противоположностях» (En. III, 2, 16).
Перев. В. П. Зубова, цит. по: ПМЭМ, т. I, с. 277.
Именно за это критикует идею всеобщего порядка Августина Е. Трубецкой, считая характер его теодицеи «антигуманным» (Трубецкой Е. Указ. соч., с. 74 – 75, 79).
Плотиновский трактат Эн. VI, 6 («О числах») посвящен в основном онтологической природе числа, лежащего в основе всего бытия (см.: Лосев А. Ф. Диалектика числа у Плотина. М., 1928). У Августина речь больше идет о ритме и рациональных закономерностях универсума.
Трубецкой Е. Указ. соч., с. 59.
Платон во второй книге «Законов», говоря о каноничности египетского искусства, приравнивает живопись и ваяние к мусическим искусствам.
А. Ф. Лосев пишет: « Аристид указывает на факт существования ритма в неподвижных телах, – например, в статуях. Это обстоятельство очень важно. Античность главным образом и чувствовала ритм в неподвижном. Такова ее специфическая особенность» (Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика. – В кн.: Античная музыкальная эстетика. М., 1960, с. 91).
См. предисловие К. Перла к немецкому переводу трактата: Aurelius Augustinus. Musik. Paderborn, 1940, S. XII.
Вряд ли, однако, можно согласиться со слишком уж категоричным утверждением Эдельштейна, заявлявшего на основе различного цитируемого Августином материала (в I-V книгах цитируются в основном античные авторы: Вергилий, Гораций, Катулл, Теренциан Мавр и др., а в VI книге – исключительно цитаты из Библии), что «первые книги и шестая книга происходят из различных миров: те – из мира античной научной и поэтической образованности, эта – из мира христианской веры» (Edelstem H. Op. cit., S. 120–121).
О понимании музыки в античности см., в частности, работы: Gevaert F. A. Histoire et théorie de la musigue dans l'antiquité. Paris, 1875 – 1881, vol. 1–2; Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика. – В кн.: Античная музыкальная эстетика. М., 1960; Lipman E. A. Musical Thought in Ancient Greece. New York; London, 1964; Татаркевич Вл. Античная эстетика. M., 1977. с. 208–219; Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1979, [т. 5]: Ранний эллинизм, с. 513 – 592.
См. примечание А. Ф. Лосева к «Федону» в кн.: Платон. Соч.: В 3-х т. М., 1970, т. 2, с. 499, сн. 13; а также: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1974, [т. 3]: Высокая классика, с. 59.
Цит. по: Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т. М., 1976, т. 2, с. 192.
Проблему этического значения музыки у античных мыслителей впервые ярко и полно осветил еще в конце прошлого века Г. Аберт: Abert Я. Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik. Leipzig, 1899.
Цит. по: Античные мыслители об искусстве / Под ред. В. Ф. Асмуса. М., 1937, с. 194.
Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т., т. 2, с. 194.
Музыка, по мнению Аристотеля, непосредственно подражает эмоциональным, этическим, психическим состояниям человека, тогда как портретная живопись подражает только отображению этических свойств во внешнем виде человека, т. е. в музыке более глубокое и непосредственное подражание (Polit. VIII, 5, 5 – 7). Ср.: Лосев А. Ф. Античная музыкальная эстетика, с. 108.
В данной главе трактата «De musica» мы для краткости опускаем в скобках наименование трактата. Цитаты, обозначенные знаком *, даны в переводе В. П. Зубова по изданию: Музыкальная эстетика западноевропейского Средневековья и Возрождения. М., 1966.
Плутарх считал музыку «изобретением богов» (De mus. 15).
См.: Aristot. Polit. VIII, 5,4; а также: Лосев А. Ф. История античной эстетики. М.. 1975, [т. 4]: Аристотель и поздняя классика, с. 558–559.
См.: Edelstein H. Op. cit., S. 74.
К. Свобода не усматривает этого противоречия в августиновской формулировке, хотя и констатирует у него наличие «интересной антитезы»: «музыка как незаинтересованное, нравящееся само по себе движение и музыка музыкантов, исполняемая ради определенной практической цели. Эта антитеза влечет за собой и соответствующую антитезу в связи с понятием прекрасного» (Svoboda К. Op. cit., p. 68).
Д. Золтаи подчеркивает антиномию средневекового понимания музыки. Хотя музыка как наука и занимала свое место среди семи «свободных искусств», в реальной действительности звучащая музыка была не свободным, но в прямом смысле слова «служебным искусством». Ее функция сводилась к подготовке и введению верующих в культовое действо (Zoltai D. Ethos und Affekt: Geschichte der philosophischen Musikästhetik von dem Anfang bis zu Hegel. Budapest; Berlin, 1970, S. 77; Золтаи опирается здесь на работу; Schäfke R. Geschichte der Musikästhetik in Umrissen. Berlin, 1934, S. 195). О типично средневековой функции музыки см.: Abert H. Die Musikanschauung des Mittelalters und ihre Grundlagen. Halle, 1905, S. 194–266.
Как отмечал еще В. Гофман, термины ars, scientia, imitatio y Августина многозначны (см.: Hoffmann W. Philosophische Interpretation der Augustinusschrift de arte musica. Marburg, 1931, S. 19)
Цит. по: Perl С. Op. cit., S. 287.
Ср.: Svoboda K. Op. sit., p. 71.
О средневековой эстетике чисел см.: Abert H. Die Musikanschauung des Mittelalters und ihre Grundlagen. Halle, 1905.
В эпилоге трактата «О порядке» Августин с огромным уважением отзывается о «почти божественном» учении Пифагора, с которым он познакомился из сочинений Варрона (De ord. II 20, 53).
См.: Abert H. Die Musikanschauung des Mittelalters..., S. 28.
Ibid., S. 31.
Об абсолютности единицы много рассуждал Плотин в Эн. VI, 6.
Для античности см.. в частности: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]. Ранний эллинизм, с. 566–588 и библиографию на с. 801–804; см. также Krusius F. Römische Metrik. München, 1955.
Как отмечает К. Перл в комментарии к своему переводу (Op. cit., S. 292), теория метра Августина во многих пунктах возвращается к уже утерянной метрике.
Это «парадоксальное» объяснение слова versus, как и вся V кн., по мнению К. Перла, восходит не к Варрону и Теренциану Мавру, а, вероятно, к малоизвестной александрийской школе теории и практики стихосложения. До конца II в. эта школа была культурно-образовательным центром для многих известных ученых, и ее традиции сохранились еще в III и IV вв. (Op. cit., S. 293–294). Интересно, что в трактате «О порядке» Августин еще придерживался традиционной этимологии слова versus (см.: De ord. II, 14, 40).
Об эстетике ритма в античности см.: Античная музыкальная эстетика, с. 90–104; 239–255.
Мы цитируем их по изданию: Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве / Под ред. М. Л. Гаспарова. М., 1972
В «Проблемах», восходящих к аристотелевскому кругу, уже предпринимаются попытки объяснить эстетическую значимость ритма: «Ритму же радуемся мы ввиду того, что он содержит известное упорядоченное число» (Probl. XIX, 38; ср.: Татаркевич В. Античная эстетика. М., 1977, с. 211). Исократ, впервые обративший внимание на эстетическую сторону речи, писал: «Поэты все говорят при помощи метров и ритмов... а это имеет такое очарование, что если дело плохо с словесным выражением и энтимемами, то все-таки самой эвритмией и симметрией они водительствуют над душами слушателей» (Serm. IX, 10f) – цит. по изд.: Античная музыкальная эстетика, с. 242. Плутарх связывал ритмы с красотой (De mus. 12).
Для Цицерона уже малоактуальна этическая теория ритма, процветавшая в классический период (о ней подробнее см. в кн.: Abert H. Die Lehre vom Ethos in der griechischen Musik. Leipzig, 1899). Все его внимание привлечено к эстетической функции ритма. Подробнее об эстетике Цицерона см.: Svoboda К. Les idées esthétiques de Cicéron. – Acta Sessionis Ciceronianae. Warszawa, 1960; Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 5]: Ранний эллинизм, с, 477–492.
См. подробнее: Grabar A. Plotin et les origines de l'esthétique mеdiévale. – Cahiers archéologiques. Paris, 1945.
Подробное изложение этого вопроса см. в работах: Лосев А. Ф. История античной эстетики, [т. 6]: Поздний эллинизм. М., 1980; Ананьин С. А. Учение Плотина о прекрасном. – Вера и разум. Харьков, 1903, № 2–3, с. 47–57; 93 – 104; Volkmann R. Die Höhe der antiken Ästhetik oder Plotins Abhandlungen vom Schönen. Stettin, 1860; Norst K. Plotins Aesthetik. Gotha, 1905; Krakowski E. Une philosophie de l'amour et de la beauté. Paris, 1929; Brennau R. E. The Philosophy of Beauty in the «Enneads» of Plotin. – The New Scholasticism, 1940, 19.
Трактат Эн. I, 6 цитируется с некоторыми уточнениями по переводу, опубликованному В. Ф. Асмусом в издании: Античные мыслители об искусстве: Сборник высказываний древнегреческих философов и писателей об искусстве. М., 1937, с. 198–205; Эн. V, 8 даны в переводе А. Ф. Лосева по изданию: ПМЭМ. М., 1962, т. I, с. 224–235.
См.: Stoic. veter. fragm. Arnim III, 392: «Красота тела – в симметрии частей, в хорошем цвете и физической добротности...» (ср.: Ibid., III, 278; 279; 472). Подобное понимание красоты было вообще характерным практически для всей доплотиновской греко-римской эстетики (см.: Татаркевич В. Античная эстетика, с. 323, 302).
А. Ф. Лосев поясняет, что под эйдосом у Плотина «нужно понимать образ, или форму (буквально по-гречески «вид») нематериальной природы, но с ярко выраженной картинной и пластической структурой» (см.: ПМЭМ, т. I, с. 222).
Следует отметить, что ни Плотин, ни затем Августин не делают четкого терминологического различия между красотой и прекрасным.
Татаркевич В. Указ. соч., с. 307.
Там же, с. 301
См. подробнее: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 95–98; Perpeet W. Ästhetik im Mittelalter. Freiburg; München, 1977, S. 79.
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 35–41.
Татаркевич В. Указ. соч., с. 306.
Там же, с. 301. Анализируя теорию искусства Плотина, В. Татаркевич и сам приходит к «снятию» этой «парадоксальности»: «Пребывая в сем наименее совершенном из миров, человек стремится вернуться в мир высший, мир абсолюта, откуда происходит и он. Искусство – один из путей к такому возврату. Творческая природа искусства – отражение абсолютного, творчески совершенного бытия. Поэтому прекрасное и искусство оказались существенным элементом философской системы Плотина» (там же, с. 308).
См.: Grabar A. Op. cit.
См.: Татаркевич В. Указ. соч., с. 307.
Там же, с. 309.
Августин, отмечал русский исследователь, проявил особую восприимчивость именно к эстетической стороне неоплатонического учения (см.: Попов И. В. Личность и учение блаженного Августина, т. 1., ч. I. с. 26).
Perpeet W. Op. cit., S. 62.
См.: Wikman A. Op. cit., S. 34; Chapman E. Op. cit., p. 49; Tatarkiewicz Wł. Estetyka średniowieczna, s. 60.
Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 60.
См.: Chapman E. Op. cit., p. 45.
Ср.: Wikman A. Op. cit., S. 69.
Ibid., S. 52; Balthasar H. U. von. Op. cit., S. 97; о красоте как важнейшем атрибуте божества у Августина и Плотина см.: Manferdini T. Op. cit., p. 13–20.
Ср.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 66.
См.: Balthasar H. U. von. Op. cit., S. 116.
Ср.: De ord. I, 8, 26; De Gen. ad lit. imp. 16, 58 etc.
Подробнее см.: Eschweiler K. Op. cit., S. 28–42; Chapman E. Op. cit., p. 53–54.
Ср.: In Ioan ev. 3, 21; 32, 3; Enar. in ps. 44, 26.
См.: Eschweiler K. Op. cit., S. 17–27; Svoboda K. Op. cit., p. 153, 163.
Одно из определений justitia см. в De div. quaest. 31.
Ср.: Chapman E. Op. cit., p. 52.
См.: De ord. I, 10. 30; De Trin. X, 1, 2.
Ср.: Wikman A. Op. cit., S. 66.
Ita et ipso faciente pulchra sunt singula, et ipso ordinante pulchra sunt omnia.
См.: Wikman A. Op. cit., S. 44–51; Svoboda K. Op. cit., p. 10–16; 144–145.
См.: Wikman A. Op. cit., S. 47.
Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 62.
Ibid., s. 66; ср. также: Balthasar H.U. von. Op. cit., S. 101–102.
См.: Бычков В. В. Эстетика Филона Александрийского, с. 61; Воman Th. Das hebräische Denken im Vergleich mit dem griechischen. Göttingen, 1959. S. 69–71.
Ср.: Eschweiler K. Op. cit., S. 13–14.
См.: WikmanA. Op. cit., S. 89.
Ср.: Serm. 243, 7, 6; Svoboda K. Op. cit.. p. 189–190; Wikman A. Op. cit.. S. 84.
Wikman A. Op. cit., S. 95.
Amata est foeda, ne remaneret foeda.
Под «женихом» в библейских текстах христианская традиция понимает Христа, под «невестой» – Церковь.
По-гречески Χριστός – «Помазанник» Божий, а распятие на кресте – позорная казнь; римляне просто не могли понять, как это Сын Божий может отдать себя в руки палачей, обладая божественной силой и возможностью избежать этого.
См., к примеру, изображения: Pütz G. Deutsche Malerei. Leipzig; Jena; Berlin, 1964, Abb. S. 88; Vegas L. C. Die Internationale Gotik in Italien. Dresden, 1966, Abb. 60; Wolf H. Schätze französischer Buchmalereï 1400–1460, Berlin. 1975, Abb. 12. 13.
Ср.: Svoboda K. Op. cit., p. 141.
Ср.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 65.
Показательны в этом плане живописные «Распятия» итальянских мастеров XIII в. Джунто Пизано, Коппо ди Марковальдо, Чимабуэ (см.: Bologna F. Die Anfänge der italinischen Malerei. Dresden, 1964, Abb. 42–44, 67–69; Sindona E. L'opéra compléta di Cimabue e il momento figurativo pregiottesco. Milano, 1975. tav. I-VII, XXXVII-XLII)
Ср.: Eschweiler K. Op. cit., S. 11–12; Wikman A. Op. cit., S. 61–67.
Цит. по: Perl С. Op. cit., S. 287.
Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 62.
В этом плане вряд ли можно согласиться с выводом А. Викмана о том, что в области чувственной красоты «Августин был в общем и целом формальным эстетиком (Formalästhetiker)» (Op. cit., S. 100; ср. так же: S. 66, 70, 98).
На глубокую внутреннюю связь формальных законов красоты с выражением и просвещением (illuminatio) справедливо указывал еще Э. Шепмен, постоянно подчерки вая, что именно она выявляет реальный смысл красоты у Августина (см.: Chapman E. Op. cit., p. 45, 50, 54–55).
Ср.: Wikman A. Op. cit., S. 21.
Ср.: Gilson E. Introduction à l'étude de Saint Augustin. Paris, 1949, p. 246
Здесь уместно вспомнить мысль Е. Трубецкого о том, что манихейский дуализм в разных обличьях вошел в систему Августина (см.: Трубецкой Е. Указ. соч., с. 82).
Подробнее о сложном взаимодействии материи и формы по Августину см.: Gilson E. Op. cit., p. 256–274.
По этому поводу автор новейшего русского перевода «Исповеди» замечает: «В этой изменяемости нет ничего определенного: материя одновременно и «ничто» и «нечто»; она и «есть» и «не есть». Материя Бл. Августина не соответствует первичной материи Аристотеля, мыслимой и существующей только в связи с формой; у Бл. Августина это некая парадоксальная реальность: это и полное отсутствие формы, и способность принимать самые разные формы. Плотин говорил о ней: «...она уже есть, поскольку она будет, но ее бытие только в будущем» (Эн. II, 5, 3–5). Антиномический характер материи обусловливает и антиномичность представления о ней: нужно примириться с тем, что ее знаешь, не понимая, что это такое. Ср. Эн. II, 4, 10: «Ее (материю) неясную мыслишь неясно, темную – темно; мыслишь, не мысля» (БТ, т. 12, с. 258, сн. 11).
Ср.: Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 289.
sed omnia mensura et numero et pondère disposuisti (но Ты всё расположил мерою, числом и весом) (Sap. 11, 12).
Ср.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 144–165.
Ср.: Svoboda K. Op. cit., p. 146.
Ср.: The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, p. 361.
См.: Татаркевич В. Античная эстетика, с. 293–294.
См.: Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972, с. 58; Meter G. Die sieben freien Künste im Mittelalter. Einsiedeln, 1886.
См.: Assunto R. Die Theorie des Schönen im Mittelalter. Köln, 1963, S. 19.
О тенденциях религиозной утилитаризации «свободных наук» у Августина см.: Grabmann M. Op. cit., S. 126–129.
Августин воспринял эту традицию от Варрона (см.: Alfaric В. P. Op. cit., p. 445).
Это же членение он сохранил и в поздний период (см.: De doctr. chr. II, 27; Enar. in ps. 150, 8).
Подробнее об этом Августин писал в трактате «О музыке» (см. гл. V).
Позже Августин будет упрекать себя за излишнюю увлеченность «свободными науками» (Retr. I, 3, 2).
Перев. В. П. Зубова цит. по: ПМЭМ, т. I, с. 275.
Там же, с. 267.
Ср.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 66–67; 337.
В. Татаркевич писал по этому поводу: «Если он сохранил теорию подражания, то лишь соединяя с убеждением, что искусство ищет красоты. При этом он так преобразил ее, что она перестала быть выражением натурализма, а стала его противоположностью. Допуская, что каждый предмет имеет свою красоту, что в каждом находятся следы красоты, он утверждал, что если искусство подражает предметам, то не в целом, но только в меру отыскания в них и усиления этих следов» (Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 67).
Ibid., s. 67–68.
См. подробнее: Бычков В. В. Эстетика поздней античности, с. 171; 173.
См.: Perry В. Е. The Ancient Romances: A Literary-Historical Account of Their Origins. Berkeley; Los Angeles, 1967.
Плиний Младший. Письма. M.; Л., 1950, с. 289.
См.: Бычков В. В. Античные традиции в эстетике раннего Августина – Традиция в истории культуры. М., 1978, с. 103, сн. 21.
Ср.: Svoboda К. Op. cit., p. 101, 137.
Анализ художественной специфики этого отрывка см. у Э. Ауэрбаха (Указ. соч.. с. 85–93).
См.: Часть первая, гл. III/2 (зрелищные искусства); специально об эстетике римского цирка и амфитеатра см.: Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика I-II вв. н. э. М.: Изд. МГУ, 1979, с. 45–55.
Ср.: Tat. Adv. gr. 23; Tertul. De spect. 12; Cypr. Ad Donat. 6; Lact. Div. inst. VI, 20. 8–13.
См.: Svoboda K. Op. cit., p. 99, 192.
См.: Marcus R. A. Christianity in the Roman World. London, 1974.
См.: Svoboda K. Op. cit., p. 192.
Ср. уже приводившиеся высказывания о «ложности» басни и поэзии из Solil. II, 11, 20; De Gen. ad lit. I, 10, 21.
Один из историков средневековой эстетики писал: «Новый поворот аллегорическая экзегеза получила у Августина. Именно у него александрийское учение об экзегезе непосредственно объединилось с течением позднеантичной традиции. Анализ его трактата «De doctrina christiana» наглядно показывает, как могла стать необходимой практика и передача опыта филологической интерпретации Библии в позднелатинских школах. При этом существенным вспомогательным средством служили "Εγκύκλιοι παιδείαι известные уже со времен софистов семь искусств, с помощью которых писатель проводил формальное и предметное толкование (см.: Glunz H. H. Die Literarästhetik des europäischen Mittelalters. Bochum: Langendreer, 1937. S. 102 – 103; ср.: S. 104).
Ср. решение этого вопроса Горацием.
Ср.: Наставление оратора, XI, 1.
Августин подчеркивает, что он использует здесь латинский перевод Иеронима, который стоит ближе к еврейскому оригиналу, чем соответствующее место Септуагинты (De doctr. chr. IV, 7, 15).
Г. Глунц усматривал специфику экзегезы Августина в том, что он подходил к Библии как к произведению словесного искусства (См.: Glunz H. H. Op. cit., S. 104).
См.: Eggersdorfer F. X. Der heilige Augustinus als Pädagoge und seine Bedeutung für die Geschichte der Bildung. Freiburg i. Br., 1907; Gerg R. Die Erziehung des Menschen: Nach den Schriften des heiligen Augustinus dargestellt. Köln, 1909; Kevane E. Translatio imperiï Augustiné's De doctrina christiana and the Classical Paideia. – SP. Berlin, 1976, vol. XIV, p. 446–460.
Хронологически этот трактат был закончен значительно раньше, чем IV кн. «О христианской науке», но в последней многие идеи сформулированы более полно, поэтому основное изложение вопроса мы даем по ней, привлекая более ранний трактат только в качестве дополнения.
См.: Besseler H. Musik des Mittelalters und der Renaissance. – Handbuch der Musikwissenschaft. Potsdam, 1931; Perl С. J. Augustinus and die Musik. – Augustinus Magister. Paris, 1954, vol. 3, p. 439–452; Nowak A. Die «numeri judiciales» des Augustinus und ihre musiktheoretische Bedeutung. – Archiv für Musikwissenschaft. 1975, Bd. 32, S. 196–207.
Ср.: Perl C. J. Die Geburt der abendländischen Musik, – Theologie und Glaube. Paderborn, 1953, Hf. 2.
Ср.: Perl С. J. Augustinus und die Musik, S. 452.
«Юбиляция, – пишет К. Перл, – этот прекраснейший из даров, которые Восток мог принести западной церкви, это как бы «свободнейшее» дитя сакрального искусства, побудила Августина к таким замечаниям, которые стоят совершенно изолированно в патриотических текстах, указывают на его понимание музыки, его любовь к музыке и которые, впрочем, также выводят его мистиком, которым он в иных аспектах вряд ли являлся» (Perl С. J. Augustinus und die Musik, S. 441).
См.: Hammerstein R. Die Musik der Engel: Untersuchungen zur Musikanschauung des Mittelalters. Bern; München, 1962, S. 41.
Abert H. Die Musikanschauung des Mittelalters, S. 208.
По поводу словесной ограниченности в передаче внутреннего знания хорошо сказала М. И. Цветаева.
Ср.: Edelstein H. Die Musikanschauung Augustins nach seiner Schrift «De musica», S. 126–127.
См.: Perl C. J. Augustinus und die Musik, S. 444.
Ibid., S. 452.
Ср.: Abert H. Op. cit., S. 194–210.
См.: Reese G. Music in the Middle Ages. New York, 1940.
Ср.: Abert H. Op. cit., S. 216–220.
Ср.: Svoboda K. Op. cit., p. 197.
О современном понимании знака в его различных аспектах см. в работе: Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976, с. 68–134.
Ср.: Marcus R. A. St. Augustine on Signs, – Phronesis: A Journal for Ancient Philosophy. 1957, vol. 2, № 1, p. 70.
Интересно отметить, что в трактате «О музыке» Августин, напротив, уделяет внимание только ритмо-метрическому значению слова и практически нигде, за исключением редких оговорок, относящихся не к предмету трактата, а к форме исследования, не говорит о смысловой, содержательной стороне слова.
Ср.: Marcus R. A. Op. cit., p. 73.
О трактате «Об учителе» подробнее см. специальную работу: Ott W. Ueber die Schrift des hl. Augustinus De magistro. Hechingen, 1898; Jonson D. W. «Verbum» in the early Augustine (386 – 397). – Recherches augustiniennes. Paris, 1972, vol. 8.
См.: Marcus R. A. Op. cit., p. 64–65.
res quae significantur, pluris quam signa esse pendendas.
Ср.: ChydeniusJ. The Theory of Medieval Symbolism. – Societas Scientiarum Fennicä Commentationes Humanarum Litterarum. Helsingfors, 1960, t. 27/2, p. 5 – 8.681
См.: Colish M. L. The Mirror of Languagë A Study in the Medieval Theory of Knowledge. New Haven; London, 1968, p. 60.
Цит. по: Секст Эмпирик. Соч.: В 2-х т. М., 1976. т. 2, с. 58 – 59. Следует иметь в виду, что скептики в этом вопросе опираются на традицию Платона, который в «Кратиле» пришел к выводу, «что не из имен нужно изучать и исследовать вещи, но гораздо скорее из них самих» (Crat. 439b; цит. по: Платон. Соч.: В 3-х т. М., 1968, т.1, с. 489).
Ср.: Kuypers K. Der Zeichen- und Wortbegriff im Denken Augustins. Amsterdam. 1934, S. 18, 23–24; Marcus R. A. Op. cit., p. 68.
Проблема внутреннего и внешнего слова подробно изложена у И. В. Попова (Указ. соч., т. 1, ч. II, с. 279–281).
Там же, с. 280.
Здесь Августин развивает теорию воспоминания (άνάμνησις) знаний, заложенных в душе, при обучении, изложенную Платоном в «Меноне».
См.: Бычков В. В. Византийская эстетика, с. 134–136.
Эти две функции языка у Августина отмечены в работах: Rotta P. La filosofia del linguaggio nella patristica e nella scolastica. Torino, 1909, p. 112–113; Colish M. Op. cit., p. 56.
См.: Marcus R. A. Op. cit., p. 72.
Подробнее см. гл. X.
Ср.: Colish M. L. Op. cit.. p. 22.
См.: De vera relig. 50, 99: De civ. Dei X, 15; De fid. et symb. 2,3–3,4.
βλέπομεν γάρ άρτι δι᾿ έσόπτρου έν αίνίγματι, τότε δέ πρόσωπον πρός πρόσωπον. Канонические латинский и русский переводы звучат так: Videmus enim nunc per spéculum et per aenigma, tunc autem coram cernemus; «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу» (1Кор 13, 12).
См.: Colish M. L. Op. cit., p. 79–81.
В трактате «Об ораторе» Цицерон писал: «Итак, при употреблении отдельных слов больше всего яркости и блеска сообщают речи переносные выражения, а из переносных выражений и уже не по отдельности, а из нескольких подряд складывается, в свою очередь, следующий прием того же рода: тот, при котором говорится одно, а подразумевать следует иное» (De orat. III, 41, 166; перев. Φ. А. Петровского; цит. по: Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 238). Цицерон, в свою очередь, опирался на Аристотеля, писавшего в «Риторике»: «метафора заключает в себе загадку, так что ясно, что загадки – хорошо составленные метафоры» (Ret. 2, 12). Из греческих христианских писателей особенно активно проблему энигмы в связи с библейскими текстами поднимали Климент Александрийский, Ориген, Григорий Нисский.
Эти же четыре способа он называет и в другом трактате того же времени (392 г.). Ср: De util. cred. 5.
См.: Schöpf A. Wahrheit und Wissen: Die Begründung der Erkenntnis bei Augustin, S. 21; Г. Глунц, как уже указывалось, акцентировал внимание на филологически-философском подходе (См.: Glunz H. H. Op. cit., S. 102).
Подробнее о знаковых проблемах в XIII кн. «Исповеди» см.: Hott A. Die Welt der Zeichen bei Augustin. Wien, 1963.
И в «Исповеди», и в ряде других трактатов Августин подробнейшим образом исследует эту фразу, показывая, в каких различных смыслах могут пониматься и все ее слова («в начале», «сотворил», «небо», «земля»), и сама фраза в целом.
Ср.: Colish M. L. Op. cit., p. 8.
См.: Allard G.-H. L'articulation du sens et du signe dans le De doctrina christiana de S.Augustin // SP. Berlin, 1976, vol. 14, p. 388.
Glunz H. H. Op. cit., S. 104.
В. Отт, посвятивший специальную работу августиновскому учению о чувственном познании, показывает многие почти буквальные совпадения у Августина и Плотина по этому вопросу. См.: Ott W. Des hl. Augustinus Lehre über die Sinneserkenntnis. – Philosophisches Jahrbuch. Fulda, 1900, Bd. 13, S. 45–59; 138–148.
См.: En. V, 1,10; 3,9; 9,1.
Ср.: Ott W. Op. cit., S. 46; The Cambridge History of Later Greek and Early Médiéval Philosophy, p. 376–377.
Cp.: Попов И. В. Личность и учение Блаженного Августина, т. 1, ч. II, с. 39.
См.: в частности, работу: Грегори Р. Л. Глаз и мозг: Психология зрительного восприятия. М., 1970; Зинченко В. П., Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного образа: (Исследование деятельности зрительной системы). М.: Изд. Моск. ун-та, 1969.
Читателя не должен смущать тот факт, что теория зрительного восприятия Августина, изложенная здесь в основном по его поздним работам, вроде бы полагается нами в основу теории, разработанной им в раннем трактате. Основные идеи концепции зрительного (или чувственного) восприятия, во многом заимствованные у Плотина, т. е. еще до начала его литературной деятельности, просматриваются и в его ранних трактатах, и в самой VI кн. «De musica», как мы убедимся ниже. Однако наиболее подробно они были изложены в поздних работах Августина, что и определило целесообразность анализа их здесь по этим работам. Г. Г. Майоров справедливо подчеркивает, что теория зрения в «De Trinitate» только развивает идеи, намеченные в ранних работах (см.: Майоров Г. Г. Указ. соч., с. 256).
Августин использует здесь неканонический текст Библии, ибо в канонических переводах слово «число» отсутствует.
Ср.: Ott W. Op. cit., S. 54–59.
Представление об активности души в процессе восприятия восходит к Плотину (ср.: Edelstein H. Op. cit., S. 96). Подробнее о влиянии Плотина и, в частности, его теории чувственного восприятия, на Августина см. в работе: Alfaric В. P. L'évolution intellectuelle de Saint Augustin. Paris, 1918; об активной деятельности души в процессе эстетического восприятия у Августина см.: Manferdini T. Op. cit., p. 62–68.
В. Отт также предлагает понимать под non latere сознание (Ott W. Op. cit., S. 52).
См.: Perl K. Augustinus Aurelius: Musik, S. 298.
latente istorum judicialium nutu modificantur.
О проблеме эстетического суждения у Августина см. также: Manferdini T. Op. cit., р. 69–80.
Специально проблеме памяти Августин посвятил многие страницы «Исповеди» (Conf. X, 8, 12–19, 28).
О художественной значимости этого гимна Амвросия см. в работе: Голенищев-Кутузов И. Н. Средневековая латинская литература Италии. М., 1972, с. 66.
В самом перенесении названия judiciales с одного вида чисел на другой современный исследователь видит сложную диалектику чувственного и рационального моментов в августиновской концепции эстетического суждения (см.: Nowak A. Die «Numeri judiciales» des Augustinus und ihre musiktheoretische Bedeutung, S. 201).
См.: Perl K. Op. cit., S. 298.
Ср.: Hoffmann W. Op. cit., S. 71–72.
См.: Edelstein H. Op. cit., S. 106.
Delectatio quippe quasi pondus est animae.
Ср.: En. IV, 3, 29–32; Georg R. Die Erziehung des Menschen: Nach den Schriften des heiligen Augustinus dargestellt. Köln, 1909. S. 140f.; Alfaric B. P. Op. cit., p. 471.
См.: Manferdini T. Op. cit., p. 89–96.
Это определение дано в форме риторического вопроса: «Тогда не считаешь ли ты, что это искусство является чем-либо иным, как не некоторым настроением духа художника?» (hanc artem num aliud putas quam affectionem quamdam esse animi artificis?)
Qui aiment la pourriture, как переводит К. Свобода (Op. cit., p. 83).
См.: Бычков В. В. Эстетика поздней античности.
Edelstein Я. Op. cit., S. 107.
Вспомним викмановскую классификацию эстетики Августина как «формальной» (Wikman A. Op. cit., S. 100).
Подводя итог платоновским исследованиям метра и ритма, А. Ф. Лосев пишет: «...в музыкальной структуре его в конце концов вовсе не интересует ни ритмика, ни метрика; хорошая размеренность звуков диктуется для него только словами, которые сопровождаются музыкой. Если словесный текст высок в моральном отношении, то и сопровождающая его музыкальная мелодия тоже оказывается моральной и вполне допустимой, независимо от ее ритмико-метрического построения» (Лосев А. Ф. История античной эстетики. М., 1974, [т. 3]: Высокая классика, с. 137). На близкой к этой позиции стояли и Климент Александрийский, и Василий Великий, и Иоанн Дамаскин, и многие другие Отцы Церкви.
См.: Taterkiewicz Wł. Op. cit., s. 63 – 64; ср.: Svoboda K. Op. cit., p. 79. Для сравнения можно указать, что в одноименном трактате Плутарха проблеме восприятия посвящено всего три маленьких параграфа, суть которых сводится к следующему. «Восприятие должно идти вровень с запоминанием», оно должно распознавать мелодию, ритм и текст и в каждом из этих элементов должно находить «ошибки и красоты» (Demus. 34–36).
Ср.: Svoboda К. Op. cit., p. 199.
См.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 69.
Perpeet W. Op. cit., S. 25.
См.: Tatarkiewicz Wł. Op. cit., s. 71.
