[Ноябрь 1902 год.]
Филевский И., свящ. Христианская религия и культура // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 545–558
(2-е религиозно-философское письмо).
„Ищите прежде царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам“ (Мф.6:33).
„Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?“ (Мф.17:26).
Наше время не без основания называется временем особого пробуждения и возрождения религиозно-философских идей и идеалов. Что прежде казалось невозможным, то ныне стало совершившимся фактом в области религиозного сознания и философской мысли. Везде стали говорить о том, как „людям жить“, „во что веровать“, чему воздавать религиозное почитание и богопоклонение. И мы уверены, что этот „огненный пламень религиозных упований“ возгорится в яркий свет истинного религиозного знания, приближающего человека к Богу и Бога к человеку, а эта душевная жажда религиозной жизни „станет непорочным приношением чистейшей жертвы“ на „богоприимной трапезе“ Церкви нашей. Хотя ещё „всякий носится своим направлением ветра“ (разумеем современных „глашатаев и вождей“ русской, так называемой, интеллигенции), но „в сердце Церкви вера твёрже адаманта“, и она-то из людей, искренно-мыслящих и сердечно любящих составит всенародное собрание „истинных богопочитателей“, разумеющих „божественные деяния Духа Святого“.
В кругу „светозарных мыслей“, омывающих греховные нечистоты современной „богоборной, языческой цивилизации“ и исцеляющих раны её, видное место занимают религиозно-философские думы о христианстве и культуре. Особый интерес их уясняется в границах серьёзных и глубоких размышлений о значении культуры для „нового религиозного возрождения и просветления“ в наше время. Здесь открываются перед нами три извилистые пути, ведущие в разные стороны. Одни из писателей сомневаются во внутреннем достоинстве и пользе культуры вообще. Культура – это „несчастье человечества“. Она ничего не приносит людям, кроме ужасного хаоса, „неведения истины“ и раздражения воли. Это не что иное, как головокружительная погоня за „вечным счастьем на земле“, никогда неосуществлённая и неосуществимая. Трагическая история всемирной культуры – это страшно-скорбный свиток, на котором начертаны: „рыдание, жалость и горе“. Бесконечные попытки человеческой культуры создать „полное счастье для всех“ – совершенно безрезультатны. Поэтому, нужно низвергнуть этого загадочного „сфинкса древней басни“, сидевшего до сих пор на распутьях европейской цивилизации и предлагавшего каждому путнику вопрос о „золотом веке на земле“. Довольно жертв принесено этому таинственному божеству современного человечества, особенно при развившейся чувствительности к страданиям и „скорби духовной“. Нужно одолеть это „всепожирающее чудовище“. И вот являются мудрецы, „сердцеведы всего человечества“, безжалостно разрушающие демоническое капище этой тёмной, зверской, хищной, губительной силы, именуемой культурой. Это гр. Л. Толстой, зловеще отрицающий главнейшие грехи и плоды общечеловеческой культуры и проповедующий „первобытную древность“ и „естественное право“ человеческой жизни, без государства, Церкви, без законов, без наук, искусств, без разума и страданий. Это Ницше, двойник Толстого, судорожно провозглашающий „зверо-нравную мораль демонического сверхчеловека“, пламенно призывающий людей к „древней дикости“, жестокому „социально-политическому“ рабству, всячески устраняющий из кодекса общечеловеческой нравственности – любовь, сострадание и радость. Вообще против культуры вооружаются люди псевдорелигиозные, ложно воодушевлённые, непонимающие религиозного значения культуры для истинной цивилизации.
Другой ряд мыслей по вопросу об отношении культуры к религии движется и раскрывается в границах не менее широкого вопроса о безусловно-автономном значении культуры. Здесь построение и план суждений и мечтаний идёт в таком порядке. Религия, как деятельное стремление к „загробному идеалу“, как „жизнь, ведущая только к личному (т. е. не-общественному) спасению и личному блаженству, потустороннему, созерцаемому в Боге, есть не что иное, как в корне анти-культурное начало и „кормило жизни“. Религия забывает о земле; в ней нет места для земли и „всего земного“. Она всё сбрасывает с „лица земли“, чтобы затем рассечь „житейское море“. Для людей нужно не религиозное эгоистическое блаженство, а культурное альтруистическое счастье, не „мифический эдем“, а „рай земной“, „земля, текущая мёдом и млеком“. Практические нужды – вот „конечная цель“ и жизненная задача истинного прогресса, а не „загробный мир“, всегда и везде служащий „суррогатом плохой земной жизни“80. Культура, ведущая человечество по пути материального прогресса, удовлетворяющая „практические потребности“ людей, и есть единственная религия. Другой религии не нужно: она непознаваема в этой жизни. Итак, нужно отказаться от „мистической религии“ и безусловно-преклониться перед одной „положительной культурой“ с её стихийной силой, с абсолютной уверенностью на „развалинах жизни“ устроить „царство вечного счастья“. Эти, в сущности антирелигиозные, идеи проповедуют в наше время современные „пророки культуры“, „ихже несть числа“, фанатические защитники „материальной пользы“ и „позитивного знания“, злосчастные и озлобленные герои социальной справедливости“. Они так же, как философы и писатели первой группы, стоят на „самоубийственном пути“, на пути к идеалистическому самообольщению и самообоготворению. Вся опасность этого пути в фанатической, почти религиозной, вере в „самопомощь субъективного разума“ и „самодовлеемость индивидуальной и общественной совести“.
Есть ещё третий путь в современном решении вопроса о пользе и необходимости культуры. Это чисто-христианский универсальный взгляд, отыскивающий в самой культуре творческие начала истинно-религиозной жизни, религиозных идей и идеалов. Культура и религия – это не „противоположные начала“, а дружественные, родственные, самые близкие источники и основы человеческой жизни. Культура и существует для религии, а не религия для культуры. Религия – всеобъемлющее начало исторического бытия и жизни человечества, а потому и „господственный принцип“ в отношении к культуре. Религия – „госпожа культуры“, матерь, родоначальница. В ней, поэтому, должно искать „всечеловеческое призвание“ к культурной работе и „основную мысль“ о культурной задаче человечества, особенно в его отношении к христианству. Есть у нас особая группа консервативных писателей, поэтов и художников; не только сочувствующих религиозной культуре, но в исторических судьбах самой христианской культуры угадывающих тайну всемирного торжества православной Церкви. От них несколько отличаются и, с чрезмерной озабоченностью за успехи современной культуры, отходят те из наших либеральных писателей, которые, „отводя русло религии в сторону практических интересов“, опасаются всеобщего господства „безбожия“ с победой культуры, с поспешным и односторонним развитием „технического и международного прогресса“, с повсеместным господством „фанатиков и фарисеев космополитической цивилизации“ 81.
Вопрос о зиждительной культурной силе религии христианской здесь не частный вопрос, а центральный. Иссохнет центр творческой жизни общечеловеческой культуры и „обращения соков“ её, ни один цветок больше не распустится из почки, и ни в одном цветке не завяжется плод. „Всемирная связь“ культуры и религии по большей части порывается „вне христианства“, особенно в религиозном пессимизме, обманувшем „земные надежды“ там, где они загорались (см. всепожирающий буддизм). Если земная жизнь человека не может обойтись без религии, а культура существует для религии, то вопрос о культуре в христианстве означается, как вопрос самый жизненный, как вопрос „бытия и смерти“ христианских народов и царств. Победить недоверие к культурному смыслу и значению христианства, мутной, хотя и широкой, струёй влившееся в общественное сознание и жизнь „европейского человечества“, часто по всем направлениям „рассыпающее клубящуюся пену бурного гнева“, – это значит разрешить вопрос, от которого „зависит жизнь и смерть религиозного сознания и судьба самой культуры“82. Если зловещая убыль „духовного просветления“, нравственного добра и „любомудренной жизни“, подлинно достойная слёз, есть неоспоримый факт современной европейской цивилизации, то судьба будущего христианской религии освещается яснейшим светом и освящается цветоносным благоуханием истинной культуры, облагораживающей, исцеляющей, примиряющей, утешающей, радующей.
Упорно наклонять учение о культуре в христианстве в ту или другую сторону и „уравнивать различные мнения“ мы не берём на себя в настоящем письме. Также не имеем намерения собирать теперь доказательства на то, в чём издавна убеждены по вопросу о благодетельности культуры. Мы хотели бы ввести в свои рамки религиозно-философскую работу некоторых из современных писателей по этому интересующему нас вопросу83. В чужих мыслях и словах есть камни разной ценности. Есть камни, которые прямо идут в постройку „религиозно-философского миросозерцания“, как будто они из одного камня. Есть „камни шероховатые“, другие с трещинами, иные круглые и негодные для здания. Духовная красота и сила истины – в „благолепии помышлений“, в „небесном восхождении ума“, соблюдающего меру в словах и в самом построении мыслей своих.
Культура – для религии. Вот „краеугольный камень“ и философская формула нашего построения и план наших суждений и дум по вопросу о торжестве „культурно-христианских упований“, о культурном прогрессе всего человечества в христианстве и через христианство. Религия – древнее культуры. Сначала религия, а потом культура. Религия от Бога, а культура от людей, но для Бога. Культура должна уподобляться религии. Культурная жизнь воспламеняется с первой мыслью человека, с первоначальным словом, загорается с первыми „шагами жизни“ человека на земле. Вот почему вся „первобытная и патриархальная древность“ горит ярким пламенем и переливается в радужных цветах религиозной жизни. Всё носит „нерушимую печать“ религиозного союза, прекраснейшего и приятнейшего. Всеобщие „первобытные религиозные предания“ – это главнейший след и новое пробуждение культурно-исторического творчества, всецело объятого зиждительною силой богооткровенной религии. „Основные элементы“ поэтической и философско-научной деятельности, „написанные законы“ о личности, о браке и семье, об общественной жизни, о государстве и проч., всё это коренится в главнейших приобретениях человеческого духа под государственным влиянием религиозной культуры.
Культура – это всемирная „нива Божия“, это целый мир, религиозно возделываемый людьми для Бога. Живописцы берут для себя „образцовые картины“. Такие картины – вся культурно-религиозная история и жизнь Ветхого Завета. Священные книги, заменившие „безбожные жертвы“ язычников, чудное богослужение, дивная красота бытовой жизни, житницы, гумна, серпы, копны, снопы, призывавшие „благословение мимоходящих“, всё это доброкласная и тучная нива и великая жатва Земледелателя – Бога в Его святом народе, благолозном винограднике (Ос.10:1). Яко смоковницу в пустыне обретох Израиля (Ос.9:10), как одну или две зрелые ягоды на незрелой кисти винограда. Но они сохранены, как благословение Господне, и освящены, как начатки (Ис.65:8) религиозно-культурной жизни не только богоизбранного народа, но и всего мира. Этот библейский облик и этот религиозный склад расширенной культуры в великом устроении духовной жизни целого народа есть не что иное, как идеальное предначертание всемирной культурной работы. Свет и краски эти никогда не потускнеют, не поблекнут; ибо это „земледелие Божие“.
Тоже в существе и в новом завете лучезарное дело религиозной культуры, „внёсшей больше плодов в небесные точила“. Как „таинство страдания“, Новый Завет, ясно разрушая всякие религиозные гадания, открыл и установил чистые источники истинной культуры. В христианстве явственнее, чем где бы то ни было, отмечается необходимость религиозной культуры для „общения в Божием воплощении и Божиих страданиях“ (св. Григорий Богослов). Это новая сторона и новый блеск христианской внутренне-прекрасной культуры. Вся она растворяется в „учении о тайне страдания Богочеловека“ и освобождении от него. Вот где „практическая нужда“ христианской религии и абсолютная, ничем неустранимая. Вот где „истинные пути“ примирения религии и культуры, составляющего глубочайшую основу общечеловеческого прогресса. Только в духе христианства возможно обрадовать „сердце просветлённого человечества“ радостью истинной „от смрадного позора духовного рабства и стихийного угнетения от физического зла“. Здесь культура не только „единственно верный фундамент для религии бесконечной любви“84, но и существенная, неискоренимая потребность умов глубоких, горящих огнём „пытливой любви“, живущих и чувствующих глубоко то, что проповедуют и к осуществлению чего все стремятся инстинктивно. Здесь религия несёт и вводит всеобщую гармонию в жизнь людей, в жизнь личную, общественную, государственную, политическую, экономическую. Она и помогает, и утешает, и примиряет, и радует. Нет такой сферы и формы деятельности человека в христианстве, куда бы не проникал „живоносный луч“ религии. Поэтому христианская религия неустранима; ибо она всегда и во всём необходима и „душеполезна“. Отсюда религиозно-философский вывод: единственно верные и „нетленные блага“ человеческой жизни получаются только при помощи христианской религии, борющейся под знаменем „Агнца Божия, взявшего на Себя грехи мира“ со всеми страданиями и скорбями в радостной „надежде воскресения и жизни вечной“. Это „священная брань, а не варварская“ (св. Григорий Богослов), освободительная, обильная дарами любви Христовой.
Христианство принесло с собой в историю человечества новый взгляд на страдания духа и тела человека и в этом взгляде установило навсегда абсолютную необходимость культуры и неискоренимость её. Страдания Христовы– вот „венец похваления“ христианской культуры и победоносная сила её. Христос –„Пасха красная“, „крестная и крестовоскресная“. Поэтому Он человеколюбно зовёт к Себе всех страждущих, всех обременённых и клятвенно обещал им успокоение среди „рабских горестей“. И „болезнующее сердце“ трепещет от „радости бытия“ и жизни, когда деятельно участвует в этих человеческих страданиях Христа, „приносит им таинственную жертву“ (св. Григорий Богослов). Страдания Христовы обожествили весь мир, а христиански-религиозное жертвоприношение им всей жизни каждого человека и всего человечества–это не иное что, как „очистительные жертвы на богоприятной трапезе“ (св. Григорий Богослов) за грехи всего мира. Здесь вечные и божественные источники христианской нравственности и религиозная сущность христианской культуры. Христианская культура есть религиозное поклонение страданиям Христовым и „этическая печать“ духовной красоты всего человеческого рода. Здесь человеческая жизнь находит свои „последние цели“; а христианская „идея гуманности“ своё нравственное оправдание и историческое осуществление. И так-как только „в горнем Иерусалиме и в тамошнем Святом Святых будет конец здешнего злострадания и условия шествующих доблестно“ в царство Христово, то ясно, что христианство навсегда сохранит своё культурное значение среди людей: всегда нужны будут храмы, жертвенники, священство, дары Богу, освящение, пророчество, евангелие, апостольство и всецерковное оглашение. Пусть в этом „неизглаголанном благочестии“ окрест „богоприимной трапезы“ Христовой на освящённом месте в „божественном шествии и вхождении“ станет небольшой круг „богочтителей“, но это будут „званые святые“ (Рим.1:7), „люди избранны“ (Тим.2:14), „царское священие“ (1Пет.2:8), достояние Господне духовное (Пс.15:6), „от капли целая река, от искры – целое светило, от горчичного зерна „древо жизни“, пристанище птиц небесных (Мф.13:32), душ превыспренних и возвышенных“ (св. Григорий Богослов и св. Григорий Нисский). Это будет „соль земли“, „свет миру“, истинный цвет человечества, последняя и первая „аристократия земли“85, „семя свято“, верный залог культурного стояния людей, обновлённых „лучшими надеждами“.
И Церковь вселенская, православно-всемирная слышит слова Того, Кто собирает от „конец земли“ на „гору святую Свою“ (Ис.57:13) сокрушённых сердцем и духом и житием, собирает в отраду и приемлет угнетённых и одиноких в „радость спасения“: „расшири уста твоя еще, простри на десно и на лево, покровов не пощади (Ис.54:2,3). Здесь мера человеколюбия Божия превышает меру человеческих злостраданий. То было „за неправды“, за бесовское поклонение „чуждым богам“, за „самоуготованное пиршество“, а это за истинное религиозное служение; то для очищения, для „воспоминания и поучения“, сколько ущедрен величием Божиим человек в самом бытии своём, а это для „вечной славы“ Божией и для „завета вечного“. Это нерушимый закон милосердия и возмездия Божия. „Мне отмщение и Аз воздам, глаголет Господь“. „Вера под открытым небом лучше великолепного нечестия“, украшенного драгоценными камнями, блистающего и озаряемого золотом, то расточающего его как воду, то собирающего, как песок (образ анти-религиозной культуры). Трое, собранные во имя Христово, во имя Его Евангелия и „домостроительства“ царствия Его на земле, составляют перед Богом „большее число“, нежели многие отрицающиеся Божества в культуре человеческой, и впадающие в страшное и неисцельное „безумие своего культурного первородства“86. Неужели идолопоклонство хананеев, сколько их ни есть, предпочесть одному Аврааму, „другу Божию“, „отцу верующих“, или безбожных содомлян одному праведному Лоту, или диких мадиамлян „боговидцу“ Моисею? Триста человек, которые у Гедеона мужественно лакали воду, лучше тысячи обратившихся в бегство (Суд.7:7–21). Домочадцы Авраама, которых было немного более Гедеоновых воинов, сильнее многих царей и тьмы воинов, прогнанных и обращённых ими в бегство. „Аще будет число сынов Израилевых, яко песок морский, остаток спасется“ (Рим.9:27). „Оставил Себе седмь тысящ мужей, иже не преклониша колена перед Ваалом“ (Рим.11:4). „Не во множайших благоволил Бог“ (1Кор.10:5).
Вот миро-исторический круг истинно-христианской культуры и цельность религиозной жизни её. Бог исчисляет „спасаемых“, святых, великих, истинно-религиозных людей, где бы они не были и за каким бы „делом жизни“ они не стояли. В избранные сосуды“ (Деян.9:15) вливается „освящённый елей“, исцеляющий все недуги телесные и душевные в мире живущих. Так на всех путях человеческой жизни. Истинные вожди и подвижники христианской и общечеловеческой культуры – это сердцеведы, бого-духовные пророки, святые жрецы, первосвященники великие, „строители душ“, „приближающиеся к Богу“ (Лев.10:3), венценосные цари, христолюбивые и страннолюбивые. Они служат для других побудителями к добродетели, живыми мучениками, одушевлёнными памятниками, безмолвной проповедью. О них сказано: „проидохом через огонь и воду“ (Пс.65:12) и, по благословению спасающего Бога, „внидохом в покой“. В лице их Церковь, облечённая в „червлёную ризу“, стоит в мире „препоясанная лентием“ Христовым и „умывает ноги“ (Ин.13:4–5) всем ратоборцам и оруженосцам своим, чтобы „выше всех на золотых крыльях воспрянуть к небу“ (св. Григорий Богослов). Не нужно бороться с злыми скорбями тому, кто должен быть утешителем и целителем недугов других. И Церковь „не противится злу“ (Мф.5:39); но зло „безбожия культуры“ побеждает „небожественным“ участием в искупительных страданиях Христа – Богочеловека.
Бывают эпохи, когда необходимость и преобразование жизненной культуры становится душевным настроением всех, является „назревшим плодом“ общественного развития, выражением потребности всеми ощущаемой, развязкой узлов, веками вплетённых в общественных отношениях“87. Все в самой культуре стараются отыскать „творческие начала“ нового религиозного просветления и новой нравственной энергии. Глашатаи и преобразователи культуры считаются, пророками, изрекающими вещие слова“ из глубины общественной совести88. Осуществление в самой жизни утилитарных мыслей о „счастии культуры“, которые все в себе носят, служит видимым залогом их „героического владычества“ над „современным поколением“. Такая наша эпоха, увлечённая многомятежным и „злым духом культурного соревнования“. Отсюда у нас пошли „целые полчища пророков“, с „факелом новой культуры“ в руках, проповедующих новое „благоволение в человецех“, „новое евангелие“ и новое „исповедание веры“. И нашу эпоху окружило со всех сторон „обширное море“ антихристианской культуры, бурно волнующееся вокруг её корабля. Между пловцами сильный мятеж, все спорят о том и о другом, заглушают друг друга и ревущие и стонущие волны. Нужен кормчий самый знающий, умеющий долго бороться и с морем, и с пловцами, и „спасти корабль“ от двоякой бури, т. е., отвратить взоры всех от жалкого и ужасного вида современной „вне-христианской“ культуры...
И этого кормчего Церковь наша „пророчески зрит“ во Христе Богочеловеке, живущем в ней. Христос – „овча во всесожжение“ (Быт.28:8) на Его священной трапезе, окружённой ликостоянием святых Своих от „всякого языка под небесем“, плещущих руками, полагающих венцы свои перед престолом и восклицающих „громким гласом“: „достоин Ты, Господь, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил всё и всё по Твоей воле существует и сотворено“ (Апок.4:11). Познание живого Бога, принесшего и приносящего Себя в жертву равно для всех, сделавшего каждого наследником Своего величия и Своей полноты“89, – вот основная религиозная идея, которую с особенной любовью должно внести в систему современного философского миросозерцания и культурной жизни. Это „золото на очистительных углях“. Это мудрое противоборство“, особенно против современной мучительной „мании величия“, против фанатического „безумия индивидуализма“, грозящего превратиться в „Гефскую болезнь“, будущего всей европейской культуры, против пессимистической жажды, всеразрушающей свободы, граничащей с культурным одичанием и „культурным варварством“, против горьких разочарований в „счастии жизни“, при скорбном сознании „бесцельности культуры“90… Христос „страданиями Своими уяснил всю тварь“. Здесь дан универсально-культурный „закон о вожделенном истощании в подвигах“ (св. Григорий Богослов) христианской всеобъемлющей и бескорыстной любви. Какие «бескровные и божественные жертвы» возлагаются здесь на алтарь Христов! Целый мир священнодействует Владыке-Христу! Не тельцов и овнов бессловесных закалывают, как предписывалось по «ветхому завету», не какие-либо «внешние блага» приносятся, как у язычников; но каждый «изнуряет себя» (христианский аскетизм) в служении истине Божией, высшей красоте, вечному добру. Бог преисполнен света и добра. Добро должно быть «моим делом». Это хотение Божие. Для этого «божественная борьба христианских подвижников», для этого и трудный подвиг, и неувядаемые венцы. Это лучше для «золотых душ», чем жить свободным от «всяких ограничений». Нельзя понять религиозной сущности христианства без Церкви. Нет Церкви без таинств; но нет и таинств без крестных страданий. Вера христианская – это всепроникающая и всепретворяющая религиозная уверенность в духовном возрождении всего человечества через Церковь и Евангелие Христово. Христианство – не один только богооткровенный догмат, но и истинная жизнь во Христе, умершем и воскресшем. Здесь-то таятся святые и высокие источники «неизглаголанного богочестия», которое на крыльях пламенной веры несёт христианскую религию в культурную жизнь всего мира.
«Новые проповедники истины» ставят в упрёк христианству «тихошественность» его исторической культуры. «Неверное счастье» – вот плоды исторического осуществления «счастья на земле» при помощи христианской религии. «Божественная слава» даже жизни и великой, и святой и та сокрывается в мрачном образе «многотрудной жизни». Отчего благочестивые в трудах и в огненных прещениях», а «погибающие» не знают трудов, болезней и скорбей? Говорить о «наказании за грех», – это значит представлять себя знающим, что такое Бог, но это уже «повреждение ума». Оправдывать всё стихийной борьбой с «злобным диаволом», – это значит спрашивать: «кому пролита кровь Христова», и искушать Бога. Говорить об «углях, очищающих жизнь», и о «золоте в горниле», – это значит утешаться пустыми словами. Ссылаться на «загробный идеал», – это всё одно, что на скрижалях чистого сердца богодуховной Церкви, – Церкви, покоящейся на «недрах Иисусовых», слушающей у ног Его слова Его, – начертать «надгробную надпись». Так буйный «пророк новой культуры», Фейербах объяснил историческое происхождение и внутренний смысл христианской религии «страхом смерти». Так Кант, учитель его, заразил всю европейскую философию «теоретическим атеизмом», последовательно приведшим современную культуру к «самобоготворению». Так, наконец, «сумасбродный» Ницше впервые провозгласил «богохульную мысль» об анти-божественности христианства по причине его мнимой «анти-культурности». И вот, покрыв густой «тьмой неведения» свои «умные очи» и держась за стену «накопленного счастья», философы-рационалисты всех утилитарных и позитивных толков идут друг за другом в фанатическом отрицании христианской культуры. Но «твердыня, занятая ими»91, разрушается общечеловеческой религиозной жаждой бессмертия и истинно-христианским упованием жизни вечной, загорающейся ещё здесь, на земле, упованием, примиряющим человека с «неизбежными горестями» и «искушениями жизни» и освобождающим от «всего мятущегося в мире». Бог управляет целым миром по «великим и сокровенным законам». Отблеск их вполне доходит до нас в исполнении святой воли Его. Божественная воля – вот вечная тайна человеческой жизни и христианского спасения. Поэтому нас нисколько не должно смущать встречающееся в жизни «противоречие между добродетелью и счастьем». Кант соблазнялся этим «странным противоречием», для устранения его категорически требовал признать необходимость безусловного счастья для «полноты и совершенства религиозной культуры». Но отрицать этот «категорический поступок практического разума», – это значило бы внести в чистую область христианской религии «безумие религиозно-культурного эгоизма». Моисей умер на границе «земли обетованной». Иоанн Предтеча, человек религиозно-культурного предания, сын ветхого завета, проводил новый, но не вошёл в него. Они «сеяли слезами», не изведав радостей жатвы. «Плоды посеянного» собраны на праведном суде Божием; так уготованы точила принять в себя «плодоношение жизни».
Свящ. Иоанн Филевский
Михаил иером. Психология таинств // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 559–579
(Этюды).
И ему (Левину) казалось, что не было ни одного из верований Церкви, которое бы нарушало главное – веру в Бога, в добро, как единственное назначение человека. Под каждое верование Церкви может, быть подставлено верование в служение правде вместо нужд. И каждое верование не только не нарушало этого, но было необходимо для того, чтобы слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить, и которую одну мы ценим („Анна Каренина“, ч. 3, 374). Эти слова Льва Николаевича мы избираем эпиграфом для наших очерков. Видите, как некогда думал граф об отношении верований Церкви к жизни и смыслу её. Он забыл прежнее к сожалению, и не ему, конечно, а нашим читателям мы хотим напомнить прежний толстовский тезис и попытаемся его оправдать.
Этюд 1-й „О браке“. Предлагаемый этюд – первый отрывок статьи „психология таинств“, которую мы намерены предложить вниманию читателей „Миссионерского Обозрения“ в будущем году.
Причина, почему трактат „о таинстве брака“ появляется ранее остальных 4 очерков: 1) крещения миропомазания, 2) исповеди-причащения. 3) священства, 4) елеосвящения – чисто внешняя: это новая статья В. В. Розанова в „Новом Времени“, где он с настойчивостью, достойной лучшей цели, продолжает отстаивать старую мысль, – будто христианство освящает только гроб и похороны.., не сорадуется тайне брака и детской колыбели.., потеряло высокий „стиль“ еврейской или даже языческой семьи и только внешне, механично, безучастно благословляет венчание... венчание, а не брак... („Новое Время“) .Эти-то старые мысли и побудили нас, в виде почти невольного протеста, скорее закончить именно этюд „о браке“.
Кроме того, по мысли автора, этюд этот представляет некоторое дополнение к статье „Новое христианство“, напечатанной в октябрьской книжке „Миссионерского Обозрения“.
1.
Тим.4:15.
„Браки существовали и существуют у тех людей, которые в браке видят нечто таинственное, – таинство, которое обязывает перед Богом... у тех они существуют“.
Крейц. Соната.
В 1889 году появилась знаменитая „Крейцерова Соната“, в которой Лев Николаевич заявил вслух миру τὰ ἐξὴς: „христианского брака быть не может. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков. Идеал христианства не есть брак, но любовь к Богу и ближнему, и потому для христианина плотское общение в браке не только не может представляться законным, праведным и счастливым состоянием, каким оно представляется в нашем обществе нашими Церквами, а всегда падением, слабостью, грехом. Христианского брака никогда не было. Христос не женился и не устанавливал брака, и ученики его не женились“... Как и следовало ожидать, Соната вызвала бурные толки в литературе. О ней писали так много, что наши теперешние слабые наброски были бы совсем излишними, если бы в этих откликах на Сонату не слышалась иногда „лесть“, пожалуй, „большая первой“, т. е., самой Сонаты.
Собственно Л. Н., всегда непоследовательный, через несколько лет после Сонаты целиком отказался от её главного тезиса.
„Христианский брак“, пишет он в книге „Ходите во свете“, „возможен, но только тогда, когда у человека есть любовь к людям, и когда предмет любви плотской уже прежде есть предмет братской любви человека к человеку. Как разумно и прочно строить дом можно только тогда, когда есть основание, картину писать, когда подготовлено то, на чём писать; так плотская любовь только тогда законна, разумна и прочна, когда в основании её лежит уважение, любовь человека к человеку. На этом основании только может возникнуть разумная христианская семейная жизнь“. „Я не говорю, – продолжает он далее, – чтобы христианский брак не допускал исключительной любви к женщине; напротив, только тогда он и разумен, и свят; но исключительная любовь к женщине только тогда может возникнуть, когда не нарушена прежде существовавшая любовь ко всем людям“ и т. д...
Это отречение, к сожалению, уже не изменило дела: продолжатели и корректоры, развивая мысли Сонаты, сумели окрасить в цвет будто бы церковного христианства, придать характер будто бы христианский тому, в Сонате, от чего отрёкся даже сам Л. Н.
Мы имеем теперь дело с двумя группами авторов, откликнувшихся на Сонату: группа обличителей, выступивших на защиту церковной истины в прямых целях оппозиции Л. Н., и группу авторов, примкнувших к толстовской проповеди, хотя также иногда во имя и от имени Церкви. И большей частью, нужно сказать, что друзья здесь опаснее врагов.
„Брачное сожительство – грех, и Церковь не может освятить то, что само по себе не свято“... От этой последней мысли, что церковный обряд ничего не прибавляет к простому сочетанию двух, и что грязное вне брака не становится святым через освящение в браке, Л. Н. не отказался и теперь. Что же ответили на это наши друзья? – „Вне церковного освящения единение есть блуд, пишет один. – Но что нужно сделать, чтобы оно было свято? – Следует только поставить перила, гарантирующие чистоту брака: раз эти перила (церковное освящение и обязательство супружеской верности) на лицо, тогда брак свят“...92 Свят потому, что освящён.
А один богослов спорит даже против мысли Шарапова о полной неприкосновенности жены в период беременности и кормления. В том-же приблизительно духе недавно читал публично в Москве г. Струженцов, обусловливая святость брака только возможно строгим воздержанием. Оба последние богослова утверждают, что общение свято, когда оно вызывается физической необходимостью, т. е., переводя на цинический язык, Рцы, когда есть „аппетит“.
Становится страшно за церковное сознание, когда читаешь такие строки. Если истину Церкви и истину брака ограждают такими перилами, то неудивительно, что волки входят в ограду Церкви. Им даже не приходится перелазить через ограду: такие перила упадут от собственной негодности. Нет, не с таким оружием идти против огненных образов Крейцеровой Сонаты.
Вспомните женщину у Льва Николаевича, которая в ночь брака с ужасом убежала от мужа. Разве кто решится осудить её?
Ведь припомните, и св. Алексей, человек Божий, счёл нужным уйти из своей брачной комнаты...
Так как, очевидно, он не гнушался таинством брака (иначе он и не принял бы его), то значит здесь уже на пороге брачной комнаты он понял, что брак будет для него теперь падением. А молитвы Церкви об очищении „повнегда родити жене отроча“, где просят об очищении „скверны родившей и о прощении её?“
Ясно, что единение и в браке с церковной точки зрения может быть греховно, и церковное освящение не есть безусловное ручательство безгрешности брачного сожития. Эго истина бесспорная...
Но тогда значит и мы присоединимся к тому, что говорит Л. Н. – к мысли, что брак грех и падение? Избави Бог, это значит только, что перила, которыми ограждается святость истины брака, строят не из того материала.
* * *
Свят ли брак?.. Да, свят и чист. Именно поэтому и больно видеть, что защитники будто бы церковной истины, точно отчаявшись показать внутреннюю святость брака, ссылаются на внешний факт освящения, как на первый и последний аргумент. Да, конечно, брак в христианстве (и только в Церкви) чист и не может быть нечистым, но не потому только, что он освящён благословением церковным, а потому, что и Церковь благословляет только то и помогает в браке быть святым только тому, что может быть святым в самом существе своём, что без помощи Церкви и благодати её не свято „в факте“, но в своей сущности, в возможности велико и свято.
Нет, брак свят. Я не хочу сравнивать его с девством, это не входит в мою задачу (о девстве повеления Господня не имам...), но я утверждаю, что и брак есть дар духа. Дары многи, а дух один. „Велики дары языков и пророчества, но ещё выше дар любви“, – говорит апостол. Итак, дар любви больше, но и дар пророчества – сила Духа Божия. Тоже и здесь: хотя девство и высший дар, но это не мешает преклоняться и перед даром брака. Тайна сия велика не таинственностью своей только, а и величием. Между друзьями нашими большинство признаёт за браком только значение средства к погашению желания. „Новозаветное Откровение, пишет Мирянин в „Русском Труде“, признаёт физическую сторону в человеке, но оно не придаёт ей положительной нравственной ценности. Оно говорит, что вступающий в брак только „не согрешит“ (1Кор.7:28,36), а если в другом месте и говорится, что „выдающий замуж свою девицу поступает хорошо“ (1Кор.7:38), то, по общему смыслу главы, эти слова нужно понимать так: хорошо, потому что избегается блуд (1Кор.7:2), ибо „лучше жениться, нежели разжигаться“ (1Кор.7:9). Следовательно, по учению нового завета, брак является делом хорошим только как средство, предохраняющее человека от блуда 93. Тем не менее, физическая сторона брака есть, всё-таки, „похоть плоти“, „похоть мужа“ (Ин.1:13), „нечто такое, чего лучше избегать“... „Христианство не имеет к браку активного и сорадующегося отношения; оно его лишь допускает, без внимания к жизненно-творческой его стороне (чадорождение), и останавливаясь лишь на морально-этической“. Как видим, брак здесь, как уже мы и указали, имеет чисто отрицательные цели, чтобы убить, помешать росту похоти, не искушать воздержания. Ему придают значение не более как учреждению, которое помогает поставить похоть в границы, сжать, сдавить то, что само по себе не чисто и грязно. Я думаю, этот взгляд также „духоборство, хула на Св. Духа“. Если у Л. Н., как увидим, ложь в его учении о смысле и значении обряда таинства брака и о смысле брачного сожития, то и здесь от друзей мы слышим „брань на таинство Духа Святого“. Это кощунство.
Нет, брак больше, чем его представляют эти защитники брака, – это истина, а не компромисс, это „святыня“, а не учреждение, регулирующее „похоть“. „Пока мы признаём брак (и, его зерно) позволительным (только), мы собственно ещё не получаем брака, как „таинства“, мы стоим на точке безразличия и, собственно, „допущенного разврата“. Нужно ещё дополнить: брак религиозно-спасителен, духовно-очищающ, мистически-зиждителен (дети) (Розанов).
Брак, по христианскому определению, есть великая тайна единения двух душ, в образе единения Христа с Церковью. „В таинстве брака чета в брачном союзе получает благодать отображения в этом своём союзе Божественного союза между Господом, пожертвовавшим Собой для Церкви Своей, и Церковью, составляющей Его Тело и живущей Его благодатью. Это отсвет союза Христа и Церкви. Цели брака не личные только, частные цели супружеской четы, а цели Церкви. Вступающий в брак не для себя вступает, а для Церкви и служит ей для созидания здания Церкви Божией. Как? Чем? Тем, что он содействует росту идеала Христова на земле. Брак есть союз взаимоосвящения. Такую цель ясно указывает св. апостол, когда говорит, что даже неверующий муж освящается, ведётся ко спасению женой верной. Отсюда очевидно, брак имеет целью взаимное совершенствование двоих. Муж и жена нравственно влияют друг на друга, помогают друг другу осуществить все заключающиеся в них нравственные возможности. Брак – это домашняя Церковь, первая школа любви. Как отсвет Христова союза с Церковью, брак выражается во взаимном отречении мужа и жены от себя в пользу другого, будущего ребёнка, который вместе есть будущая Церковь, один из будущих строителей здания Церкви. Брак – это поприще великого аскетического подвига и великого христианского делания. Мир создан, дабы увеличить полноту бытия, чтобы миллионы существ приобщились к радости жизни; христианин даёт жизнь человеку, чтобы умножились Церковь, любовь в Церкви и радость на земле.
Муж и жена, пишет один богослов, понятия гораздо более широкие по своему нравственному содержанию, чем понятия мужчины и женщины, и, пожалуй, отношение между этой парой понятий более далёкое, чем между понятиями мужчины и женщины с одной стороны и самца и самки с другой, и брак есть соединение двух жизней не ради самого сожития, но ради высших нравственных целей, собственно объединение как бы двух волей в одну ради единого принципа благоугождения Богу, душевного очищения обоих брачующихся; таким образом брачные узы устанавливают между мужем и женой уже не родство, а именно единство воли, и это единение сначала на почве взаимного нравственного самоограничения, а потом обоюдного служения всем людям, и признаётся и должно признаваться выше всякого родства по плоти, как только естественного, природного (Быт.2:24). В браке все взаимоотношения мужа и жены имеют смысл, поскольку служат духу“·
Брак называют нередко подвигом аскетизма, и, действительно, это аскетизм в его моральных задачах и целях.
Только для „похоти“ брак заключается очень редко. Даже у развратников, окончательно затоптавших в грязь святую правду чистых отношений к женщине, брак часто больше чист, чем кажется, и у них он есть боязнь одиночества, страх за то, что около них нет и не будет человека, которого можно любить, как человека, сблизиться душевно, жажды любви к другому, к кому-нибудь. И я смотрю уже на эту жажду любви, как на слабое проявление инстинктивного желания любить всех, любить ближнего.
А в чистом истинно христианском браке? Здесь мы имеем дело с тайной великого отречения. Человек отдаёт свою душу, другому, обещается жить жизнью этого другого, отрекаясь от собственного самолюбия, от всего своего „я“. Кто это другой? Жена или муж? Да, отчасти, но ещё более „они“, будущие люди – семья. Вступая в брак, им передоверяет человек дела служения Церкви, в лице их он хочет дать „жизни“ лучшего слугу, чем он, а вместе с этим, он берёт на себя огромную обязанность блюсти за собой с гораздо большей, чем прежде, бдительностью, „ходить чистым и непорочным перед очами чад своих“. Отец-муж обязуется нравственно помнить, что каждое его не доброе движение повторяется, усвояется душой тех будущих людей, каких он дал миру и Церкви. „На всяк день и час, пишет Достоевский, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собой, чтобы образ твой был благолепен. Вот ты прошёл мимо малого ребёнка, прошёл злобный, со скверным словом, с гневливой душой; ты и не приметил, может, ребёнка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал его, а, может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастёт оно, пожалуй, а всё потому, что не уберёгся перед дитятей, потому, что любви осмотрительной, деятельной не воспитал в себе“. Вот эта-то благолепность, бдительность за собой, любовь осмотрительная и бдительная и есть та обязанность, которая делает брак огромным подвигом и школой воздержания. Эту идею самоотречения в браке когда-то прежде понимал и Лев Николаевич, и он некогда писал, что брак есть „поставка вместо себя новых слуг для жизни, добавляя, что родить святую душу, годную для жизни, собственно значит воспитать её со дня явления в мир, по своему хранимому в благолепии образу (Revue, 1901, июнь). Но разве это хранение образа Божия уже не святость, которая одна уже может оправдать брак.
Нетрудно понять далее и воспитательное значение брачного настроения, брака вообще...
В сфере жизни общецерковной брак, как мы сказали, начало, школа любви. Любовь, здесь воспитавшись, должна потом выйти из круга семьи на всех. Эта любовь одна из задач брака, которая указывается и в одной из молитв в самом чине венчания.
Итак, брак есть школа и факт самоотречения, поэтому-то мы и слышим в чине эти слова: „Святии мученицы, добре страдальчествовавший и венчавшиеся, молитеся ко Господу помиловатися душам нашим“. „Причём же здесь мученики?“ – спросил один лютеранин, случайно попав в храм на венчание, и когда он услышал объяснение православного учения о том, что христианство есть аскетизм во всех сторонах жизни христианской, что в частности брак налагает на людей настолько высокие обязанности по отношению к ним самим, брачующимся, и по отношению к их потомству, что их венцы в некотором смысле приравниваются к венцам мучеников, – нравственное чувство его, этого лютеранина, как бы проснулось, он был глубоко поражён новым строем мыслей по этому предмету и вскоре принял православие и монашество (о. Климент Зедергольм Оптинский)94. „Так, венцы брачные – это вериги подвижнические, венцы победы над чувственностью и всяким чувственным грехом“. Во свидетельство этого торжества добра и света, и победы в христианском браке духа над всякой чувственностью при совершении брачного обряда перед брачующимися полагается и св. крест, символ самоотречения и служения ближнему и Богу, и призывается и великий учитель любви в ветхом завете, св. пророк Исаия“.
И поэтому-то брак – святыня, он – истина; в этом оправдание его. Кто скажет, что оно недостаточно?
Но, послушайте, может сказать нам читатель: это ignoratio elenchi, подмена доказываемого положения: вы доказываете не то, что нужно доказывать, Ваше дело доказать, что брак не грязен в своей физической стороне. Ведь об этой стороне брака собственно трактует „Мирянин“. А вы говорите о чем-то другом. Нет, мы говорим именно о чём нужно. Ясно, что при таких нравственных задачах, какие указаны в браке христианством, брак не может совмещаться с физической нечистотой. С точки зрения физической, он есть также не погашение только похоти, а подвиг аскетический. Это кажется странным, но это так. Я утверждаю прежде всего, что брак может быт свят и в физическом моменте и здесь он требует «подвига благолепности», как это увидим ниже.
Признать святость брака в физической его стороне, это, по-видимому, камень, лежащий «на падение многим». Действительно, в этом пункте поскользнулся «Мирянин», этой святости не хочет признавать даже такой апологет брака, как Шарапов. Усиленно отстаивая нравственное достоинство брака, он в то же время продолжает утверждать вместе с Мирянином, Меньшиковым и др., что физиологический момент в браке лишь терпим ради его этического значения. «Церковь знает, пишет С. Ф., что в глубине светлой идиллии брачных отношений лежит плотский грех, но она знает также, что у огромного большинства людей грех этот непобедим и неустраним. Церковь благословляет союз душ, благословляет воспроизведение рода, чадорождение и только. Церковь как бы говорит брачующимся: вы «вместить» не можете, вам «не дано». Но пусть же, уступив природе в инстинкте чадорождения вы победите её в соблазне грешного наслаждения, очистив по возможности союз от элементов плотской страстности. Ваше плотское сожитие Церковь простит и не вменит в грех только как уступку к природе, но непременно только «простит». Половой акт в самом его высоком и чистом проявлении есть акт не свободы, а потому всегда грех, всегда нуждается в прощении, даже бессознательный. Эта, заключает он, азбука христианства и монашеская концепция здесь совершенно такова же, что и мирская».
Что сказать по поводу таких рассуждений. Все эти рассуждения, конечно, прекрасны, но мы, несмотря на всё наше несогласие с Розановым в его странной языческой теории брака, в то же время на этот раз будем утверждать вместе с ним, что признавать греховной физическую сторону брака, значит отвергать таинство. Нет, идея христианского брака, в церковно-религиозном его понимании, в том именно и состоит, что «брак есть святыня вполне и до дна, без всякого остатка и без всякого исключения, так что в браке уже нет места ни для какой мерзости и ни для какой скверны».
Церковь, которая позволила бы грех ео ipso, в ту же секунду слилась бы с ним и стала греховной Церковью, что невозможно. Брак есть таинство; и как очень точно было формулировано г. Гатчинским Отшельником («Бессмертные вопросы»), это таинство «выпаривалось бы до чиста», «от него бы ничего не оставалось» без трактуемого нами акта; следовательно, пусть даже побочной, но всё-таки непременной частью этот акт включён в таинство, лежит в чаше таинства. Но «таинство» во всём своём пространстве свято, не имеет переслоений с злым, священно отрицательным (Розанов).
В самом деле? Можно ли смотреть, как на нечистоту, на физиологический момент в браке, когда Церковь несомненно благословляет брак, как союз для целей деторождения. Благословлять деторождение – значит благословлять и зачатие. А исключить из таинства момент физиологический, значит несомненно без остатка выпаривать таинство, как выражался ещё Хомяков. Фактически отношения мужчины к женщине и наоборот греховны и стыдны, но это не потому, что греховно и само физическое отношение двух полов, нет оно сделалось греховным только посредством извращения целей и смысла «брачной тайны».
Один праведник ветхого завета перед первой брачной ночью так молился вместе с женой своей: «благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твоё святое и славное во веки!.. Ты сотворил Адама и дал ему помощницей Еву, подпорой, жену его. От них произошёл род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному: сотворил помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею».
Здесь указано, в чём именно состоит теперешнее искажение святой тайны. Жену стали брать для похоти, но не поистине, как жену. Единственная цель брака – деторождение отодвинуто в сторону. Наслаждение часто ставится единой целью брака.
Мало того, человечество путём векового культивирования половой страсти опустилось здесь ниже даже и чисто животной природы.
На это мы указывали уже в другом месте (см. ст. „Новое Христианство“, „Мисс. Обозр.“, окт. 1902 г.).
Человечество окончательно исказило чувство брачной чистоты. Циническая песня, цинический роман, добрачные сношения с женщиной – всё это делает для человека почти невозможным благоговейное и чистое отношение к жене, как только будущей матери... Но что же следует отсюда? Невозможность чистого безгрешного брака? Нет, необходимость возвращения к безгрешной психологии брака. И только. А Церковь считает возможной в своей среде эту безгрешную психологию и представляет её в таких приблизительно чертах.
– Поскольку брачное единение чисто физическое, оно безразлично, вне нравственной оценки, бессознательно и, следовательно, не греховно.
Но в человеке оно всегда осложняется сознанием целей единения. А таким образом уже открывается возможность этической оценки факта.
Итак, чист ли он?
Муж и жена сходятся всегда и обязательно в целях созидания новой жизни в детях.
Ребёнок и любовь к нему, хотя бы „будущему“, есть с самого начала неосознанная причина той мистической связи между ними, какая соединяет двоих в плоть едину, основа их любви.
Мысль о ребёнке необходимо предносится мужу и жене в их отношениях, конечно, если этот брак не для похоти.
Высшее напряжение любви к будущему творению „единомыслие душ и телес“ (выражение требника), высшее желание создать лучшую себя жизнь, заместителя на арене служения людям и Церкви, и выражается в полубессознательном акте единения.
Безразличный и бессознательный в той мере, поскольку он чисто физический акт, он и здесь не перестаёт быть почти бессознательным, но во внутреннем сознании человека не выявлено, т. е., не вполне ясно для него самого в эту минуту живёт альтруистическое стремление к созиданию человека, и это стремление есть положительно нравственное. Радость единения и есть экстаз любви к будущему ребёнку.
Эта психология деторождения необходимо изменяет и сам характер единения.
Не правда, будто оно конец любви к женщине. Зачем „это“ для выражения любви.
Оно конец их общего желания ребёнка и общей любви к нему. Поэтому-то единение и не есть падение. Оно не страстно в обычном смысле слова. Единение, которое является результатом накопившегося полового желания, есть падение, потому что оно пробуждается под влиянием деятельности воображения и чувства в греховном направлении. „Здесь“ (в истинном браке) единение бессознательное и неожиданное завершение чистых мечтаний о ребёнке, а не о жене и муже, неожиданное проявление воли к жизни этого ребёнка, причём в предшествующий момент мысль и воображение вовсе не направляются к этому результату.
Но эта психология – утопия? Так не бывает? Может быть, но так должно быть. Это и есть то самое состояние, какого искал в себе св. Алексей. И не найдя его, он ушёл, ожидая, по житию, когда „благодать устроит между ним и ею нечто новое“.
Конечно, я верю, что в христианстве возможно это состояние: ты должен, значит можешь.
Но если так, то ясно, как серьёзен момент зачатия человека, какого чистого, подвижнического настроения требует так понимаемый брак, в какой степени он чист и безупречен,
По требованию Церкви для брака нужно такое святое настроение: conditio sine qua non. Для того, чтобы брак был свят и ложе нескверно, чтобы от „страстного не родилось страстное“95, человек должен победить свою страстность – „похоть“ даже и в момент зачатия ребёнка, – более всего в этом моменте.
Он должен не смотреть с вожделением даже на собственную жену.
Огромным напряжением психических сил человек должен возвратить себе потерянную невинность, чтобы погас в его взоре навсегда огонь похотливого желания, желания, которое всегда не чисто, на какую бы женщину не было направлено.
Это и есть так называемое брачное целомудрие. Ясно, что такая борьба со зверем, с греховной страстностью, выработанной веками, отречение от прежних отношений к своей жене, как предмету наслаждения и собственности, и замена их отношениями безусловно-бесстрастного характера – есть подвиг: это есть великое дело, оздоровляющее сами источники жизни. Борьба с грехом в браке возвышеннейший тип аскетического делания... оно делает брак подвигом и личного и родового совершенствования и по физической и по духовной стороне. И, конечно, ясно, что подвиг здесь не чисто духовный, но физический; физическое страдание.
Этот аскетизм имеет и внешнее выражение в воздержании в период кормления и беременности.
И достигнутый, хотя относительно, брачный идеал светел и чист бесконечно.
При чистом христианском браке „девственно-венчанная фата не только не снимается вовсе с чела, а, наоборот, уплотняется“. Целомудрие – уважение человека к своему полу, молчаливое и бережное отношение к нему, как к ненарушимо-святому в себе, „растёт и становится сознательнее и глубже“ (Розанов).
Это уже не невинность, а нечто даже более высшее-святое. Это идеал бесконечно высший и чистейший, чем формальное требование жить, как брат и сестра.
Может ли сказать Л. Н., что эти воззрения Церкви не целиком проникнуты истинно-христианским настроением и духом.
Однако возможна ли такая чистота брака? Да. Не всё вмещают словеси сего, т. е. чистого христианского брака, но именно потому то и есть, и нужно, и должно быть таинство брака. Оно и создаёт нужную для брака атмосферу, конечно, когда брачующиеся идут навстречу веянию Духа.
Смысл таинства по его внешней стороне превосходно выяснен (mutantur tempora) Львом Николаевичем Толстым, тем самым, который теперь заявляет, будто обряд брака ничего не изменяет в не святом деле брачного „сочетания“. В „Анне Карениной“ изображается венчание Левина и Кити.
Ему радостно и страшно.
„О еже ниспослатися им любви совершенней, мирней и помощи... Господу помолимся...“ Левин слушал слова, и они поражали его. „Как они догадались, что помощи... именно помощи.., думал он, вспоминая все свои и давние страхи и сомнения. „Что я знаю? Что я могу в этом страшном деле, думал он, без помощи? Именно помощи мне нужно теперь“. Когда диакон кончил ектенью, священник обратился к обручившимся с книгой.,. „Боже вечный, растоящееся собравый в единение, союз любви положивый“... Как глубокомыслящи эти слова, как соответственны тому, что чувствуешь в эту минуту, – думал Левин. Чувствует ли она то же, что и я?.. А он чувствовал в этот момент полный разрыв с прошлой жизнью, начало нового бытия...
„Ты бо из начала утверди обручение их“... Левин чувствовал, что все мысли о женитьбе, о том, как он устроит жизнь „всё это – не то“, и что „это“ что-то такое, что он до сих, пор совсем не понимал.
Кити переиспытывала тоже самое.
Чувство торжественной и светлой радости по мере совершения обряда всё больше и больше наполняло её душу и лишало её возможности внимания.
„Молимся... о еже податися целомудру и плоду чрева на пользу“... Упоминалось о том, как Бог сотворил жену из ребра Адама „и сего ради оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей“, и о том, что „тайна сия велика есть“.
. . . Всё это прекрасно, – думала Кити, – всё это и не может быт иначе, и улыбка радости сияла на её лице.
Левин, взглянул на Кити и никогда он не видал её до сих пор такой („Анна Каренина“, Т. II, стр. 327).
Что сознаёт и ощущает Левин? Он начинает понимать, что брак – это больше, чем он представлял ранее, что в сущности брачных отношений есть какая-то тайна, которая хоть одним краем открылась ему в эти минуты. И он не только понял, но почувствовал на себе сладостную тяжесть новых отношений, и откуда-то прихлынувшую силу нести их.
Что это? Не есть ли это прикосновение Духа Божия?
Да; конечно.
Один французский романист, много занимавшийся вопросом о браке (Прево: „Secret Jardine“), говорит устами своей героини:
„Да, это обещание единения, данное перед всем вслух, это соединение рук в обряде меняет психику, действительно устанавливает какое-то новое сродство душ. Что это? Богословы, – продолжает она, – назовут это действием благодати таинства“.
Да, назовут, и это есть именно она. Во всяком ведь случае благой результат, о котором говорят, есть следствие венчания. Кто же скажет, что здесь только cum, а ne propter. Напомним, что и по словам Льва Николаевича брак существует только там, где есть таинство венчания.
Христос, пишет В. В. Розанов, вверил Церкви вовсе не институт „венчания“, а институт брака, и указал беречь чистоту и целость семьи, а не чистоту и целость венчания.
Какое скорбное недоразумение. Разве чистота венчания, то есть, чистота, предбрачного настроения не есть чистота брака. Венчание имеет целью предупредить вступление в брак в условиях опасных для святости всей следующей жизни, а вместе имеет целью вызвать благословение Божие и помощь для всею последующего брачного пути.
Не может же не знать г. Розанов, что благодать брака есть сила, действующая, по учению Церкви, на всём протяжении брачной жизни. Венчание – не разрешение на брак, а сообщение силы длительной, действующей в семье и творящей семью.
Можно ли после этого целость венчания противополагать браку.
* * *
Уяснив теперь, насколько можно, святость брака, сделаем справку, правда ли, что нельзя считать его Христовым учреждением. Будем кратки.
„Приступили ко Христу фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину, сотворил их (Быт.1:27)? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью (Быт.2:24). Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает“. Не очевидно ли для всякого, что в этих словах нашего Спасителя брак признаётся божественным учреждением? Если бы Христос считал брак грехом и падением, Он конечно заявил бы, что в брак не следует вступать. Здесь совсем другое. Господь Иисус Христос, что особенно важно, не ограничился только ссылкой на слова Библии, но и разъяснил, что в браке таинственно соединяются двое в одно духовное целое, и что никакой человек не в праве посягать на брак. Этим Иисус Христос с Своей стороны, как Основатель христианской религии, санкционирует брак и объявляет его одной из принадлежностей её, как таинство. Действия Спасителя в отношении к браку и к плоду брака – детям служат новым подтверждением этого. Граф Толстой молчит не без умысла и о том важном, но неприятном для него обстоятельстве, что Господь Иисус Христос благоволил присутствовать в Кане Галилейской при бракосочетании и совершил здесь первое из чудесных дел Своих. Православная Церковь справедливо усматривает здесь благословение Иисусом Христом брачного союза, и Хомяков вполне прав, ставя этот факт в параллель с фактом первого узаконения брака. В самом деле, если бы брак не был в очах Спасителя делом добрым, разве Он решился бы авторизовать его Своим присутствием и совершением чуда? От того, что само по себе дурно; Иисус Христос или отвращался, или прямо и публично называл его дурным. Справедливо высокопреосвященный Никанор придаёт особое значение и тому обстоятельству, что Иисус Христос, вслед за речью Своей о браке, как учреждении Божием, совершает благословение детей и говорит: не препятствуйте им приходить ко Мне. ибо таковых есть царство небесное. В Кане Галилейской Иисус Христос благословил сам брак, а здесь – детей, как плод брака. Будучи плодом брака, как Божия учреждения, дети объявляются чадами не земного только, но и небесного царства. Как же с этими словами Спасителя о браке и с Его действиями в отношении к браку и к детям вяжется мысль гр. Толстого, будто бы брак не есть христианское учреждение и даже не может быть таковым? (Гусев. О браке и безбрачии против „Крейц. Сон.“, стр. 101).
* * *
В связи с общим учением о браке состоят у Льва Николаевича два частных тезиса, которым мы должны теперь отдать своё внимание. Эти тезисы таковы:
а) „В совершении таинства брака над людьми, заведомо соединившимся прежде, я вижу прямо нарушение и смысла, и буквы Евангелия“.
б) Брак нерасторжим ни по какой причине.
Итак, прежде всего брак закрывается для тех, кто потерял до брака свою чистоту?
Евангелие это или книжничество?
Нет не Евангелие. „Всякое падение устанавливает брак?!“
Нет сомнения, что факт соединения с женщиной должен влечь за собой известные обязательства.
Кто бы ни была женщина, человек вступивший с ней в связь, обязан взять на себя ответственность за то, что было... Он преступник против её души. Его дело – есть величайшее преступление, убийство чужой души, и преступник должен искупить своё дело, сделать всё, чтобы поднять загубленную душу.
Нет сомнения, что если человек, вступивший в соединение даже с проституткой, даст ей разводное письмо в виде сторублёвой ассигнации, „он повинен суду и геенне огненной, ибо творит ю прелюбодействовати“... Он должен сделать всё, чтобы спасти её из грязи; если он может содействовать этой цели возрождения браком – это его обязанность. И Церковь будет молиться, чтобы единение было „браком о Господе“.
„Нехлюдов, согрешив с горничной Катериной Масловой и почувствовав свою вину перед нею, сделал несомненно хорошо, когда отказался от брака с другой женщиной. Что он в искупление вины своей перед погубленным им человеком последовал за нею на каторгу, это его огромный подвиг, и, если бы вся наша молодёжь воспиталась в убеждении, что согрешивший с одной незамужней женщиной лишается нравственного права на другую, это был бы большой прогресс нравственный в жизни нашего общества“ (Арх. Андрей)96.
Но далее. Если сношение со всякой женщиной делает человека соучастником в судьбе, то следует ли отсюда, что падение делает недоступным для человека святые радости семьи?
Нет, нет и нет.
Конечно, · нечистая жизнь до брака всегда будет не только пятном, но язвой, раной на совести. Прошлая болезнь совести сделает трудными истинно-христианские отношения супругов. Вкусивший от древа познания зла, не достоин древа жизни. Но нужно поднимать павшего, а не помогать ему падать.
Церковь обязательно спрашивает, нет ли у брачующегося обязательств к кому-нибудь? Это узаконено нашим требником. Не обещался ли еси иной? Это не значит, не давал ли человек формального обещания жениться на другой женщине; нет, его спрашивают: не вступал ли ты с отношения, так или иначе обязующие с другой женщиной.
Если да, – брак невозможен, пока обязательство не будет погашено, конечно, не ассигнацией. Если же этих обязательств нет, то грех падения не сделает невозможным брак. Церковь верит в силу покаяния, совершенно уничтожающую не ответственность за грех, но и само повреждение совести.
Поэтому и здесь она молится о прощении прошлого греха и призывает благодать Божию, благословляет на подвиг возрождения путём брачным...
А развод? То, что говорит о разводе граф Л. Н., стоит в связи с его учением о том, что падение, раз совершившись, создаёт брак. „Падёт человек, и это падение устанавливает брак нравственный, а этот брак должен быть нерасторжим“. Трудно представить что-нибудь более книжническое и циническое, чем этот взгляд. И так выходит, что первое падение делает простительным следующее падение?
В этом пункте более, чем где-нибудь, ясно огромное, страшное превосходство нравственного учения христианства сравнительно с нравоучением реформатора.
Христианство требует целомудрия и в браке... Страстные отношения к женщине, желание её, вне желания детей и инстинктивного психофизического влечения, есть блудодеяние и в браке, предусмотренное церковными канонами.
Сожитие между людьми, потерявшими тайну любви и нравственных отношений, уже невозможно.
Ясно поэтому, что раз совершено прелюбодеяние, измена, то здесь с церковной точки зрения развод уже факт состоявшийся. Сожитие потеряло свой нравственный смысл. Правда, сожитие может быть восстановлено раскаянием согрешившего или согрешившей. Но если этого нет, сожитие становится уже блудом.
Пусть развод может повлечь действительно дурную жизнь одного из супругов, но это проблематично.
Продолжение брачной жизни (как требует Толстой) с человеком, с которым окончательно порваны чистые отношения христианских жены и мужа, уже не будущее, а циническое настоящее.
„Брак, пишет не раз цитируемый нами арх. Андрей, есть нравственное обязательство жить свято, и нарушение обязательства этого нарушает и сам брак; брак по существу своего определения разрушается самым грехом прелюбодеяния. Развод же есть уже констатирование только факта, есть дело второстепенное, по своей формальной стороне уже неважное и к существу дела, к церковному так сказать, несчастью, т. е. греху, хотя бы и отдельного члена Церкви, мало относящееся“97.
„Святой союз, установленный Создателем, не может быть расторгнут без греха человеческой волей; но грех прелюбодеяния расторгает этот союз, потому что есть прямое его отрицание. Муж, который стал для своей жены одним из мужчин; жена, которая стала для своего мужа одной из женщин, – не суть уже и не могут быть в глазах Церкви мужем и женой“ (Хомяков).
Мы кончили.
Не ясно ли, где истина? Она в Церкви. И потому потеря Церкви – здесь потеря истины.
Учение графа – книжнический, фарисейский, холодный комизм, законническое преклонение перед буквой, убившей дух.
„Неверие в истину Церкви, утратив истинное понятие, понятие о вещах духовных, лишилось и разумения земных форм человеческого бытия. В Церкви всё держится одно с другим и взаимно одно с другим вяжется. Вне Церкви всё – и величавая святость добровольного девства, наполненная радостей, и святость супружества, строгая святость вдовства, все это необходимо убивается рационализмом „отъединенного“ эгоистического сознания. Жизнь человека теряет украшающий её – венец“ (ср. Хомякова, стр. 142).
* * *
Идеал брака, начертанный нами, высок. Но есть ли вмещающие его? Не осталось ли таинство брака только в идеале и в катехизисе. Человеку, даже пророку, не дано всеведение. Пророк Илья думал, что он один верующий во Израиле, и вот к нему явился Господь и сказал: … кроме, тебя ещё 7 тысяч израильтян не преклоняли колен перед Ваалом.
Дух дышет, идеже хощет.
Иером. Михаил
Козицкий П. [Рец. на:]: П.Д. Боборыкин и русское сектантство // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 580–599
(По поводу повести Боборыкина „Исповедники“, „Вестник Европы“, январь-апрель 1902 г.).
I.
Более четверти века русское общество, начиная от верхних до нижних слоёв, мятётся, куда-то стремится, чего-то ищет и, по-видимому, не находит. Брожение это совершается, по преимуществу, на религиозной, почве: все ищут того, „чем люди живы“. Если мы оглянемся несколько назад, то перед нами, как в калейдоскопе, промелькнёт целый ряд течений, охвативших в последней четверти истекшего столетия почти всю святую Русь. Конец шестидесятых и начало семидесятых годов выдвигает на юге России штунду; в средине семидесятых годов в нашей северной Пальмире в высшем обществе является Лорд Редсток и своими проповедями производит целую сенсацию в аристократических кругах; отсюда волна редстокизма начинает проникать и в простой народ. На смену Лорда-апостола является гвардейский полковник, богатый землевладелец Пашков, устремивший своё влияние преимущественно на простой народ и создавший секту под именем пашковщины. В 80-х годах, мы видим, пашковщина широкой волной охватывает матушку-Русь и протягивает руку общения уже окрепшему и глубоко разлившемуся по юго-востоку и юго-западу России штундизму. В конце 80-х и в начале 90-х годов появляется на сцену жизни толстовство и проникает не только в интеллигентные слои, но и в народ. Мало этого: оно смешивается с рационалистическим нашим сектантством и на юге, и в центре, и на севере России; проникает даже в Закавказье к духоборам, при этом с тенденцией сделать переворот во всём сектантском мире. В 90-х годах в области литературы и искусства выдвигается новое, вполне оригинальное явление, именуемое декадентством, с мистико-религиозной окраской, и потому характеризуемое как эстетическое богоискательство. Всё это вместе взятое породило в обществе и народе хаос; в религиозном отношении замечается брожение мысли и шатание умов из стороны в сторону.
Такое-то наследие истекший 19-й век завещал настоящему 20-му веку. Явление это вызвало сочувствие и внимание к себе известной части интеллигенции и стало предметом научных изысканий и обсуждений как в повременной, так и в ежедневной прессе, – и заставило быть настороже Церковь и государство. И наша изящная литература, всегда весьма чуткая ко всякого рода течениям и брожениям как в народе, так и среди интеллигенции, начала черпать из этого источника для себя содержание.
В последнее время наш известный писатель П.Д. Боборыкин; с отзывчивостью опытного беллетриста, посвятил свои силы изучению этого движения на Руси, во всей его совокупности, и подарил русской литературе интересную, широкую по своему замыслу, отчасти и по выполнению, повесть, так сказать, на злобу дня, под заглавием: Исповедники.
Приступая к чтению боборыкинских исповедников, мы надеялись в этой повести встретить, в художественных образах, картинах и красках, верное воспроизведшие современного религиозного движения на Руси. Мы были уверены, что автор, отличающийся наблюдательностью и проницательностью, отзывчивостью и уменьем подметить новые течения в обществе и народе, в своём труде воспроизведёт полную картину современного брожения на Руси со всей художественной правдой, расширит горизонт нашего понимания современных течений в религиозной области, при этом объективно, без предвзятой мысли, без тенденциозности, уяснит нам сущность этого явления и введёт нас, так сказать, в лабораторию, в самое горнило народной мысли, стремящейся к раскрытию и уяснению вековечных истин человеческого духа, трактующих о том, чем люди живы. К сожалению, надежды наши не оправдались.
Боборыкин в своей повести „Исповедники“ развёртывает перед читателем целую панораму событий из религиозно-сектантской жизни и мысли общества и народа и изображает целый ряд течений последнего времени; но при этом все эти явления он трактует, как готовые уже факты, вылившиеся в определённую форму, не касаясь самого процесса их формирования и развития. Мало этого. К сожалению, мы должны ещё констатировать факт, что автор при изображении событий и вообще фактической стороны в своей повести чужд объективности и беспристрастия, условий столь необходимых в деле творчества и составляющих непременную принадлежность, так сказать, основу всякого художественного произведения, – и весь свой труд освещает с точки зрения тенденциозно предвзятой им мысли, которая и служит основной идеей всего его произведения, и к которой он, volens-nolens, направляет все свои симпатии. Таковой идеей является свобода совести, т. е., право каждого иметь своё credo, свою вечную правду, насколько она присуща душе человека, своего Бога, как он Его разумеет, и исповедовать их свободно, т. е., открыто всегда и везде (Вести. Евр., янв. 22, 23 стр.). Эта идея, вложенная автором в уста Булашова, одного из главных действующих лиц, является альфой и омегой всей рассматриваемой нами повести и проходит через неё красной нитью. В повести все направлено к раскрытию этой идеи и все сводится к одной этой только мысли; не будь её, повесть потеряла бы всякий смысл. Как кривое зеркало неправильно отражает в себе предметы, так и всякое тенденциозное произведение, будет ли оно научное или литературно-художественное, не может претендовать на истину и всегда будет изображать трактуемый им предмет в утрированном виде. Это-то положение вполне приложимо и к повести Боборыкина „Исповедники“. Боборыкин в своём произведении настолько извращает истину и даёт такое односторонне-тенденциозное освещение фактической стороне, что повергает в крайнее недоумение беспристрастного читателя. Само собой разумеется, что и художественная сторона произведения вследствие этого значительно теряет свою ценность.
II.
Переходя к ближайшему рассмотрению элементов боборыкинской повести, мы должны сделать замечание общего характера. В художественном произведении нашего писателя почти-что отсутствует фабула; по-видимому, в нём нет главного зерна, в котором всё должно сосредоточиваться, и к раскрытию которого всё должно направляться. Вниманию читателя автор предлагает целый ряд картинок и выводит немалое число лиц, групп и действий, разнообразных по своим взглядам и убеждениям, на первый взгляд не имеющих ничего общего между собой и не связанных друг с другом; при этом перед глазами читателя быстро мелькает, как в калейдоскопе, одно действие за другим, одна группа явлений быстро и эффектно сменяется другой, не оставляя в душе его глубокого впечатления. Невольно даже напрашивается вопрос, повесть ли „боборыкинские исповедники“, или это только ряд художественных картин, представляющих из себя изящную амальгаму? Не лишне оговориться, что впечатление от рассматриваемой повести получилось бы иное, более выгодное, если бы автор, все выведенные им лица и действия органически связал между собой, глубже проанализировал и более беспристрастно осветил их. Правда, все лица и действия в „Исповедниках“ проникнуты одной идеей, одним стремлением видеть везде и повсюду „свободу совести“, но свсё это сделано, хотя и умелой рукой, но как-то искусственно, ходульно, неестественно. По прочтении повести, получается тяжёлое, неприятное впечатление. Вопросы, затронутые автором, не только не разрешены, но и неправильно освещены, а в некоторых случаях тенденциозно извращены. Это обстоятельство порождает в читателе, знакомом с предметом повести, чувство недовольства и неудовлетворённости и навевает на него грустные, чтобы не сказать больше, размышления...
Одним из видных персонажей, если не самым главным, нужно признать Булашова, вкруг которого, как возле центральной фигуры, сосредоточиваются почти все действия повести. Интересно посмотреть, что это за личность, чем он живёт, и какое его credo, выражаясь языком боборыкинских исповедников.
Боборыкин с целью придать больше яркости и оригинальности своему герою производит его от отца, посвятившего свои силы на служение религиозным потребностям народного духа, ставшего вождём и руководителем сектантского движения и стяжавшего потому широкую известность среди сектантского мира и интеллигенции (Вестн. Евр. I кн. 10, 22 стр. IV к. 461 стр.). В повести он выводит его уже вполне сформировавшимся, с определённым миросозерцанием и устоями, деятелем. Как питомец Петровско-Разумовской академии и как землевладелец, Булашов должен был бы „сеять“ на землю; но он этого не сделал только ради свободы. Эту любовь к свободе в практической жизни он перенёс и в область религиозного мировоззрения. Сам он об этом так говорит: „Выше всего для меня свобода моей совести. Она должна создать себе свой идеал, своё credo, свою вечную правду, насколько она доступна человеку. И эта свобода совести – мой культ не для меня одного, но для всех. Пускай всякий имеет своего Бога и свою правду, как он их разумеет; но, чтобы он волен был исповедовать их открыто всегда и везде“ (Вестн. Евр., I кн. 22 стр.). Вполне потому естественно и логично, что Булашов, держась точки зрения абсолютной свободы совести в деле веры, является необыкновенно отзывчивым ко всякого рода религиозным брожениям среди народа и все свои симпатии устремляет в эту именно сторону. При этом он с философским равнодушием одинаково относится ко всем сектантским обществам различных толков (штундистам и молоканам, пашковцам и толстовцам); те и другие для него – друзья; тем и другим он с одинаковой готовностью протягивает руку помощи. Правда, он не берёт на себя активной роли руководителя сектантского движения и стоит как бы в стороне; не принимая участия в пропаганде; но в нужде оказывает ему всяческую поддержку: то, мы видим, он в голодный год едет в глушь в сектантские районы и принимает деятельное участие в покупке хлеба, капусты и хрену; то он выступает ходатаем за сектантов перед представителями власти, суда и адвокатуры, аттестует перед ними сектантов, как лучших людей, при этом страждущих невинно, и старается косвенными и прямыми путями облегчить их участь. И всё это делает он бескорыстно, даже с немалыми с своей стороны материальными тратами!
Всякое сектантство в нашем народе, поскольку оно ведёт к удовлетворению высших потребностей души человека и способствует выработке своего понимания истины и своих способов спасения, насколько оно помогает „богоисканию“ и созданию своей веры, своего credo, и насколько оно пролагает путь к свободе своей совести, настолько находит себе сочувствие и отклик в душе Булашова. Не принадлежа лично ни к какой категории сектантства, он открыто признаёт, что каждая религия, выражаясь языком же исповедников, ведёт ко спасению, взыскует просветление и трепетно уповает на безусловную правду своих заветов (Вестн. Евр., IV кн. 512 стр.); иначе говоря, что в каждой религии есть своя доля правды. Для более яркой иллюстрации религиозного мировоззрения Булашова позволим себе привести целиком небольшую выдержку из конца повести. В этом месте изображается встреча Булашова в Кремле, в Москве, с одним инородцем, по имени Будда, и рассказывается, какие размышления она вызвала потом у нашего героя.
– Ведь вас зовут Будда? – спросил с усмешкой Булашов.
– Так точно. Будда Балданович Балданов.
– Великое имя! – тихо воскликнул Булашов. Ваш, значит, „ангел“, как у нас говорят?
– Совершенно верно. Ха, ха! Помнить надо, чьё имя носишь. Ежели что неладное подумаешь или сделать соберёшься, – сейчас и вспомнить надо, чьё имя дали тебе. Всего хорошего!
Иностранец повернул на Никольскую. Булашов спустился к Воскресенским воротам.
Он двигался медленно по дороге в гостиницу и взял, пройдя мимо часовни „Иверской“ через площадь, к главной аллее Александровского сада.
Вошёл туда и присел на одну из ближайших скамей. Эта неожиданная встреча с „Буддой“ – с русским инородцем ламайской веры – потянула его мысль далеко-далеко... и подняла в нём опять то чувство, что он сейчас испытал там в Кремле.
– Необъятно его отечество!.. Необъятно – не одним пространством. Сколько вер в его народах! Индия, Палестина, Сибирская тайга... И проповедь Сакь-я-Муни, и дремучий фетишизм шаманства, и хор исповедников Иисуса „Назорея“, – все взыскует просветления, всё трепетно уповает на безусловную правду своих заветов...
Дух захватывает!
Глаза его обратились влево.
На светло-синем небе выступал огромный золотой купол храма „Спаса“, и алмазная искра горела на его вышке.
И припомнилось Булашову слово „спасение“ в простонародном говоре „евангелика“ Василия... Его все ждут, каждый по-своему“ (Вести. Евр., IV кн. 512 стр.)...
Скажите, читатель, как иначе можно назвать мировоззрение нашего героя, как не религиозным эклектизмом, притом полным безразличия и равнодушие к истине? Здесь, к великому изумлению нашему, мы видим, что по внутреннему своему содержанию христианство (Палестина), буддизм (Индия) и шаманство (Сибирская тайга) Булатовым совершенно приравниваются между собой и ставятся им на одну доску, и что буддисты, шаманы – фетишисты и сектанты (хор исповедников Иисуса Назорея) в равной степени достигают своей цели, так как все они одинаково жаждут Его, но только каждый по-своему. В этом безумном эклектизме, по-видимому, и заключается квинтэссенция, сущность, самая истина религиозного мировоззрения нашего героя, а вместе с тем и самого автора „Исповедников“, вкладывающего в уста Булашова свои идеалы и своё миросозерцание. Если бы когда-либо религиозное мировоззрение, проповедуемое устами Булашова, выработалось в определённую систему, то история религии отвела бы ему в своей классификации, и вполне по достоинству, одно из последних мест! Непосредственный читатель, ознакомившись с этим уродливым, мировоззрением, с ужасом воскликнет: едва ли можно было договориться до большего абсурда, г. Боборыкин! Нам было бы скучно, к тому-же и бесполезно заниматься анализом религиозных воззрений главного героя повести Булашова (читай и Боборыкина), если бы оно было единичным явлением; но мы с грустью должны констатировать прискорбный факт, что Булатов – это тип из категории исповедников, воплощённое олицетворение религиозного мировоззрения многих и многих из нашей интеллигенции!
Боборыкин, характеризуя деятельность своего героя, часто предпринимающего путешествия то в Петербург и Москву, то в деревенскую глушь к сектантам, то на юг России – в Киев и Одессу, в шутку называет его коммивояжёром по сектантским делам! Это шутливое, вместе с тем и остроумное название, по нашему мнению, вполне к лицу Булашову, и применено к нему весьма удачно: оно, вполне достойное наших поборников безусловной разнузданной свободы совести, превосходно и метко характеризует их религиозное мировоззрение, „как коммивояжёрское“.
Вот этот-то герой, очерченный нашим романистом такими штрихами, входит в самое тесное соприкосновение со всеми действующими лицами повести и старается направить течение событий сообразно своим вкусам и воззрениям; но всё это делает так тонко, проницательно, без всякого видимого насилия над чужими мыслями и чувствами, что приходится только удивляться! Словом, Булатов – это тип боборыкинской эластичности в области религиозно-философских воззрений и житейско-практических взаимоотношений.
III.
Боборыкин уделяет в своей повести особливо-нарочитое внимание расколо-сектантскому миру, его состоянию и современным его течениям. С этой целью он весьма подробно изображает перед читателями в картинах и образах жизнь этого мира. В повести мелькает целый ряд личностей из сектантского мира различных оттенков и направлений: среди них можно усмотреть пашковцев (Петербургский ремесленник Суздальцев), толстовцев (Топорков интеллигент, живущий вблизи народа), молокан, штундистов, баптистов, раскольников-старообрядцев. Не довольствуясь изображением отдельных личностей, автор выводит на сцену целые сектантские общины с их религиозными собраниями (богомолениями) и бытом вообще, и старается указать даже вероисповедные особенности каждой сектантской общины. При этом наш писатель, как и следовало ожидать, о всех явлениях расколо-сектантского мира трактует под известным углом зрения: он всех вожаков сектантских и целые сектантские общины аттестует с наилучшей стороны, как людей безупречно честных, высоконравственных, проникнутых безусловной преданностью своей секте и стойких в своих религиозных убеждениях, смышлёных, рассудительных, умных и в общем несравненно больше, чем православные, благоденствующих и в материальном отношении. Правда, автор слегка и как бы вскользь восхваляет „сектантский“ мир, желая сохранить объективность бытописателя, но это ему не удаётся: тенденция его и утрировка при изображении им фактов и лиц сквозит на каждом шагу. Наша мысль ещё рельефнее подтвердится, если мы сравним, как он относится к не расколо-сектантской среде. В повести выводится целый ряд лиц „иного лагеря“, с которыми так или иначе входит в соприкосновение расколо-сектантство, это: петербургские сановники, присяжные заседатели, эксперты, полицейские чины, православные священники, и все они, в противоположность сектантам, изображены далеко в неприглядном свете и обрисованы несимпатичными чертами.
Само собой разумеется, что такое тенденциозное отношение к таким явлениям и отсутствие объективности в деле творчества не делает чести автору „Исповедников“ и приводит к довольно печальным результатам: художественное его произведение в значительной степени теряет свою ценность. Нужно только удивляться Боборыкину, не новичок же он в деле писательства, и, конечно, твёрдо знает эту азбучную истину, но у него, как первородного сына либерального интеллигентного лагеря, тенденциозность победила творчество.
Переходя к подробной характеристике отдельных групп расколо-сектантства, мы прежде всего остановим своё внимание на старообрядческом расколе.
Наперёд можно было предвидеть, что Боборыкин будет трактовать старообрядческий раскол с либеральной точки зрения, царившей в светской литературе семидесятых и восьмидесятых годов. И, действительно, мы видим, что наш писатель повторяет, думая, что он Америку открывает, так называемый щаповский взгляд, усвоенный в своё время нашими публицистами известного типика и долго не сходивший со столбцов периодической печати. Очевидно, автор не знает, что этот взгляд ныне уже не выдерживает критики с научной точки зрения и не только отвергнут наукой расколоведения, но и не принят старообрядцами! Нам думается, что повторять далее беллетристу те лементации на счёт раскола, которые двадцать слишком лет тому назад привлекали к себе внимание своей оригинальностью, хотя и беспочвенной, в настоящее время и не остроумно, и не интересно; но и тут сказался в авторе истовый „интеллигент“, который никогда ничего либерально-тенденциозного не забывает и ничего нового, идущего в разрез с либерализмом, не принимает·
К щаповскому воззрению на раскол автор привнёс ещё нечто новое из так называемых либеральных воззрений последнего времени. По Боборыкину, раскольники старообрядцы являются „членами свободной Церкви без всякого изуверства, преданность же их букве – это их способ отстаивания традиции. Когда станут больше знать, стряхнут с себя и буквоедство, а самостоятельность сохранят... В последнее время они не боятся мирщения... со всяким достойным человеком, даже и с церковным“ („Вестн. Евр.“ I кн., стр. 38, 39, 40). На этой почве и выросло, по мнению Боборыкина, сочувствие к расколу нашей интеллигенции!
Автор „Исповедников“ вывел на сцену двух интеллигентов, сочувствующих расколу старообрядчества и в их уста вложил всё, что только имеется в нашей либеральной прессе в пользу тех, кто ходит по старинке. Небезынтересно послушать этих апологетов старообрядческого раскола.
Старозаветные люди, с пафосом восклицает один из таких интеллигентов, отстояли же свою самобытность! Положим, их всегда могут ограничить и придавить во всех видах оказательства. К этому опять и пошло. Но с ними нельзя не быть в единомыслии, не принадлежа вовсе к их согласию... Они стоят за полную независимость вероисповедного уклада, держатся выборного начала, для них стадо должно иметь единого высшего пастыря, как это было в московской Руси... Нужды нет, что они всех церковных величают никоньянами!.. Царит мертвечина (там в православии)!.. И надо ещё удивляться, что отпадения происходят сотнями, тысячами, а не десятками и сотнями тысяч“... („Вестн. Евр.“, I кн., стр. 36).
Другой интеллигент, любитель и специалист истории раскола, как бы от лица науки выступает на защиту старообрядцев с такой зажигательной, высоко-приподнятой по тону речью:
„Чем больше изучаешь историю раскола нашего старообрядчества, тем ярче выступает духовная мощь простого народа в том, что составляет его „святая святых“. Нужды нет, что он является хранителем внешнего обряда, что он буквоед... и даже изувер; но у него, вместе с вероисповедным единением, сейчас же и основа земская, хозяйственная, обычный уклад, великий социальный принцип солидарности и равномерного распределения земных благ. Скиты! До их разорения... какой хозяйственный быт!! Вот настоящая школа народно-этического воспитания! Пока не замрёт дух вероисповедной независимости, ничто не потеряно! Возьмите вы того же Суздальцева и всех евангеликов... Здесь, в Петербурге, и на юге, и на востоке, и на Кавказе, и в земле Войска Донского, где целые века нерушимо стояло и древнее благочестие. Всякая религиозная община, раз она образовалась в народе – от мужика до мастерового, вышедшего из мужиков, как наш Суздальцев, она выработала себе и социальный уклад по идеалам народной правды и справедливости“ („Вестн. Евр.“, III кн., стр. 72).
Самый беглый анализ вышеприведённых отрывков превосходно раскрывает перед читателем точку зрения Боборыкина на раскол старообрядчества. Он потому-то так и идеализирует раскол, что там он находит основы идеального строя народной жизни и там усматривает воплощение идеалов правды и справедливости: земское строение с его задачами, принцип солидарности, выборное начало, свободная Церковь, свой вероисповедной уклад с свободной религиозной общиной, всё это с казовой, конечно, стороны прекрасно и может вскружить голову, как и вскружило г. Боборыкину с К°, но оно слишком далеко от живой действительности, а вместе с тем от святой и нелицеприятной истины! Не будь наш автор флюгером, отражающим чужие, при том односторонние тенденции на раскол, взгляни на него с другой стороны, более беспристрастной, он не стал бы петь такие хвалебно-восторженные дифирамбы старообрядчеству, и был бы правдивее и ближе в действительности...
Ещё с большими симпатиями относится Боборыкин к Сектантскому миру: молоканам, пашковцам, щтундистам и баптистам. Он с особенной любовью и заботливостью вводит читателя в область мировоззрения нашего сектантства, стараясь охарактеризовать и в типически основных чертах изобразить отдельные его фракции или толки; знакомит с целыми сектантскими общинами, вожаками и выдающимися их деятелями, с религиозным их укладом и бытовой стороной; ведёт читателя даже на религиозные их собрания (богомоления), где происходят чтение и толкование св. Писания, пение гимнов и псалмов и молитвенные импровизации, оттеняя при этом активное и сознательно-разумное участие в богомолениях всех присутствующих там членов.
Автор красной нитью проводит в своей повести ту тенденцию, что наше рационалистическое сектантство, во всех его стадиях развития, начиная от молоканства и оканчивая штундизмом, есть продукт самодеятельности исключительно русского духа и вполне самостоятельное движение в народной среде, так как этот оттенок богоискательства не переставал жить в русском народе с древних эпох („Вестн. Евр.,“ II кн., стр. 517, 527, III кн., 72 стр.). Мысль эту автор вводит в сознание и вкладывает её в уста сектантов и интеллигентов, соприкасающихся с сектантским движением и сочувствующих ему. Из повести мы видим, что евангелики (молокане) и баптисты (штундисты), все без исключения усиливаются перед судом и в частных беседах с интеллигентными лицами показать свою религиозную самобытность и самостоятельность, совершенно отрицая какое бы то ни было иноземное влияние. С этой целью автором в повести выводятся и интеллигенты, проповедующие с настойчивостью, достойной лучшей участи, туже мысль, таковы: Булашов – радетель и коммивояжёр по сектантским делам; Лебедев – адвокат и защитник сектантов перед судом и Тарутин – занимающийся изучением истории раскола старообрядчества. Все эти три лица, являясь защитниками сектантских интересов и их мировоззрения, выступают живыми проводниками тенденции нашего автора, касательно самобытности и самостоятельного, без посторонних воздействий, развития нашего сектантства на русской, вполне народной, почве. Мысль эта, как отголосок прежних воззрений нашей либеральной прессы, безусловно не отвечает живой действительности и должна быть, как неверная, отвергнута. Поэтому и освещение Боборыкиным с этой именно точки зрения нашего сектантства и современных его течений должно быть признано, как неверное, крайне тенденциозным!
Автор, настаивая на той мысли, что наше сектантство во всех его фракциях есть продукт самостоятельного народного саморазвития, впадает, не замечая того, в противоречие с самим собой. В своей повести он сам указывает, к немалому нашему удивлению, такие типические черты, которые привнесены в наше сектантство извне и которые сами говорят за своё иноземное происхождение. Даже больше. Он выводит на сцену из сектантской среды такие личности, которые под воздействием сектантского иноземного влияния усвоили себе иностранную окраску. Для иллюстрации позволим себе обратить внимание наших читателей на следующие два факта, имеющих место в. повести Боборыкина. Княжна Зизи, одна из представительниц петербургского высшего света и сектантского мира, изображена автором в таких чертах. „Княжна с поблёклыми светло-голубыми глазами, точно подёрнутыми какой-то дымкой, с кротко мечтательным выражением, отличалась необыкновенной добротой; но доброта её была пропитана, точно запахом мускуса, сокрушённым чувством своей греховности и неустанным призывом „благодати“. Она с мастеровым Суздальцевым была одной секты. „Она, среди особ своего ближайшего кружка, сохранила традиции первоначального благочестия, на иностранный, английский лад. У неё и акцент был точно с английской примесью. Княжна Зизи, вздыхая, жалуется на беспомощность положения своей общины, оставшейся, подобно овцам, без пастыря, значительно подбавившейся в своей численности и недосчитывающей в своих рядах весьма многих из прежних последователей из высшего света, и приглашает Булашова, после смерти его отца, возложить на себя сладкую ношу Спасителя“ („Вестн. Евр.“, II кн. стр. 482, 483).
Скажите, читатель, к какой категории сектантства принадлежит княжна Зизи? Не чистейшей ли воды она последовательница редстокизма, трансформировавшегося с течением времени в пашковщину, распространившуюся потом преимущественно среди ремесленного люда Петербурга и отсюда широкой волной разлившуюся по разным местам нашей широкой матушки-Руси? К чему тут лукавить! Да и кто согласится, что пашковщина русского происхождения и продукт творчества народного духа! Полнейшее и очевиднейшее противоречие фактов с популяризуемой в повести тенденцией нашего автора!
Другой факт также не менее красноречиво говорит сам за себя. Выведенный в „Исповедниках“ коммивояжёр по сектантским делам – Булашов увозит с собой из Петербурга „в глушь, в деревню“, к сектантам своего приятеля Костровина, знакомит его с местными сектантскими общинами и заставляет его посетить их богомоленные собрания. Посетив собрания этих общин, Костровин нашёл, что у баптистов (читай штундистов), самостоятельно якобы выродившихся из молоканства, слишком отдаёт иноземщиной. „Стихи, петые на собрании, показались ему, как и в Петербурге, переведёнными с иностранного. Хорал, который запели при нём, был приятного напева, нерусского, но пелся он уже с оттенком русской грусти... Даже сам ритуал собрания был нерусского происхождения“ („Вестн. Евр.“, II кн., стр. 544, 545). При таких данных, говорящих в пользу иностранного происхождения секты реформированных евангеликов-баптистов (читай – штундистов), честно ли, вопреки истине, утверждать, что сектантство это не привнесено к нам извне, а является плодом народного саморазвития? Думаем, что комментарии в данном случае излишни: истина говорит сама за себя! Мы только недоумеваем, как Боборыкин, при своём тонком и проницательном уме, мог в своей повести допустить такое противоречие, нисколько не гармонирующее с его основной по этому вопросу тенденцией! Должно быть, святой правды никак уже нельзя было обойти!
Считая небесполезным познакомить читателей с характеристикой каждой в отдельности из выведенных автором сект, мы должны заметить, что наиболее очерченными в повести являются молоканство и штундизм (баптизм); пашковщина же еле просвечивает в неясных, несколько неопределённых образах петербургской аристократки – княжны Зизи и петербургского ремесленника Суздальцева, а толстовство – в образе интеллигента Топоркова.
В повести Брборыкина, как живые, встают перед читателем сектантские общины молокан и баптистов (штундистов). Автор, как бы вторя их желанию не иметь никакой клички, больше склонен называть их евангелическими христианами или евангеликами: первых – старого толка, а вторых – нового („Вестн. Евр.“, II кн., стр. 508).
Молокане – это своего рода староверы, консерваторы; для них выше всего – неприкосновенность евангельского учения: „как отцы наши веровали, так и мы“. Обрядов у них нет никаких, потому они и духовные. В своём уповании они являются только взыскующими царствия небесного, потому у них имеют важное значение добрые дела и молитвы за умерших; они, по меткому выражению одного из их вожаков-начетчиков, не застраховали ещё себя от вечной муки на том свете, потому они и молятся за умерших. Духом прозелитизма они не заражены и пропагандой не занимаются. Молитвенные их собрания состоят из чтения и пения: читают Евангелие и поют псалмы и отдельные места из слова Божия; молитв же своего сочинения (импровизаций, как у других сектантов) не допускают; текстом пользуются церковно-славянским; в собраниях читают только мужчины, а в пении принимают участие и женщины; напевы их псалмов старинные, истиннорусские, былинные. Не налагая на себя никаких запретов, они всё-таки держатся некоторых ограничений, в особенности старики: не едят свиного мяса, белуги и вообще всякой рыбы, не имеющей чешуи. По внешнему своему облику они – чистейшие русаки, хлеборобы; в материальном отношении они выше, зажиточнее церковных (православных), которых, к слову сказать, они иначе не называют, как лукавыми („Вести. Евр.“, II кн., стр. 530).
Евангелики новейшего толка – баптисты (штундисты), по словам нашего писателя, – это молокане, трансформировавшиеся в новую секту с новым оттенком, притом исключительно своими внутренними силами, без посторонней помощи извне. Положение это безусловно неверное, и тенденциозность его раскрывает сам автор при характеристике сектантства этой категории. Как некоторые из молокан пришли к мысли, что они – в своём роде старообрядцы, хотя и духовные, и что у них нет животворящего духа, и каким образом они реформировались в евангеликов-баптистов (штундистов), Боборыкин не касается этого интереснейшего вопроса и выводит перед читателем их уже готовой, сформировавшейся новой сектой.
Баптизм (штундизм), желая, в противоположность молоканству, быть деятельной сектой, выдвинул на сцену вопрос о живой вере в распятого Христа, искупившего всех Своей кровью. И все, принявшие эту благую весть и уверовавшие во Христа-Искупителя и Его спасающую кровь, считают себя уже спасёнными, святыми; они, выражаясь языком повести, „заручились уже царством небесным“ („Вестн. Евр.“, IV кн., стр. 503); такого упирания в одну точку о благодати, как у петербургских их собратов (пашковцев), у них нет (Ibid. II кн., стр. 545). Трепетное упование на Того, Кто умер за грехи людей на кресте, приводит сектантство к той уверенности, что они будут спасены, потому-то и молитвы за умерших излишни. Из таинств они принимают только крещение взрослых и причащение (преломление хлеба) и то, как два обряда; крещение у них трактуется как внешняя только формула, как само свидетельство веры. Как неофиты, они в общем проникнуты духом прозелитизма. Собрания их отличаются от молоканских тем, что на них, кроме чтения слова Божия, бывают толкования его и пение гимнов и песнопений, принятых ими извне и заимствованных не из слова Божия. Непременную принадлежность собраний составляют импровизации (молитвы), дозволенные всякому, кто почувствует к тому влечение духа. Пение гимнов и песнопений – весёлое, короткое, отдаёт иноземщиной. На собраниях председательствует и даёт распорядок всему пресвитер-ставленник. Женщинам, как и у молокан, не дозволено, согласно с апостолом, читать, а тем паче толковать слово Божие. Во время богомолений употребляется, библия на русском языке и сборник духовных стихотворений, переведённых с иностранного, и весь вообще ритуал их отдаёт иноземщиной. Православных они величают язычниками („Вестн. Евр.“, IV кн., стр. 481) и относятся не только к ним, но и к молоканам далеко не в духе веротерпимости. По внешнему своему виду они отличаются от молокан и скорее походят на ремесленников-цеховых, чем на земледельцев; одеваются в пиджак и носят галстук; женщины их тоже не походят на простых.
Вот какими чертами Боборыкин изображает баптистов (штундистов)!
Сам собой напрашивается вопрос: неужели баптисты-штундисты, трансформировавшиеся молокане, из своей головы выдумали весь свой богослужебный ритуал, свои вероисповедные особенности и отступления от молоканства, весьма типичные и тонкие по самому своему существу? Сам автор неоднократно говорит об иноземном элементе в баптизме (штундизме) с одной стороны, а с другой – трактует его, как продукт саморазвития молоканства! Слишком уж откровенна тенденциозность!
Что же касается пашковщины, то она в повести обрисована довольно в неясных и неопределённых чертах: представителями её выступают петербургский ремесленник Суздальцев и княжна Зизи. Богослужебный ритуал евангеликов петербургского типа (пашковцев), по-видимому, совпадает с ритуалом баптистов (штундистов). Разница же в вероучении состоит в том, что пашковцы, не признавая никаких, вопреки баптистам, обрядов, глубоко проникаются мыслью о своей греховности перед Богом и устремляют своё внимание исключительно при этом на благодать, озаряющую и спасающую человека; и кто призвал на себя благодать, тот уже и спасён! Через некоторое время в пашковщине явилось тяготение в сторону обрядов, и при основателе её была уже попытка объединить всех евангеликов различных толков в одно стадо, под условием принятия двух обрядов, но попытка эта не увенчалась успехом, так как между разными учениями не могло состояться полного соглашения („Вестн. Евр.“, II кн., 483 стр.). Вот и всё о пашковцах. Не имея возможности распространяться по вопросу о самобытности пашковщины, проникшей в жизнь простого народа, автор излюбленную свою мысль преломляет под иным несколько углом зрения; по его взгляду только то прочно, что вошло в жизнь народа и проникло в его сознание, хотя бы было привнесено извне.
– Да, да! – говорит княжна Зизи. Всё это (т. е. сектанты) простого звания люди... Господа без народа ничего не могут; только то пойдёт в жизнь, что озарило простой люд („Вестн. Евр.“, II кн., 483 стр.).
Представителем толстовства является интеллигент Топорков. Боборыкин, обрисовывая его слегка несколько неясными штрихами, нигде его не называет таким именем, хотя и заставляет его сознаться, что он (Топорков) говорит со слов своего учителя, „который дошёл до понимания смысла жизни“ (автор „Исповедники“). Топорков, мы видим, поселился в деревне, близ Москвы, в оставленной барской усадьбе и живёт литературными трудами, ведёт он обширную переписку с ближними и дальними друзьями; вблизи его живут сектанты двух толков, но он не примыкает ни к одному из них, хотя и сочувственно относится к тем и другим, а в нужде выступает их защитником; то он является за них ходатаем, где следует, то во время цинги ездит для закупок капусты и хрену. Ведёт он простой образ жизни и по принципу вегетарианец. Не ест он убоины, т. е., мяса, исходя из того положения, что мясо превращает человека в зверя. Если бы народ, говорит он не ел мяса, в каких-нибудь два поколения зверя уже не было бы ни в ком („Вестн. Евр.“, II кн., 522 стр.). Проповедуя „закон разумной любви“, он в то же время следует учению о непротивлении злу. Пропагандой он не занимается, но при случае не прочь дать прочитать верному человеку тетрадку, где изложено учение, которому он следует. Костровин, приятель Булашова, прочитав тетрадку эту, увидел, что в учении, там излагаемом, нет самого главного: учения о Богочеловеке и Его воплощении; „благая весть“, о которой там трактуется, исходит от божественного начала вообще, а не от Искупителя, и что там нет также учения о личном, живом Боге; Бог, по этому учению, любовь. Василий, молодой молоканский начетчик из села Добрынина, прочитав эту тетрадку, пришёл вместе с своими единоверцами к тому заключению, что Топорков – „антихрист“; почему молокане и оттолкнулись от него в последнее время. Наконец, Топорков, „по независящим от него обстоятельствам“, навсегда уезжает из подмосковной деревни в Крым.
Без сомнения, перед читателями в лице Топоркова, выступает настоящий толстовец.
Выведенные Боборыкиным сектанты, все без исключения, начиная с вожаков, представлены в прикрашенном виде: как люди, они у него прекрасные и честные труженники, как последователи своего вероучения – безукоризненные в нравственном отношении, глубоко убеждённые и стойкие в своих верованиях, даже больше – исповедники и мученики за свои убеждения, терпящие незаслуженные притеснения от правительства и гонения, в виде ссылок в Закавказье, отнятия детей от родителей с лишением даже права видеть их! Вся эта идеализация рассчитана, конечно, на то, чтобы возбудить у читателя сочувствие к этим страждущим невинно, – лучшим людям. Боборыкин изображает правительство наше в его отношениях к сектантству варварским и несправедливым. Нижеследующая выдержка, прекрасно иллюстрирует эту мысль.
– Как же его (Наума Степанова, сосланного в Закавказье) водворили? – спрашивает Булашов.
– Привели в селение. Армяне там и татаре... или как-то по-другому прозываются... и оставили на порядке... ровно вот как кошку...
– Как кошку! – повторил вслух Булашов.
Сидевшие вокруг стола усмехнулись.
– Именно, сударь, таким манером. Хошь, на земле ложись.
– Ни к кому даже на постой не отдали?
– Ни, Боже мой!.. Если бы приставу он не понадобился... ложись и помирай... Воды почерпнуть или хлеба ломоть... никто не понимает по-нашему. Пристав в услужение взял. Никак с полгод?., батюшка, выжил у него. Прихварывать стал. Ноги отнимаются... Теперича у обывателев приютился... за плату. По-ихнему не умеет ещё болтать. Из-за кажиной малости переводчика ищи-ка... Такие-то, сударь, дела! („Вестн. Евр.“, IV кн. стр. 494, 495).
Картинка яркая, колоритная, но мало правдоподобная.
В другом месте мы находим картинку ещё ярче, ещё выпуклее, характеризующую тенденциозное отношение автора к сектантскому миру.
– „Ослабла“ и вся-то матушка Русь! – подумал Булашов. А не за горами и новый недород!
– Уж не хрен и капусту придётся снова закупать, а зерно на обсеменение озимых – на сотни тысяч рублей.
– И баба Лукерья (на старости лет совратившаяся в сектантство) голодала, поди, не раз и будет жить впроголодь, до конца своих дней; но у ней явился другой голод... голод души...
– Топорков удалён, и Наум Степанов там, в Закавказье, среди чеченцев или каракалпаков; а Лукерьи остаются, и в их душах, всё чаще и чаще, будут просыпаться запросы, которых не удовлетворишь ни ржаным, ни пшеничным хлебом! („Вестн. Евр.“, IV кн. стр. 480–481).
И во все общины „евангеликов“ различных оттенков проникает коммивояжёр по сектантским делам, Булашов, сам лично не принадлежащий ни к какому сектантскому толку, входит в их интересы, оказывает и материальную им поддержку, выступает ходатаем за них перед судом и властями; стоя как бы в стороне от сектаторских движений, старается направлять течение их жизни по одному руслу и не прочь даже повести их по пути соглашения, объединения и слияния в одно стадо, в одну общину! („Вестн. Евр.“, IV кн. стр. 500)!..
П. Козицкий
(Окончание следует).
Воловей Ф., свящ. Разбор грамоты неокружников от 6 мая 7407 лета (1899 года), поданной московскому окружническому архиепископу Иоанну, в замечаниями Арсения, епископа уральского 98 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 600–611
Грамота неокружников (л. 25–26). Ваши пастыреначальники, издавшие своё Окружное Послание, утверждая его новое учение, оговариваются, что это Послание издано якобы против мудрствующих по-беспоповски, которые веру господствующей Церкви, вследствие положенных ею ругательств на имя Христа Спасителя „Исус“ и прочая, почитают в иного Бога. Хотя в нашей святой православной Церкви такого учения и не положено, но считаем необходимостью вам сказать, что если вы взялись опровергать беспоповские тетради, то делали бы свои опровержения законными и святоотеческими данными, но непроизвольными и неправильными мнениями, влекущими в ересь. Так только одинаково с вами поступил Евтихий против Нестория, которого взялся обличать в ереси, и сам же вновь её породил (Деяние 4 всел. собора).
Замечание еп. Арсения. Неокружники сравнивают нас с Евтихом ересеначальником, но правильно ли это? Посмотрим! Несторий еретик разделял Христа, не признавал в Нём ипостасного соединения двух естеств – божеского и человеческого, почему и отрицался нарицать Христа Богом, а сознавал его только простым благодатным человеком. Евтихий же ересеначальник, опровергая Нестория, стал утверждать, что Христос имел одно только божественное естество, кроме человечества. Но какое же отсюда к нам сравнение? Беспоповцы, как говорят о них неокружники, мудрствуют не по положенному в святой Церкви учению, что греко-российская Церковь верует в иного Бога, но когда издатели Окружного Послания сказали, что они злочестиво мудрствуют, и что же из этого вышло? За это и сами издатели Окружного Послания сделались равны Евтиху ересеначальнику. Вот так хорошо неокружники умеют делать сравнение. Итак, чтобы избежать этого уравнения с ересеначальником Евтихием, стало быть неположенное во святой Церкви учение, чтобы греко-российскую Церковь признавать верующей в иного Бога, беспоповское мудрование нужно назвать не злочестивым, но благочестивым мудрованием. Да в этом собственно и состоит истинное благочестие, по разуму неокружников. О чём именно, как увидим ниже, и трактуют неокружники.
Разбор. Неокружники утверждают, что в Окружном Послании содержится новое учение, т. е., такое, которого, по их мнению, не содержала до-никоновская Церковь. Швецов почему-то не нашёл нужным опровергнуть подобное мнение неокружников об Окружном Послании, но пустился в пустые разглагольствия о том, что издатели Окружного Послания не похожи на ересеначальника Евтихия, коему уподобили их неокружники. В Окружном Послании не содержится нового учения, которого-бы не знала до-никоновская Церковь, как думают неокружники; напротив, Окружное Послание свидетельствует о том, что догматическое учение греко-российской Церкви и до и после Никона одно и тоже, и что имя Христа Спасителя „Иисус“, четвероконечный крест и некоторые другие предметы, содержимые греко-российской Церковью после Никона, были в употреблении у нас на Руси и до Никона, о чём свидетельствуют уважаемые старообрядцами старопечатные книги. Учение неокружников и мнимых окружникон, подобных Швецову, действительно, новое учение, которого не знала до-никоновская Церковь. Сия Церковь не знала и не признавала, что имя Христа Спасителя „Иисус“ – имя антихриста, что троеперстие и четвероконечный крест печать антихриста, что Сын Божий не совечен Богу Отцу, как утверждает Щвецов, что все епископы во всей Христовой Церкви временно могут уклониться в ересь, как проповедуют поповцы австрийского согласия во главе со Швецовым, что антихрист, духовно царствующий в мире со времени патриарха Никона, истребил будто бы таинства и одолел Церковь Христову, как то утверждают беспоповцы. Окружное Послание, основательно опровергая подобное злочестивое учение беспоповцев и половцев, заражённых змеиным ядом беспоповства, излагает здравое учение об указанных выше предметах и о православии греко-российской Церкви. Таким образом, никакого подобия или сравнения между издателями Окружного Послания и ересеначальником Евтихием не может быть, как справедливо замечает и Швецов. Евтихий, опровергая ересь Нестория, впал в другую противоположную ересь, а составители Окружного Послания, опровергая еретическое учение беспоповцев и некоторых поповцев, не впали в противоположные ереси, а раскрыли в своём Послании истинное учение о всех предметах, о которых злочестиво и еретически мудрствуют беспоповцы и сочувствующие им поповцы. Окружники не в том виноваты, в чём винят их неокружники, а в том, что они непоследовательны, самопротиворечивы и неискренны. Окружное Послание признаёт православие греко-российской Церкви, поэтому окружники не имеют разумного основания к отделению от сей Церкви; в этом их явная непоследовательность. Греко-российская Церковь православна, поэтому окружники не имеют никакого права говорить и писать о каких-то ересях сей Церкви, а тем более принимать в своё общество последователей. этой Церкви, как еретиков второго чина, в этом их явное самопротиворечие и неискренность. Из всех окружников только один Швецов может быть уподоблен ересеначальнику Евтихию в следующем отношении. Как Евтихий, желая опровергнуть еретическое учение Нестория, сам впал в ересь, так точно и Швецов, желая защитить еретическое учение Белокриницкого устава, впал в ересь о подлётном рождении Сына Божия.
Грамота неокружников (26–30 стр.) В данном случае вам (окружникам) следовало-обратить внимание на этот вопрос о инобожии и выяснить, чем он был сначала издан или формулирован? При здравом рассмотрении вы заметили бы, что инобожие, приписываемое беспоповцам, введено не ими, а собственно есть плод собора 1666–67 гг. господствующей русской Церкви, который в своей соборной книге „Жезл правления“, при соревновании с новыми учители, принявшими эту соборную книгу в крепкое основание, начали утверждать „иного Исуса“, доказывая и ссылаясь, якобы на орфографию, что ино Исус, и ино Иисус, с указанными выше ругательствами на имя Исус. Затем, в вящшую крепость, по благословению патриарха Иоакима, в 1679 году установлена присяга хотящим взыти на степень священства следующего содержания: „таже паки и паки от всего сердца моего, как народу проповедовать обещаюся, так и самому глаголати и писати не „Исус“, но „Иисус“, утверждати буду и во артикуле второго члена символа тако глаголати: и во единого Господа Иисуса Христа и прочая, тако всем сердцем моим и душою в того „Иисуса“, а не „Исус“ нижепоименованный верую“. Ниже: „Проклинаю тех, которые не приемлют имя глаголати Господа нашего Спасителя Иисуса, а глаголют Исуса, и глаголати иным учат, да будут прокляти и анафема“. Само собою разумеется, что вследствие этих наложенных клятв на дорогое всем православным христианам, бывшее во всеобдержном употреблении в России более 600 лет, имя Господа нашего „Исус“, равно и на приемлющих и исповедающих это пресладкое имя Господа Бога, старообрядцы, руководясь нижеследующим святым писанием, вещающим: „Верый, яко имя Исусово Бог есть, Ему же существо едино, и имя едино (кн. Кирил.); кто есть лживый, точию отметался; „яко Исус несть Христос“ (посл. Иоан.); далее: „Быша же и лживии пророцы в людех, якоже и в вас будут лживии учителие, иже внесут ереси погибели и искупльшего их Владыки отметающеся, приводяще себе скору погибель, и мнози последствуют их нечистотам, их же ради путь истинный посулится (Петр. посл.); тем же сказую вам, яко никто же Духом Божиим глаголяй, речет анафема Исуса“. Златоустый в толковании: „Егда, рече, увидиши кого имени Исусова ненарицающа, или анафематисающа, сиречь проклинающа, волхвом и чародеем оного разумей“ (Толк. апостол). Блаженный Зиновий мних в слове на иконоборцев: „Егда убо писанием недугующего уврачевати возможно, тогда от писания и глаголы представляются, егда же не от писания врачуется недугуяй кривоверием, тогда не от писания и глаголы ему предлагаются“ (Малый Соб. второго счета), – в свою очередь (и старообрядцы) начали говорить и писать этим образованным ругателям: если вы истинное имя Сына Божия „Исус“, проповедуемое в России более 600 лет, так всячески поносите, почитать его за истинное и веровать в него отказываетесь, говоря: „ин Исус“ и прочая, то пусть будет „ин ваш Иисус“, и с того времени возник этот спорный вопрос между господствующей Церковью и старообрядцами о инобожии. Благодаря, главным образом, грубости и невежеству пастырей господствующей Церкви, бывших во второй половине XVII столетия, так невежливо обругавших это святое Божие имя Исус.
Замечание еп. Арсения. Вот и договорились неокружники до того, что не то, что беспоповцы, но и вообще вси старообрядцы, хотя и не по писанию, но должны называть, что Иисус, исповедуемый греко-российской Церковью, не есть Христос, но ин Бог. И теперь уже понятно, что они не иначе могут с нами примириться, когда только, мы согласимся за едино с ними признавать в имени Иисус иного Бога, хотя сами же говорят, что такого учения не положено во святой Церкви. Удивительная их слепота. Они с нас требуют опровержения беспоповских о инобожии заблуждений законными святоотеческими данными. А сами подтверждать их бредни учат не по писанию, а только по единому подражанию неистовству греко-российской Церкви после Никона. Если она наше наименование Христову имени „Исус“ называет иным, то аки бы и мы обязаны её именование Христово „Иисус“ называть также „иным“ и даже с добавлением: иным Богом, антихристом. Вот здесь так точь-в-точь видится такая же противоположность, какая была у Евтиха ересеначальника против Нестория. Несторий не признавал Христа Богом, а только называл простым человеком. А Евтихий не признавал Христа человеком, а только именовал Богом. Так и здесь, если никонианы вознеистовались на древле-славянское произношение Христову спасительному имени „Исус“, так и беспоповцы и наши неокружники неистовятся против имени „Иисус“, усвоенного греко-российской Церковью от иных язык. Тогда как благодать Святого Духа, данная в день Пятидесятницы Христовой Церкви, благоволила не на одном каком-либо языке, но вообще на всех языках вселенной возвещать величия Божия. В то время, когда Кирилл и Мефодий изложили для славян особую грамоту, чтобы они на своём языке могли Бога славословить, тогда римские папы с завистью отнеслись к этому великому труду святых мужей и издали повеление, чтобы славословие к Богу приносили только на трёх языках: еврейском, греческом и римском, на коих языках Пилат написал титлу на кресте Господни, а на других языках Бога славословить воспретили с клятвой. Каковое неистовство их обличая, благочестивии людие говорили, что папы утверждают ересь триязычную, и ей не подчинились. Но и того отнюдь не говорили, якобы только на одном славянском языке можно Бога славословить, а на еврейском, греческом и римском невозможно. А по противоположному рассуждению о инобожии наших неокружников, необходимо бы им так тогда объявить было нужно.
Разбор. Неокружники в своей грамоте утверждают, что вопрос об инобожии вызван был греко-российской Церковью, но не старообрядцами беспововцами. Швецов в своём замечании соглашается с таким их мнением, но как первые, так и последний говорят явную неправду. Неокружники, в доказательство своей мысли о том, что будто греко-российская Церковь первая подняла вопрос об инобожии, сослались на московский собор 1666–7 годов, одобривший книгу „Жезл Правления“, и на мнимую присягу патриарха Иоакима.
Но в книге „Жезл Правления“, рассмотренной и одобренной на соборе 1666–67 годов нет и намёка на какое-то „инобожие“. Разбирая обличение попа Лазаря, что прибавляющие и к имени „Исус“ разделяют „человечество Сына Божия во ин состав от Божества“, составитель Жезла проводить ту мысль, что в словах, заимствованных с иностранного языка – греческого или латинского, должно следовать и орфографии того языка, с которого слово заимствовано. Это правило особенно должно наблюдать „в тех именах (собственных), яже таинство некое знаменуют. Сицевое есть пресладкое имя Иисус, еже прияхом от еллинского – Иисус, тресложного, знаменующего же Спаситель... Аще-же не будет тресложно, не будет имети того знаменования: убо подобает сие имя тресложно писати“. Указавши далее, что в древности находили в имени Мессии число 888, составитель Жезла продолжает: „исполняется же сие число гречески пишемым именем Иисус, от него-же: аще отымется писмя и, разорится сия тайна. Темже добре гречески пишется с писмянем и, последовательно же, яко не зле и в словенском прилагается писмя и, подражая греческому“ (Жезл, ч. 2, об. л. 10). Для всякого непредубеждённого читателя должно быть ясно, что речь в Жезле идёт не о „инобожии и не о Лице, обозначаемом тем или другим именем, а о самом имени, его начертании и филологическом значении. Причём составитель Жезла, установивши то положение, что по-гречески имя Спасителя пишется Иисус и при таком начертании означает. „Спаситель“ и заключает число 888, делает вполне естественный вывод, что и в словенском, чтобы не нарушить „знаменования“ и „тайны“ имени, „не зле прилагается писмя и, подражая греческому“. Особенно знаменательно это последнее выражение не зле прилагается. Здесь не только не осуждается иное начертание имени Спасителя, напр., с одним и, но и начертание Иисус для славянского языка не признаётся единственно правильным. По словам Жезла, прибавление к встречающемуся в древних старописьменных и старопечатных славянских книгах начертанию „Исус“ буквы и только не есть какое-либо зло, подобное тому, какое видел в нём поп Лазарь.
Грамота неокружников упоминает ещё о новых учителях, которые, принявши соборную книгу (Жезл) в крепкое основание, начали утверждать „иного Исуса“, доказывая и ссылаясь якобы на орфографию, что „ино Исус, ино Иисус“. В этих словах грамоты нельзя не видеть довольно прозрачного намёка на авторов книг: Розыск, Пращица и Обличение неправды раскольнические. Но если бы авторы названных сочинений и действительно утверждали „иного. Исуса“, то нужно было бы согласиться, во-первых, с тем, что они напротив не приняли в „крепкое основание“ Жезла, так как в последнем, как мы видели, ничего подобного нет, а во-вторых, их нельзя бы было ещё признать и виновниками учения о инобожии, так как это учение они застали уже существовавшим в расколе и против него именно направляли свои обличения. Вот как автор „Розыска“, ранее других названных сочинений вышедшего в свет, начинает своё исследование об имени Христа Спасителя: „еще порочат нас раскольники, аки бы мы пременили имя Спасителево, вместо Исус, пишуще Иисус, и гнушаются того пресвятого имени Иисус, и иконе Христовой, на ней-же аще узрят написано Иисус, не поклоняются, ругающеся же нам глаголют: в них-де ин Исус. Тако-бо они раскольники то пресвятое имя Иисус, хуляще, толкуют: ин Исус“ (Розыск, ч. 1, ст. 1, гл. 15). Ясно отсюда, кто, по словам Розыска, виновник учения о инобожии. Но в действительности ни у св. Димитрия Ростовского, ни у еп. Питирима, ни у Феофилакта Тверского нет никакого учения о инобожии. Все они в зазираемых раскольниками-старообрядцами местах своих сочинений ведут речь не о лице или лицах, обозначаемых тем или другим именем, а о самом имени, о его значении по словопроизводству. А это далеко не одно и тоже. Николай, напр., по словопроизводству с греческого языка значит „победитель народов“, Василий – „царственный“, Анна с еврейского – „благодать“, но этими именами называются у нас весьма и весьма многие различные лица. Выходит, таким образом, что можно рассуждать об известном имени и его значении, не касаясь лица или лиц, называемых этим именем. Так смотрели на дело и авторы названных выше сочинений. Все они рассматривают сначала начертания – Исус и Иисус по их словопроизводству с греческого языка, вне и безотносительно к лицу, ими означаемому, а потом уже рассуждают о том, какое из этих названий более приличествует Лицу Христа Спасителя. Св. Димитрий, напр., давши известное значение по словопроизводству с греческого языка имени „Исус “, непосредственно затем прибавляет: „но не буди нам тако нарицати Христа Спасителя нашего“ (Розыск, ч. 1, ст. 1, гл. 15).
Перейдём теперь к присяге патриарха Иоакима, на которую также сослались неокружники в своей грамоте, как на корень учения о инобожии. Присяга эта подложна и написана не патриархом Иоакимом, а составляет плод самоизмышления одного из ярых ревнителей мнимой старины. Это ясно из следующих данных.
В 1682 году в Грановитой палате, в Москве, в присутствии царевны Софии Алексеевны, царицы Наталии Кирилловны и всех бывших в Москве духовных властей, происходило между патриархом Иоакимом и Никитой Пустосвятом, Саввой Романовым и другими сторонниками раскола прение о вере. Савва Романов во время прений спросил патриарха Иоакима: „кая ересь и хула в сем, еже двумя персты креститися, божество и человечество исповедовати и в молитве Сына Божия глаголати? За сие чего ради мучити и в срубах жещи?“ Патриарх ответил: „мы за крест и молитву не мучим и жжем, но за то, яко нас еретиками называют и святей Церкви не повинуются, сожигаем. А креститеся, кто как хощет, двема персты, или тремя, или всею рукою, сие все едино, токмо бы знамение креста на себе вообразити: мы о том не истязуем“. Сей ответ патриарха Иоакима передан и в известном рассказе самого Саввы Романова. Это уверение патриарха подтвердил и присутствовавший в Грановитой палате нижегородский епископ, глаголя: „всуе вы о сем стязуетеся. Мы никогда за крест и молитву не мучим, но за их непокорство: что возмущают народы, не велят в Церковь ходить, исповеди и причастия от священников приимати и тем множество людей от Церкви отлучили“. Мнимая „присяга“ Иоакима патриарха, по уверению Осипова, „издася от во плоти Рождества Христова в лето 1679-ое“. Следовательно, о существовании её уже должны были знать в 1682 году, когда происходило упомянутое прение о вере, все, наипаче же ревнители старины. Почему же ни Савва Романов, ни Никита Пустосвят и никто другой из присутствовавших в палате ревнителей старины не упомянул во время прения о „присяге“, если, действительно, она существовала и была составлена и издана в указанном году патриархом Иоакимом? Почему Савва или Никита не опровергли ответ патриарха ссылкой на его „присягу“, явно обличавшую несправедливость его ответа? Очевидно потому, что мнимой присяги ещё не было тогда, и никто не знал об её существовании. 20-го сентября 1682 года патриарх Иоаким напечатал своё сочинение „Увет Духовный“, в котором он разбирает стрелецкую челобитную. Почему он в своём сочинении ни одним словом не упоминает о „присяге“, если она в то время существовала и ему принадлежала? Почему и стрелецкие челобитчики также ни слова не говорят в своей челобитной о „присяге?“ После патриарха Иоакима написаны были поморцем Андреем Денисовым, по просьбе нижегородских раскольников – половцев, так называемые „Керженские ответы“ в опровержение 130 вопросов игумена Переяславского Никольского монастыря Питирима. Почему и в этих ответах нет также ни слова о „присяге?“ Потому, что составитель „Ответов“· вовсе не знал о существовании её. В 1722 году иеромонахом Неофитом предложены были выговским старообрядцам – поморцам 106 вопросов. Ответом на эти вопросы было сочинение братьев Андрея и Симеона Денисовых, известное под именем „Поморских Ответов“. Последние пользуются особенным вниманием и значением в глазах всех старообрядцев, не исключая и поповцев австрийского согласия. Представитель сего согласия Онисим Швецов, глаголемый ныне епископ Уральский: Арсений, издал Поморские Ответы в 1884 году за границей в Мануиловском Никольском монастыре, а между тем ни составители Поморских Ответов, ни издатель их Швецов также ни слова не упоминают о присяге, приписываемой Осиповым патриарху Иоакиму. Составители Поморских Ответов постарались собрать в них всё, что только в продолжении многих лет старообрядцы успели найти или измыслить в защиту своих верований и в укоризну православной Церкви. Поэтому, быть не может, чтобы они не сослались на присягу патриарха Иоакима, если бы она, действительно, существовала и принадлежала ему. Вообще справедливость требует сказать, что ни в одном из старообрядческих произведений 18-го и 19-го веков не упоминается о присяге, как произведении патриарха Иоакима. Это обстоятельство доказывает, что писатели старообрядчества, даже современные нам, подобные Швецову, Механикову, Мельникову, Усову, Перетрухину, Бриллиантову и друг., не признают приведённую Осиповым и вращающуюся между старообрядцами в рукописи присягу произведением патриарха Иоакима.
Подложность присяги доказывается и содержанием её. В 19-м пункте присяги проклинаются: поповщина, беспоповщина, перекрещенцы, морильщики, ануфриевщина, софонтиевщина, спасовщина, хлыстовщина, федосеевщина, нетовщина, ветковщина, или старообрядцы, жившие в то время в Польше и Литве, в Молдавии, или в „волохах“ в Помории, в Керженце, и в других местах. Патриарх Иоаким умер в 1690 году, а все перечисленные старообрядческие толки возникли в разное время уже после его смерти, и сам он в своём сочинении „Увет Духовный“ не упоминает ни об одном из поименованных толков. Поповщина и беспоповщина это не два самостоятельных толка, получивших своё начало ещё при патриархе Иоакиме, а целый ряд толков, получивших начало после патриарха Иоакима. Так, поморское согласие основано около 1695 года дьячком Даниилом Викуловым на берегу реки Выги; феодосеевский толк выродился из поморского около 1706 года; нетовщина, или спасово согласие, получило своё начало в первой четверти 18-го столетия; ануфриевщина, или аввакумовщина, окончательно сформировалась также в начале 18-го века и прекратила своё существование в 1717 году, после смерти основателя её Онуфрия; ветковцы выделились в особое согласие уже после 1695 года; перекрещенцы это не отдельный, самостоятельный толк, получивший своё начало в определённое время и в известном месте, а все беспоповщинские толки, кроме спасовщины, которые перекрещивают всех, приходящих к ним. Каким же, после этого, образом патриарх Иоаким мог составить присягу, в которой проклинаются вышепоименованные старообрядческие толки, получившие своё начало после его смерти? Подложность присяги доказывается и тем, что всё содержание её изложено весьма безграмотно, бессвязно, сбивчиво и с весьма частыми неуместными повторениями. Патриарх Иоаким писал грамотно, связно и убедительно, о чём свидетельствует его сочинение „Увет Духовный“. Но допустим на время, что присяга, о которой идёт речь, подлинно принадлежит патриарху Иоакиму. Рассмотрим, на кого наложены в ней клятвы. С. 10-го по 15-й пункт присяги проклинаются двуперстники, служащие литургию на семи просфорах, произносящие и пишущие имя Христа Спасителя „Исус“, сугубящие аллилуия, преподающие благословение двуперстно, и предпочитающие восьмиконечный крест четвероконечному. Обряды, упоминаемые в указанных пяти пунктах присяги, содержатся в настоящее время как старообрядцами, так и единоверцами. Кто же из них проклят по смыслу присяги? На этот вопрос отвечают 16, 17, 18 и 19 пункты присяги. В первых двух пунктах проклинаются те держатели старых обрядов, которые не признают православным патриарха Никона и всю греко-российскую Церковь. Кто же признаёт патриарха Никона еретиком и всю греко-российскую Церковь падшей и еретической? Прежде всего, родоначальники раскола, а потом все их последователи – раскольники старообрядцы всех толков, а не единоверцы, которые содержат старые обряды не в противление Церкви греко-российской и не отрицают её православия. Так как ни в книге „Жезл Правления“, ни даже в мнимой присяге патриарха Иоакима не проклинаются сами по себе обряды, содержимые старообрядцами, в том числе и имя Христа Спасителя „Исус“, то все места из творений святых отцов, в которых, по мнению неокружников, называются волхвами и чародеями проклинатели имени Христа Спасителя, приведены ими вовсе не кстати и не подлежат нашему рассмотрению.
По мнению неокружников выражения: „ин Исус и ин Иисус“ составляют следствие полемических приёмов апологетов православной Церкви и старообрядчества. Относительно апологетов нашей Церкви это сущая правда, о которой торжественно и открыто заявил святейший синод в своём „Изъяснении о порицательных отзывах, находящихся в полемических против раскола сочинениях прежнего времени“. В сём Изъяснении святейший синод засвидетельствовал, что порицательные отзывы о некоторых обрядах, содержимых старообрядцами, находящиеся в полемических против раскола сочинениях прежнего времени, принадлежат лично писателям тех сочинений, и Церковью не разделялись и не разделяются. Нельзя того же сказать о старообрядцах, беспоповцах и неокружниках. Они говорят и пишут – „ин Иисус“ не только в полемике с апологетами нашей Церкви, но и между собой, и тем достаточно ясно свидетельствуют свою веру и убеждение в том, что наша Церковь под именем „Иисус“ разумеет не Христа Спасителя, но антихриста. Взгляд неокружпиков на происхождение спорного вопроса об инобожии разделяет и Швецов. Он в своём замечании пишет: „Если никониане вознеистовились на древле-славянское произношение Христову Спасительному имени „Исус“, так и беспоповцы и наши неокружники неистовятся против имени „Иисус“, усвоенного греко-российской Церковью от „иных язык“. Беспоповцы и неокружники веруют и исповедуют, что в греко-российской Церкви духовно царствует антихрист, что имя „Иисус“ есть имя антихриста, что троеперстие и четвероконечный крест печать антихриста, Швецов проповедует, что греко-российская Церковь еретическая, что она неистовствует нисколько не меньше тех, поне о Христе глаголаху: яко вельзевула имать и яко о князе бесовстем прогоняет бесы (Мк.3:22) (Разбор Швецовских „Показаний'“ стр. 78). Вот дерзость и неистовство, превосходящие всякую меру!
Миссионер свящ. Ф. Воловей
(Окончание следует).
Малиновцев Ф., Грачев И. Поездка раскольничьей депутации на Восток в 1900 году 99 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 612–617
Не имея сомнения, что мы сумели изложить здесь так, как бы хотели, все наши шаг за шагом исследования и наши выводы, мы считаем нужным высказать наше личное твёрдое убеждение, без всякой пристрастности, или задней мысли, по чистой совести. Конечный вывод и окончательный результат из тщательных наших исследований, проверок, наблюдений, личных собеседований с массой духовных и светских лиц греков, сведений и справок, полученных в Константинопольской канцелярии вселенского греческого патриарха и личного с ним разговора в данной нам аудиенции, при посредстве переводчика и присутствующего тут патриаршего секретаря, говорящего хорошо по-русски. Лично присутствуя в патриаршей церкви при обряде крещения, беседуя с греческими священниками, начиная с Одессы, Константинополя, Смирны, Афин и греческого острову Корфу, посещая множество церквей, мужской и два женских монастыря, и присутствуя при богослужениях, мы получили несомненную и твёрдую уверенность: 1) что в греческой Церкви, в какой бы стране ни было, крестили и крестят трёхпогружательно. Все слухи и обвинения греков в обливательном крещении есть вымысел и ложь, а потому мы получили твёрдое убеждение, что митрополит Амвросий имел правильное трёхпогружательное крещение. Утверждение, что он был, обливанцем, теперь мы считаем также за вымысел и клевету. 2) Греческая высшая иерархия не оспаривает преемственности хиротонии на митрополите Амвросии и происшедшем от него священстве, но уклоняется об этом сильно заявлять, или тем более подтверждать официально, дабы не раздражать св. синод, и по причине того, что не видят желания старообрядчества и старообрядческой иерархии сколько-нибудь сближаться ни с русской, ни с греческой Церквами. 3) Никакого поступка неблаговидного, или пятна на действиях митрополита Амвросия, как духовного лица, до перехода ещё его к старообрядцам, не существует, а потому и сама личность митрополита, из всей массы лжи и клеветы на него, обрисовывается честной и чистой. 4) Принятие католиков греками совершалось 1-м чином, но за последние 15–20 лет допущено принятие вторым чином, под давлением многих обстоятельств, хотя с сознанием несогласия с правилами, но никакого соборного или даже патриаршего постановления об этом нет, а потому и сейчас в некоторых местах принятие продолжается первым чином, в чём мы и убедились в Афинах.
Всё изложенное мы подтверждаем нашей совестью, страхом и ответственностью перед Всемогущим Богом, памятуя тяжкую ответственность в будущем. Мы твёрдо заявляем, что руководились только горячим желанием правды, и, не имея какой-либо задней мысли и не допуская каких-либо посторонних влияний, старались изложить лишь то, что действительно сами восприняли своим собственным разумом и своими собственными понятиями. Изложивши письменно, с целью ознакомления одноверных с нами старообрядцев, результаты нашего путешествия, мы не желаем и не имеем в виду стараться кому-либо навязывать обосновавшиеся у нас убеждения и понятия, и если бы кто ещё вздумал проверить наши материалы, то думаем, что наш посильный труд, хотя в малой степени может облегчить эту задачу.
Подводя итоги наших материалов и считая за тягчайшее безрассудство и погрешение дерзать иметь сомнение в обетованиях Христа о неодолённости Церкви Христовой, отвергать всем известные евангельские слова „до того дне, дóндеже прииду“, „аще не крещен водою и духом, не внидет в царствие Божие“ и т. д., мы приходим безусловно к тому заключению, что митрополит Амвросий был принят совершенно правильно, согласно многим примерам, бывшим в древней Церкви, а также и примерам наших предков, принимавших священников от Российской Церкви 50–60 лет тому назад, уже в то время, когда Российская Церковь 200 лет как официально признала обливательное крещение за правильное и всеобдержно принимала католиков вторым чином. И по выясненному положению греческой Церкви, в момент перехода митрополита, принятие от оной имело безусловно больше оснований, чем от русской. В заключение и приходим к выводу, что именно единая старообрядческая иерархий сохранила во всей чистоте святоотеческие догматы, уставы и предания, терпя гонения и преследования, кои за последнее время (умножились), благодаря сильнейшему натиску российского миссионерства, почувствовавшего слабость свою при мирных собеседованиях, а потому начавшего свои проповеди подкреплять не христианской кротостью и словом увещевания, словами священного Писания, а властью полицейских сил. И принятая система против многострадального старообрядчества неудержимо развивается и клонится уже к захвату и уничтожению старообрядческих епископов.
Взоры многих старообрядцев обращались на заграничных некрасовцев беспоповцев, которые, живя вблизи митрополии, отказались от принятия Белокриницкого священства и, следовательно, имели же какие-нибудь основательные к тому причины. Кажется, излишне уже будет распространяться о них. До того много нами выяснено о всей несообразности, нелогичности их устоев и убеждений. Их считают беспоповцами. Но какие же это беспоповцы, когда за последние 45 лет с постоянными перерывами они имели 12 священников, или наполовину принимая за таковых всевозможных проходимцев и шарлатанов, даже не поставленных. В перерывах, когда у них нет попа, они начинают толковать по-поморчески, заявляя о наступившем уже антихристовом времени, и присоединяющихся к ним их наставники дерзают перекрещивать. Явился поп, и опять антихриста, с именем которого они так любят носиться, по боку. И новый поп крещёных прежним попом, или наставником, для вящшего авторитета начинает перекрещивать и перевенчивать... То все общества соглашаются и принимают попа и находятся в единении, то происходит критикование оного, и они распадаются и начинают одни других называть „еретиками, поганцами“. Это мы говорим о Румынии. Затем в Австрии, в селении Климоуцы встречаем 85-летнего наставника, 40 лет стоявшего во главе общества и всецело не допустившего принятие Белокриницкого священства и на наши вопросы не представившего ровно никаких существенных доказательств и причин против иерархии, кроме прищепления оспы и ведения метрик.
Он считает нужным присоединяющихся от кого бы то ни было, кроме Белокриницких, перекрещивать, так как, по его мнению, „к антихристову времени всё клонится“. А от Белокриницких считает возможным принимать только под прощение. В то же время свою сноху, принадлежащую к белокриницкому священству, „для видимости“ принуждает ходить в свою часовню, что та и исполняет и в молении имеет общение. В довершение всего этого „по тайности“, заговаривает Белокриницкого священника дать ему „запасные дары“, которые тот также „по тайности“ (отступая сам от правил, понимая по-своему, что он этим производит сближение беспоповцев) даёт, и довольный старик пастырь со спокойным духом продолжает „ пасти своё стадо“, провозглашая антихристово время и ненужность священства; преспокойно причащает умирающих дарами от указанного священника. Христос не мог сохранить свою Церковь и таинства, как обещал, а старик и в антихристово время сумел сохранить таинство причастия. Всё это нам сказано с болью и горечью его двумя родными сыновьями. Куда ещё идти дальше по пути заблуждений и бессмысленности? Неужели же хотя на минуту можно задуматься над вопросом о подобном почтенном на вид наставнике? А задуматься можно над тем, не найдутся ли наставники, подобно этому, где-нибудь и поближе к нам? И не могут ли они по нашей привычке уже к ним казаться нам иными, лучшими! Вот над этим следует много подумать тем, кто очень легко относится к вопросу о священстве.
В конечном заключении считаем нелишним коснуться положения нашего часовенного общества. Положение это, по нашему понятию, находится, так сказать, „на распутье двух путей“. Временное у нас отсутствие священства, или мы уже окончательные беспоповцы?.. До того положение не выяснено самими членами общества, что определённых ответов на это, кажется, никто не даст. Если ответят – временное, то, находясь в таком положении уже больше полстолетия, время целой человеческой жизни, и не предпринимая ровно ничего даже избегая обсуждения между собой этого вопроса, откуда нам можно ждать заботливости, чтобы из временного положения выйти? И какими доводами, какими указаниями на свою заботливость о розыскании священства можно оправдаться неисполнением христианских тайн и обязанностей? Ни совершенное крещение, ни брак и т. д. при этом убеждении невозможно оправдать. Часовенное общество, осуждая всё и всех, само же едва ли может оправдаться на основании писания. Если же ответят: „состояние полное беспоповское, нечего искать священства, его и не должно быть, последнее время уже наступило – антихристово, когда уже ни жертвы, ни приношения не должно быть, антихрист одолел Христа, и Христос не смог исполнить обетовании Своих“, „врата адовы одолели Церковь Христову“ и т. д. Но какое же основание имеет в антихристово время причащение запасными дарами и большой водой и исповедание по священническому требнику, каковые производят наставники, и оные дары и вода имеются от священников, принятых от Российской Церкви 50–60 лет тому назад. Каким же образом в такое время, когда всесильным врагом антихристом уже уничтожены все таинства, когда уже только нужно иметь сердце сокрушенно... и т. д., старички наставники сумели сохранить таинство причащения, коим руководствуют совсем не с „сокрушённым духом,“ а очень развязно и свободно, как бы и на самом деле это согласовалось с писанием? Христос не смог исполнить обетований... А старички сумели и в антихристово время сохранить какую-то новую непредвидимую и святыми отцами стариковскую Церковь с таинствами, но без священства, которое не нужно совсем. Даже и говорить-то о священстве у них считается вредным. Не найдутся ли в этом положении сходства с тем 85-летним стариком наставником в Климоуцах, который, отвергая совершенно священство, не отвергает таинства причащения, и заимствуется запасными дарами от старообрядческого священника, который произошёл от митрополита, принятого от ереси, а здесь старички наставники, также отвергая священство, заимствуются запасными дарами от умерших уже священников, тоже принятых от ереси? Положение почти сходное с Климоуцкими старообрядцами. Благо, что ещё здесь запасено было даров так много, что и в 60 лет они не вышли и даже не слышно об оскудении их, а там, заграницей, они вышли и стали пополняться займами у священников Белокриницких. Кстати нужно сказать, что Браиловские хуторяне просили нас: „не будет ли возможным выслать им запасных даров, у них оные уже выходят“. Как будто это товар, который можно выслать почтой.
С самого начала возникновения старообрядчества много юное страдало и страдает по настоящее время от раздоров, упрямства, самолюбия вожаков обществ, наставников и т. д. И все эти явления зачастую не имеют ничего общего с духовной стороной дела. Образуя отдельные согласия, вожаки и наставники обществ преследуют лишь удовлетворение своего самолюбия, тщеславия и гордости. Не нужно ли сознать и просить Всемогущего Бога о ниспослании нам недостающего по грехам нашим смирения, кротости и любви друг к другу и, имея одну общую великую цель душевного спасения, к каковой все мы должны стремиться, памятуя короткое наше здесь пребывание, подать обоюдно друг другу руки помощи. И для общей душевной пользы по братски, тихо, без колкостей и дрязг житейских, в одно за едино во славу единого Бога и своего спасения прибегнуть к богатому драгоценному бисеру – священному писанию, оставленному нам на нашу душевную пользу и спасение святыми отцами, вселенскими учителями, великими святителями и проповедниками учения Христова и веры, и поразмыслить, порассудить на основании оного наше горестное положение. И Бог не откажет нам в помощи просветлеть разумом, познать положение своё и успокоиться твёрдостью в вере своей.
Ищите, да обрящете. Толцыте, да отверзется.
Урал. Гор. Екатеринбург.
Сентябрь, 1900 г.
Ф. Малиновцев. И. Грачев
Р. S. Мы закончили печатанием настоящую раскольничью повесть, опустив в ней кое-что несущественное. В следующей книжке дадим наш отзыв о ней с указанием тех вольных и невольных ошибок, и прямой лжи, которые допустили авторы раскольники против истории и правды, ради торжества своей бесплодной затеи.
Ред.
Скворцов В. Умопомрачение странной секты (духоборов) // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 618–629
(Mania of strange sect).
Так озаглавлена статья одной английской газеты („Чикагская Хроника“), которая первая сообщила ужасные подробности о новых проявлениях религиозного безумного брожения среди сектантов-духоборов, выселившихся назад тому 3 года из России в Северную Америку.
Предварительно напомним нашим читателям причины и обстоятельства, по которым духоборы, в количестве 7 тысяч душ, оставили свой родной край. Во время внутренних волнений из-за „Сиротского дома“ – резиденции обожаемых главарей секты, и общественного капитала, попавшего в частные руки, – в разочарованную духоборческую массу проникло учение, так называемого, толстовства.
Первой идеей толстовского маньячества, завладевшей психологией страшно тёмной и доверчивой сектантской массы, была мысль об уравнении между сектантами имущества и о распродаже лишнего скота. Духоборы всегда были прекрасными скотоводами, многие из них владели сотнями голов баранты и десятками рогатого скота; духоборческие лошади славились во всём Закавказье. Сама местность, где жили духоборы (особенно Ахалкалакский уезд), изобилующая огромными пастбищами, благоприятствовала скотоводству.
И вот в 1895 г. вдруг, по наказу главарей, духоборы в течение недели должны были, согнав скот с гор на рынки, распродать его по какой бы то ни было цене.
Всё пошло, конечно, за бесценок в руки армян и своих братьев духоборов другой партии. Распроданы тысячи баранты, сотни коров, быков и лошадей. У себя духоборы-толстовцы оставили только по одной–две головы на семью молочного скота и по одной тройке и паре лошадей. Очевидцы говорят, что не только бабы выли, но и мужики плакали, расставаясь с своими выхоленными, взлелеянными любимцами-животными, но такова сила массового гипноза: самые разумные безропотно покорялись безумному велению и, конечно, жестоко разорились.
Исследуя, при двукратном посещении духоборья, это новое движение в злосчастной секте, мы много беседовали с духоборами, по поводу их новых взглядов на скот. Главари с горячностью доказывали, ссылаясь на слова ап. Павла, что „тварь в свободу звана“, и потому-де должна быть отпущена. „Мы – члены всемирного Христова братства, не должны владеть никаким живым Божьим созданием, пусть другие, неверующие, порабощают творение Божие, и лишь по неизбежной необходимости позволительно нам держать самое ограниченное число животных для пропитания детей молоком и для услуг по дому и полю – лошадей“...
Тогда же духоборы восприняли и учение вегетарианства, и партия эта получила прозвание „духоборы-постники“. Мы застали у них (в 1897 г.) уже в полном развитии суровый аскетизм: были изгнаны из пищи не только мясо, но и рыба, из напитков – не только вино, но и чай, который ранее у духоборов был в большом употреблении.
Ранее, как известно, духоборы, по учению секты, не признавали постов и были вечными мясоядцами, любили жирно поесть, и крепко покутить. И тогда уже круто изменённый насилием главарей быт вызвал изнурение и малярию.
Как ни убеждали мы, что при лихорадке нельзя пить сырую воду, есть „тюрю из кислого хлеба и каких-то лесных злаков“, упорные духоборы стояли на своём: „чай истинные христиане пить не должны, а убоина – запрещена 6-ой заповедью „не убий“...
– Вот, видишь, господин, ползёт червяк, – помню, при беседе в с. Терпенье, Карской области, под навесом сарая, на огороде, так философствовал духобор Новокшенов, – я и его и козявку не должен давить, а должен обойтить, пусть ползёт... И философ бережно отодвинул свои ноги, давая дорогу червяку.
Когда я объяснил духоборам, что они в сырой воде глотают множество всяких живых „козявок“ (микробов), невидимых для простого глаза, то главари пришли в ужас от такого греха.
Тогда же в воспалённых головах сектантов поднимались вопросы такого рода, что-де не грех ли и ездить на лошадях, есть яйца и молоко, пользоваться шкурами , для обуви и одежды? Помнится, что от некоторых экзальтированных фанатиков шли такие речи: „вот, доносим старые „кожухи“ и „чоботы“, новых шить уж больше не станем“. Одна из влиятельных духоборческих весталок уже тогда изгнала в своём обиходе шерстяное и ходила во всём полотняном из простого белого холста. Её духоборы старой партии прозвали „полунощной ведьмой“.
Но в то время все подобные мысли лишь бродили кое у кого, как своего рода бред. Отрезвляющее благодетельное влияние оказывали на последователей новой партии духоборы старой, благомыслящей партии, которая была и многочисленнее, и зажиточнее. Мы в своих докладах и местной власти, и центральной настойчиво проводили тот взгляд, что мятущуюся часть духоборов, расселённых в то время по инородческим селениям Кахетии, полезнее вернуть на прежние места их осёдлости, освободив её временно от маньяков и злокозненных агитаторов. Пример благомыслящей партии односельцев-духоборов вернее всего отрезвит безумие. Всякое же переселение и выселение будет роковой мерой: тогда безумный бред будет освящён и закреплён в сознании массы, как дорогая истина, окружённая ореолом страданий и мученичества; а главное, сдвинутая с своего основания, сбитая с толку масса, осевшись на новом месте изолированного поселения, предоставленная самой себе, лишится благодетельного влияния родственной среды, покатится по наклонной плоскости и дойдёт до геркулесовых столбов безумия и анархии. Как увидит ниже читатель, мы были правы тогда в своих опасениях и догадках.
К несчастью для духоборов-постников, к ним плотно присосались тогда, в качестве руководителей и пестунов, шалые люди из толстовской группы. В то время, когда духоборы уже подумывали было о возвращении в насиженные свои места, интеллигентные попечители вызвались с своим проектом – устроить их заграницей, где они заживут своим „новым царством Божьих людей“, артелью, без собственности, без властей и законов, без повинностей и податей.
Проект авторизовался самим яснополянским „великим учителем“. Духоборы снова заволновались.
Кстати мятежные сектанты страшно надоели местным властям и всему русскому правительству своей пассивной борьбой с государственными порядками и законами, до уклонения от воинской повинности и уплаты податей включительно. Правительство, не сочло нужным помешать безумной, бессердечной затее толстовцев с переселением этих во многом хороших русских людей и дало своё согласие на добровольное их выселение за границу без права возвращаться снова в Закавказье. Началась необычайная горячка по устроению переселения. Граф Л. Н. Толстой, как известно, пожертвовал весь свой гонорар, полученный им от издателя „Нивы“ за повесть „Воскресение“; русские сектофилы и американские квакеры собрали значительную сумму на переезд. Князь Д. Хилков и г. В. Чертков с ходоками из духоборов кинулись искать заграницей свободные земли. Поиски и осмотры производили под тем углом зрения, чтобы земля была как можно пустыннее, вдали от центров цивилизации, так чтобы духоборы, как народ Божий, были подальше от городских соблазнов, не „избаловались“. Иначе говоря, толстовцы думали не о духоборах, а об удобствах производить свои эксперименты над живыми людьми, по устроению нового „царства Божьих людей“.
Остановились соглядатаи сначала на о. Кипре, куда и поспешили перевести в 1898 г. первую партию духоборов из Кахетии. Но злая малярия заела духоборов, – огромный процент смертности и заболеваний заставил искать новой обетованной земли для духоборческого израиля.
И вот, после недолгих поисков и коротких размышлений, абонирована была американская Манитоба и Саскечевань в Канаде. Интеллигентные вожди действовали с лихорадочной поспешностью, боясь раздумья и духоборов, и русского правительства.
В 1899 г., под предводительством неизвестного г. Сульферджидского и известного гр. Сергея Толстого, в сопровождении более 20 душ интеллигентных просветителей, на нескольких зафрахтованных пароходах, водворены были в Канаде и кипрские и закавказские „духоборы-постники“ в пустынной, необитаемой местности, среди лесов и болот г находящихся на одном меридиане с нашими северными тундрами.
Около года интеллигенты „путались“, по выражению самих духоборов, в Манитобе, развивая и опекая в Новом Свете несчастных сектантов, а затем один по одному исчезли, благодаря страшно тяжёлым климатическим и другим условиям жизни. Дольше других из их интеллигентных вожаков оставался среди духоборов в этой „обетованной“ земле известный в сектантском мире утопист и маньяк-толстовец Бодянский, помещик Харьковской губ. Кажется, он недавно там и умер. Он помешал проекту г. Тверского устроить духоборов в Калифорнии, дабы духоборы „не избаловались“...
Печатные известия о новом житье-бытье духоборов в Канаде в первое время шли только от их интеллигентных друзей и опекунов, и, конечно, все сведения были такого тона, что-де устроились славно, и всё обстоит пре-благополучно. Но вот в 1901 году впервые проливает истинный свет в русской печати на благополучие духоборов в Америке г. Тверской. Им напечатана была статья в „Вестнике Европы“, а позже изданы были две брошюры, под заглавием „Духоборческая эпопея“ и „Новые главы духоборческой эпопеи“.
Г. Тверской как громом поразил русское общество, разоблачив духоборческо-толстовскую драму во всём ужасе. Оказалось, что духоборы попали в американскую ловушку и претерпевают страшные невзгоды и лишения, что земля никуда не годится, местные власти их прижали, капиталисты эксплуатируют, как животных и проч. На страницах „Русск. Вед.“ виновники духоборческой трагедии пытались ослабиться сгладить тяжёлое впечатление от разоблачений г. Тверского. О судьбе и положении американских духоборов снова в русской печати замолчали, а в обществе забыли.
Странно, что русская печать упорно молчит о духоборах и в то время, когда заграничные газеты Европы и Америки вот уже два месяца переполнены поражающими подробностями о печальном положении русских сектантов духоборов в Манитобе и в частности об их умопомрачении, дошедшем ныне, действительно, до геркулесовых столбов.
Вот эти сообщения, – приводим их в буквальном переводе без всяких комментариев. Заметим только, что подробности эти насколько угрожающи, настолько же и поучительны для легкомысленных поборников безусловной „свободы совести и пропаганды всяких лжеучений“. Полюбуйтесь, господа, до чего способен русский простолюдин дойти, предоставленный своей свободе, совести и веры!
* * *
Чикагская Хроника (англ. газ.). Странные фантазии овладевают иногда религиозными сектами; Йорктаунский корреспондент наш находит, что самой странной из всех подобных фантазий следует считать несчастное ослепление 5000 русских духоборов, поселившихся в западной Манитобе.
В области Лебяжьей реки правительство не на шутку озабочено поразительным безумием, овладевшим этими колонистами. Ужасные сцены, описанные лицами, посетившими их общину, превосходят всякое вероятие.
Всем известно, что духоборы противятся пролитию крови. Они покинули Россию, спасаясь от воинской повинности, от которой правительство Канады согласилось их освободить под условием поселения в прериях Дальнего Запада. Никто не поинтересовался узнать, чем и как они будут там питаться, очевидно это было их личное дело, но оказалось, что и этот вопрос причинил правительству множество забот и хлопот.
В Америке всякий человек волен есть, что и как ему вздумается, и, если его вера предписывает ему исключительно растительную пищу, убеждение его всеми уважается. Если бы духоборы ограничились только вегетарианством, всё было бы прекрасно; но вера их, по-видимому, не вылилась ещё в строго определённую форму, и требования её подвергаются постоянным изменениям.
От убеждения, что есть мясо грешно, ещё очень далеко до запрещения употреблять в пищу продукты животных организмов; тем не менее сектанты отказались от молока, масла, яиц, сыру и т. п. Скот их: быки, коровы, козы и домашние птицы жиреют и размножаются в то время, как самим хозяевам угрожает голодная смерть. От этой нелепости недалеко уже и до другой, ещё более дикой. Исходя из рассуждения, что питаться мясом животных грешно, не мудрено уж было додуматься и до того, что в равной мере грешно употреблять, напр. кожаную сбрую, сделанную из шкур Божиих тварей; далее последовало запрещение носить шерстяные ткани, и. ч. шерсть растёт на баранах, и, стало быть, тоже принадлежит Господу.
Следующий за этим шаг отозвался ещё гибельнее на экономическом строе переселенцев. Оказалось, что употреблять животных на работы, или вообще пользоваться ими, как бы то ни было, тоже грешно, и у духоборов хватило силы воли осуществить и это своё убеждение на деле. Они немедленно прогнали всех своих лошадей, рогатый скот и баранов на „Божий холм“, предоставили им пастись там на воле и, недолго думая, взвалили все сельскохозяйственные тяготы на собственные плечи. Во всех случаях, когда приходилось перевозить тяжёлые возы или фуры, лошадей стали заменять мужчины. Когда нужно вспахать поле, 12 или 14 человек впрягаются в плуг; другого способа возделывать землю сектанты не признают. Даже женщины участвуют в таких работах, впрочем, только у себя на ферме; для поездок в город в фуры или кабриолеты впрягаются исключительно мужчины.
На улицах Йорктауна ежедневно можно встретить телеги, влекомые дюжиной духоборов, которые везут на продажу немудрые продукты своего убогого хозяйства, взамен их они покупают муку или другие предметы первой необходимости. Духоборы одеваются исключительно в бумажные ткани и носят резиновые сапоги или башмаки, сплетённые из бечёвок. Пища их состоит из хлеба и воды, самых простых овощей, ягод и трав. Фермы их запущены; скот, которого у них в начале было много, дичает, бегая по холмам, где ему предстоит погибнуть в зимнюю стужу, или же попасть в руки людей, не разделяющих религиозных взглядов духоборов.
С наступлением холодов неизбежно настанет голод и начнутся болезни; духоборы, вероятно, и сами предвидят это, так как вступили уже в письменные сношения с властями южной Калифорнии, Невады, Аризоны и Австралии, в виду намерения переселиться в более тёплый климат, в такие места, где бы они могли питаться от земли, не касаясь царства животного. Нечего и говорить, что эти люди никому не нужны, а потому они и остаются в Манитобе, страшно отягощая собой правительство, которое выписало их несколько лет тому назад из России, с целью заселить ими пустынные прерии Дальнего Запада.
Morning Post... (англ. газ.). Вспышка массового умопомрачения, овладевшего духоборами, грозит весьма серьёзными последствиями, несмотря на то, что мания пока ещё не перешла за границы Йорктаунского округа, где поселилось около 4000 этих колонистов. Корреспондент газеты „Звезда Монреаля“ полагает, что многие из них, исповедующие догмат своей веры вопреки здравому смыслу и обстоятельствам, должны будут погибнуть от морозов в течение наступающей зимы, если правительство замедлит принять решительные меры. Поля не сжаты, рогатый: скот и лошади бегают на свободе по нивам; сапоги и башмаки отвергнуты, потому что изготовляются из шкур животных – такого же народа Христова, как и мы.
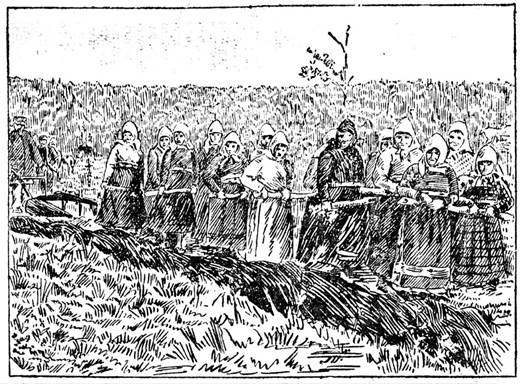
Духоборы, впрягшись в плуг, сами обрабатывают землю.
Люди новой веры носят самые лёгкие, бумажные ткани и говорят, что и во время морозов не наденут ни меха, ни шерсти. В некоторых домах корреспондент видел мешок муки и кое-какие овощи, но в большинстве жилищ не нашёл и признаков чего-либо съедобного. Люди, от природы здоровые и сильные, бродят теперь голодные, худые, измождённые; недавно целая дюжина их впряглась в тяжёлую телегу и пыталась дотащить её до города; это не удалось: обессиленные голодом, несчастные попадали вдоль дороги. По-видимому умопомрачение не дошло ещё до Саскечевана, куда скопление этого народа, согласного работать за ничтожную плату, привлекает в большом количестве американские капиталы.
Herald Peace пишет: Правительство Канады распродаёт в настоящее время рогатый скот и лошадей, которых фанатики-духоборы прогнали из своих. селений, сообразуясь со своим новым догматом, что человек не имеет права порабощать животных. Колонисты решительно отказались от предложения правительства: продать свой скот и употребить вырученные деньги на свои нужды, и тем поставили свою общину, после изгнания домашних животных, в критическое положение. Газета добавляет, что правительство крайне озабочено, потому что без помощи домашних животных не только процветанию, но и самому существованию духоборов грозит опасность.
Французская газета «Courrier Metallurgiste» 18 сентября/1 октября: Из Виннипега сообщают, что недавно поселившейся в Манитобе русской сектой духоборов внезапно овладели религиозные сомнения, в силу которых колонии грозит уничтожение. Сектанты выпустили на свободу лошадей, коров и всех домашних животных; не желая их порабощать, они отказываются так же от употребления кожи и шерсти, как происходящих от животных. Люди сами исполняют работы вьючного скота. Духоборов в Канаде несколько тысяч. Эта секта возникла в средине 18 столетия. Позволение переселиться из России получили в 1898 г. Одни отправились в Канаду, другие на остров Кипр, который вскоре покинули. чтобы присоединиться к первым. Известно, что в России они отказывались от военной службы во исполнение заповеди: Не убий.
В The Standard телеграфирует из Виннипега от 30 октярбя (н. ст.):
Духоборы в количестве 800 человек продолжают свой поход по направлению к Виннипегу. Они уже прошли около 40 километров. Эти фанатики бросили большую часть своей одежды, чтобы идти налегке. Они почти нагие. Все проникнуты желанием обратить в свою веру весь свет. Правительство в величайшем затруднении и не знает, какие меры следует принять.
Энтузиазм духоборов, идущих на Винипег, возрастает с каждым этапом. Многие из них проявляют симптомы несомненного помешательства.
Власти отправили навстречу духоборам значительные военные отряды.
О, как недолга и жестоко печальна судьба насаждённого в Канаде духоборо-толстовского царствия Божия!
* * *
Независимо от приведённых сообщений заграничной печати, мы имеем сведения о происходящем хаосе среди канадских духоборов из частных писем самих же духоборов, непосредственных свидетелей нынешнего бедственного их положения.
Авторы писем ещё, по-видимому, не подпали влиянию нового религиозного брожения, разделившего ныне духоборов Канады на две партии – постников и молочников. Письма особенно новых подробностей не сообщают, но в них заслуживает внимания то душевное настроение, с которым духоборы переживают новый переворот, грозящий гибелью секте. Авторы стоят в беспомощном раздумье, не понимая, что такое происходит у них, но сомневаются, чтоб можно было „свиному носу есть из золотой чашки“, и однако не осуждают нового безумия своих передовых единоверцев; как истые фаталисты, духоборы тупо, покорно, как к неизбежному року, относятся к тому, что будет лично с ними („пока коров держим“), захлестнёт ли их пагубная волна, они не хотят засматривать в будущее, грозящее им страшными бедствиями. „Будь, что будет, видали мы виды, не то переживали, а от братства отставать нельзя“, – вот исконный девиз всякого духобора.
Тут и гордость, и озлобленное отчаяние, как результат исторических лже-страданий, и наивная, слепая, тупая, но способная на подвиг мученичества, покорность массы воле и мысли своих верховодов. Это душевное на строение духоборов – плод всей их вековой истории, а вместе и причина тех печальных событий, к каким привела их всё таже слепая, тупая покорность сначала воле и велениям Колмыковых, затем авантюриста Петруши Веригина, затем интеллигентных безумцев, а ныне указке каких-то, неведомых нам, маньяков... Да, история духоборов должна служить поучительным уроком и вместе убедительным доказательством того, как опасно предоставлять сектантскую массу самой себе, оставлять её без воздействия миссии Церкви со стороны идей и государственной опеки, относительно внутреннего и общественного быта сектантов.
Вот эти письма. Приводим их буквально, исправив только орфографию подлинника.
8 июля 1902 г.
Дражайшим и никогда незабвенным Коле и Дуне, и деткам вашим Поле и Коле!
Уведомляем мы вас о том, что письмо ваше, посланное от 22 июня, мы получили. Дорогие Никола и Дуня! Первым долгом вы запрашиваете у нас объяснение нашей жизни. Мы не можем объяснить вам нашу жизнь (курсив везде наш), потому что мы сами ещё в неопределённом положении, потому что мир пошёл надвое: часть становится на новую жизнь, а часть ещё живёт в прежнем положении, т. е., так, как и прежде жили все духоборцы. Та часть, которая становится на новую жизнь, теперь уже совсем освободила всю худобу (скот), неподалёку от нашего села устроила два ворка (загоны), – один для скотины, а другой для лошадей, и гонят скотину и лошадей, кто желает жить по одному согласию с ними, в одна свободное стадо. Это стадо теперь уже считается свободным. Так и написали прошение в министерство, чтобы оттуда дали права и указали для скота удобное место, где бы он мог быть свободным зиму и лето, и указали правительству самую главную причину, почему освобождают скот: потому что не хотят быть врагами (скота?) и не хотят пользоваться от чужой шкуры, т. е., труда, а хотят кормиться от своего труда, одним словом сказать, хотят жить, как совершенные люди, – Адам и Ева жили перед лицом Господа Бога нашего в раю, так и мы хотим теперь. Но только боимся того, что, как говорится, „с свиным носом в золотую чашку будто бы не пускают“.
А то прошение подавали через старшего, но в то время его! не было в Йорктауне, и прошение отдали помощнику. Помощник прочитал его и сказал, что это дело очень большое, пусть оно останется до приезда старшего. Когда, приедет старшой, тогда он сам поедет с прошением в министерство, а когда приедет обратно, тогда отыщут ваших подстрекателей и возьмут их на каторжную работу, и не будет им возврата оттуда. А ещё вы спрашиваете у нас, что землю дают или нет, чтобы селиться семьями. О земле я тебе скажу так: у нас вот на днях был квакер, 2 или 3 июля, приезжал собственно затем, чтобы узнать духоборцев, на каком основании становят себя; и вот собирал сходку, сходка была большая, но всё-таки тут дела не окончили, потому что некоторые освобождают скотину, а иные уже совсем не хотят никакой земли принимать, а те, которые ещё живут на прежнем положении, хотят принять землю без правов, (т. е., без укрепления и без всяких документов), а с правами тоже не примут. Теперь вместе с квакерами поехали наши 4 человека в Винипег, 3 человека „из постников“ и 1 из молочников. А как там окончат дело, этого я не могу объяснить, – что дастся земля, или нет тем, которые хотят принять „без правов“. Больше новостей нет у нас“...
следует подпись (не разобрана).
1902 года 24 августа.
Село Смиреновка. Близ города Йорктауна в Канаде.
Любезный друг, Николай Ларионович Таранов!
По получении вашего письма, я немедленно сообщаю тебе об своей жизни, как мы сейчас лично живём.
Ты нас запрашиваешь, что мы постники или молочники. Мы покамест имеем коров и лошадей. А ещё мы встретили в вашем письме, что приняли ли мы землю, или нет? Землю мы не приняли.
Дорогой друг, Николай! ещё ты нас запрашиваешь об наших духоборцах, как они думают прожить. Духоборцы живут разногласно, – часть духоборцев ослобонили худобу, а часть нет.
Которые освободили, жгут кожную обувь: башмаки, сапоги, хомуты, узды и т. п. и также пожгли шёлковые платья и перья (перины) и т. д. А ходят теперь в лаптях, спят на соломе. Некоторые из них даже деньги сдали правительству, а именно: Кузя Новокшонов, Якимушка Евсин и т. д. А которые худобу освободили, то есть, собрали на один ворок (загон) сотню лошадей, ста два рогатого скота и т. д, подавали об этом правительству прошение, чтобы дали такой земли, где бы они могли кормиться. На это ещё не получили ответа.
Сейчас мы не знаем, как распорядятся над худобой.
Ещё скажем мы тебе. Живём мы в общине: я и Алистрат Колмоков. Сейчас находимся на работе на стешинах (?), вырабатываем по 2 руб. в день.
Алексей Обросимов работает в компании с сыном по 30 руб. в месяц каждому человеку. Дорога проводится через Тамбовку. Часто приезжают из двора. Привозят нам борт (?). Недавно наши приехали из двора и привезли нам ваше письмо, за которое благодарим вас. Спаси нас, Господи, за вашу любовь и чистосердечное пожелание к нам.
Любящие вас навсегда братья: Иван и Алистрат Колмыковы.
Верно: В. Скворцов
Из миссионерских писем, дневников и летописей
Бронницкий В. Вопросы религии в обсуждении передовых людей 100 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 630–639
(Картинка с натуры).
Шестидесятые и семидесятые годы, начал Николай Андреевич, были, как известно, выдающимся моментом в жизни нашего образованного общества. Под влиянием целого ряда коренных реформ это общество проявило вдруг такую жизнерадостность и такой прониклось симпатией к мужику, что теперь просто отказываешься верить в действительность факта. Тогда господствовала безграничная вера в безграничное счастье и столь чудесное, что если придавать серьёзное значение пылким речам Писарева и ему подобных проповедников, то выходит, что через какое-нибудь столетие наше общество совершенно преобразуется.
Предварительно для всего этого требовалось распространение в обществе естество-научных знаний (как теперь по вашей идее для подобного счастья требуется проповедь христианской морали). Это необходимо, убеждает Писарев, «необходимо, чтобы в нашем обществе постоянно поддерживалась та свежая струя живой мысли, которую вносит к нам зарождающееся естествознание. Если все наши капиталы, если все умственные силы наших образованных людей обратятся на те отрасли производства, которые полезны для общего дела, тогда, разумеется, деятельность нашего народа усилится чрезвычайно, богатство его будет возрастать постоянно, и качество его мозга будет улучшаться с каждым десятилетием. А если народ будет деятелен, богат и умён, то что может помешать ему сделаться счастливым во всех отношениях» («Истор. нов. литер.» Скабичевского).
В своих речах Писарев имел прежде всего дело с интеллигентным кругом; но за интеллигенцией стоял народ, который до того времени жил отдельной крепко сплочённой единицей и ничего не ведал, что делалось в верхних слоях общества. Писарев и подобные ему, хотя признавали за народом огромную силу, но силу косную, непросвещённую, блуждающую в массе грубых предрассудков и тем тормозящую общий ход прогрессивного развития. Следовательно, он мог только мечтать о сближении интеллигенции с народом, по мере распространения просвещения в нём.
Гораздо настойчивее проповедовали о таком сближении люди более трезвые, чем Писарев, напр., тот же гр. Толстой, «Дайте народу то, говорил он, до чего довела вас жизнь и десять незабитых работой поколений». Расширьте умственный его кругозор, удовлетворите с толком его природным способностям, которые нередко приводили в изумление и просвещённых людей: они дивились практической философии мужика, его глубокомысленным афоризмам, добытым опытом жизни, – „отдайтесь чувству, и оно вас не обманет“.
Согласитесь, продолжал Николай Андреевич, можно ли было после столь сильных и горячих проповедей наших народолюбцев не увлекаться «живым делом» и не признавать в нём залога грядущего счастья и благоденствия страны, когда под таким сознанием, как под действием общего гипноза, находилась вся мыслящая Русь, пробуждённая от вековой апатии толчком великих реформ...
И вот все алчущие и жаждущие правды наши шестидесятники устремились в народ, в массу, на девственную почву насаждать правду и просвещение, водворять порядок и экономическое благосостояние...
Однако не им суждено было пошатнуть старинные «дедовские устои». Влияние этих личностей на народ было ничтожно.
Все их бурные стремления разбились о подводную скалу, о тот «таинственный краеугольный камень», который послужил поворотным пунктом в мировой истории.
В сознании этой тёмной массы не переставали пребывать лучи Божественного света, исходящие от Божественного идеала, воплощённого в Богочеловеческой личности Христа.
Эту светлую черту в жизни тёмного люда не разглядели наши проповедники и естественно потерпели полную неудачу.
– Однако, строги же вы, Николай Андреевич, к молодёжи, – заговорил ещё один из компании.
Я всегда думал иное о движении нашей молодёжи и строго отличал последнюю от грубых бездушных эгоистов, губящих живую мысль во имя каких-то охранительных начал. Я, когда вспоминал о лихорадочной деятельности молодых борцов, о живой их энергии, благоговел перед этой жаждой подвига, перед желанием развернуть молодые силы на борьбу с тьмой. И что побуждает их к этой самоотверженной борьбе? Только бескорыстнейшая любовь к человеку и сознание общего блага.
В подтверждение этого я вам приведу слова Достоевского – человека, можно сказать, совершенно свободного от предвзятых мнений. Вот что он пишет по поводу идейной молодёжи.
«Эта наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая нетерпеливость! по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только то хочу заявить изо всей силы, что их влечёт истинное чувство. Характернейшая черта ещё в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы, и пролетарии, и духовные и неверующие, и старики и девочки, и славянофилы и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде непоколебимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все преимущества, обратится в Власа!» («Днев. писат.», стр. 64, IX изд. «Нивы»).
Но был момент, гг., продолжал с увлечением молодой человек, когда все эти люди, „разбившись на кучки и лагери в своих убеждениях“, казалось, готовы были спеться, когда «правда», которую они искали «прежде всего», стояла близ них. Такой момент, по-моему, совпадал с пушкинскими празднествами. В этот момент, как передают, общественное настроение было возбуждено до последней степени и возбуждено, главным образом, под влиянием речи Достоевского, которая произвела столь сильное впечатление на слушателей, что многие из них проливали слёзы умиления. Это было что-то в роде проповеди покаяния. Недаром же Д-го возвеличили в «пророка Божия, духовного вождя русского народа», как назвал его Ή, Михайловский.
Второй подобный случай произошёл на чтениях Вл. Соловьева в психологическом обществе. И, наконец, всем известная история с Толстым, история, до сих пор не перестающая волновать умы образованных классов интеллигенции, не исключая и народа.
Чтобы ни думали об этих фактах и как бы их ни истолковывали, но я считаю их за знамение времени: они ясно свидетельствуют о том, что наше образованное общество уже достаточно созрело для принятия христианских идей, что оно живёт и мыслит по-христиански, а равно и религиозно.
– Положим, по приведённым вами фактам судить трудно, как живёт и мыслит наше общество, заговорил Николай Андреевич. Я не отрицаю, конечно, некоторых отрадных моментов в жизни образованных людей и готов, пожалуй, более вашего рассуждать о них с религиозной точки зрения. Так, напр., речь Д-го от начала до конца прошла в каком-то религиозном экстазе и произвела действительно чарующее впечатление на слушателей. Не менее сильное впечатление вынесла публика и от чтения реферата Вл. С. Соловьева. Здесь, гг., по-моему, дело не столько в талантливости и популярности означенных мыслителей, сколько в том, что в их речах были затронуты самые животрепещущие вопросы, начинающие за последнее время сильно волновать умы. Таков основной вопрос жизни: религия и её отношения к науке и к просвещению вообще.
В своих речах Достоевский и Соловьев, по-видимому, являются примирителями основ религии и культуры. Здесь одна другой служит восполнением и обе вместе составляют, что называется, сущность прогресса. Так, напр., христианская благодать, как сила, споспешествующая духовному усовершенствованию христианских обществ, нисколько не исключает благодетельного воздействия просвещения на людей; точно также христианская любовь может следовать рука об руку с идеями коммунизма, социализма и проч., идеями, двигающими жизнь вперёд...
Конечно, в литературе христианского народа всегда найдутся истинно христианские черты мысли и деятельности, но не так развил свои мысли г. Соловьев по означенным вопросам: он не только раскрыл черты христианской жизни в тех кружках и обществах, которые величали себя неверами, но доказывал, что эти последние более христиане, чем многие из верующих, воспитанных по преданиям и уставам христианских Церквей.
Неправда-ли, что это была крайность, в которую впал оратор, может быть, помимо собственного желания? В самом деле, если христиане могут быть и без Христа, если Дух дышит и среди неверующих, то какой же смысл имеет для людей вера в Искупителя мира? Очевидно никакого и, по мнению людей прогресса, она должна пасть, с развитием просвещения, или с постигновением «смысла, жизни», как проповедует Т-й. Однако, по милости Божией, падает не вера, не религиозное чувство в народах, падают приходящие моменты и кризисы, подобные указанным вами инцидентам с Достоевским и Соловьевым.
Бесспорно, настроение общества слушателей в данные моменты было очень хорошее. В первый раз может быть люди восчувствовали мирное братское влечение друг к другу и поверили в близость царствия Божия.
Оставалось только умножить в себе эту веру, увеличить любовь к людям, и рай водворён на земле, страдания уничтожены! Почему ж однако не совершилось ничего подобного и до наших дней?
Потому опять, что царство небесное нудится, потому, что чувства, не основанные на вере в объединяющую силу Христову, оказались не столь глубоки.
И вот как только немного остыл благородный порыв, интеллигентные люди покинули «пророка Божия» с его идеей о всечеловеке и примкнули к другим пророкам и учителям.
Подобно гр. Толстому, каждый кружок, каждая партия создавала свои веры и идеалы, которые, во-первых, ничего не имели общего с идеалом христианства, во-вторых, взаимно противоречили друг другу, а потому и клонились не к объединению обществ, а к сильному разъединению, к вражде.
Человек, по данной группе идеалов, является совершенно пассивным. Он раб среды и внешних условий. Он ничтожный винт в целом механизме человечества, которое, в свою очередь, подчиняется действию неумолимых законов. Для него не существует свободного умственного и нравственного развития, так как нет и самой свободной, воли.
По другой группе идеалов допускаются исключения для гениев; между тем как масса обезличивается, она должна слепо идти за своими руководителями, подчиняться воле сильных.
Если человек не приспособился в жизни, то ему следует уступить место более приспособленным, а самому вымирать.
Здесь нравственная деятельность человека сведена к нулю и в особенности с точки зрения тех «прогрессивных идеалов», где проповедуется законность страстей, где провозглашаются принципы крутых насилий (во имя мнимой справедливости) против чужой собственности, или же где оправдывается эксплуатация бедных богачами (во имя торжества «капитала»), основывающими своё счастье на несчастьях ближних.
Нет, как хотите, но трудно даже провести какую-бы то ни было параллель между этими идеалами и евангельским учением о царствии Божием.
– Разнообразие в убеждениях необходимо, Николай Андреевич, – заговорил опять доктор: истина познаётся только путём свободного развития человеческого ума. А по-вашему выходит, как будто надо заковать живой дух человека в мёртвой форме церковной обрядности и подчинить его во всём догматам веры, забывая, что такое подчинение всегда порождало страшные раздоры, религиозные насилия, кровавые гонения.
– Что касается вражды и насилий, то не гораздо ли больше было этого во время разных общественных нестроений, во время революций и анархических движений, во время тяжёлых исторических кризисов, когда люди действительно объединялись посредством огня и меча.
Там же, где люди проникнуты духом евангельского учения, подобно апостолам и сонму св. мучеников, там не может быть никакой вражды, никакого насилия.
Там истинный христианский союз. Такой союз, покоящийся в лоне царства Христова и основанный на вере в Искупителя мира, по свидетельству истории, представляет замечательно живую и устойчивую силу, тогда, как общества, увлечённые политической пропагандой, рассеиваются подобно дыму, не оставив после себя никакого следа и часто не пережив своих основателей.
– К чему-ж вы всё это говорите, Николай Андреевич, – заметил кто-то из публики, – разве наш настоящий союз друзей походит на одно из ваших политических обществ, да и возможно-ль проповедь христианской морали смешивать с пропагандой социализма?
– Простите ради Бога, – заволновался Николай Андреевич, но я не могу верить в благотворное влияние вашей проповеди на народ и не считаю её за христианскую, если вы вместе с Толстым отрицаете всё христианское вероучение, все догматы.
Если Толстой и упоминает о Боге, то ни вы, ни я до сих пор не знаем, что разумеет он под именем Божиим.
Далее, Т-й не признаёт никакого (благодатного) значения и за молитвой, в том христианском смысле, как учит нас об этом Евангелие примером молитвенного обращения Господа Иисуса к Своему Небесному Отцу.
Словом, Т-й ничего не хочет знать, что непонятно для него в Евангелии. Но это, как видите, не служит доказательством против отвергаемой им христианской религии. Гораздо большим доказательством и убедительностью для меня служит факт исповедования её миллионами людей, находящих в религии и утешение, и опору в борьбе со злом, и помощь в нравственном самоусовершенствовании.
Таким религиозным сознанием, и отличается, как известно, жизнь нашего народа, куда вы стремитесь с своей разрушительной проповедью. Вера даёт народу возможность жизни, как думает и сам Т-й. Вера и жизнь по вере – вот ещё о чём потолкуем в заключение несколько растянувшейся нашей беседы.
Я не понимаю, гг., вашу радость, – продолжал Николай Андреевич, – ваших хвалебных од „новому народу“, который будто бы пошёл к свету с тех пор, как перестал верить в церковное учение и предание, т. е. вообще потерял православную христианскую веру; а по моему глубокому убеждению, если народ потерял веру, то он идёт вовсе не к свету, а к тьме, удаляется от Источника света.
Сам простой народ все тёмные явления в своей жизни объясняет отсутствием веры и религиозности. Если мужик угоняет у своего собрата лошадь, или вламывается к нему в клеть и обкрадывает его, то это значит, что он „Бога забыл“ и „совесть порушил“. Если он пьянствует, бьёт жену, увечит детей и выгоняет всю семью на мороз, то ясно, что он „суда Божьего не боится“, „креста на нём нет“. Перенесясь мыслью в былые времена, мы увидим, что когда люди без веры служили орудием тёмной силы, орудием разрушения, люди, одушевлённые верой и проникнутые глубоким религиозным сознанием, – как трудолюбивые „муравьи и пчёлы“, селились в глухих дебрях, основывали там монастыри и являлись первыми рассадниками просвещения и культуры, единственными светочами народа, двигавшими жизнь вперёд по пути христианской добродетели. Народ подражал „Божьим людям“, и при условии веры „через молитвы“ „праведников“, достигал той степени нравственной зрелости, которая возможна при отсутствии всякого образования; если при тех печальных исторических условиях, в которых жил наш народ, в нём создалась „прекрасная община“, где взаимопомощь, правила гостеприимства и странноприимничества внушались ещё с детства каждому, то чему, спрашивается, он обязан был этим, как не действию веры Христовой?
Никто не в силах отрицать тех явлений в жизни простого народа, которые принимаются, как исторический факт (и под которым готовы подписаться многие, кто способен отличить темноту от света, дающегося народу религией), и о которых с восторгом отзываются все наши лучшие писатели, интересующиеся жизнью народа. Все они с восторгом говорят о сердечных чувствах мужика, и многие из них, недоумевают, как это с виду грубая невежественная натура сумела воспитать в себе столь нежную чуткость к нужде и горю ближнего, выразить при случае такое величайшее сострадание и самоотверженную любовь. „Народ-Богоносец“, величает его Достоевский, и тем показывает, что в вере Христовой – источник нравственной силы этого народа.
Что же вы дадите этому народу взамен вытесняемой вами его религии, этой последней его опоры. Скажете, просвещение. Прекрасно: пользы просвещения, конечно, никто не станет отрицать. Но опять: на чём же должно быть основано такое просвещение? Вы отвечаете: на морали христианства, т. е., лучше сказать, на проповеди толстовской морали. Мной было уже доказано, что мораль толстовская – шаткая мораль: она „висит в воздухе“, а главное, не соответствует духу христианской религии, за которую она будто ратует и наконец выбрасывает за борт веру народа.
Отрицать, разрушать, топтать в грязь всё святое – вот программа деятельности современных просветителей народа, руководимых толстовской моралью. И я из всех сил подражаю этим мнимым благодетелям народа, в ослеплении своём толкающим народ на тот страшный путь разрушения и неверия, по которому начинают идти восхваляемые вами рационалистические секты.
Я знаю, что с этим воззрением моим на секты вы не будете согласны; в настоящем движении сектантства видите чуть не возрождение целого человечества. Однако, позволю себе сказать, что это опять только ваши мечты. По-моему, всё новейшее движение сектантства есть именно та дверь, через которую люди входят в область неверия. За начавшимся уже разложением сект (каковое разложение всегда бывает за упадком веры), сектантству предстоит ещё пройти тот страшный путь сомнения и разочарования во всём, что было пережито лишённой религиозных основ жизни интеллигенцией, которая, по словам Меньшикова, „в конце 19-го века, покорив природу, сделавшись богаче, могущественнее, никогда не была так омрачена духом скорби, как теперь, и у которой тончайшим ядом отрицания так отравлена радость жизни, что и из среды, пользующейся благом свободы и прав, слышится трагический вопрос: стоит ли жить“? (Курс. наш).
Стоить ли жить?! Этот роковой вопрос задаст только тот из людей, кто не хранит в своём сердце веру в Бога – Творца и Промыслителя, веру в добро; кто, вместо христианского идеала любви и мира, опутает себя идеалами противоречия.
Пора наконец понять, что без Христа не может быть истинного единения. Он „Един ходатай у Бога и человеков“. Через Него и Им обещано: „да будут все едино, как мы, и да разумеет мир, что Ты Меня послал“.
С. Бронницкий
Родионцев В., свящ. О новой раскольничьей книге // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 640–644
В приюте графа Игнатьева в Н.-Новгороде во время истекшей ярмарки велись беседы со старообрядцами. 16 августа перед началом беседы и мне пришлось увидеться здесь с старыми знакомыми И. Усовым и Ф. Мельниковым и перекинуться, как говорят, с ними несколькими словами, не лишёнными общего значения. Усов недавно написал большое сочинение под заглавием: „Церковь Христова временно без епископа“. По поводу этого сочинения и происходила наша беседа. После нескольких слов о предметах посторонних, Мельников спросил меня: скажите, о. Василий, какие вы нашли недостатки в сочинении Усова: „Церковь Христова временно без епископа“?
Я ответил, много есть в нём нечестивого учения, разбором же занялся нижегородский миссионер Ф. Д. Круглов. Тогда Усов заметил, что если разбирать всё сочинение, то надобно целиком приводить текст всей книги, а если неполный приводить кто будет, то он сделает возражение. Мельников же, продолжая разговор, повторил вопрос: какие находите вы, о. Василий, ереси в книге Усова?
Я. Первая ересь в том, что Усов называет в нём нашу православную Церковь „Вавилонской блудницей“ (стр. 10). Такую дерзость редко можешь услышать и от добросовестного беспоповца. А вам, поповцам, это совсем не к лицу, так как ваше священство от греческой православной Церкви ведёт начало. Выходит, что в лице родоначальника иерархии, митрополита Амвросия, вы приняли священство, страшно сказать, от „Вавилонской блудницы“. Подумайте, куда ведёт вас ваша дерзкая ругань, и кого вы хотите ею запугать?
Мельников. А ещё что укажете!
Я. Да начать хоть с предисловия. Усов называет свою Церковь старообрядческой. Но разве когда-нибудь называлась Христова Церковь старообрядческой? Потом Усов проводит такую мысль, что обряды, содержимые нашей православной Церковью, выдуманы патриархом Никоном; напр., троеперстие и другие. Но разве это не обман? Пусть бы говорил это кто другой, вовсе не знающий Писания, но готовящемуся во епископа „Церкви старообрядческой“ разве можно говорить такую явную неправду? Ведь вы сами хорошо знаете, что троеперстно молились православные люди во времена патриаршества Иосифа во всей греческой Церкви, а также молились и в Малороссии и даже в Великой России. Потому, если в чём и можете обвинить патр. Никона, то разве в усвоении греческих и киевских обрядов. Но ведь в то время и наша великорусская Церковь состояла в единении с греками и киевлянами. Вот какая правда у Усова!
После моих слов вмешался в разговор сам Усов и хотел было повести речь о другом, как он работал иконы в нашей мастерской, но его перебил Мельников новым вопросом ко мне: „не скажете ли, о. Василий, что ещё Усов написал в своей книге?
Я. Вы уподобляете свою старообрядческую Церковь кораблю, толкуете, что переднюю часть корабля, т. е. уставы церковные, нимало не нарушаете (стр. 24). Но разве опять это правда? Посмотрите хорошенько устав церковный, вы там увидите многое, что в вашем согласии не исполняется: колено-преклонные молитвы, помазание елеем, устав о 9-м часе и другие повеления, не говоря уже о книге „Кормчей“, из коей нарушены вами многие правила. Где же теперь целость передней части вашего старообрядческого корабля? Очевидно, применить его к кораблю Христову невозможно. Послушайте, вот ещё дальше что вы пишете, что ангелы Божии могут погрешать и· заблуждаться (стр. 29). Разве не нечестие это? Уж не за эту ли книжку старообрядцы тебя во епископы выбрали? Вот так так?
Прочитай блаж. Феодорита книгу 7, ч. I, стр. 378, Москва, 1861 г. Там же изобличится это твоё нечестие. Да и вся Церковь Христова исповедует, что утвердившиеся уже в добре святые ангелы погрешать теперь не могут, как и злые ангелы не могут раскаяться и стать добрыми. Как же будет веровать и учить завтрашний епископ? ещё вы пишете, что св. апостолы впадали в неверие Христову воскресению (стр. 60). Разве это не клевета на св. апостолов? Ведь чтобы впасть в неверие, прежде нужно поверовать, а „глагол сей“ о воскресении „бе сокровен от них“ (Луки зачало 92), и они сперва не поверили лишь жёнам, что те видели Господа, а не воскресению его (на стр. 85). Ещё вы перетолковали по-своему евангельскую притчу от Луки зачало 95 и толкование блаж. Феофилакта болгарского. По вашему неразумному, произвольному и кривому толкованию выходит, что прежде страшного, суда Божия, во времена Никона патриарха, все таланты (благодатные дары) от епископов отобраны и даны диаконам. Что же опять это такое, как не смешное даже нечестие?
Рабы, т. е. диаконы, священники и епископы будут до второго пришествия Христова, как говорится в Благовестнике, и всех рабов, принявших таланты, будет судить на страшном суде Сам Господь, раздаятель талантов. Усов же прежде Божия суда осудил уже всех епископов, как погубивших свои таланты, и передаёт эти таланты диакону: кому за сие он уподобляется? Кто решается судить человеческие грехи прежде суда Божия, тот противник есть Христу, а вы не только грехи осудили, но и талантов решились обнажить всех епископов, конечно, до ваших белокриницких бывших; но ведь всё равно и ваши-то епископы от тех же бесталанных появились, да и Усов хочет к сим же приобщиться. Как всё это кажется?
Усов. А больше ничего не укажете?
Мельников (перебивая его). Нет, он много ещё находит в твоей книге нечестия.
Я. Действительно, нечестивых мнений там Усов насыпал словно мусору, и все они (мнения) будут подробно разобраны Кругловым. Теперь же нет времени говорить о том долго, а вот, пожалуйте, Иван Григорьевич, к нам на квартиру в семинарское общежитие, там книг много, и займёмся, как следует, вашим произведением.
Усов. Я времени не имею беседовать: скоро уезжаю в Москву.
Я. Скажу вам на прощание, что книга ваша пользы и вам не принесёт, а беглопоповцам она будет весьма полезным оружием в борьбе с вами; воспользовавшись ею, они с немалым успехом будут поражать вашу иерархию.
Усов (обиженно). А вот ваша люциферианская ересь хорошо ли обличается в моей книге?
Я. По обычаю своему ты оклеветал Христову Церковь.
Усов. Почему же так?
Я. Вот почему. Святая Церковь принимала разных еретиков, по своему усмотрению различно и, никто, кроме Люцифера, до вас старообрядцев не осуждал её за тот или иной чиноприём. А что различно принимала Церковь даже одних и тех же отступников, можно указать немало примеров: несториан, напр., принимала она и через крещение („Кормчая“, л. 935 обор.), и через миропомазание (л. 636), и третьим чином по 95 правилу 6-го вселенского собора. Впрочем, есть и разница между вами и Люцифером в том, что последний раскаялся (Бароний, лето Господа 3, 92, число 24, ч. I), а вы нераскаянно осуждаете вселенскую Церковь за чиноприём, не понимая, что чиноприём не есть какой-нибудь догмат веры, а только обычай („Кормчая“, 637).
Усов. Вы сами несправедливо пишете, напр., в беседе вашей, помещённой в „Братском Слове“, назвав Феодора Мельникова безбожником.
Я. Назвал его я так за то, что он порицал св. мощи угодников Божиих, дозволял себе и другие кощунства, и издевательства над православной Церковью. Но ежели сравнить, кто из нас более несправедлив в литературе, то это сравнение будет не в вашу пользу. Например, вы написали, что наша Церковь погибнет, лопнет, пропадёт с своим мнимым православием (беседа Усова в дер. Перово, 1896 г., 11). Да вот ещё; ваш поп Старков передал Швецову, а Швецов издал книжку, в которой говорится, будто Старкове разговаривал с диаволом, а диавол рассказывал Старкову, что Никон во аде, а на Амвросии венец и друг. И те нелепости, ничтоже сумняся, издаёт „епископ“ Швецов.
Мельников. Я не признаю этой „диавольской беседы“, ею Старков ввёл в заблуждение владыку Арсения.
Старков сидел неподалёку от нас и понял, что Мельников смеётся над ним.
Тем наша беседа 16 августа и кончилась. Я пришёл домой и беседу записал, а 18 августа мы опять увиделись. Записанное я дал прочитать Усову и просил его сказать, верно ли беседа наша записана мной. Усов не нашёл в моей записи ничего неверного, а только сказал, что не всё, о чём говорилось, печатать следует. В настоящий раз мы не думаем последовать совету Усова и беседу предаём печати. Пусть не обидится на нас за то г. Усов, изливший яд от устен своих на ту Церковь, от кладезя которой и их общество, не спросясь, яко тати, почерпнуло по их верованию воды преемственной благодати хиротонию, но вместе с сим наполнивший своё произведение прямым нечестием и клеветой. Не мы начали, а он. Пусть же примет он на свою голову и ответ за сие. Кощунника да судит Бог, а мы, его служители, призваны только разоблачать сие. Аминь.
Мисс. Черниг. епарх. свящ. В. Родионцев
Булгаков Н. К вопросу о нравственной порядочности сектантов // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 645–646
Мало знающие наше мистико-рационалистическое сектантство защитники его убеждены, что сектанты „обыкновенно лучшие люди своего времени: они жаждут добра, они ищут истины“... Подобного сорта оптимистическое мнение было высказано одним „интеллигентом“ на страницах Миссионерского Обозрения (1902 г. февраль, стр. 414). Не вдаваясь в теоретические споры по этому вопросу, мы намерены по временам предавать печатной гласности имеющиеся в нашем распоряжении неоспоримые факты, в корне опровергающие преувеличенное мнение о „духовной высоте“ разных отступников от православной Церкви. Таково, напр., помещаемое ниже письмо к Высокопреосвященнейшему митрополиту Антонию, написанное летом прошлого года неким простецом, попавшим в сети штунды.101 Фактические данные, касающиеся личности передового сектанта нами проверены, причём оказалось, что он развратничал, проживая за Невской заставой, и пьянствовал; а в Новгородскую губернию выехал, предварительно наделав среди своих единомышленников немало денежных долгов.
Помимо своего местного характера, это письмо имеет и общее значение, так как показывает, что пашковщина и штунда в своих конечных выводах являются отрицанием всего святого и представляют страшную религиозную и нравственно-общественную язву. „Мы хотя и грешим, но мы безгрешны, потому что векующий во Христа не судится!“ – вот что неоднократно приходилось нам слышать от представителей петербургской штундо-пашковщины. Нечего и говорить, что это положение даёт самый обширный простор для нравственной и прямо преступной распущенности, причём „верующий во Христа“ убеждён, что он ни на каком суде не понесёт наказания, потому что от суда человеческого можно укрыться; суд же Божий его „не касается, так как кровь Иисуса Христа очищает верующего от всякого греха“. Фактически состоявший наставником петербургских штундистов, на вопрос о. протоиерея М-ва, почему у него в квартире нет икон, с гордостью ответил: „А зачем мне иконы? Я сам образ Божий“. Видимое дело, что этот человек нисколько не сознавал своего безотрадного нравственного состояния, а наоборот считал его вполне нормальным и согласным с словом Божиим. Вот это письмо.
СПб. 9 июля 1901 г.
Ваше Высокопреосвященство,
Высокопреосвященнейший Владыко!
Повергаюсь к стопам Вашим и со слезами умоляю Вас простить меня недостойного и окаянного грешника.
Больше года тому назад я был по моему легкомыслию увлечён в проклятую секту пашковскую. Увлёк меня и моё семейство один крестьянин С.-Петербургской губер. и уезда, Александровской волости, села Михаила Архангела, что за Невской заставой, Семён Михайлов В-кин. Этот мошенник и плут сам более пятнадцати лет не живёт со своей законной женой, а живёт с какой-то девицей Вологодской губ. Вельского уезда, А-сою, от которой имеет детей; вот он и нам всё говорил, чтобы мы тоже оставили своих жён и детей и жили, говорит, с чужими девицами, потому, говорит, что это ложь говорят священники. Собирались мы к нему на его проклятое собрание в Агафоновской ул.; вот теперь и дом тот сгорел, что и видно, что Бог наказывает и тех хозяев, которые сдавали ему этот дом, – сам же В-н со своей любовницей и братом Иваном В-м переехали на станцию Чудово по Николаевской жел. дор.; там есть стеклянный завод, и вот он там теперь проповедует между рабочими тёмными людьми эту проклятую секту. Я теперь, слава Богу, отстал от неё и стал опять христианином, был на исповеди и каялся священнику, но вот я всё думаю, только простит ли меня Господь за мой великий грех; помолитесь за меня, окаянного раба Ивана. И попрошу я Вас, святой Владыко, принять меры против этого антихриста В-на, он и мою дочку соблазнил, лишил её невинности, и других многих, всё больше фабричных неопытных, ведь это чистый дьявол, о Боже, мой Боже.
Простите меня, Преосвященный Владыко. Недостойный и окаянный раб Иван С-ъ.
С.-Петерб. епарх. миссион. Н. Булгаков
Тифлов М., свящ. К характеристике современной хлыстовщины 102 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 647–656
5) От Петра Воспитанникова к Увару Ермоленко.
Слава Господу нашему Иисусу Христу, и во веки веков слава! – Милому, и дорогому, и незабвенному моему братцу Увару Феодоровичу. Любезный братец Уварушка! По возвращении моём (из) Стретенска я послал к вам два письма, на которые ещё не получал никакого ответа, которого ожидаю с нетерпением; в которых письмах просил тебя, братец Уварушка, и всех братцев, чтобы приютили моё осиротевшее семейство; а более просил, и теперь ещё прошу, братец Уварушка, и всех братьев, потрудитесь, похлопочите о причислении их (семейства), чтобы они знали своё место и были тамошние.
Затем ещё опишу я тебе, о чём я своею совестью мечтаю, и она меня побуждает спросить у тебя. Как ты мне писал ещё на Воронцовку и прописывал, что уже 200 душ Ермоленковых, и желал бы, чтобы и я был Ермоленков; то прошу тебя, любезный, скажи мне, неужели я не причтён к братьям к тем, которые близки твоему сердцу? Так, любезный братец Уварушка. Я есть великий, грешник, но желаю быть и стремлюсь к той цели, чтобы быть соучастником жизни Христовой; и заочно сердечно припадаю к стопам ног твоих, и целую их, и прошу тебя, братец, моли отца твоего небесного за меня, грешного, и не уклонись своей любовью от меня, грешника, и причти к братьям твоим, ибо:
Новобрачный ты наш доказатель
В нашем роде до конца,
На которого надеюсь
2) Быть в покое у отца.
* * *
Чтобы быть нам совершенным
Новобрачного венца,
За которого страдали
2) Братья наши и отцы.
* * *
Отец послал своего сына
В сердцах узы разорвать,
И был слышен голос с неба
2) Сей – наследник мой идёт.
* * *
Он затем сошёл на землю:
Мёртвых кости подобрать
И сложить сустав к суставу,
2) Чтоб любовию покрыть.
* * *
Быстротечный наш искатель
Скоро тело набирал
И назвал его Адамом,
2) Чтобы Еву ему дать.
* * *
И заставил всех молиться,
Созвал с неба благодать.
Благодать была и прежде,
2) Но в потерю прийзошла.
* * *
Но теперь мы ищем снова
Новобрачного христа,
И в котором нет печали,
2) Зажигает свет отца.
* * *
Конец от каждого второго нумера повторяется. 22 декабря осталось недописанное.
При сём, родимый ты мой батюшка, желаю я тебе посвидетельствовать о своей жизни, при ком я нахожусь. Нахожусь я при братце Михаиле Феоктистовиче Шипилове, Любе, Григорие и Петре. Содержат пекарню и пекарю платят в месяц 50 руб., да пекарня 19 руб., дрова, вода своя, и лавочку (имеют); но лавочка в отдалённости на версту. Я же нахожусь при торговле в лавочке день и ночь, только каждый день сменяют меня обедать, больше Пётр Василенко, который прибыл к Михаилу весной из Благовещенска. И все мы находились вместе до сего времени; но враг, ненавистник добра, вместился в сердце одного брата, т. е. Петра Василенко, и внушил его к зависти. Начал он понемногу ухищрять денег; но всемилостивый наш родимый батенька отец небесный, жалея братьев Михаила и Григория, ибо это всё их деньги, положил на моё грешное сердце, что Василенко делает такую неправду. Но совесть моя мучит меня, чтобы я за ним призирал. Долго я мучился, но не мог отбиться и начал за ним призирать, то я нечто заметил, но дело не большое и не ясно. Потом приходит он меня сменить и посылает меня обедать; а сам остаётся в лавочке по обыкновению нашему. Но я, грешник, заметил, какие у нас деньги в ящичке, и пошёл обедать. После обеда прихожу на своё место, т. е. в лавочку, смотря по деньгам (замечаю), что-то не так; но я промолчал, и думаю всю ночь, как мне это дело открывать и на брата клеветать. Но совесть во мне одно свидетельствует, что нельзя утаивать; ибо он делает братьям вред и под тобой копает яму и заставляет указывать братьям. Так я переночевал и дождался, пока они на утро привезли в лавку хлеб и булку; и надо мне ехать обедать, а ему оставаться. Так я при Григории спросил Петра: „братец, где же вчера 5 руб. делись?“ Он сказал: „менял десятирублёвого золотого“. Я ещё повторяю: „а где же он?“ Он так ничего ясно и не ответил; но это ещё неясное доказательство. Но после этого он заметил, что я крупные деньги замечаю, и через 4 дня, в воскресный день 17 декабря, день базарный, привозят булки, и он остаётся в лавке; я же говорю: „обедать ещё рано, я не хочу, буду здесь“; но Григорий с моих речей ничего не понял, и говорит мне: „поедем, а Миша скоро сюда придёт“. Но Пётр набрал себе в карман мелких денег и дождался Михаила, и оставил его в лавке, сам пошёл домой и на дороге давай просить человека: „дай мне золотой 5 р., а я тебе мелких дам“. Так и сделали в воскресенье; но мне, грешнику, ночью пришлось об этом узнать. И опять принялась совесть за меня и мучит меня: „открой братьям“. На утро в понедельник привозит булку Григорий, но я ему ничего не сказал; но сам был неспокоен. Он привозит ещё булку второй раз. Я ему сказал: „Братец Григорий, спроси наедине братца Петра, на что он вчера возле кабака менял мелкие деньги на золото“. Но Григорий немножко поколебался на сторону, потом обдумал, что я напрасно клевещу, и не спрашивает; а со мной каждый день об этом речь ведёт. И говорит мне: „я, братец, сему не верю“. Я сказал: „как знаешь, я сказал верно“, и пошёл обедать, а Григорий остался в лавочке. Я дома сказал Любаше и Михаилу: „с деньгами поступайте поаккуратнее“. Они...103 а всё-таки не поняли. Давай говорит Григорию потихоньку: „что такое у нас?“ Замечают, что-то есть не ладно; но Григорий не говорит, что я ему говорил. И привозят в лавку булки, и начинает говорить об этом, но издали, ибо Михайло не знает. Но Григорий к Василенко ближе сердцем, чем ко мне, и начинает говорить мне вопреки; но мне стало обидно, что я заплакал и сказал: „простите меня, грешника, что я сделался между вами клеветником, поклеветал на брата, на сына матери своей, и развлекаю ваши сердца от любви“. Но Михайло ничего не слыхал, и смотрит, потом спрашивает, в чём дело. Я тогда рассказал ему всё моё мучение совести, и это дело; но Михайло сказал мне: „братец, не скорби об этом, ибо Господь наводит такое дело узнавать, чтобы неправду не скрывать между братьями“. И отправились домой, и начали поверять, сколько перепекли кулей крупчатки, и сколько должно быть денег; но их много нет. Тогда братец Григорий и не знает, что и делать; но Михайло знает, что Пётр Василенко носит бандаж, и смекнул попросить у него бандажа, и сказал ему: „братец Пётр! дай мне своего бандажа, я примеряю“. И смотрит на него, как он его будет снимать с себя. Но он не знает, что делать, и полез на печку, и начал там снимать с себя, и подал Михайле. Михайло сметил, что он оставил при себе. Это дело было поздно вечером в 12 часу. Пекарь вышел наколоть дров, а Григорий уснул. Так Михайло хотел, чтобы никто не знал дальше, и говорит ему: „милый братец Пётр, дай я тебя обыщу“. Он отвечает гордо, и весь сменился, и затрусился, и бросается на двор; а Михайло стал на дверях и не выпускает: „давай обыщем тебя“! Но Пётр с усилием лезет и кричит: „пусти, я до ветру“, и начинает Михайла пихать и терзать. Григорий услыхал, пробудился; но Пётр оттолкнул Михайла, сам – на двор, а Михайло с лампой за ним. Он с одного места на другое, Михайла за ним, он ещё дальше. Люба и Григорий кричат: „Миша, вернись“! И вот дело хищного брата обнаружилось. Тогда Григорий сказал: „вот, я познал, что ещё Господь пожалел нас, что обнаружил через тебя, брат Пётр; а то он у нас иссосал бы всю кровь; ибо с весны торговали вместе и делили по 60 р. в месяц на брата и по 70 р., а последний месяц сентябрь торговали также, а по расчёту оказалось на всех 80 р. А остальные не знаем где. Об этом ничего и не подумали, а думали, что так пришлось плохо. Муки испекли много, а пользы мало“. Это случилось 24 декабря ночью, за день перед Рождеством.
Родимый ты мой батенька! Если ты признаёшь за вину на мне, грешном, что я сыскал хищного брата между братьями, что познал, всё открыл; так прошу тебя, родименького батеньку, прости меня, грешника, ради милости твоей. Любезный братец Увар Феодорович! прими любезное почтение и низкий поклон, также и сестрице Фене от любящего вас вашего брата Петра Воспитанникова. 25 декабря.
Любезный братец Уварушка! Ещё об одном осмеливаюсь тебя спросить, позволительно ли во двадцатом веке верующим в слово истинное Отца нашего и Сына Его Господа нашего Иисуса Христа, Духа Святого принимать телесную пищу, как прежде Израиль принимал, как-то: рыбу, масло и молоко? Так, любезный мой кормилец, не по прошению моему, а по рассуждению твоему. А я пишу об этом потому, что здесь климат суровый и знойный для ветких (?) плотей, так что некоторым плотям невыносимо. А ухищряются. Вот братьев совесть будет мучить каждого, и будет (каждый) томиться, чтобы со стороны брат не призрел. А другому брату придётся узнать, и должен осуждать. И каждый будет осуждать один другого, а себя становить лучшим, и станут один другого удаляться. Так вот, любезный мой старец Увар Феодорович, ещё скажу, что не по прошению моему, а по рассуждению твоему. А я написал в виду братьев и себя, что невыносимо трудившим плотям, да и слыша голос от некоторых дальних стран, уверовавших в слово истинное; но извиняются в пище, что по необходимости, принял. А другой призрит, да не рассудит, а осудит, и передаст другому, и начнётся клевета и смута. Любезный старец! По совету твоему с Ангелом. А если это в нынешнем веке заповедано нельзя, так пиши, но вскоре ответь и по рассудку твоему повсюду братьям; но независимо с моей стороны, а от себя. Остаюсь любезный вас брат ваш Пётр Воспитанников.
в) Увару Ермоленко от Василия Даниленко с Ольховатки.
1901 года, января 22 дня. О, Господи Боже мой, как долго я жду от тебя ответа, братец! Бог Господа моего возвещал Богу моему, что скоро вы в гости к нам будете. Я телеграмму посылал, а письмо ещё в июне месяце написал, а за 10 дней перед вашим отъездом послал, а ответа от вас не получал. Дайте мне ваш адрес. Я вам из копий письмо опять напишу. Если нужно будет, то и в Питер отошлю, и суд третейский совершу, все власти судом третейским побежду. Простите104.
7) От Шипилова к Увару Ермоленко.
Дорогой наш папаша и бесценная мамаша! Уведомляем вас, что посланное вами письмо 24 дня января мы его получили 31-го января. Из сего письма видим ваш благополучный путь. И мы очень рады вашему благополучному приезду и доброму здоровью и радостной вас встрече по проезду царя... Ожидали все державы по израильским... Все апостолы, предтечи выезжали навстречу... Ко пречистому лицу. Дорогой папаша! Я ходил к судебному следователю 24 дня января, то он мне велел 25 января. То я взял ваше прошение, прихожу к нему в 9 часов утра. Тогда он прочёл вслух и начал разговаривать, и где Ермоленко такое учение достал. Спросили меня: „ты знаешь, где Ермоленко взял такое учение?“ Я сказал: „знаю“. Они спросили: „и где?“ Я говорю: „с неба от отца“. Они: „от какого от отца?“ Я говорю: „от Бога, Бог его отец“. Они: „да, он знается с Богом. Да ведь они когда бывают в собрании, то к ним Дух сходит“. Наш следователь: „да тут бумага есть, как их мать Божия показала в полиции, что на неё Дух сходит“. Спрашивают меня: „а ты видал, как Дух Сходит?“ Я – „да, видал, как плоть работает Духом Божиим; но Духа не видал“. Они: „почему же ты не видал?“ Я говорю: „Духа Божия невозможно видать человекам“. Тогда они: „вот интересно посмотреть“. А я говорю: „почему же свой интерес не исполнили, когда, Ермоленко был здесь? Попросили бы его, он бы для вас с полным удовольствием сделал собрание, там бы вы увидали“. Они: „неужели он не побоялся бы?“ Я говорю: „нет, не убоялся бы“. А они: „а здешние хлысты боятся, ставят сторожей“. Прошение губернатору об разрешении выезда к вам я подал 20 января. Он прочитал и сказал: „хорошо, посмотрим; если можно будет по закону, то известим“. А Степан Давидович подал 21, и тому сказал: „хорошо, я сделаю запрос того губернатора, т. е. вашего; только навряд он вас примет, откажет“. Дорогой папаша! Боюсь и не надеюсь на сие прошение. Откажут, потому что будет запрос в полицию; Во-первых, пристава 1-й части, этого злодея, а он направит к священнику, священник опять к приставу, а пристав держит месяца по три. Лишь бы кто не даст ему, то он делает замечание на прошении; но я хотя и дал бы, но пропадёт. А если бы отпустили, не стал бы я одного часа быть, уехал к вам. Я сильно скорблю о том и, дорогой папаша и мамаша и все братцы, и сестрицы, просим ваших святых молитв, помолитесь за нас, грешных, чтобы нас отпустили к вам. Будем ждать и будем надеяться на милость вашу. Письма послал братцу Михаилу Фе. 21 января, а Шлеленковым послал 23 января. Адрес их: Тамбовской губернии, Юго-восточной ж. д., на станцию Терновку, Новогольской волости, сельца Ногорного, столяру Димитрию Ларионовичу Шлеленкову.
А к приставу ходил с вашей доверенностью, подал ему. Он: „а этот, Бог ваш, где он?“ Я говорю: „на небесах и на земле“. Он: „нет, Ермоленко“. Я: „а Ермоленко в Голодной Степи“. Он: „зачем? он не хотел туда ехать“. Я: „куда же ему ехать без документов, когда здесь с документами ограбили и арестовали, а без них и вовсе возьмут“105. Тогда он: „у меня никаких вещей нет, все у следователя“. Я говорю: „у следователя чемодана нет“. Он говорит: „мне полиция чемодана не передавала“. Пристав: „чемодан у меня, только я тебе по этой доверенности не дам, что это вдруг, а не постепенно“. Я говорю: „его же рука росписалась“. Он: „я не знаю его руку; пусть пришлёт доверенность формальную, с удостоверением старосты и старшины“. Я взял сию бумагу и пошёл. Ругается, клянёт... страмят106. Вот вам видно, как с нами начальство обходится. А на почту ходил, хотел взять нумер квитанции, – послана губернатору жалоба, – то поискал – поискал, рассердился, не дал, сказал: „мы необязаны вам искать“. Когда вы уезжали от нас, в эту ночь с Дуней сделалось, кто знает, что. Она Мотьку было убила, хотела в 12 часов ночи идти к нам. На утро вечером пришла к нам и воевала, воевала, хотела дать телеграмму обратить вас; но я насилу упросил её и сказал, что он поехал в Петербург и приедет к нам через месяц. И до сего дня делается с ней страшно и смешно. Они с Мотей находились у Феодора 12 суток. К ним пришёл отец и дал им денег по 50 к. Только он от них вышел, Дуня сейчас у Мотьки отняла деньги 50 коп. и взяла свою сноху, повела в баню в Танкову, заплатила 70 коп. за баню и совсем было закупала сноху. Та кричит: „будет!“ а Дуня кричит на неё: „молчи, а то сожгу“. И всю одежду и платье перемыла и надела всё мокрое на себя и на сноху и повела её по городу. Однажды отец на Мотю сказал: „стоит керосином облить, да зажечь“. Дуня взяла битон с керосином 20 ф. и вылила на Мотю; а зажечь не успела, Феодор пришёл и отбил. Однажды в воскресение заходит в церковь, берет 2 свечки. Подходя к Николаю Угоднику, показывая ему свечку, (говорит „смотри“. Так же и к Матери Божией. И перецеловала все иконы. Берёт просфору и пошла к губернатору. Там её не пустили. Она направилась к начальнику города, к голове, постучала, её пустили. Его жена спросила, что ей нужно. Дуня говорит: „у меня есть евангелие да неполное, а я хочу, чтобы было полное евангелие“. Барыня пошла в зало, принесла ей евангелие такое. Дуня: „а вот такое“. Сейчас на коленки, раскрывает книгу и просит барыню, чтобы барыня написалана 1 листе, что Бог живой на земле, – вера, надежда и любовь, и свою фамилию. Барыня написала. Она попросила барина, и тот подписал107. Спросила 10 кои., ей дали. И пошла по улице мимо полиции, держа раскрытую книгу, и поёт стихи на весь голос: „мы подумаем, друзья, всё про белого царя“. Встречается полициймейстер с приставами, она им начала: „враги вы все и сатаны! Все вы лопнете и провалитесь, и губернатор ваш провалится; только останется один голова. Он поверил, что есть живой Бог на земле, вот он дал мне книгу и сам подписался в ней“. Сама кулаками стучит на полициймейстера, говорит: „я тебе покажу, как людей Божиих тиранить“. Одного часа дома не сидит, всё ходит по всем и ссыльным и говорит: „я страдаю за Увара, я знаю, что он есть Бог и в нём Бог. Я голову дам за него рубить, и я надеюсь на это, что он простит, уже и простил меня и всех верующих в него. А вам, косматым властям священникам, старшинам израильским, всем вам пропадать не миновать за то, что вы не поверили ему и распяли его. Все вы на своих кругах провалитесь. Как будете буцкать (?), так все и загудете“. Вычитает им, да и пойдёт к другим. На станцах (?) выделала чудо, то и писать всё не опишешь. Была свадьба. Только поп начал венчать, она входит в церковь и заскандалила с попом: „не так венчает“. Поп, смотря на неё, испугался. Она засмеялась: „вот, учился всему, а сам не знает, что делает“. Тут её вывели.
Затем папаше и мамаше и всем братьям и сёстрам ото всех нас шлём вам наш сердечный привет и в ног ваших низкий поклон с пожеланием всего хорошего. Известный вам друг и усердный слуга Иван Петрович Шипилов. 1 февраля 1901 года. Пишите чаще, пишите до востребования Ивану Шипилову, а то получают Вечкутов и другие, а мне не дают.
8) Письмо от Моти Григорьевны Шевченко.
Имею честь кланяться, во-первых, дорогому папаше Увару Феодоровичу и мамаше и братцу Мише и всем окружающим вас братцам и сестрицам, шлю вам мой сердечный привет и в ног ваших низкий поклон с пожеланием всего хорошего. Дорогой мой братец Миша! Как я об тебе соскучилась! Хотя и сама в Елизаветполе, но сердце моё и мысли все в тебе; и не знаю, как дождаться того дня, когда мне с тобой вместе быть. Но надеюсь на Бога, что будем вместе. Дела делаются, прошение губернатор передал в полицию. Пристав первой части вызывал Анюту к допросу. Скоро дадут свободу, и выпростаю я свои крылушки, полечу к моему милочке. И где моё сердечко страдает, там моя мысль обитает108. О, дорогой мой братец Миша! Скажу тебе одно, насколько мне трудно; но ожидаю перемены. А ты, братец, не сделай измены, что начал, тем и кончай, а терпением ожидай. Миша! когда мы ушли с тобой к Любаше на последний вечер, то я прихожу к Феодору. Дуня кинулась на меня, говорит: „ты кого послушала? На свою силу надеешься?“ После сего разговора схватила меня и начала трепать, бить, как ей хотелось. Тогда Феодор пришёл, отнял меня и послал меня в прачешную. Я пришла в прачешную, там мне говорят на Дуню: это дружка и светилка, а на меня говорят: это молодка. Батя сказал: „эту молодку стоит фотогеном облить, да и пустить“. Я подумала, как бы правда не сделали. Я ушла из прачешной к Дуне; а Дуня у Феодора была, да Дуня не слыхала, что папа сказал. Прихожу. Дуня, держа битон с керосином, облила меня с головы до ног. Я от чего бежала, к тому попала. Но Дуня будто невзначай, а после Дуня меня жалеет, и целует, и говорит: „это я тебя жалею, а не бью“. А папа на утро говорит: „ты когда заходишь и выходишь, чтобы мы тебя видели, а то женщины на тебя думают, что ты берёшь бельё“. То теперь просят, чтобы я прекратила это прошение. Я им говорю: „я прекращу, только дайте мне паспорт и метрики“. Они не хотят. От сего письма остаюсь жива и здорова известная вам Матрёна.
9). От И. Шипилова к Увару Ермоленко.
Дорогой папаша! Уведомляю вас, что послано нами прошение губернатору 20-го января, а 3-го февраля призывали в полицию и объявили на наше прошение отказ. Губернатор их не посылал никуда, а сделал дознание в полицию о нашем поведении, то полициймейстер все ему, губернатору, рассказал об нас, какие мы развратители. То теперь весь город поднялся на нас, поэтому и губернатор объявил нам через полицию: „не нахожу нужным“, и всем четверым отказал. То теперь просим вашего совета, что нам делать. Не хочется в этой пропасти быть, то просим, пишите скорее ответ, и как быть? Писать ли куда нам, ожидать ли. Если хотите, напишем и подадим через него. Всё равно, не пропустят. Если можно как иначе, то пишите нам. Я послал вам большое письмо с двумя марками. Послано 2 февраля. По получении пишите и упоминайте, (что) такое-то письмо, такого-то дня посланное, получил тогда-то, чтобы я знал, все ли вы мои письма получаете. Шлю вам мой сердечный привет и в ног ваших низкий поклон. Известный вам Иван Шипилов. 4 февраля 1901 года,
А Дуня Шевченко 2 числа февраля вечером пошла к вечерне, взяла 3 свечи. Только поставила, священник выходит из алтаря. Она поднимает руку кверху и грозит, а сама громко говорит: „у меня служить, так служи верно; а то тогда вон, найдутся такие служители верные“109. Побыла у вечерни и ночью в 2 часа уехала в Тифлис к Голицыну и к Экзарху Грузинскому. Сказала: поеду там проповедовать.
Сообщил свящ. Михаил Тифлов
Из миссионерской полемики
Боголюбов Д. Беседа с штундо-баптистами о необходимости принадлежать для спасения к истинной Христовой Церкви // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 657–664
I.
Сектанты разных названий совсем развратили жителей села Въезжего. Теперь здесь трудно найти в людях истинную веру, любовь к православным обрядам и порядкам жизни. У многих заметны сомнение, холодность, недоверие к пастырям Церкви.
Село Въезжее, несмотря на свою захолустность, стало походить на древние Афины. Как там граждане „охотнее... всего... проводили время в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое“ (Деян.17:21), так и во Въезжем: мужики по целым вечерам сбегаются, чтобы слушать новых проповедников...
И каких только вер не развелось во Въезжем! Есть здесь молокане, хлысты, штундисты. Теперь заводится ещё какая-то новая вера. Вследствие таких религиозных разномыслий, жители села Въезжего стали равнодушны ко всяким верам. Для них „ничего себе“ православие; заманчива штунда; „есть кое-что хорошего“ в хлыстовстве. А в сущности, все эти веры „ни к чему“. Делай добро – и спасёшься во всякой религии... Так рассуждают крестьяне во Въезжем.
Нам необходимо было образумить их и заставить пристальней всмотреться в свою совесть. Для этой цели мы решили, между прочим, устроить беседу.
Созвали православных и сектантов в храм. Я поставил на очередь самый жизненный вопрос: что нужно христианам прежде всего для того, чтобы спастись?
Все стояли в молчании. Ни одна секта не хотела выдвигаться с ответом. Я пригласил штундистов побеседовать со мной. Выступил их начетчик Анфим. По ремеслу он был печник. Много бродил по России, – „видал виды“, как говорили про него мужики. Анфим по наружности принадлежал к штунде, но в душе сомневался в этой секте; Он не знал, куда преклонить ему свою голову...
Я повторил вопрос.
Анфим, улыбаясь, сказал:
– Что нужно для того, чтобы спастись?! Веровать надо во Христа. Так Господь объявил женщине: „вера твоя спасла тебя; иди с миром“ (Лк.7:50).
Я возразил:
– Разумеется; „без веры угодить Богу невозможно“ (Евр.11:6). Но ведь Иаков апостол написал: „вера без дел мертва“ (Иак.2:26). И в другом месте: „бесы веруют и трепещут“ (Иак.2:19). Значит, одной веры во Христа для спасения недостаточно. Надо ещё дела по вере проявлять, как говорит ап. Иаков: „человек оправдывается делами, а не верою только“ (Иак.2:24).
Итак, какие же дела надо проявлять прежде всего для того, чтобы угодить Богу?
Анфим без смущения ответил:
– Эти· дела перечислены апостолами в кн. Деяний. Там написано: надо „воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите“ (Деян.15:29). Вот, какой христианин ведёт себя по приказу апостолов, тот и спасётся...
Я сказал:
– В прочитанном месте указан, без сомнения, лишь общий путь, который надобно пройти людям для спасения. Я выражусь ещё сильнее; в тех словах из кн. Деяний, какие ты, Анфим, прочёл, не указано, а лишь предполагается самое главное дело, без которого людям нельзя спастись...
– Какое же это дело? – возбуждённо спросил Анфим. Вы уж апостолов поправлять зачали...
Я заметил:
– Нет, Анфим, не поправляем мы апостолов, а стараемся лишь правильно изъяснить их речи. Для этого мы не берём отрывками слов их, а сносим учение апостольское о спасении по разным местам Библии. Таким родом мы добываем полный ответ на занимающий нас вопрос.
– Ну, так рассказывайте, что же нужно христианам для спасения прежде всего? – спросил Анфим.
Я сказал:
– В ответ на твой вопрос я попрошу тебя прочесть 10 гл. кн. Деяний. Там идёт повествование о Корнилии сотнике. Говорится, что Корнилий язычник был муж „благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу“ (Деян.10:2). Вот смотри: Корнилий делал перед Господом даже больше того, что требовали апостолы от христиан в своём соборном послании (Деян.15:29). Однако за одни свои житейские добрые дела Корнилий не спасся. Ему ангел велел позвать ещё Симона Петра, – велел послушать проповедь этого апостола и по ней спасаться (Деян.10:6).
Что же сделал ап. Пётр для спасения Корнилия и его родичей? Он „велел им креститься во имя Иисуса Христа“ (Деян.10:48). Значит, для начала нашего спасения мало одних житейских добрых дел, как показывает жизнь Корнилия.
Недостаточно для того и одной веры во Христа. Такую веру, такое правое исповедание, как свидетельствует кн. Деяний (Деян.8:7), имел евнух. Но он не спасся до тех пор, пока, по вере, не сошёл в воду для крещения, вместе с диаконом Филиппом (Деян.8:38). Только после крещения он получил Духа Святого (Деян.8:39).
Таким образом, для того, чтобы положить начало нашему спасению, необходимо креститься во имя Иисуса Христа (Деян.2:38). Крещение же нужно нам для того, чтобы через погружение в воду войти в царство Божие (Ин.3:5), стать членом Церкви Христовой (Мк.16:16).
Итак, вот краткий ответ на твой вопрос, Анфим: для начала нашего спасения взрослым людям нужно верить в Господа Иисуса Христа и принадлежать к Его святой Церкви через крещение. Без Церкви Божией не спасёшься. Поэтому сказано в Евангелии: „если кто Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь“ (Мф.18:17).
– Да мало ли церквей развелось на свете? – возразил Анфим. У нас на селе и то четыре церкви. Подикось, докажи каждому, что он в заблуждении!.. Думается мне, для спасения достаточно одной хорошей жизни, как сказал ап. Пётр: „истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему“ (Деян.10:34,35).
Я ответил:
– Разберу пока последнюю часть твоего ответа, друг Анфим! Ты говоришь: в каждом народе хорошо живущие приятны Богу. Это верно. Бог посылает милость Свою всем людям – праведным и грешным, особенно праведным (Деян.14:17). Бог не оставляет без Своего попечения и язычников. Но не значит это, что для Бога все равны по вероисповеданию: язычники-ли, христиане, или магометане. Не значит потому, что Бог тогда, не посылал бы апостолов по всему миру проповедовать Евангелие (Мк.16:15). Если бы даже, при оценке нашей, Господь не взирал на дела наши, – зачем Он даровал людям законы Свои? Для чего в Евангелии праведников Он ублажает, а грешникам грозит огнём вечным (Мф.25:34–43)?
Ясно, что Бог различает людей по делам их. Но, как царь земной благоволит всем своим подданным: калмыкам, киргизам, мордве, чувашам, татарам, русским, так и Царь небесный милостью Своей снисходит ко всем людям. Однако добродетельному язычнику Корнилию Он велит через крещение войти в Церковь Христову. Значит, Господь различает людей по вере их. Всем Он велит быть христианами (Мк.16:16)...
Итак, в 10 гл. 34–35 ст. кн. Деян. ап. Пётр свидетельствует лишь о том, что Бог милостью Своею и любовью не оставляет язычников. И им Он посылает благодать Свою; но не значит, что для Бога все веры равны и во всякой из них спастись можно: не спасся же Корннлий в язычестве!.. (Ср. Деян.10:6).
– А как же, – сказал Анфим, – в Евангелии Матфея Господь говорит: „где двое или трое собраны во Имя Моё, там Я посреди них“ (Мф.18:20)? Если Господь принимает даже двоих, собравшихся во Имя Его, – значит, эти люди могут спастись. Значит, и вам не для чего затаскивать всех в православную веру...
Я ответил:
– Ты, Анфим, не хорошо обращаешься с словом Божиим. Почему ты читаешь нужные нам стихи евангельские не к ряду, а выбираешь из них, что тебе нравится? Вот ты из 18 гл. Матфея пропустил ст. 17. В этом стихе между тем находим полное разъяснение твоего недоумения. Представь, где-нибудь, в избе собрались не трое, а три тысячи отлучённых от Церкви христиан. Будет Господь посреди них? Нет. Сам Спаситель сказал: „не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдёт в царство небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного“. И в другом месте: „кто Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь“ (Мф.18:17).
Таким образом ясно: если во Имя Христово соберутся отлучённые от Церкви люди, сколько бы их ни было, если они будут даже усердно молиться, а не покаются в своих заблуждениях, Господь не услышит их и не спасёт (Мф.18:18; Тит.3:10). Христианам нужно не только устами исповедовать веру во Христа, не только стараться наружно пребывать в добрых делах, но ещё слушаться воли Отца Небесного. А эта воля Божия требует, чтобы мы пребывали в единстве веры, в одной Христовой Церкви, как её послушные дети (Ин.17:11; Рим.15:6; 1Пет.3:8) ...
II.
На некоторое время мы прервали беседу. Запели „Хвалите имя Господне“... Люди освежились. И я спросил сектантов:
– Согласны ли вы, что на свете должна быть одна спасающая Церковь Христова?
Произошло молчание. Из толпы сектантов слышалось лишь недоумение:
– Кто её знает, какая она истинная Церковь! Церквей на свете много...
Анфим, наконец, произнёс:
– Послушаем наперёд, что вы скажете. Потом мы заявим своё мнение...
Я заговорил:
– Спасающая Церковь на земле – одна истинная Христова Церковь. Так учит нас слово Божие. В Евангелии Марка Христос сказала ученикам Своим: „кто не будет веровать, осужден будет“ (Мк.16:16). Апостол Павел написал: „без веры угодить Богу невозможно“ (Евр.11:6). Итак, для спасения нужна прежде всего правая вера во Христа. Сколько же таких вер находим мы, по учению слова Божия?
Всего одну веру. Ап. Павел говорит: „один Господь, одна вера“... (Еф.4:5). В самом деле, если Господь один, то мог ли Он давать о Себе несколько противоположных учений, которые содержатся в разных верах? Это немыслимо. Единый Господь даровал людям одну истинную религию или веру. Прежде такой верой было иудейство· (Рим.9:4). С пришествием Христа, его заменило христианство (Гал.3:24–26). И вот о христианской вере ап. Павел засвидетельствовал, что она – истинная одна на земле (Еф.4:5). Значит, так называемые, многие христианские верования не принадлежат Христу, а выдуманы людьми, по заблуждениям или ради корысти.
Сколько же истинных Церквей на земле?
Церковь Христова истинная – тоже одна. Это с несомненностью следует из учения ап. Павла. Св. Павел уподобляет Церковь телу Христову. Как тело человеческое состоит из многих членов, а в соединении эти члены образуют одно тело, так и Церковь (1Кор.12:12,13) ... Сколько бы ни было в ней верующих христиан, к какому бы племени они ни принадлежали, Церковь Христова. вселенская – одна. Почему? Потому что „все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом“ (1Кор.12:13). Поэтому, если мы видим христиан, отпавших от вселенской Христовой Церкви и мечтающих о себе, что они тоже составляют Церковь, – это обман. Таким самообманывающимся людям мы должны сказать словами ап. Павла: не может глаз сказать руке: ты мне не надобна; или также голова ногам: вы мне не нужны“ (1Кор.12:21). Жизнь нас учит, что если ногу или руку оторвать от тела и положить отдельно, то они сгниют. Погибнет и всякий христианин без тела Христова – Церкви. Об этом Господь сказал: „кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего“ (Ин.15:5).
Итак, без Христа, Который пребывает в Своей истинной Церкви, нет надежды на спасение...
Анфим стоял в глубоком раздумье и соображал. Потом он с волнением в голосе спросил:
– Что же, неужто все язычники погибнут за то, что они не христиане? Жестокое ваше учение!..
Я ответил:
– Премудрый Сирах учит нас: „прежде, нежели исследуешь, не порицай: узнай прежде – и тогда упрекай“ (Сир.11:7). Ты, Анфим, ещё не выслушал учения православной Церкви и уже „порицаешь“ нас. Это нехорошо. Святая Церковь наставляет нас, в согласии с апостолом, что язычники, не слыхавшие проповеди о Христе, в случае доброй кончины, спасутся по закону своей совести. Об этом в посл. к Римлянам мы читаем: „когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чём свидетельствует совесть и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую“ (Рим.2:14,15).
Итак, вот каким образом думаем мы о язычниках. Этого нельзя сказать про христиан, не верующих учению нашего Господа. Те непременно погибнут за своё неверие (Мк.16:16) ...
– Учению Господа мы веруем, – сказал Анфим.
Я возразил:
– „Не всякий, говорящий; Господи! Господи! войдёт в царство Небесное“... (Мф.7:21). Необходимо для спасения не говорить только о Христе, но принадлежать к Телу Его или Церкви. Вне этой Церкви люди, как без корабля во дни всемирного потопа: они гибнут в пучине грехов и страстей (1Пет.3:20,21). Тонете и вы, сектанты, за своё упорное неверие в Церковь Христову!..
– В Церковь Христову мы веруем и к ней принадлежим, – сказал Анфим.
Я переспросил сектантов:
– Таким образом вы признаёте, что без истинной Церкви Христовой спастись нельзя?
Они, после небольшого раздумья, ответили:
– Да, для спасения надобно принадлежать к истинной Церкви Христовой.
Я сказал:
– Значит, весь ваш прежний разговор был одним недоразумением. Слава Богу, что вы приблизились к истине! А теперь я лишь кратко попрошу вас указать, что вы, действительно, пребываете в ограде Церкви Христовой...
– Каким родом это можно показать? – спросил Анфим.
– А вот каким, – ответил я. Покажите, что ваше общество устроено по-апостольски? Покажите, кто, как и когда поставил вам для руководства духовными делами епископов, пресвитеров и диаконов? От какого апостола получила начало ваша Церковь?..
– Мы того не знаем. Мы – народ тёмный! заметил Анфим.
Я сказал:
– Не знаете... Да вам и знать-то нечего!.. Что можно было, хоть стороной, привести против православной Церкви, вы то нашли, а вот о епископах своих ничего не знаете... Как будто жизнь вашей общины за углом происходила (Деян.26:26)! Погибаете вы в своём сектантстве. Обратитесь к Господу и полюбите Его Тело – св. православную Церковь!..
Д. Боголюбов
Шалкинский С. Беседа о причинах отделения раскольников старообрядцев от православной Церкви 110 // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 665–681
Усов. Я сидел молча, слушал с терпением клеветы на меня о. миссионера и пришёл к убеждению, что он мастер „перекорёживать“ чужие слова. Я говорил только, что волкохищное лучше, правильнее горохищного, а о. миссионер уверяет уже, что я в этом слове вижу какую-то ересь; ереси тут никакой нет, а есть только неточность в выражении. Говорит о. миссионер, что я не ответил ему на вопрос, по какой причине мы отделились в 1653 году? Какие ереси в этом году были введены? Скажем, что ересей не было ещё, но были попытки к отменению обрядов, издревле употреблявшихся в св. Церкви. А это уже достаточная причина к признанию никониан еретиками. В книге Феатрон (лето 208, л. 406) есть сказание о еретиках вегилантианах, ересь которых заключалась только в том, что они „обряды некия в Церкви яве приятые отвергоша“. Видите, и за отменение обрядов должно признавать еретиками. Так поступили и мы. Но мы, ещё раз повторяю, от св. Церкви не отделялись, а отделились от епископов. Указывает о. миссионер на слова Василия Великого: „страшно есть из-за обрядов ратоватися“. Но ведь обряд и догмат всё равно, одно и то же111. Не откажется о. миссионер, конечно, что крещение и прочие таинства суть догматы веры. Но ведь эти же таинства, или догматы, и их Церковь называет обрядами. Так в книжке „Оправдание поливательного крещения“ (на л. 17, 21, 24 и 31), священнодействия, употребляемые при крещении, называются обрядами крещения, а в Богословии Платона прямо сказано таинства, или священные обряды“ (§ 30, 2 ч. по изд. 1880 года); а в 1653 году и были попытки к отмене обрядов. Вот вам и причина отделения нашего от ваших епископов. Да и кто из благоразумных христиан мог бы оставаться в общении с ними? Кому он должен был последовать? Никону? Боже сохрани, и самого моего злого врага быть, последователем этого нечестивца! Его не только мы, но и собор ваш обвинил, приравнял к антихристу. Вот как собор перечисляет его вины: а) „Никон оскорбил всех восточных патриархов... и, кроме патриархов александрийского и антиохийского, не признавал законными патриархами; б) Никон переменил обычай прежних патриархов московских: вместо скрижалей синих стал носить червлёные; перестал поминать в церкви вселенского патриарха; переоблачался во время священно-действия и, имея восемьдесят саккосов, за одной обедней переменял их до двадцати, чтобы казаться подобным Вышнему; назвал некоторых отроков, прислуживающих ему при богослужении, херувимами и серафимами; в алтаре чесался перед зеркалом. и обратил алтарь в преторию, в которой снимал цепи с закованных им иеродиаконов; в) отменил песни троичные, сложенные патр. Митрофаном и обыкновенно воспеваемые каждое воскресенье, и запретил совершать торжественное освящение воды на самый праздник Крещения Господня; г) во второй раз был рукоположен в архиерейский сан, когда вступал на патриаршество; а двух архиереев, отставленных от должности, вновь рукоположил, вопреки 68 канону апостольскому; д) архиереев, им рукоположенных, не удостаивал именовать своими братьями; собор их называл синагогой, уподоблял православных архиереев Анне и Каиафе, судьям христоубийцам; е) приравнивал себя святым, нося на голове своей корону, или диадему, в которой обыкновенно изображаются святые, как торжествующие на небеси, и величал себя великим государем, что вовсе неприлично духовному лицу; ж) был крайне любостяжателен и, замкнувшись, любил считать свои деньги и драгоценные сибирские меха; з) расточал доход патриаршей кафедры, желая именоваться создателем новых монастырей, и для этого же отнимал у соседей сёла и поля; и) предоставил весь свой церковный суд светским людям, своим боярам, обыкновенно продающими правосудие; i) ни с кем из архиереев и ни в чём не совещался; к) наконец, словно самоубийца, сам себя разоблачил во время своего отречения от кафедры (Истор. Макар. XII т. стр. 687–89). Как же мы такому злому врагу Божию, уподоблявшему себя Богу, можем последовать! Да он не только изменил вере в Бога, ниспроверг все святое в Церкви Христовой, он был изменником и русскому Царю. Ему только и могут последовать враги нашего Царя, а старообрядцы такими никогда не были и не будут. Никто не может упрекнуть их в этом: все знают, что цареубийца и покойного Государя Александра Николаевича, был не старообрядец, а последователь Никона. (В народе начался сильный ропот негодования). Не волнуйтесь: я докажу, что этот низкий и грязный ваш патриарх Никон был изменник Царя, продавал Русь врагам её полякам, что он хотел быть папой, что он принял католичество. В книге Верха „Царствование царя Алексея Михайловича“ написано: „Никон просил царя Алексея Михайловича объявить его папой, и что будто бы у него и папские регалии уже готовы были. Но когда царю объяснили желание его и доказали, что ему нельзя уже будет жить в Москве вместе с папой, то дело сие и умерло“. Кульчинский же доказывает, что Никон передался впоследствии католической Церкви. Когда в 1663 году отправлен был боярин Одоевский к Никону в Воскресенский монастырь, то ему приказано было разыскать, сколько проживает у него иноземцев. Из донесения князя Одоевского видно, что их было очень много. Какую цель имел Никон держать людей сих, неизвестно; вероятно сносился он посредством них с лицами, вне России обитавшими... Против Никона есть ещё обвинение: с начала введения в России христианской веры, строили все церкви об одной главе, подразумевая под одной, что Христос есть единственная Глава храмов наших. Патриарх Никон приказал переломать все верхи оных и сделать вместо одной главы пять, объясняя, что средняя знаменует Спасителя, а остальные – четырёх Евангелистов. Но многие приписывали поступку сему другое знаменование: в средней главе изобразил Никон себя, а в остальных четырёх – греческих патриархов. Видев так много опытов неограниченной Никоновой гордости можно сему охотно поверить. Страненберг говорит о Никоне, что он имел неограниченное высокомерие и был весьма честолюбив. Хотя духовный сей и не был учён, но читал очень много и приказал перевести разные духовные книги с греческого и латинского языков; он умножил значительно церковные доходы. „Он переменил каноны и обряды, ссылаясь, что первые были худо переведены с латинского языка. Никон был так неумеренно горд, что требовал стула в боярском совете и хотел непременно иметь влияние на все гражданские и военные дела. Он говаривал: „поскольку я должен отвечать перед Богом за царёву душу и души подданных его, то мне приличнее всех разделить с ним бремя государственных дел“. Впоследствии оказалось, что значительные денежные суммы, полученные им от Польского короля, были истинными причинами его желания иметь влияние на дипломатические дела (стр. 224–227). Так вот кто был Никон. Как же мы ему, изменнику благочестия и русского царя, будем последовать? О. миссионер скажет, что должно последовать не Никону, а прочим епископам, осудившим Никона. Но каковы же были те епископы? Сам Никон, как мы читали уже из „Истории Макария“, обвинял всех патриархов восточных, некоторых епископов называл Анной и Каиафой, христоубийцами. В 1662 году, в неделю православия, Никон совершал литургию в своём Воскресенском монастыре, и во время обряда православия торжественно проклял, или анафематствовал стоявшего тогда во главе русской иерархии Крутицкого митрополита Питирима – проклял за три будто бы вины: за действо ваия (шествие на осляти), за поставление Мефодия, епископа Мстиславского, и за досадительное и поносительное себе слово (Макар. XII, стр. 376). В другое время Никон называл целый собор не иначе, как синагогой иудейской, а действия его антиканоническими. „Впоследствии Никон выражался даже, что собор этот должно называть не только сонмищем иудейским, но и бесовским“ (стр. 365). Кому же мы теперь должны верить: Никону или собору? Если поверить царскому изменнику Никону, то будем врагами своего отечества. Если собору, то страшно верить проклятому собору, следовать за бесовским сонмищем. Мы предпочли лучше следовать не Никону и не бесовскому сонмищу, а св. отцам. И сожалеем только о вас, что вы до сих пор остаётесь послушными учениками этого дьявольского собора. А ещё придираются к нам, спрашивают, что заставило нас отделиться от таких архиереев. Нас нечего истязать: мы идём по старине, за св. отцами, а вы-то сами подумайте, за кем вы идёте. Спасётся только тот, кто идёт во след Господа и святых Его, а кто идёт за бесовским сборищем, как идёте вы, тот и прейдёт в жилище нечистых духов. И вы все идёте туда. Пусть нас такие соборы клянут, пусть отлучают, мы смеёмся над их клятвой, клятва, бесовского собора – похвала для нас. Бесы клянут и ненавидят только своих врагов и благословляют своих учеников. Так и оставайтесь вы с их благословением, а мы не хотим.
Всё это Усов выкрикивал, крайне волнуясь. Старообрядцы с неудовольствием смотрели на него и как бы упрашивали быть сдержаннее. Народ зашумел, выражая желание выгнать Усова из храма.
Миссионер. Потише, братия! Не волнуйтесь и не возмущайтесь дерзостями Усова, а лучше помолитесь Господу, чтобы Он вселил в сердце его страх Свой, чтобы просветил, его мысленные очи, ослеплённые заблуждением и ненавистью ко св. Церкви, чтобы даровал ему дух смиренномудрия и любовь к познанию истины, отсутствием которой, он сильно немощствует.
Все вы неоднократно в течении этих бесед замечали, что он уклонялся от прямых ответов на мои вопросы, старался обойти их или молчанием, или ответами, совершенно не относящимися к вопросу. Не доказал он на первой беседе, что их незаконное общество имеет признаки истинной Церкви Христовой, не оправдал он и свою незаконную безблагодатную иерархию. Что же ему оставалось делать? Конечно, человек, заботящийся о спасении души, своей, должен был бы сознаться в своём заблуждении, раскаяться перед св. Церковью, но к сожалению искра, страха Божия мало возгрета в душе Усова. Он, подобно часто бывшему на судах за преступления, привык смотреть на них, как на явление обычное для него, составляющее, так сказать, круг его жизнедеятельности, а потому, чтобы сознаться в них, нужно переменить самого себя, свою жизнь, а это очень трудно: привычка – вторая природа. Такой преступник, застаревший в злодеяниях, никогда, или очень редко, сознаёт себя виновным: он или будет изыскивать извиняющие будто бы его обстоятельства, или клеветать на своих обвинителей; средства он не разбирает: его задача одна – оправдать себя, или если это невозможно, обвинить других. Таков в духовном отношении и Усов. Не оправдав себя на двух предшествующих беседах, он задался теперь целью обвинить нашу св. Церковь. И чем же обвиняет? К каким приёмам прибегает? Он ставит в свидетели за себя и „Приазовский Край“, призывает сюда и волхва Замврия, измышляет на св. Церковь клеветы в мнимом еретичестве, не соображая, что этим обвинением он причисляет к разряду еретиков и святых угодников Божиих, и истинно православных епископов, как Гедеона Балабана, и всю древнюю восточную и русскую Церковь; он возводит на св. Церковь такие клеветы, от слышания которых становится страшно за участь в будущей жизни этого несчастного защитника неправды. Светские адвокаты, защищающие своих клиентов и преступников, и то не доходят до такой дерзости. Что такое последняя возбуждённая речь Усова, как не ряд явных противоречий самому себе и исторической действительности событий, искажения фактов и даже слов, приводимых им авторов. Здесь противоречия густо сплетаются с намеренными искажениями, извращение действительности сцепляется с неправдой, злоба против св. Церкви выдаёт душевную тревогу и сознание Усова, что путём мирного обмена мыслей, путём беспристрастного исследования истины, защитить раскол нельзя, а волнение и крик Усова обличает в нём не проповедника истины, которому „не подобает сваритися, но быти кротку и благоговейну“, а любителя споров, от каковых следует удаляться.
Вы помните, что Усов выражение догматика 4 гласа: „горохищное овча обрет“ называл страшной ересью, послужившей причиной их отделения от св. Церкви; теперь тот же Усов отказывается уже от своих слов, утверждает, что не считает это выражение ересью. Когда же он говорил правду: раньше, или теперь? Но хорошо уже и то, что сознаётся в своей неправде и обличает своё противоречие. Проследим за дальнейшей его речью. Он сознаётся, что в то время, когда раскольники отделились от св. Церкви, она ересей не вводила. Кто же научил их отделяться от такой Церкви, которая не была еретической, а православной: ведь само собой понятно, что где нет ересей, там истинное православие; а кто отделяется от православной Церкви, тот учиняет такой грех, который и мученническая кровь не может очистить. Своим отделением раскольники учинили именно такой грех и до сих пор погрязают в этом грехе, привлекая на себя гнев Божий. „Всякий, отделяющийся от общения с Церковью, хотя бы жизнь его была достойна похвалы, за то одно беззаконие, что отторгся от единения со Христом, не может иметь жизни, но гнев Божий пребывает на нём“, говорит бл. Августин (послан. 252). Говорит Усов, что тогда были попытки к отменению обрядов, издревле употреблявшихся. Но и эта причина недостаточная для отделения. Ни один св. отец не учил, что за перемену обрядов следует отделяться, а напротив укоряют таких, говорят, что „стыдно из-за обрядов спорить“, а тем более стыдно и пагубно отделяться. История Церкви указывает нам много фактов не только Исправления обрядов, но даже и отменения соборных правил и постановлений, показывает также, что никто из благочестивых христиан за эти отменения не отделялся от единения церковного; тем более не должны были это делать наши русские раскольники, так как были попытки тогда не к отменению обрядов, а только к восстановлению более древних. Поэтому и указанный Усовым пример, что вегилантиане (?) признаны за еретиков за то только, что „обряды некие в Церкви яве принятые отвергоша“, здесь неуместен: наша св. Церковь никаких обрядов не отвергала, а только восстановила древние. Пример этот может служить обличением против еретиков-штундистов и подобных им, которые действительно отвергают обряды, т. е. совершенно не признают их нужными, а православная Церковь так не учит. Разница в учении св. Церкви и раскольников об этом предмете только в том и заключается, что раскольники обряд отождествляют с догматом, считают его неизменным, тогда как православная Церковь считает неприкосновенными, неизменяемыми только догматы веры, т. е. учение веры о Боге, и предметах необходимых для нашего спасения, учение открытое Самим Богом, принятое св. Церковью, утверждённое на св. вселенских соборах, а обряды, или внешние знаки выражения того или другого догмата, таковыми не считает. Усов старается доказать, что и некоторые из архипастырей нашей православной Церкви называют таинства обрядами. Но ненужно забывать, что каждое из церковных таинств имеет две стороны – невидимую и видимую, догматическую и обрядовую. Возьмём для примера таинство св. крещения. Невидимая сторона этого таинства – благодатное возрождение крещаемого в жизнь новую, христианскую, очищение его от всякого греха, освящение и оправдание и проч. Видимая же сторона, или сторона обрядовая – все молитвословия и соединённые с ними священнодействия. В старопечатных книгах мы видим в отправлении этих молитвословий и обрядов много несогласий. Есть такие требники, в которых не указано чтение апостола, пение прокимена „ризу ми подаждь светлу“, надевание креста и проч. В одних говорится, что при отрицании от сатаны должна держать руки горе, а при сочетании Христу – доле, в других наоборот. Следовательно, и древняя Церковь допускала возможность изменения обрядов крещения, несмотря на то, что эти обряды крещения в общей совокупности и есть совершение самого таинства крещения, но не само таинство. В этом смысле говорят и приведённые Усовым слова наших архипастырей, которые никогда не считали таинства простыми обрядами, это – клевета на них Усова. Но дальнейшая клевета Усова на патр. Никона превосходит границы даже приличия. Вы слышали, что Усов читал из XII т. Истории Макария разные обвинения против Никона, высказанные будто бы от лица собора епископов. Человек, не читавший Истории, пожалуй-бы, и поверил Усову, что это правда. Но мы спросим Усова: всю ли эту книгу читал он, или только эти клеветнические слова? Если не всю, то для исследования истины советуем ему всю прочесть, если же он прочитал уже всю, то как он мог не понять, что прочитанные им слова книги принадлежат не собору епископов, а частному лицу – Паисию Лигариду, что этому Паисию доверять нельзя. Меня особенно поражает наглость современных защитников раскола. И сей Усов читает из истории в обвинение патр. Никона то, в чём последний не был виноват. Вот смотрите: страница 687 XII т. Истории. Усов начинает чтение с 17 строки этой страницы словами: а) „Никон оскорбил“ и дал. А почему он не начал чтение двумя строками выше? Или он не знал, что они объясняют всё дело, или же сделал этот пропуск умышленно? Да, умышленно, с целью ввести слушателей в заблуждение и вероятно в надежде, что и я не обличу его. Слушайте же, что сказано в этих строках: Паисий (заметьте – Паисий, а не собор) сохранил саму просьбу, которая подана была тогда патриархом и составлена, несомненно, им самим. Здесь он обвинял Никона и в том, в чём последний вовсе не был виноват, или чего нельзя назвать виной, и говорил: а) Никон оскорбил и т. д. Видите к каким лукавым приёмам защиты прибегают самые „знаменитые“ начетчики и защитники раскольнические! Они не считают для себя стыдом прибегать к публичному обману, лишь бы только защитить себя и обвинить нас. Слова Паисия выдаёт за постановления собора; История говорит, что эти обвинения на Никона возводились напрасно, а Усов утверждает вместе с Паисием, что во всём этом Никон виноват. И главное, что возмутительно, ссылается на митрополита Макария, который будто бы согласен с этими обвинениями. Но Макарий, как вы уже слышали в начале перечисления Паисиевых обвинений заявил, что патр. Никон несправедливо обвиняется во многом, и, по перечислении прочитанных Усовым обвинений, тут же говорит: „если Паисий не постыдился возводить на Никона некоторые ложные обвинения даже на бумаге, то легко понять, чего он не мог наговорить про Никона в словесных собеседованиях“. Если Усов не постыдился так нагло здесь на публичной беседе обманывать и миссионера и народ; обвиняя Никона в том, в чём он совершенно не виноват, то легко представить, что он говорит про него, как он клевещет на св. Церковь, разъезжая почти по всей России и посещая большей частью такие сёла и деревни, где нет ни священников, ни тем паче миссионеров. Если здесь, при опасении быть обличённым, он не стыдился лгать, то там, на просторе, чего-то чего только он не наскажет простому мужичку, каких плевел не посеет он на ниве Христовой. Поучайтесь, братия, православные христиане, как опасно доверять словам самозваных ложных учителей, которые не стесняются так открыто обманывать вас; остерегайтесь же их и не слушайте. Оклеветав патриарха Никона в том, в чём последний, как свидетельствует митр. Макарий, не был виноват, Усов возводит ещё и новые клеветы на этого великого святителя, будто бы он был изменником русскому Царю, продавал свою родину полякам, что принял католичество и пр. Но обвиняя патр. Никона, Усов в то же время обвиняет и всех нас, называя врагами своего Государя. Какая необдуманная и непростительная дерзость!
Считая православную Церковь последовательницей Никона патр., или Церковью никонианской, Усов заявляет, что она враг русского Царя, забывая, что и сам Царь сын этой Церкви и её земной покровитель. Какая нелепость! Напрасно Усов хвалится и тем, что раскольники будто бы никогда не были изменниками Царю и отечеству. В книге „Раскол, обличаемый своей историей“, мы читаем, что „раскол дал горькие плоды, ознаменовавшиеся мятежами и кровопролитием, потому что дух сопротивления законной церковной власти необходимо отзывался непокорностью власти гражданской, как проистекающих от единого начала, а в некоторых людях дух мятежа против власти государственной. Многовековый опыт засвидетельствовал, как ошибочно мнение, что можно быть вместе верным сыном отечества и неверным сыном Церкви (стр. 79–80 по пред. С.П.Б., 1854 г.). Все знают историю Соловецкого бунта, знают, что мнимые защитники старины, отказавшись молиться за Царя, как еретика, отказались и от повиновения ему, и первые стали стрелять из пушек в царское войско. Это было на первых порах отделения раскольников, но дух, враждебный православному правительству, оставался в расколе всегда. Припомните историю раскола на Дону (исследование Дружинина); и здесь партия, враждебная Церкви, не подчинялась Государю, сносилась с крымскими ханами, просила у них помощи в борьбе с русским Государем, а часть раскольников даже не захотела быть в подданстве русского Государя и перешла в Турцию, считая турецкого султана лучше своего православного Царя. А 1812 год! Когда все москвичи оставили город, пылавший в пламени, когда ни один православный человек не хотел не только встречать, но и смотреть на Наполеона, кто встретил его с хлебом-солью, кто просил у него охраны монастыря? Раскольники, жившие в Преображенском ските. И теперь? Кто издаёт за границей газету „Слово правды“, исполненную клеветой на православную Церковь и русское Правительство? Раскольник Мельников, при участии сего Усова. И после этого осмеливается ещё Усов хвалиться своей верноподданностью и клеветать на православных. Поражаешься наглостью современных защитников раскола, впутывающих в религиозные собеседования даже вопросы политические. Усов обвиняет патр. Никона, что он был изменником русскому Царю. На чём же основано это обвинение! На предположении иностранца Страненберга, который при этом не говорит, что Никон был изменник государству, а только что он получал от польского короля денежные суммы; да и это последнее, т. е. что Никон получал от короля деньги, Страненберг ничем не доказывает. Страненберг писал свои заметки о патр. Никоне не на основании официальных документов, а на основании частных слухов, а эти частные слухи о патр. Никоне, распускаемые его врагами, всегда были слишком далеки от истины. Гиббенет, составивший по официальным документам обширное „Историческое исследование дела патриарха Никона“ в предисловии говорит: „исторические сведения о патриархе Никоне, сообщённые во многих изданиях и в разное время, представляют много неверного неясного и неточного“. Прежние историки: Татищев, Берх и г пр., писавшие о Никоне, заимствовали о нём сведения у иностранных писателей, которые почерпали сведения о русском первосвятителе из частных источников. Вот что говорит Гиббенет по поводу этого обвинения: „основывая свой исторический рассказ на иностранных писателях, Берх приводит другое обстоятельство, которое одинаково с первым ничем не доказывается и также невероятно. Можно ли поверить тому, что Никон брал деньги с польского короля и австрийского посла Аллегретти! Берх полагает вероятным, что такие поступки Никона были открыты, и потому его перестали приглашать в боярский совет, в котором он, по примеру патриарха Филарета, требовал себе места, и, получив отказ, начал строить разные козни против правительства. Но всё это ничем не подкрепляется, на это нет никаких доказательств. Если бы было что-нибудь подобное этому, то без всякого сомнения Царь Алексей Михайлович не относился бы к Никону с тем уважением, которое оказывал ему по удалении его от патриаршего престола и даже по заключении в Ферапонтов монастырь“ (ч. 1, стр. 24). Я не сомневаюсь ни на минуту в том, что Усов читал исследование Гиббенета, знает, что истории Берха доверять нельзя, а однако читает из неё, т. е. заведомо ложно обвиняет патр. Никона опять в том, в чём он никогда, не был виноват. Берх во многом обвиняет Никона, но все эти обвинения несправедливы. Рассмотрим их в порядке перечисления Берхом. „Униат Кульчинский говорит (эти слова Усов намеренно опустил), что Никон просил Царя Алексея Михайловича объявить его папой, и что будто бы у него и папские регалии уже готовы были“. В этом сказании униата Кульчинского, сказании, которому не доверяет и историк Берх (что показывает слово будто бы), не говорится, что Никон хотел быть римским католическим папой, а папой православным, таким же, как и александрийский патриарх, именующийся папой. Следовательно, в этом желании патр. Никона, если бы оно действительно было, нет ничего еретического. Но униату Кульчинскому доверять нельзя. Этот же Кульчинский доказывает, что Никон предался впоследствии католической Церкви. „Что бы последнее заключение было справедливо, говорит Берх, тому нет ясных доказательств“. Если же нет доказательств, так зачем и писать! Разве только для того, чтобы предупредить читателя не доверять Кульчинскому. Ещё менее следовало бы читать эти слова Усову. Он отлично знает, что патр. Никон никогда не изменял православию, тем более, что тот же Берх говорит, что по смерти Никона восточные патриархи разрешили поминать его, яко патриарха, „за не аще яко человек, и оный в неких употребися бесчинно и наказася правдою, но понеже крайнеше покаяся“, то позволено поминать его, как православного патриарха (ч. 1, стр. 313–14). Об уклонении патр. Никона в католицизм нет и намёка. Значит, это клевета униата Кульчинского, которую не стесняется повторять и Усов. На чём же, однако, основана эта клевета? На том, что в Воскресенском монастыре у Никона проживало много иностранцев. По поводу этого Гиббенет говорит следующее: „у патриарха находились на службе люди разных наций, принявшие православие, были поляки (значит католики), евреи, татары и пр. Это делалось для утверждения их в вере и для того, чтобы иметь за ними ближайший надзор, чтобы они не совратились в прежнюю свою веру“ (ч. 2, стр. 29). Считаем нелишним ещё раз повторить слова собора 1660 года о православии патр. Никона: если патр. Никон „в прочих внешних вещах и в своём отрешении и погрешил, как человек, но в догматах православной веры был благочестивейший и правый, в апостольских же и отеческих преданиях восточной Церкви был большой ревнитель“. „Этим отзывом греческих архипастырей о патр. Никоне, говорит Гиббенет, уничтожаются все обвинения иностранных писателей в его неправославии, в стремлении его сделаться папой, в переходе в католицизм, в сношении с римским папой“ (ч. 1, стр. 86–87). Итак, эти обвинения, возведённые Берхом на патр. Никона ложны и даже невероятны. Усов отлично это знает, но тем не менее повторяет их. С такими защитниками раскола, которые прибегают к намеренной клевете и искажению исторических фактов, которые руководятся целью хоть неправдой защитить себя и оклеветать православную Церковь и её архипастырей, у которых нет стремления к беспристрастному спокойному выяснению истины, я считаю производить публичные собеседования бесполезным.
Неужели Усов не сознаёт, что приводимое Берхом обвинение против патр. Никона, что он будто бы первый приказал строить храмы с пятью главами, из коих в средней изображал себя, а в остальных четырёх греческих патриархов, есть опять-таки наглая клевета? Что и до патр. Никона храмы строились не всегда с одной главой, это видно уже и из того, что сами раскольники имеют храмы не с одной главой (напр., в с. Городище). А вот вам и наглядное опровержение этой клеветы Берха. Смотрите, это древняя книга „Беседы св. Иоанна Златоуста на 14 посланий св. ап. Павла“. Напечатана она в Киеве в лето от сотворения мира 7131, а от Р. Хр. 1623-е, т. е. за тридцать почти лет до вступления Никона на московский патриарший престол. Здесь на 1 листе изображена церковь. Печерская Успения Пресвятыя Богородицы. Видите, здесь, изображены три главы сверху храма, одна над боковым входом, пятую главу не видно на рисунке, так как она находится на другой стороне храма. Следовательно, не патр. Никон выдумал строить храмы с пятью главами: такие храмы строились далеко раньше его. А Усов не постеснялся даже и такую клевету публично повторять и делать при этом такие грубые заключения.
Остаётся в заключение беседы сказать ещё несколько слов о последних доказательствах Усова, которые будто бы послужили причиной к отделению раскольников от православной Церкви. Усов недоумевает, кому он должен следовать: патриарху Никону, или собору епископов, осудившему п. Никона? Никону, говорит Усов, следовать, нельзя, потому что он изменник Царя. Но было уже доказано, что это клевета. Следовать собору епископов тоже нельзя, потому что патр. Никон обозвал этот собор иудейской синагогой и даже бесовским сонмищем, митрополита Крутицкого проклял и двух епископов назвал Анной и Каиафой.
Рассмотрим и это. О последнем случае передаёт газский митрополит Паисий Лигарид, враг патр. Никона, в таких словах: „Однажды, в воскресение, Никон вошёл на возвышение, представлявшее Голгофу, и начал говорить: „вот уже пришла воинская спира, Ирод и Пилат явились в суд, приблизились архиереи Анна и Каиафа!“ „Но так ли это было, как написано в Истории? – спрашивает Гиббенет, правду ли сказал Лигарид и не извратил ли он фактов?“ Нет основания не доверять официальным документам, в которых совершенно ясно и правдоподобно описаны обстоятельства, которые в Истории переданы иначе. Какие же были сцены, на которые указывается в Истории? К чему тут выведены: воинская спира – Ирод, Пилат, Анна и Каиафа? 19 июля в приделе Распятия Христова Никон служил молебен Животворящему Кресту и читал Евангелие (от Иоанна зачал. 42–63), в котором означенные имена и встречаются. Никон толковал Евангелие и евангельские события применял к своим напастям, которые он испытывал в те минуты и говорил: „Царь благочестив, да не по правде судит, изгнал меня вон, а слушает пулкого человека. Таковы ныне архиереи, возлюбили славу человеческую паче, нежели славу Божию, не хотят пострадать за истину, чтобы славы и чести и архиерейства не отбыть. Мы Роману ноги омывали и отирали и целовали, а он, как Иуда, привёл на меня митрополита, который, подобно Каиафе, пришед в келию, воздвиг на меня многие от фарисеев злыя слова. С митрополитом пришли ко мне и другие; я их встретил, но они со мною братства и целования не сотворили, а стали спрашивать, говорил ли я такие речи в соборной церкви. Тут был и Роман, который стоял вне келии, на крыльце (Гиббенет, ч. 2 стр. 73–74).“ Видите, как далека от истины передача, этого события Лигаридом. Теперь относительно проклятия митрополита Крутицкого. Правда, патриарх Никон его проклинал, он этого и не отвергает, но за что? „Крутицкого митрополита, говорит патр. Никон, прокляли мы не безвинно, так как слышали в первый год своего отшествия, что он отчее седалище обесчестил: в неделю ваий, совершая литию, воссел на отчее седалище перед всеми людьми непостыдно; епископа на константинопольскую епархию в Киеве посвятил незаконно, и во время поставления на патриаршем месте сидел и сам ныне тремя епархиями: патриаршей, Суздальской и своей Крутицкой владеет многие годы, а сам, как и поставлен, в своей епархии не был“ (Гиббенет, ч. 1 стр. 110). Законно или незаконно поступил Никон, это не входит в программу нашего собеседования, так как клятва патр. Никона на митроп. Крутицкого Питирима была произнесена после 1653 года, а потому она и не могла послужить причиной отделения раскольников от православной Церкви. Что же касается того обстоятельства, что патр. Никон обозвал собор иудейским и даже бесовским сонмищем, то нужно знать, какой он собор обозвал так грубо, неприлично, Собор 1662 года, созванный без разрешения патриарха, происходивший под руководством Паисия Лигарида, о котором патр. Никону было известно, что „за вины его отставлен был от священной службы и от церковного причта иерусалимским патриархом Нектарием и всем священным иерусалимским собором“ (Гиббенет ч. 1, стр. 103, ч. 2, стр. 178), но „в Москве надо полагать узнали позже“ Никона (ч. 2, стр. 83). По этому-то патр. Никон и говорил: „Если собор созывается вопреки святых правил, то он не есть собор. Были созваны соборы на Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого и на Филиппа митрополита, но они не именуются соборами, но суть сонмища“ (ч. 2 стр. 190). К числу таких соборов Никон причислял и собор 1662 года. Таким образом, решается сам собой вопрос, поставленный Усовым, кому должны последовать раскольники. Они, если желают наследовать вечное спасение, должны следовать св. Церкви, изрекшей на соборе 1666 и 1667 гг. осуждение на патр. Никона за его незаконное оставление патриаршего престола и высказанные в раздражении, в состоянии мрачного угнетённого состояния, резкие выражения, но не погрешившего в догматах православные веры, – соборе, осудившем и раскольников за их незаконное отделение от св. Церкви. Что отделение их от св. Церкви было незаконное, это видно из всей настоящей беседы, на которой Усов не мог указать ни одной законной причины к своему отделению, а только всячески старался очернить и унизить патр. Никона, хотя личность патр. Никона при решении этого вопроса не имеет никакого значения. Другое было бы дело, если бы Усов доказал, что в 1653 году патр. Никоном были измышлены и всей русской и греческой Церковью приняты ереси. Но ересей он никаких не указал, и этим ясно засвидетельствовал, что раскольники в 1653 году отделились не от еретической, а от православной Церкви, а потому и находятся вне спасительного ковчега, вне Церкви Христовой. „Всякий (же), отделяющийся от Церкви, учит св. священ.-муч. Киприан, присоединяется к жене незаконной, и делается чуждым обетовании Церкви: оставляющий Церковь Христову лишает себя наград, предопределённых Христом. Он чужд для ней, он непотребен ей, он враг её. Не имеющий Матерью Церковь, не может иметь Отцом своим Бога“ („О единстве Церкви“). Вот до какого жалкого плачевного состояния довели себя раскольники своей гордостью, своим непокорством Церкви Христовой! Одумайтесь, братия, пока есть время, раскайтесь перед св. Церковью: она ждёт вас, она молит Господа о вашем вразумлении и возвращении.
Миссионер объявил беседу оконченной. Но Усов, чтобы изгладить впечатление слов о. миссионера, начал кричать, что о. миссионер не хочет кончать беседу, что он, Усов, „распубликует“' об этом в „С.-Петербургских Ведомостях“, и проч. Но присутствовавшие на беседе раскольники сами стали просить Усова, чтобы он не кричал, и поспешили собрать его книги.
Православные и раскольники выразили о. миссионеру благодарность за беседы.
Противораск. мисс. Екатериносл. свящ. Сергий Шалкинский
Троицкий. Ф., свящ. Миссионерство, секты и раскол // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 682–696
(Хроника).
О полемических приёмах при собеседованиях с раскольниками и сектантами. – По поводу отчёта православного миссионерского общества. – Современный раскол. – Непозволительные затеи Егорьевских старообрядцев. – Устранение от дел Силуана и благочиннический собор для выбора ему преемника. – Служение Арсения Швецова в Оренбурге. – Раскол в Омской епархии.
В хронике „Миссионерского Обозрения“ уже сообщалось о совещаниях и постановлениях Калужского епархиального миссионерского съезда по нескольким вопросам. Но съезд, этот настолько был богат и количеством затронутых на нём предметов и поучительным содержанием бывших по сим предметам суждений, что мы считаем полезным и ещё не раз остановиться на них, дабы возможно полнее исчерпать деяние этого съезда. Прежде всего заслуживают внимания суждения по вопросу, поставленному известным маститым Калужским миссионером о. Михаилом Дударевым, „о полемических приёмах при собеседованиях с раскольниками и сектантами“. Старый почтенный полемист из бывших ревнителей древляго благочестия, ученик Павла Прусского, на основании 40-ка летнего опыта своего пришёл к печальному выводу, что существующие доселе в противо-раскольничьей полемике приёмы и методы миссионерские устарели.
„Метод собеседования с раскольниками, – с прочувствованной скорбью говорил миссионер, – до сих пор практикуемый нами, православными миссионерами и пастырями Церкви, устарел и едва ли может с пользой применяться к беседам с современными раскольниками. Тактика, усвоенная миссионерами при собеседовании с раскольниками, особенно с их главными вожаками-начетчиками, тоже устарела и тоже должна измениться, так-как и сами раскольники-то в большинстве изменились, и слава Богу, к лучшему: они ныне не так уже фанатичны, и взгляды, и понятия их о православной Церкви сделались более правильными, отношения к православному духовенству стали гораздо мягче. Теперь, по крайней мере в Калужской епархии, редко встречаются среди собеседников ругатели и хулители. Если так, то не пора ли и православным палемистам изменить свой взгляд на раскольников и относиться к ним снисходительнее, смотреть на них не как на врагов, а как на заблуждающихся братьев, – заблуждающихся большей частью по простоте и невежеству и по прирождённой привычке, с которой всякий человек с великим трудом расстаётся.
„До сих пор мы ведём собеседования по старопечатным книгам, обращаясь больше к уму и убеждению отпадших, в тоне большей частью обличительном и укоризненном. И это надо оставить, изменить, потому что раскольники обличениями их неправоты не убеждаются, а только раздражаются, так сказать, отталкиваются от православной Церкви. А между тем, молодое поколение, оставаясь в расколе, к которому давно уже охладело, изверившись в его святость, готово вступить на путь религиозного нововерия, не исключая толстовства. Поэтому-то миссионерам и пастырям Церкви, приходы которых заражены расколом, нужно более держаться увещательных, говорящих сердцу, бесед, а не обличительных; неизбежные же в публичных, а равно и в частных полемических собеседованиях с раскольниками, обличения умягчать, растворять благодушием, духом кротости и братской любви. Чрезвычайно важно не упускать в обыденной жизни представляющихся случаев к сближению с рассудительными и совестливыми, не потерявшими страха Божия раскольниками, привлекать последних своей прямотой, правдивостью, добрым советом в делах житейских. Нечего православному поборнику истины стесняться помогать заблудшим братьям и посильными советами, и наставлениями, защищать, от несправедливых нападок со стороны православных, удерживать православных от резких порицаний, водворяя между теми и другими мир и взаимное согласие. Иногда одно задушевное слово, ласковый привет благотворнее влияют на раскольника, нежели сто обличительных слов“.
Этот истинно христианский призыв старца-миссионера к всепрощению и любви в отношении раскольников со стороны деятелей миссии был выслушан с должным вниманием, и видимо оставил свой след на сердце аудитории.
По поводу доклада о. Дударева П.П. Добромыслов весьма уместно познакомил съезд с историей полемических приёмов. До митрополита Платона вся полемика заключалась в том, что православные и раскольники старались доказать сравнительную древность своего обряда, выходя из понятия, что старо, то свято. Полемика носила тогда обычно обострённый характер. Μ. Платон первый установил тот взгляд, что раскольники есть только заблудшие наши братья, и к ним нужно относиться с снисхождением и любовью, но, к сожалению, эти добрые советы преосвященного архипастыря мало применялись на практике, и первое применение этот принцип нашёл в лице Павла Прусского. Современная полемика перешла на научную почву, чему способствовали своими трудами проф. Субботин, Голубинский и Каптерев. Что же касается снисходительного отношения миссионера к раскольникам, как к немощным, то св. синод много раз в своих циркулярах и правилах развивал и разъяснял этот вопрос.
Свящ. И. Полянский, вполне соглашаясь с тем, что к раскольникам должно относиться миролюбиво, ласково, возбудил вопрос, как поступать в том случае, если распространители и верховоды раскола отказываются идти на миссионерскую беседу; миссионер, зная о вредной деятельности таковых и сознавая всю важность беседы с ними для воздействия и на окружающее население, может ли привлечь его через властей? После живого обмена мнений за и против, съезд высказался, что к полиции миссионер должен прибегать лишь в тех крайних случаях, когда раскольники грозят его личной безопасности. Даже и в тех случаях, когда на беседах апологеты раскола допускают непристойные глумления, и тогда миссионеру советуется избегать обращения к светской власти, чтобы не дать раскольникам и известной части интеллигенции повода к упрёкам и нареканиям на миссионеров, будто бы умеющих только опираться на силу внешней власти; в подобных случаях полезнее будет просто прекратить беседу, или словом убеждения вразумить невежественного фанатика и наглого хулителя,
Затем миссионер свящ. И. Полянский указал примерный план беседы о перстосложении, а гг. Добромыслов и Скворцов предложили вниманию съезда примерный план беседы с штундистами об иконопочитании.
Миссионер свящ. Жаров познакомил собрание с новым раскольничьим сочинением г. Усова „Церковь Божия временно без епископа“; книгой этой широко пользуются современные раскольничьи софисты. Свящ. И.В. Полянский сделал разбор основных положений книги и указал на несостоятельность их. Съезд просил редактора „Мисс. Обозр.“ напечатать подробный разбор этого сочинения, направляющего противо-раскольничью полемику на путь чисто схоластических и рационалистических приёмов.
Вслед за сим съезд занялся обсуждением вопроса о методических приёмах при собеседованиях с хлыстами. Одни полемисты находили, что пастырям приходским полезнее вести дело миссии с хлыстами так: пусть они перед всеми православными, как и перед хлыстами, на своих беседах и в проповедях развивают положительное учение о Лице Господа Нашего Иисуса Христа, не вдаваясь в резкое и прямое обличение потаённых гнусностей секты, дабы не оттолкнуть заподозренных от общения с Церковью. Главное внимание пастыри должны обращать на исповедь заподозренных в хлыстовстве. Особенно нужно остерегаться на беседах неосторожного грубого затрагивания личностей; долг православного собеседника тщательно и верно осветить все признаки хлыстовства, не указывая на лиц, заподозреваемых в секте. Другое дело на исповеди: там пастырь, не обинуясь, по долгу духовника, должен дать ряд прямых вопросов хлысту, изобличающих его принадлежность к тайной секте; кающийся должен с клятвой отречься от гнусностей хлыстовства, и только тогда уже священник может допустить, опознанных хлыстов до св. причащения.
Что касается миссионеров специалистов, то для их бесед с хлыстами наиболее целесообразным приёмом на съезде признавался такой путь: миссионер должен предварительно раскрыть перед слушателями две–три гнусные подробности хлыстовства, по возможности, во всей их безобразной наготе и затем по ним уже, при содействии православных слушателей, уличать, – содержат ли все эти признаки хлыстовства или только некоторые местные, заподозренные сектанты. Последние неминуемо должны защищаться и опровергать улики и оправдывать своё безобразное поведение, и тогда полемика, от которой хлысты везде уклоняются, выдавая себя притворно за православных, естественно разгорится, и цель беседы будет достигнута.
По вопросу об отношении пастырей Церкви к последователям тайных сект, после оживлённых прений, съезд признал, что пастырям приходским никак не следует с спокойной совестью терпеть лицемерное отношение хлыстов к таинствам православной Церкви, ибо в этом великий соблазн для православных и великое поругание святыни.
По вопросу об относительной пользе как публичных, так и частных или иначе келейных бесед со всеми вообще отпадшими, как раскольниками, так и сектантами, съезд признал наиболее полезными в деле собственно приходской миссии беседы частные, при этом рекомендовал начинающим миссионерство пастырям не рисковать вступать без должной теоретической и практической подготовки в публичные собеседования. Последние должны в год хотя бы несколько раз непременно иметь место в каждом приходе, заражённом расколом или сектантами, но вести их должны епархиальные миссионеры и их опытные помощники и сотрудники окружные миссионеры.
* * *
„Москов. Вед.“ по поводу последнего отчёта Православного Миссионерского Общества делают ряд весьма серьёзных и ценных соображений, которые так или иначе могут касаться и нашей внутренней миссии.
Когда мы думаем и говорим о православной миссии, – совершенно справедливо замечает почтенный орган светской печати, – мы думаем и говорим почти исключительно о деятельности, проявляемой русскими силами. Явление это весьма печальное, и не в укор другим православным Церквам говорим мы это. К сожалению, состояние сил православных автокефальных Церквей таково, что не допускает с их стороны никакой широкой деятельности по распространению христианства. Но как бы это ни было неизбежно, факт состоит в том, что на ряду с широчайшей миссионерской деятельностью римско-католичества и протестантизма, со стороны православия только русская Церковь делает кое-что для распространения христианства.
Это возбуждает, конечно, ещё более внимания к Православному Миссионерскому Обществу, которым ведётся миссионерское дело.
Должно заметить, что и наше Православное Миссионерское Общество – учреждение сравнительно очень новое, которое насчитывает теперь всего 33 года своего существования.
Если мы окинем общим взглядом 30-летнюю жизнь Миссионерского Общества, то, конечно, нельзя не испытывать чувства удовлетворения. В 1870 году общество начинало дело с 47,000 рублями. Уже через пять лет оно могло произвести расходов на 86,000 р., а разного рода капиталов имело 430,000 руб. В 1878 году оно имело более 6,000 членов и затрачивало на нужды миссии около 140,000 р. К концу 90-х годов (1898 г.) число членов поднялось до 14,133, расход до 487,000 руб., и капиталов состояло 1.238,000 рублей. По настоящему же отчёту (1901 г. число членов равно 17,172 человек, расход – в 622,000 руб. и капиталов состоит 1.326,325 руб.,
Таким образом укрепление Миссионерского Общества и расширение его средств идёт вообще поступательно. Но если мы примем в соображение то необъятное поле деятельности, которое призывает к себе его силы, то рост средств Миссионерского Общества должен быть признан далеко не достаточным.
Отчёты Общества, к сожалению, недостаточно полны для того, чтобы дать точный подсчёт всех действующих сил, требующих его помощи. Но достаточно сказать, что Миссионерское Общество ведёт свою деятельность в Европейской России, в губерниях: Казанской, Вятской, Архангельской, Симбирской, Самарской, Саратовской, Уфимской, Пермской и на Кавказе. В Азиатской России усилий Общества требуют все губернии и области. На попечении алтайской миссии находится несколько десятков тысяч населения. В Киргизской степи Общество составляет единственную опору православия. Его же деятельность охватывает область Красноярской миссии, Тобольскую губернию, Якутскую область, Иркутскую губернию, Забайкальскую область, округа Благовещенский и Владивостокский. Деятельность Миссионерского Общества переходит, наконец, и за пределы России: на его попечении находятся миссии японская и североамериканская.
С точки зрения потребности в проповеди православия, этот огромный район деятельности ещё очень недостаточно велик. Он даже отдалённо несравним со всемирной деятельностью римской Congregatio de propaganda fide и множеством протестантских обществ. Но сравнительно со средствами, которые Россия уделяет на проповедь христианства, задача нашего Миссионерского Общества громадна.
3а всё время его существования мы постоянно видим, что потребности миссионерского дела несравненно шире средств, которые оно может получить, и это, конечно, не может не отзываться на успешности развития миссионерского дела.
Современный бюджет общества в 1901 году представляет такую картину:
Состояло 1.367,735 руб.
Всего прихода 580,684 руб.
Всего расхода 622,094 руб.
Следовательно, к 1902 году оказывается, так сказать, дефицит, или, точнее выражаясь, в 1902 году Общество приступает к деятельности со средствами уменьшившимися. Это не представляло бы никакой особенной опасности, если бы сборы и пожертвования представляли достаточно внушительные суммы112.
Таким образом, сборы и пожертвования за 1901 год покрыли едва половину того расхода, который оказался безусловно необходимым (622,000 рублей).
Труды Миссионерского Общества в Европейской России, Азии и Америке имели своим результатом в отчётном году почти 5 тысяч обращений в православие из язычества и магометанства113.
Цифра эта, конечно, ничуть не поражающая своей величиной, не исчерпывает, однако, всех результатов миссионерских трудов. Помимо обращения язычников и магометан, миссия имеет своей обязанностью окончательное христианское просвещение недавно крещённых иноверцев, а по большей части и их приобщение к жизни культурной.
Миссионер – не только проповедник, он должен становиться и приходским пастырем. Рядом с ним и об руку с ним идут школьный учитель, фельдшер, сестра милосердия.
Православное Миссионерское Общество на всё это должно доставлять средства.
А между тем, как мы видим, на дело, охватывающее три части света, Общество получает сборами и пожертвованиями всего 374,000 рублей.
Недостаточность этих сумм даже для имеющегося дела слишком очевидна. А между тем, не менее очевидно, что дело проповеди должно бы было быть ещё гораздо более расширено.
Можно сказать, что только полное незнание того, что делается в мире, спасает православную Россию от самого тягостного чувства стыда за себя, – являющегося при сравнении наших маленьких, почти ничтожных сил, выставленных на проповедь христианства, с теми мощными средствами, которые развёртывают на это другие, инославные народы, об упадке христианства среди которых мы так охотно толкуем.
Многие ли у нас знают, что, например, в Манчжурии, где у нас доселе не было, можно сказать, ничего, римская „Congregatio de propaganda fide“ уже давно имеет 160 храмов и часовен, 118 школ, 2 семинарии и в этих учреждениях у неё действуют 30 европейских и 12 туземных миссионеров, имеющих уже несколько десятков тысяч туземной паствы. Так дело обстоит на самой нашей границе, где, кажется, проповедь христианства должна была принадлежать всецело нам. Мы же даже в нашем собственном Забайкалье не умеем развить равносильной деятельности.
Нельзя, конечно, не благодарить „Православное Миссионерское Общество“ за всё, что оно делает для проповеди христианства иноверным. Но можно также думать, что явно-недостаточное количество средств, получаемых им от православной России, могло бы быть значительно увеличено при более живой постановке деятельности самого Общества.
Конечно, оно имеет свой орган, „Православный Благовестник“, и о деятельности общества ежегодно произносятся проповеди по всем русским храмам. Но, тем не менее, несомненно, что Россия имеет лишь самые поверхностные сведения о деятельности Миссионерского Общества. „Православный Благовестник“ не имеет выдержанной программы и представляет сборник тетрадей со статьями, иногда очень интересными, но случайными. В нём самом совершенно нет проповеди миссионерства, нет объяснения задач миссионерского дела, сравнения нашей деятельности с деятельностью прочих народов и исповеданий и т. д. Теперь даже те, кто хочет изучить дело нашей миссии, делают это совсем не по его органу.
Миссионерское Общество непременно должно было бы сверх того организовать публичные чтения для популяризации своей деятельности и задач, поручая это особливо талантливым лекторам для объездов с этою целью России.
Это несомненно оживило бы и церковную проповедь в пользу миссионерского дела. В настоящее время проповедь, призывающая по храмам к пожертвованиям на распространение христианства среди неверных, имеет характер чрезвычайно казённый, формальный, безжизненный. Она состоит обыкновенно в прочтении листков, призывающих к пожертвованиям, причём и сам читающий, не зная хорошенько хода миссионерских дел, не умеет сколько-нибудь оживить свой рассказ о них.
Должно, наконец, сказать, что и самые отчёты Миссионерского Общества составляются по системе не особенно удачной в целях ознакомления России с его деятельностью. Укажу, например, что и в настоящем отчёте за 1901 год не только само Общество не подводит итогов сил, выставленных им на дело проповеди, но даже не даёт данных для какого-либо подсчёта их самому читателю. Нужно было бы выработать хороший план отчётов, который давал бы полную и ясную картину деятельности Общества.
В заключение почтенная газета высказывает мысль, что деятельность русского Православного Миссионерского Общества не должна была бы стоять столь изолированною в среде других православных народов и автокефальных Церквей, и что было бы весьма полезно создание союзной Вселенской православной миссии, не говоря уже о том, что на таких основах православная миссия нашла бы более лёгкий доступ во многие области, ныне ей совершенно не затронутые.
Мы вполне разделяем глубокую справедливость и безусловную важность высказанных московской газетой соображений и замечаний. Не подлежит сомнению, что предлагаемые почтенным органом меры способны в известной мере оживить деятельность Общества Миссионерского и усилить внимание к миссии в верующем обществе и народ. Однако главная-то причина мертвенности миссионерского дела в русской Церкви, по нашему мнению, заключается в отрешённости Миссионерского Общества от правящего церковного нашего центра – св. синода. Пребывая в Москве, Общество как бы затерялось, заглохло: кто в Обществе деятели, как они действуют, когда заседают и чем занимаются, мало кому даже из специалистов и поборников миссии ведомо. Епархиальные миссионерские комитеты везде только сборщики денег. Миссионерское Общество издавна обособилось и от интересов и нужд внутренней миссии, которых она не хочет ведать, а через это теряет сочувствие у всех ревнителей православия.
Затем, как ведётся миссионерство нашими разными миссиями, опять местным епархиальным деятелям и ревнителям неведомо, кто из центра контролирует, направляет, поощряет деятелей на месте, опять вопрос и вопрос.
В единении – наша сила, в разбросанности – слабость. Внутренняя миссия, призванная к деятельности гораздо позже, не имеет подобного Общества Миссионерского, ни организации прочной, страшно бедна средствами, случайно получаемыми, однако деятельность её как-то виднее и осязательнее.
* * *
В жизни современного раскола продолжают царить беспокойство и ухищрения, направленные к обходу законов и деяниям непозволительного свойства. Таковы затеи рязанских раскольников, о которых наш корреспондент А-в сообщает заслуживающие внимания сведения.
В Егорьевске насчитывается раскольников до 4-х тысяч. Большинство из них принадлежит к австрийскому толку. Здесь у австрийских имеется великолепная молельня, совершается „истовая“ продолжительная служба, иногда устраиваются торжественные процессии, по случаю похорон богатых раскольников, с участием нескольких лже-попов. Несмотря на значительную численность своей общины и на близость знаменитых Гуслиц, наши раскольники не отличаются обычным фанатизмом и давно уже перестали считать грехом общение и дружбу с православными. Терпимость их доходит до того, что детей своих они посылают учиться в местные церковно-приходские школы. Последние успели уже оказать неоценённую услугу св. Церкви, послужив средством сближения между детьми православных и раскольников. При постоянном общении с православными товарищами по школе и при воспитательном руководстве православного учителя и законоучителя-священника, у детей старообрядцев незаметным образом сглаживается их домашнее раскольничье воспитание. Такое примирительное с православием настроение нового раскольничьего поколения стало обеспокоивать главарей раскола. Они поняли, что если оставить дело так, как есть, то в недалёком будущем совсем падёт „древнее благочестие“. Но как помочь беде, грозящей расколу? Прежде можно было положить запрет на школу, ныне этого уже нельзя сделать: грамотность стала всеобщей насущной потребностью, особенно в таком бойком промышленном районе, как Егорьевск с его фабриками и заводами. Вожаки раскола придумали такой выход: учредить свои собственные школы, в которых учителями были-бы их начётчики, а законоучителями лже-попы, дабы их дети воспитывались в духе раскольничьего фанатизма и глубочайшего отчуждения от православной Церкви. Ходят упорные слухи о том, что они возбудили ходатайство перед местной учебной дирекцией о предоставлении им права иметь свои школы под контролем учебного начальства.
Стало известным и другое крайне неблагоприятное православию движение среди егорьевских раскольников: у них возникла мысль учредить в г. Егорьевске раскольничью архиерейскую кафедру, чтобы объединить в одно целое весь гуслицкий район, с его сплошным шестидесятитысячным раскольничьим населением. Отсюда, по мысли раскольников, будут исходить все распоряжения к усилению раскола всего округа: об открытии задуманных школ, молелен, о командировании для бесед с православными своих начетчиков и проч. Исполнись эта раскольничья мечта, и тогда раскол в нашем крае возвратит себе утраченную силу и влияние на православную среду, снова и надолго восторжествует невежественный фанатизм по отношению к православной Церкви. Учреждение архиерейской кафедры сделалось очередным, злободневным вопросом у местных раскольников: начались усиленные хлопоты к осуществлению задуманных планов. Нечего и говорить, какое значение имеют указанные раскольничьи предприятия... Конечно, добиться открытия своих самостоятельных школ на легальных основаниях для них невозможно, но кто может поручиться за то, что своды роскошной егорьевской молельни не огласятся старообрядческой архиерейской службой, и мы не увидим лже-владыку егорьевского и гуслицкого?
Как известно, раскольникам запрещены всякие съезды, на что министерство не мало обращало внимание губернаторов. Однако в Нижнем состоялся непростой, а всероссийский съезд раскольников, о тароватых постановлениях его у нас сообщалось в октябрьской книжке. А нынче нам сообщают, что 1 сентября состоялся в станице Нагайской, Донской Области, благочиннический съезд духовенства раскольничьей австрийской секты. Всего собралось 10 благочинных, под председательством Михаила Картушина, двоюродного брата московского лже-владыки. Предметом совещаний съезда был вопрос об избрании одного из двух кандидатов на Донскую лже-епископскую кафедру (вместо уволенного за штат совсем немощного Силуана). Кандидаты были указаны ранее собором раскольнических епископов: известный лже-священник Сыткин и никому неизвестный вдовый лжесвященник х. Любимовки (близ Калача) N. Кандидатура последнего вызвала только смех в собравшихся „благочинных“, а посему они постановили „просить“ Сыткина. После рассматривался вопрос о лже-священнике Чертихине, который более известен под фамилией „Чертуха“. Сей муж за некие преступления, подвергся сначала немилости, а затем и запрещению Иоанна Картушина. Оставшись, благодаря запрещению, не у дел, раздосадованный Чертуха спешит к противоокружнику лже-епископу Иову, в том рассуждении, что всё-де равно, – пестра овца, сера овца, – а дух один: всё от Амвросия. Иов с радостью принимает, даёт разрешение от запрещения, и Чертуха теперь является сильным врагом Окружного. Вот его-то и хотел было „собор благочиннический возвратить от заблуждения“. Но все усилия их оказались тщетными.
Нам оренбургский корреспондент пишет, как 26 сентября в австрийском молитвенном доме Крюкова совершал богослужение закосневший в своём еретичестве лже-епископ уральский Арсений Швецов. Замечательно была устроена для него архиерейская кафедра: на половинках старых кирпичей, разложенных среди моленной, положены были доски от какого-то ящика (уж не от игрушечного ли?); на образованный таким способом помост поставили табурет, застлав его какой-то тряпицей. Взобравшись на эту импровизированную кафедру, Швецов принуждён был поддерживаться за табурет, чтобы не проломить досок; хотя владыка раскольничий имеет и немного веса (как в буквальном, так и в переносном смысле: даже главный попечитель моленной не присутствовал за богослужением), всё-таки кафедра зыблилась под его ногами. Каков архиерей, такова и кафедра! В довершение картины, после ухода лже-епископа в алтарь, при пении „прийдите поклонимся“, – начали разбирать кафедру: один понёс доски, другие начали собирать половинки старых кирпичей.
Попечители моленной пожалели для своего владыки старого кирпичей новых, или, может быть, нашли более подходящими для своего старого владыки, служащего по старым книгам, и старые поломанные кирпичи?..
* * *
Раскол в Омской епархии. Расколом в Омской епархии заражены 9-ть уездов.
В этих уездах всех приходов, заражённых расколом, насчитывается 68; раскольников же в этих приходах не менее 24,000 душ обоего пола. Самый заражённый уезд – Змеиногорский. Здесь в 8 приходах раскольников считается до 11,000 душ обоего пола.
Несмотря на свою древность, раскол не застыл, как думают многие, а постепенно растёт, принимая новые формы и угрожая православию своим грубым фанатизмом, и притесняя православных там, где раскол чувствует силу и мощь. Распространение раскола и ничтожное обращение раскольников в православие объясняется и неподготовленностью причтов к борьбе с расколом, и почти полным отсутствием всяких должных пособий для борьбы.
Поэтому многие из священников даже и не пытаются вразумлять уклоняющихся в раскол, ограничиваясь в своей пастырской деятельности охранением от раскольнической заразы ещё неуклонившихся.
Ничего не могу сказать о раскольниках Змеиногорского уезда, о раскольниках же других уездов можно с уверенностью сказать, что среди них почти нельзя встретить ни одного мало-мальски порядочно начитанного наставника. Принимают же на себя роль пастырей и руководителей большей частью полуграмотные, а иногда и совсем безграмотные мужики и притом люди низкой нравственности. Некоторые из наставников открыто развратничают, хвастаясь, что им стоит только сходить к старухам, которые отмирщат, опять будешь чист. Сами старообрядцы всех толков почти повально безграмотны. Только в последнее время стали некоторые из них отдавать своих детей в начальные школы, но и в школе они приобретают слишком немного. Лишь только мальчику стал мало-мальски читать, писать и считать, родители немедленно берут его из школы, говоря: „будет с него учиться: он читает, пишет и считает, – и довольно с него: не попить ведь ему и не писарить!“
Большая же часть детей поступает в учёбу „к мастерицам“, старым девкам келейницам, которые и наполняют восприимчивые головы детей всевозможными сказками и бреднями, выдавая их за творения св. отец. Чем занимаются дети в таких школах и какие приобретают там познания, можно судить по настоящему рассказу о солнечном течении, взятому мной из рукописной книги „Пчела“. Панагиот философ говорит: „Солнце сотворено Божиим повелением и величиной своей больше всей земли. Одежда и венец на солнце царский, и 15 ангелов всегда сопровождают солнце. И когда солнце уйдёт на запад, тогда ангелы Господни снимают с него одежду и венец царский, поэтому ночью солнце и не светит, и кладут ангелы одежду ту солнечную и венец на престоле Господнем, и у солнца для услуг остаются три ангела. И приставил Господь 100 ангелов одевать солнце в одежду и венец. А когда пойдёт солнце от востока (к западу), тотчас же тогда огненные небесные птицы – „филизи-халеврии“ летают перед солнцем и, омочив крылья свои в окиан, кропят крыльями на солнце и погашают солнечный свет, дабы не попалило солнце лучами своими всю землю и живущих на ней людей; и обгорают от огня солнечного у тех птиц перья, и становятся они голыми, как общипанные. И вот, когда солнце приблизится к западу, тогда купаются те птицы в окиане-великом море и возрождаются вновь, и оперяются крылья их. Поэтому-то и петух называется пророком, так-как он под крыльями своими имеет перо этих небесных птиц.
И вот, как только покажется заря на востоке, начинает то перо у петуха чесаться; а когда ангелы снимут с престола Господня одежду и венец царский, тогда петух чешется, открывает глаза и просыпается, и хлопает крыльями своими трижды, возвещая миру воскресение: востань, Светодавче, и посли свет Твой миру! Христос жив есть и вся совершает!
Ему же слава с Отцом и Св. Духом ныне, и присно и во веки веков. Аминь“.
В. и. д. Тюкалинск. окружн. мисс. свящ. Ф. Троицкий
А. Ф-н. Из жизни инославия и из мира заграничного сектантства // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 697–702
К истории Армии спасения. – Раскол в франкмасонстве. – Съезд методистских пастырей и призыв к усилению миссионерства. – Новая секта – „Христиано-исламизм“. – Секта якобитов. – Лондонский лже-мессия Пиготт.
„Генерал“ Армии спасения Вильям Бутс опубликовал интересные сведения о начале и развитии Армии. Когда Бутс, 37 лет назад, начинал свою деятельность, то для почина он завербовал в Армию только самого себя; целью Армии поставил борьбу с духовной и материальной нуждой. О какой-либо организации он тогда ещё и не помышлял, а всего менее имел в виду общество с военным устройством. Таковое впервые появилось в 1878 году. Движение началось в Лондоне и теперь распространилось и утвердилось в 47 государствах и колониях. Ежедневно появляются в количестве 1.000,000 экземпляров печатаемые на 15 языках газеты и журналы, издаваемые Армией. Армия основала более 600 разнообразных общеполезных учреждений, – убежища для бесприютных, для детей и освобождённых преступников, лечебницы для алкоголиков, приют для падших женщин. Во всех странах устроены воспитательные и работные дома.
В Германии Армия насчитывает около 400 отделений и более 100 корпусов Армии. Бутс полагает, что деятельность Армии, начавшаяся в Германии, будет всё более и более расширяться и усиливаться. „Генерал“ намерен в скором времени посетить Буда-Пешт, чтобы и там положить начало деятельности Армии.
* * *
Повсюду в франкмасонстве происходит в настоящее время заметный раскол. Особенно же это видно в итальянских ложах.
Одни из членов таковых желают добиться легального положения в государствах, сообщить своей деятельности публичный характер, оставить древние символические обряды, предварительное испытание желающих вступить в ложу, различные степени посвящения их и обычные страшные клятвы. Масонские новаторы заявляют, что масонство распространилось почти во всех современных государствах, и если в истории этой секты был период, когда в силу каких-либо обстоятельств требовалось соблюдение тайны, то теперь в этом нет никакой нужды; масонство не проповедует никакой разрушительной теории (хотя, впрочем, уже и анархизм пользуется некоторый защитой в прессе и даже в палате депутатов). Поэтому нет никакой причины скрывать сущность масонства под разными нелепыми и смешными символами и обрядами.
Другие, напротив, вовсе не желают оставить масонские традиции и вступить на путь публичности, на который хотят направить эту секту многие новаторы, и утверждают, что основное учение секты ещё содержит в себе некоторые подробности, которые должны быть скрываемы, и что без символов, обрядов и клятв сущность секты, к неминуемой её гибели, вполне обнаружилось бы для всех. Масонские заправилы всеми силами противятся введению в секту разных новшеств. Всем известно, что во Франции, как и в Испании, именно франкмасонство выставило предлогом к преследованию монахов то, что они уклоняются от подчинения государству, отказываются от выполнения законов, касающихся признания конгрегационных учреждений государственной властью, и надзора со стороны последней за отчётами конгрегаций и т. д.
Но в этом случае защитники конгрегаций не без основания могут сказать масонам: „Врачу, исцелися сам! Прежде вынь бревно из глаза твоего, а потом ты можешь вынуть сучок из глаза монаха“.
Масоны, разумеется, думают иначе. Они, инспираторы несправедливого закона Вальдек-Руссо и декрета короля Альфонса, считают своё общество чисто светским, – таким, которого происхождение и цели вполне гуманны, и которое не только не должно допускать гражданскую власть (не масонствующую) к достаточному ознакомлению с ним, но даже ради самого существования масонства – должно скрывать в глубокой тайне свою деятельность.
Оппозиционные французские газеты интересуются вопросом, проникнут ли в масонство новые веяния, или оно останется по-прежнему сектантски исключительным и нетерпимым обществом.
Впрочем, – говорит одна из этих газет, – даже после подобного раскола в масонстве легко будет распознать власть дьявола по отвратительному потомству этого великолепного родоначальника.
* * *
22 июля в Манчестере происходило 159-е собрание методистов-веслеянцев, на котором обсуждались вопросы, представляющие важность и не для одного только метадизма. Собрание открылось речью председателя, достопочтенного проф. Дж. Шо Банкса, избравшего предметом вопрос, имеющий глубокое жизненное значение для всех Церквей, – о необходимости усиления миссионерской деятельности в наше время. Хотя, по мнению проф. Банкса, никогда не было эпохи, в которую миссионерская деятельность в христианской Церкви была бы сильнее, чем теперь, но его поражает мысль, что и в Англии, и в других странах духовные нужды христиан уже не удовлетворяются наличными средствами. Необычайное увеличение населения в крупных центрах страны создало весьма трудные задачи для деятелей в области экономической, законодательной и благотворительной, но всего труднее задача, представляющаяся для деятелей христианской Церкви. В высшей степени тревожные события, происходящие в главнейших центрах населения, заставляют думать, что если людей, виновных в насилии и несправедливости, просветить, как уже просвещены другие классы общества, то эта созидательная работа окажет важные услуги не только Церкви, но и всей стране. Для осуществления этой задачи, по мнению Банкса, с одной стороны необходима более усиленная деятельность администрации; но с другой – и при том самая настоятельная нужда ощущается в сильных и самоотверженных христианских проповедниках. Величайшая милость, какую, по мнению Банкса, может Господь оказать Англии в настоящее время, это именно дать большее число таких „евангелистов“, для которых проповедь евангельского учения являлась бы „дыханием их жизни“. В Церкви Христовой всегда были такие деятели. Первым из „евангелистов“ был Джон Веслей, который имел много достойных последователей. Но достопочтенный профессор не думает, чтобы число настоящих и бывших прежде христианских деятелей можно было считать окончательным итогом высшей милости и всемогущества Господа по отношению к Своей Церкви. Если же теперь таких деятелей уже недостаточно для потребностей современного общества, то это можно объяснить лишь тем, что есть люди, противодействующие Божией милости. Достопочтенный профессор горячо убеждал братию не угашать в себе сил Духа Божия, возожжённых в душе каждого верующего. Профессор стремится доказать, что великим благодеянием для человечества будет, так сказать, новое крещение всех, от малого до старого, этой ревностью ради Господа и спасения души. Он напомнил о многих призывах к такому религиозному воодушевлению со стороны старых методистских проповедников и рассказал трогательный факт из своей собственной жизни: „Я помню один из таких горячих призывов одного из старейших наших проповедников в одном воскресном вечернем собрании, более 50 лет назад, и этот призыв глубоко потряс моё сердце“. С этого дня он как бы переродился и до настоящего времени его никогда уже не смущали никакие житейские треволнения, – ни гордость и самомнение, ни самоуничижение.
Из частных предметов на этом собрании обсуждались: 1) вопрос об улучшении методистских школ и надзора за ними, причём большинством голосов постановлено было внести больше света и публичности в школьное дело, посредством публичного избрания лиц, которым вверяется заведывание учебно-воспитательной частью в школах и школьных округах. 2) Вопрос о внешней методистской миссии, которому посвящено целое заседание; были произнесены содержательные и увлекательные речи секретарями методистского миссионерского общества, достопочтенными оо. Хертлеем и Финдлеем, которые призывали методистских деятелей к оживлению дел внешней миссии. В единогласном постановлении конференции по этому вопросу было сказано, что „для веслеянской Церкви пришёл час смело и открыто, ради веры в Бога и благоговения перед Ним, применять более энергичную наступательную (aggressive) политику во внешне-миссионерской деятельности“.
* * *
В Сирии появилась новая секта, которая названа почему-то ново-христианством. Оттоманское правительство намерено предписать сирийским властям строжайшие меры к подавлению пропаганды новой секты, насчитывающей уже множество прозелитов в Дамаске.
Эта секта представляет собой смешение христианства и магометанства. По воззрениям ново-христиан, Иисус Христос, также, как и Магомет, был не более, как философ, не имевший в Себе Божеского естества. Основатели секты в своём вероучении сделали большие уступки исламу, чтобы лучше завлекать в секту прозелитов из правоверных, так как полное отречение мусульманина от ислама грозит ему смертной казнью.
* * *
На острове Цейлоне (в Яффнском округе) до самого последнего времени существовала секта якобитов или „независимых католиков“; эта секта, насколько известно, ведёт своё происхождение от нескольких португальцев, отказавшихся подчиниться заключённому между португальским королём и римским папой конкордату 1887 года, по которому о. Цейлон в церковном отношении должен подлежать юрисдикции архиепископа города Гоа. Священник Альварес, руководитель этих португальцев, протестовавших против конкордата, сделался якобитским епископом и в свою очередь назначил епископом пользующегося известностью в южной Индии – Вилатта. Недолго просуществовавши, эта секта не могла распространиться, а в июне текущего года около тысячи человек, к ней принадлежащих, торжественно отреклись от своего заблуждения и приняты в лоно католической Церкви епископом Яффнским Rev. Dr. Joulain. В настоящее время остаётся в Коломбо не более двенадцати якобитских фамилий.
* * *
Заграничные газеты в настоящее время сильно заинтересованы появлением в Лондоне нового лже-мессии. В одном из пригородов английской столицы (Клантоне) находится церковь „Ковчег Завета“ (Ark of Covenant). которая ещё в 1896 году послужила очагом секты, основанной священником Генри Джемсом Прайнсом, „пророком приближающегося второго пришествия Спасителя“. По имени основателя секты, её адепты названы прайнсентами. „Брат Прайнс“ увлёк своим учением многих леди и джентльменов, а также многих духовных лиц; в 1849 году они основали нечто в роде монастыря в деревне Спакстоне, на расстоянии шести миль от Бриджватера. Он отличался большой роскошью и был известен под названием „Агапемон“, или „Храм любви“. Его обитатели не имели почти никаких сношений с внешним миром, пользуясь роскошью и богатством монастыря. Впрочем, „Брат Прайнс“ привык разезжать по Браджватеру в коляске, запряжённой четвёркой, причём кучера расчищали дорогу экипажу криками: „смотрите, он едет!“
Таинственное учение, жизнь прайнсеитов были выведены на Божий свет Гэпвортом Диксоном (в 1868 г.). Число сектантов значительно уменьшилось, и секте грозило полное распадение. Несколько богатых наследств, полученных по завещаниям монастырём прайнсеитов, снова воскресили секту, и вот в 1896 г. монастырь из своих средств затратил 20,000 ф. ст. на постройку вышеупомянутой церкви в Клаптоне. Спустя три года умер Прайнс, и „Ковчег Завета“ был закрыт для публики, оставаясь открытым только для членов секты.
Сектанты уверяют, что весь мир в настоящее время находится в критическом положении; его скоро постигнет переворот. „Что будет, известно одному Богу, но несомненно, что совершится нечто ужасное“.
В недавнее время явился ожидаемый прайнсеитами мессия. Это молодой человек, высокого роста, худощавый, с гладко выбритым лицом и расчёсанными вьющимися волосами. Это – англиканский священник Пиготт. Он иногда является для проповедей в церковь „Ark“ и в монастырь „Агапемон“. В один из воскресных дней, в сентябре месяце, происходило подобное собрание в „Ark“. Перед алтарём, на троне за мраморным столом, сидит лже-христос и после пения гимнов под звуки органа встаёт с трона и начинает говорить о том, что он явился в мир спасти людей, он есть источник жизни и принёс людям истинную жизнь. Глаза проповедника блестят, его голос музыкален, речь медленна и отличается какой-то настойчивостью; от собственных рассуждений проповедник переходит к сплошному и довольно нелепому цитированию текстов священного Писания. Когда он кончает свою проповедь и в глубокой задумчивости, закрыв лицо руками, усаживается опять на трон, встаёт женщина и в экстазе провозглашает: „Само небо гласит его устами“! За ней говорит старик: „Ожидание народов исполнилось!“ Прочие слушатели также проявляют дикий, безумный восторг, а Пиготт благословляет беснующуюся толпу.
Подобная же картина произошла и в церкви „Агапемон“. К приезду Пиготта, впрочем, около церкви собралась многочисленная толпа, которая встретила его крайне недружелюбно. Но „мессия“ не смутился этим приёмом и, улыбаясь, смотрел на толпу, снявши с головы шляпу и раскланиваясь.
Не такова была встреча Пиготта в самой церкви. Здесь он был встречен членами „Армии спасения“, с торжественным пением гимнов.
Когда в церкви происходила такая же служба, как вышеописанная (в „Ark“), и Пиготт говорил о своём посланничестве, снаружи толпа народа, не уверовавшая в него, шумела и желала расправиться с „мессией“. После богослужения последний принуждён был спасаться бегством. Но, усевшись в карету, он всё-же высунулся в окно экипажа, и если-бы не конная стража, то он стяжал бы себе „мученический венец“.
По мнению медиков и френологов, Пиготт представляет из себя душевного больного с характерными признаками религиозного помешательства.
А. Ф-н
Библиография
Леонович М. [Рец. на:]: Проф. А. Дмитриевский. Книга «Требник» и её значение в жизни православного христианина. (По поводу новейших воззрений на эту книгу). Киев. 1902 г. Издание Киевского религиозно-просветительного общества // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 703–705
Брошюра эта представляет собой чтение, весьма благовременно предложенное в собрании Киевского религиозно-просветительного общества 3 февраля 1902 года авторитетнейшим литургистом нашего времени, профессором Киевской духовной академии А. А. Дмитриевским.
Как известно, в своём ответе на постановление св. синода от 20–22 февраля прошлого года граф Л. Н. Толстой необыкновенно резко и желчно напал на книгу „Требник“, которая, по его мнению, есть сборник „различных приёмов колдовства, приспособленных ко всем возможным случаям жизни“. Это обвинение пронеслось по всей читающей России и за пределами её и, вследствие отсутствия самых элементарных сведений из литургики, у большинства из читающих породило смуту и сомнения, которые нашли себе выражение даже в печати. Так, „Русские Ведомости“ постарались развить крайние воззрения Толстого на „Требник“ с ссылкой на факты, якобы позаимствованные ими со страниц „Требника“.
При таких обстоятельствах весьма желательным и полезным явилось разъяснение по сему предмету компетентного лица.
Нужно было рассмотреть нападки, сделанные на „Требник“ гр. Толстым и его единомышленниками, и восстановить действительное достоинство этой важнейшей богослужебной книги. С этого и начинает проф. Дмитриевский. Обвинение, направленное граф. Толстым против нашего „Требника“, касается главным образом заклинательных молитв. Толстой отожествляет последние с заговорами и заклинаниями знахарей, при помощи которых „колдунами“ эксплуатируются народные массы. Поводом к такому отожествлению послужили и немногие остатки народного элемента или пережитки нашего христианского религиозного мировоззрения, коренящиеся глубоко в историческом прошлом нашего великого отечества, от которых, к сожалению, не вполне очищен „Требник“. Они-то „и суть, по меткому замечанию автора, те сучцы и зазоринки, о которые крушится слабая вера в авторитет Церкви нашего интеллигента, и на которые он не без злорадства указывает нашим пастырям и архипастырям“ (20–21 стр.).
Таковыми незначительными остатками христианской легенды или апокрифа являются, напр., рассказ о сне угодника Авимелеха в храме Агриппове, „еже не видети падения Иерусалимова“, молитва – „святых седьми отроков на немощного и неспящего“, и „в первый день, повнегда родити жене отроча“, „великое имя, на камени написанное“ и „чин, бываемый на нивах или винограде или вертограде, аще случится вредитися от гадов или иных видов“ (19–20 стр.)
Было бы крайне пристрастно и неосновательно по этим „зазоринкам“ судить обо всём „Требнике и отожествлять его с произведениями „колдунов“. Однако, это именно и делает гр. Толстой. Ближайший анализ содержания „Требника“, в состав которого входят произведения великих отцов Церкви, просвещённейших мужей своего времени, ясно показывает всю неосновательность суждений гр. Толстого и К°.
Обстоятельно рассмотрев молитвы и обряды, содержащиеся в „Требнике“, автор справедливо замечает, что и „на основании представленного им материала, у людей, не предубеждённых и ищущих истины, едва ли найдётся смелость утверждать, что эти произведения великого богословского ума и чистой христианской поэзии имеют хоть какое-нибудь сходство с образцами народного творчества, известными под именем отречённых молитв, заговоров, заклинаний и т. п.“ (40 стр.). Только люди, никогда не заглядывавшие в этот великий молитвослов, обнимающий жизнь христианина во всех её проявлениях, могут понимать эту книгу подобно гр. Толстому. „При близком и всестороннем знакомстве с содержанием „Требника“, глумления над ним будут невозможны, мы лучше и сознательнее будем относиться к христианским обрядам, а вместе с этим, научимся любить и глубже, и горячее нашу святую православную Церковь – нашу мать кормилицу, поилицу, защитницу, покровительницу и молитвенницу до скончания мира“ (44 стр.). Так заключает своё одушевлённое чтение достопочтенный лектор.
Нельзя не заметить в дополнение к сказанному выше, что коренным мотивом нападок гр. Толстого и его единомышленников на „Требник“ является их радикальное удаление от христианского, церковного мировоззрения. Граф Толстой не верит ни в благодать, ни в злых духов, между тем обряды и молитвословия „Требника“ и имеют в виду, главным образом, или испрошение у Господа Бога благодатной помощи, или отражение со-противных сил. В данном случае, как и во многих других, Толстой идёт вразрез с учением Евангелия, которое, будучи „вестью о спасении благодатью через веру“, полно прямых и ясных указаний на бытие злых духов и их вмешательство в жизнь человека. Но это уже вопрос принципиальный, который требует обстоятельного научного исследования, и не может вместиться в рамки богословского чтения...
Μ. Леонович
Козицкий П. [Рец. на:]: Божий Путь. Сборник статей священника Г. Петрова. Москва, 1902 Г. in 16-ю, 126 стр. ц. 20 к // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 705–708
С именем священника Г. Петрова связано представление как о модном, выдающемся проповеднике и писателе моралисте. С такой именно стороны рекомендует автора и рассматриваемый нами сборник его статей под заглавием „Божий Путь“. О. Петров в сборнике „Божий Путь“ все свои устремления обратил по преимуществу на серый люд, глубоко коснеющий в невежестве и пьянстве, и, как добрый пастырь, старается любовно привести его на путь света и истины, добра и правды. Особенное внимание пастыря, глубоко попечительного о духовных нуждах масс, привлекает самое больное место в жизни нашего народа – это народное пьянство. В своём сборнике автор почти добрую половину статей посвящает этому именно вопросу. Желая быть как можно более доступным для понимания по преимуществу простого люда, автор облекает свои наставления в образы и картины, выхваченные из живой действительности и рисующие во всей наготе нескончаемый вред пьянства. Автор в рассказе „Неграмотные“ сообщает чрезвычайно любопытный факт, что в школах Эстляндской губернии сделано весьма важное нововведение, которое о. Петров желает ввести во всей России. В эстонских школах стали детей на уроках обучать трезвости. Это, говорит автор, великое дело, вопрос самый животрепещущий для сельской школы... Необходимо знакомить учеников сельских школ с ужасным вредом алкоголя, необходимо также составлять учебники трезвости и ввести в сельских школах обязательное преподавание трезвости! Детей у нас не учат трезвости... и выходит, что часто молодёжь знает много лишнего, а о страшном народном зле, пьянстве ничего не разумеет толком, растёт безграмотной по этой части (83, 92 стр.). В другом месте своего сборника автор, призывая к борьбе с народным пьянством, с пламенным воодушевлением восклицает: „бейте-же в набат, кто понимает, что в спирте горит народный ум, народный достаток и народная совесть; зовите всех на помощь, бросайтесь сами в огонь, выхватывайте задохшихся в хмельном чаду на Божий простор“ (118 стр.).
Вопрос о трезвости и культурности народной священник Петров изучал не у себя только дома, но и за границей. Он переносит мысль читателя к немецкой деревне и немецкому городу и показывает, насколько лучше там заграницей течёт жизнь простого народа, и насколько там выше культура во всех отношениях; а причину этого он видит только в просвещении и просвещении. Все эти статьи автора, посвящённые злободневным вопросам, заслуживают полного со стороны читателей к себе внимания и одобрения. Но всякая медаль имеет две стороны: лицевую и оборотную, а Ахиллес, как известно, имел пяту...
И вот, что касается оборотной стороны помещённых в настоящем сборнике рассказов, то ахиллесову пяту в них составляет отсутствие главной основы – религиозного базиса, на котором они должны бы утверждаться. Ведь наш русский народ набожно-религиозен, несмотря на присущие ему нравственные пороки, врачевание которых вернее всего должно покоиться на этой основе, и отсутствие этого элемента именно кажется для нас непонятным; тем более, что эти рассказы вышли из-под пера пастыря и учёного богослова, а не светского публициста!
В сборнике о. Петрова есть несколько рассказов (их содержания мы не касаемся совершенно), которые, по своему характеру изложения, могут возбуждать в читателе прямое недоумение: как они могли выйти из-под пера православного священника? Первые пять рассказов из сборника так напоминают по своему характеру пресно-слащавые, протестантско-пиэтические, без мистического углубления в сущность христианства и благодатного назначения Церкви, брошюры, издававшиеся в 70-х и 80-х годах прошлого столетия в Петербурге известным закрытым за свои тенденциозные издания „обществом распространения религиозно нравственных чтений“.
Вот, напр., рассказы о. Петрова, трактующие в большинстве о правде Божией, все написаны в таком неопределённом стиле, без всякого специфического оттенка православного учения, что под ними подпишется любой сектант-рационалист. Дабы не быть голословными, мы позволим себе привести несколько выражений из этих первых пяти рассказов, наиболее в этом отношении характерных, самым наглядным образом подтверждающих нашу мысль. В первом рассказе „Крестный путь“ встречаем такие выражения. „Евангелие твердит настойчиво людям: хотите новой жизни, обновитесь прежде сами; мечтаете изменить порядки, измените себя, покайтесь“ (5 стр.). Не так ли и сектанты учат недоговорённо? Кто и чем поможет православному человеку возродиться, измениться? Приглашение „взять иго Христово и надеть Его хомут (?), ибо Его иго благо, а бремя легко“ – с тем-же характером. Заключительное воззвание этой статьи настолько типично, и настолько отдаёт так знакомым миссионерам оттенком, что мы его выпишем целиком: „Пойдём за Ним (т. е. за Христом), будем ступать по Его следам! По Его следам проложим тропинку к Божьей жизни; за нами пройдут другие, тропинку превратят в широкий путь. С нашей гнилой низины, Христос Спаситель зовёт на Божию вершину. Пойдём за Ним“ (8 стр.)! Во втором рассказе „Учитель и ученик“ выражение „читать слово Божие не глазами, а сердцем“ (12 стр.) – любимый и у сектантов термин... Чтение иноками и изучение ими слова Божия, по указанию одного из них (выражение по твоему), производит в них глубокий внутренний переворот, и к ним стекаются из дальних мест и поучаются у них добру, ибо на них исполнилось слово Спасителя: „Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой“ (12 стр.). Но известно ли нашему почтенному автору, что так точно излагают сектанты любимую свою тенденцию о понимании и толковании св. Писания усилиями одного человеческого разума, без руководства св. Церкви? Также рассказ „Общими силами“ о приобретении библий для, рабочих, не может ли быть перетолкован в смысле ненужности церковной иерархии, „ибо один у вас Наставник – Христос“, и одна руководительница библия? Да не подумает читатель, что нас наводит на эти соображения излишняя миссионерская подозрительность. Отнюдь нет. На мысли эти критика наводит то обстоятельство, что почтенный автор-иерей ни одним словом ни в одном из своих рассказов не обмолвился о Церковных установлениях и иерархии, о все действующей благодати таинств, возрождающих человека в новую и святую жизнь, освящающих и укрепляющих усилия его воли идти по пути правды Божией, о Церкви, как руководительнице верующих сынов в деле спасения. Причины такого умолчания мы хотим видеть в односторонности увлечения со стороны автора проповедью только моральных начал христианства, забвением мистической таинственной его силы. Но это умолчание в полезных рассказах о. Петрова создаёт почву для произрастания плевел, могущих в сознании тёмного читателя заглушить и чистую пшеницу. Осмотрительность и осторожность и с этой стороны при издании народных рассказов в наше сектофильствующее время должна быть обязательна. Зло посеять на ниве сердец „сих малых“ и слабых духом разумения можно невольно, а искоренять плевелы бывает очень и очень трудно!.. А ведь о. Петров – величина немалая, на него взирают...
П. Козицкий
Лисицын М., свящ. [Рец. на:]: Страсти Христовы. Беседы о страданиях Господа нашего Иисуса Христа. Бесплатное приложение к журналу „Отдых христианина“ Стр. 374. СПб., 1902 г // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 708
Последние дни земной жизни Спасителя чаще всего привлекали к себе внимание проповедников и духовных писателей. Настоящая книжка займёт не последнее место в ряду других ей подобных. С назидательностью и умилением подобной же книги архиепископа Иннокентия херсонского она соединяет в себе жизненную практичность и широкий опыт наблюдения над внутренним существом человека. Каждым штрихом Евангелия пользуется автор, чтобы обратить внимание читателя и слушателя на это внутреннее существо человека. Казалось бы, что даёт для поучения, и наблюдения тот факт, что один из иерусалимлян отвёл для Спасителя комнату, где и была совершена Тайная Вечеря. Но автор кстати делает такую реплику. „Этот человек не боялся ни угрозы, ни наказания. Он охотно принял в свой дом Спасителя и Его учеников и никогда не раскаивался, что поступил так! После он много раз в тихой скорби входил в эту горницу своего дома и с благоговением воскрешал в своей памяти торжества Тайной Вечери. Эта горница стала для него любимым и священным местом, сделалась святилищем его дома... Кто из нас, дорогие слушатели, не желал бы быть на месте этого счастливого человека! Сын человеческий во всякое время обращается к каждому из нас с словами: „се стою у двери и стучу...“ Реплика эта снабжена рисунком стоящего у дверей дома Иисуса Христа. Рисунков в книге очень много: почти на каждой странице. Язык книги очень картинный. Вот, напр., начало её. „Близились дни страданий. В тихой Вифании, в доме Симона прокажённого, собрались гости. Это был Христос со Своими избранными друзьями. Шла трапеза. Около Иисуса Христа тесным кольцом расположились ученики, сам Симон, Лазарь. Здесь же были и сёстры его“ и т. д. Если бы все приложенные здесь рисунки перевести на стекло для волшебного фонаря, какое бы получилось при помощи этой книги богатое и назидательное вечернее чтение. Нужно надеяться, что это будет; на это напрашивается своими качествами сама рассматриваемая книга. Выписывать её можно в СПб., у Варшавского вокзала, д. № 116. в редакции журнала „Отдых христианина“.
Свящ. Μ. Лисицын
Миссионерский Вестник // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 709–722
Миссионерская поездка о. Иоанна в Костромскую губернию
В Костромской губернии не так давно появились сектанты, безумно проповедавшие, что о. Иоанн Кронштадтский есть воплощение самого Божества и что ему нужно воздавать молитвенное поклонение и почитание. Во главе секты стоял крестьянин Артамонов, проживавший некогда и в Кронштадте. А-в составил акафист о. Иоанну. Секта росла в своём числе и увлечении. Узнав о безумии сектантов, о. Иоанн посылал им грозное письменное обличение. Однако возбуждение не унималось. Тогда, по ходатайству местного преосвященного еп. Виссариона, св. Синод командировал о. Иоанна в Костромскую, губернию, с миссионерской целью, для вразумления сектантов на месте. Получив указ, о. Иоанн, со свойственным ему смирением и трепетной готовностью, немедленно отправился в далёкий путь, в захолустную весь, до которой от Костромы нужно, было ехать 140 вёрст на лошадях по просёлочным дорогам и осенней непролазной грязи.
Прибыв в Кострому 1 октября, о. Иоанн совершил литургию в кафедральном соборе, причём произнёс слово, посвящённое празднику Покрова Пресвятые Богородицы. По окончании богослужения о. Иоанн выехал на лошадях в деревню Хорошево, Солигаличского уезда, где находилось гнездо сектантов, во главе которых стоял крестьянин Иван Артамонов. В тот же день к вечеру о. Иоанн прибыл в город Буй и остановился у исправника. На другой день о. Иоанн совершил литургию в местном храме. Приезд о. Иоанна и служение его привлекло в Буй массу народа из окрестных деревень. Из Буя о. Иоанн выехал в тот же день в деревню Хорошево, в сопровождении протоиерея местного храма, уездного исправника, станового пристава и урядника. Под вечер о. Иоанн был уже в полутора верстах от деревни Хорошево. Здесь пастыря встретил местный благочинный с духовенством окрестных сельских церквей и масса крестьян, для которых приезд о. Иоанна явился крупным событием. Тут находились и сектанты. О. Иоанн отправился в церковь. Сюда же явились и сектанты во главе с Артамоновым. Помолившись, о. Иоанн обратился с речью к сектантам об их заблуждении. Пастырь доказывал им, какой великий грех принимают они на. душу, считая его святым. „Я такой же грешный человек, как и все другие. Чем замолите вы перед Богом этот великий грех“. О. Иоанн читал им тексты из св. Писания, убеждая оставить раскол и раскаяться. Долго продолжалась речь пастыря, то гневная по отношению к сектантам, то приглашавшая их к покаянию. Глубокое впечатление оставила она в слушателях. По окончании её из среды сектантов раздались голоса: „прости нас, батюшка, прости нас, окаянных“. На глазах у них были слёзы. Некоторые, упав на колени, не поднимали глаз на о. Иоанна, повторяя только: „прости нас“. – „Молитесь, горячо, молитесь Всевышнему, чтобы Он простил ваш тяжкий грех и очистил сердца ваши“, и, обратившись, к алтарю, сам о. Иоанн долго молился. По окончании собеседования о. Иоанн вышел из церкви и направился в дом священника, сопровождаемый духовенством и полицейскими властями. До поздней ночи ходил по селу народ, останавливаясь под окнами, в которых виднелась фигура о. Иоанна, склонившегося в молитве. Утром 3 октября о. Иоанн служил литургию в храме и произнёс слово о людском неверии и религиозных заблуждениях, призывая заблудших к покаянию и советуя им в минуты своего сомнения обращаться к своим духовным пастырям и не слушать разных смутьянов Церкви. Церковь еле могла вместить всех молящихся из окрестных деревень и сёл. После литургии о. Иоанн снова обратился к сектантам: „Искренно ли вы раскаялись?“ – „Каемся, батюшку, каемся, помолись за нас“. Подозвав к себе руководителя секты Артамонова, о. Иоанн неоднократно и ему предлагал тот же вопрос. Артамонов приносил полное раскаяние, прося о. Иоанна простить, ему его грех. Выйдя из храма, о. Иоанн, по просьбе Артамонова, отправился к нему в деревню Хорошево. Здесь у сектантов рядом с домом Артамонова была, устроена молельня, где изображение о. Иоанна висело рядом со святыми иконами, и перед ним зажигались свечи. Пройдя в молельню, при виде своего портрета при такой обстановке, о. Иоанн печально покачал головой и, обратясь к сопровождавшему его Артамонову, велел немедленно убрать портрет со стены и снять крест с крыши молельни. Затем, простившись с духовенством, о. Иоанн направился в обратный путь.
* * *
Пятидесятилетний юбилей профессора Николая Ивановича Субботина
(1852 г. 21 окт. – 1902 гг.).
20 октября исполнилось 50-летие должностной и учёно-литературной, доблестной деятельности на пользу науки, Церкви и отечества заслуженного профессора московской духовной академии, известного расколоведа Н.И. Субботина.
Юбилей маститого-профессора расколоведа представляет собой знаменательное торжество для всей внутренней миссии Церкви, и для каждого, кто так или иначе причастен к этому святому служению: благодаря учёно-литературным трудам Николая Ивановича по исследованию истории раскола, миссия стала в своей полемике против лжеучений раскола на твёрдую почву. Особенно это нужно сказать о той части раскола, которая известна под именем „поповщины“ и в частности австрийской её секты, имеющей, как известно, талантливо написанную проф. Субботиным, „Историю Белокриницкой иерархии“. „Миссионерское Обозрение“, как орган миссии, считает своим нравственным долгом приветствовать досточтимого юбиляра с счастливо и благоплодно совершившимся пятидесятилетием его верной, твёрдой и энергичной службы Церкви „борьбой с расколом” и пожелать, чтобы маститый учёный ратоборец также неустанно бодрствовал на своей страже и ещё много-много лет!
Дабы оживить в памяти наших читателей труды и заслуги доблестного юбиляра на пользу миссии Церкви за истекшее пятидесятилетие, приводим из (289 и 290 №№) „Московских Ведомостей“, где Н.И. Субботин сотрудничает ещё со времён Μ.Н. Каткова, прекрасную юбилейную характеристику учёно-литературной и общественной деятельности Николая Ивановича и описание его чествования.
Раскол старообрядчества – давняя болезнь нашего церковно-общественного организма. С самого её возникновения велась с ней борьба, причём средства употреблялись временами самые решительные, которые, однако, оказывались мало достигающими цели. Одной из причин недостаточной успешности этой борьбы было, конечно, то обстоятельство, что средства борьбы направлялись против пароксизмов недуга, сущность которого не была подвергнута надлежащему исследованию. Да и из наружных проявлений раскола борьба считалась с теми, которые сказывались особенно резко и решительно нарушали мир и порядок церковных и общественных отношений. Внутренние, часто очень сложные, процессы возникновения этих явлений оставались неисследованными.
Исполняющийся ныне пятидесятилетний период деятельности Н.И. Субботина знаменуется совершенно другим направлением в деле борьбы с расколом. Выступив на учёно-литературное поприще в разгар шестидесятых годов, когда противо-церковные и противогосударственные элементы действовали у нас особенно оживлённо и в среде раскола хотели видеть себе сочувствие и пособничество, почтенный юбиляр пошёл „против течения“. Кровные заветы старой нашей церковной школы и руководительство приснопамятного митрополита Филарета были для молодого учёного, при лучших задатках его личности, надёжной поддержкой в те годы общего шатания мысли, когда общественным мнением руководили Искандеры и tutti quanti. В те годы с учёных кафедр стали раздаваться учения о расколе, идеализировавшие это нездоровое явление и ставившие его на высоту дешёвых подмостков, наскоро сколоченных из модных тогда социальных теорий и тенденциозно-надёрганных обрывков исторического материала. Раскол находил себе оправдание и защиту и в учёной литературе, и в публицистике шестидесятников, что было совершенно на руку его руководителям и распространителям. Незадолго перед тем главари Рогожского кладбища учредили за границей свою митрополию, и возникшая литературная шумиха в пользу раскола давала им надежду на успех их затеи в глазах Правительства и общества.
При таких обстоятельствах со страниц органов Н.Μ. Каткова раздалось твёрдое, убеждённое слово Н.И. Субботина. В нём впервые для нашей публицистической литературы сказалось близкое, основательное знакомство с внутренней жизнью раскола, с „современными в нём движениями“; блестящее изложение фактов этой жизни, спокойное и новое для читающего мира освещение их, сразу завоевали молодому профессору внимание и симпатии лучших людей нашего общества, дорожащих заветами русской православной старины.
Не остались глухи к слову Николая Ивановича искренние представители нашего старообрядчества: это живое и горячее слово заставило наиболее выдававшихся членов австрийской иерархии, каковы Онуфрий, Пафнутий, Сергий и Иустин114 задуматься над своим иерархическим в расколе положением. Следствием этого было, как известно, изъявление ими покорности православной Церкви. И сколько ещё после того лучших людей из старообрядчества присоединились к Церкви, получив первый к тому толчок в литературных трудах почтенного юбиляра. Возникавшая таким путём духовная связь его с присоединившимися из раскола, наиболее искренними и просвещёнными, старообрядцами не прерывалась и впоследствии. Благодаря этому, в руках Н.И. Субботина собрался громадный материал, сделавший его едва ли не лучшим знатоком современного положения поповщинского раскола во всех его разветвлениях. Материал этот не остался под спудом. „История Белокриницкой иерархии“, „Переписка раскольнических деятелей“, „Летописи происходящих в расколе событий“, – представляют богатейшее собрание документальных и фактических данных по истории поповщинского раскола, более чем за полувековой период.
В 1865 году присоединился к Церкви знаменитый Павел Прусский. Узы тесной дружбы связали тогда с Н.И. Субботиным этого великого знатока церковных учений, душа которого глубоко и тяжело переболела раскольническими заблуждениями, от которых избавились лишь путём долговременной напряжённой работы пытливой мысли, после тщательного исследования истины, после нелёгкой внутренней борьбы. Непрерывное тридцатилетнее общение с отцом Павлом ещё ближе связало Н.И. Субботина с тем миром, изучению которого он посвятил свои силы. Являясь дорогим для отца архимандрита сотрудником в деле издания полемических и других его сочинений, Николай Иванович имел постоянные непосредственные сведения о происшествиях в раскольническом мире, представители которого со всех концов России собирались в Никольский монастырь к авторитетному его настоятелю со своими сомнениями и нуждами. В разъяснении тех и в удовлетворении других почтенный юбиляр постоянно разделял труды своего покойного друга.
В 1875 году Николай Иванович основал первый у нас журнал, посвящённый изучению раскола. По богатству материала, напечатанного за 8 лет существования этого издания, по живой отзывчивости на все события в раскольническом мире, по трезвой и основательной их оценке, „Братское Слово“ является единственным в своём роде специальным журналом и на долгие ещё годы останется богатым источником в своей области. Как приложение к этому журналу, предпринято было издание материалов для истории раскола в первое время его существования; после III тома „Материалы“ стали выходить особым изданием. Этот капитальный труд, исполненный Η.И. Субботиным, внёс новый свет в историю происхождения раскола и первоначального его развития, являясь ценным вкладом в нашу историческую науку. Благодаря тому же „Братскому Слову“, впервые увидели свет много исторических и полемических сочинений относящихся к. XVIII веку.
Широкая и плодотворная деятельность в области науки о расколе, непрерывный и многоплодный труд на поприще литературы не исчерпывают, однако, заслуг почтенного юбиляра. Благодаря его энергии, после долгих и многих предварительных хлопот, в Москве основалось в 1872 году братство св. Петра митрополита для содействия к ослаблению раскола; с самого возникновения братства и до прошлого года Николай Иванович состоял его секретарём, ныне же товарищем председателя. Широкая деятельность этого Братства в деле распространения противо-раскольнических изданий, устройстве собеседований и открытии школ распространилась на всю Россию.
То новое и разностороннее освещение раскольнического вопроса, которому так много послужили труды почтенного юбиляра, имело своим последствием целый ряд мероприятий церковного правительства в отношении борьбы с расколом. Укажем на заботы об единоверии, на введение в учебный курс духовных семинарий учения о расколе и сектантстве, на учреждение миссионерства и мн. др. В выработке всех подобных мероприятий Николай Иванович принимал деятельное участие. Так, на Казанском соборе поволжских и северо-восточных епископов 1885 года при участии почтенного юбиляра был выработан проект соборного постановления „о расколах и сектах и о мерах ослабления раскольнической пропаганды“. В 1887 и 1891 годах мы видим Н.И. Субботина секретарём всероссийских миссионерских съездов, где выяснены были современное положение раскола и нужды православной миссии; постановления этих съездов легли в основу тех, способов борьбы с расколом, которые ныне указаны духовной властью и духовенству, и миссионерам.
Не легка столь разносторонняя и плодовитая деятельность по количеству труда, исполненного почтенным юбиляром; не легка она была для Н. И. Субботина и по тем особым условиям, в которых живут и действуют борцы против раскола. Не говоря уже о постоянной вражде представителей раскола, проявляющейся иногда грубо и резко, ему приходилось бороться с либеральной нашей интеллигенцией, которая всегда берёт раскол под свою защиту; немало испытывал и от разновременной перемены веяний, в отношении раскола, в правящих кругах. Тем, однако, почтеннее и ценнее полувековая деятельность маститого юбиляра. Тем с большей признательностью и уважением, приветствуем мы Николая Ивановича в этот знаменательный для него день.
20 октября торжественно и задушевно происходило чествование заслуженного профессора моск. дух. академии и товарища председателя Братства св. Петра митрополита – Николая Ивановича Субботина, по случаю пятидесятилетия его учёно-общественной деятельности.
По этому случаю в Богоявленском монастыре литургию совершал высокопреосвященный митрополит Владимир, соборне с председателем Братства преосвященным Трифоном, еписк. Дмитровским.
Следовавшее затем молебствие митрополит совершил соборне с преосвященными Трифоном, ректором моск. дух. академии Арсением и многочисленным духовенством.
Чествование Н.И. Субботина состоялось в покоях преосвященного Трифона, куда прибыли митрополит и всё сослужившее ему духовенство, преосвященный Парфений, епископ можайский, преосвященный Нафанаил, управляющий Спасо-Андрониевским монастырём и все депутации.
Здесь было совершено митрополитом краткое молебствие с провозглашением многолетия юбиляру. В начале высокопреосвященный митрополит приветствовал юбиляра, с пятидесятилетним доблестным служением его науке, Церкви и Отечеству. В своём приветствии владыка отметил удивительную энергию Н.И. Субботина, которую не ослабили годы юбиляра, что его служение на пользу Церкви является подвигом апостольства.
В заключение своей речи владыка высказал приветствие от высшего церковного управления в России – Святейшего Синода. Митрополит благословил юбиляра иконой его небесного патрона св. Николая чудотворца.
Юбиляр выразил владыке благодарность за внимание к его деятельности, которое тронуло его до глубины души. В своей ответной речи Н.И. Субботин вспомнил об отношении к нему приснопамятного митрополита Филарета, дарившего юбиляра своим особым вниманием. „И ныне, в поздний вечер моей жизни, – сказал Н.И. Субботин, – вы, владыка, утешили меня с братией, за что я глубоко благодарен вам“.
Секретарь Братства св. Петра митрополита священник С.Μ. Марков прочитал приветственный адрес, в котором очень подробно охарактеризована вся разносторонняя деятельность Н.И. Субботина на пользу Церкви, науки, юношества, общества, а вместе и государства. В адресе особенно выставлены неоценимые заслуги юбиляра в области борьбы с расколов. По выслушании адреса, преосвященный Трифон поднёс юбиляру от Братства икону св. Петра митрополита.
Тронутый приветствием и любовью Братства, Н.И. Субботин заметил, что нынешний день составляет светлый праздник в его жизни.
Затем преосвященный ректор московской духовной академии епископ Арсений прочитал адрес от академии. В нём отмечены были заслуги юбиляра по разработке истории русского раскола, впервые получившей, благодаря его трудам, научную постановку, а также выставлены и его заслуги для православной противо-раскольнической полемики изданием „Братского Слова“; в адресе также была отмечена его плодотворная деятельность в качестве профессора академии.
В состав академической депутации, кроме преосвященного ректора, входили профессор П.И. Цветков и доцент И.Μ. Громогласов.
Архимандрит Троицкой лавры Никон, приветствуя юбиляра, поднёс икону св. Сергия преподобного и заздравную просфору.
Затем следовало приветствие от попечительного совета Александро-Мариинского дома призрения в Сергиевом Посаде, ректора московской духовной семинарии архимандрита Анастасия от лица бывших учеников, которые с благодарностью вспоминают о нём, как о выдающемся профессоре.
Явились также с приветствием и московские единоверцы. Протоиерей И.Г. Звездинский отметил заслуги юбиляра в области единоверия и поднёс икону Св. Троицы от московской единоверческой Троице-Введенской церкви. Приветствие единоверцев очень тронуло юбиляра.
Редактор журнала „Вера и Церковь“ протоиерей И.И. Соловьев, приветствуя юбиляра, поднёс свой труд, посвящённый его деятельности под заглавием: Пятьдесят лет служения Церкви борьбой с расколом.
Редактор „Душеполезного Чтения“ профессор А.И. Введенский, в своём кратком, но выразительном приветствии припомнил, что покойный руководитель журнала протоиерей Д.Ф. Касицин назвал юбиляра высшим специалистом по расколоведению, и с тех пор имя Н.И. Субботина, в таком именно значении, ставится на заглавных страницах журнала, наряду с другими славными в православной России.
Профессор В.О. Ключевский принёс юбиляру поздравление от Императорского Общества Истории и Древностей Российских и присоединил к нему своё личное приветствие с наилучшими пожеланиями.
Адресом приветствовала юбиляра редакция „Московских Ведомостей“.
Следующее приветствие принадлежало старейшему московскому протоиерею Π.В. Приклонскому. Игумен Никольского единоверческого монастыря поднёс юбиляру икону св. Николая чудотворца от обители. Затем приносили приветствия многие из присутствовавших представителей духовенства.
Юбиляр отвечал на каждое приветствие выражением глубокой благодарности, будучи глубоко тронут.
Затем священником С.Μ. Марковым прочитаны были полученные приветствия: от многих епископов, от товарища обер-прокурора св. Синода сенатора В.К. Саблера, от историка И.Е. Забелина, от профессора Певницкого и от многих лиц из разных мест России.
Редакция „Мисс. Обозр.“ приветствовала письмом.
В заключение хор певчих исполнил „Многая лета“…
† Отец протоиерей Иоанн Добровольский. В ночь с 25 под 26 число апреля месяца сего 1902 года, в городе Марьямполе, Сувалкской. губ., при исполнении служебных обязанностей по благочинию, скончался 66 лет от роду о. протоиерей Иоанн Стефанович Добровольский, настоятель Покровской единоверческой церкви в селе Покровске или Каролине, Сейнского у., благочинный IV варшавского округа, и единоверческих церквей холмско-варшавской епархии и миссионер. Покойный был сын псаломщика Костромской епархии, образование получил в Костромской духовной семинарии с званием студента. Всю жизнь свою покойный служил св. Церкви на почве единоверия; работал, не покладая рук. В 1856 году он поступил диаконом к Черниговской градской единоверческой церкви. В том же году, по избранию прихожан, назначен единоверческим священником в посад Воронок. Затем, по избранию же прихожан, был единоверческим священником в посадах Добрянке и Радуле, состоя в то же время миссионером. В 1866 году в миссионерских видах о. Иоанн был определён настоятелем Покровской единоверческой церкви, в каковом служении и пребывал до конца своей жизни. С 1880 по 1900 год покойный состоял кроме того законоучителем Сейнского трёхклассного городского училища. Не раз о. протоиерей был посылаем епархиальным начальством с миссионерской целью в соседнюю Пруссию, где им за разное время и присоединено из раскола к православию на правах единоверия до 500 душ. Присоединённые переселились из Пруссии, по инициативе о. Иоанна, в Варшавскую губернию, где были Высочайше наделены землёй и образовали единоверческий приход Благодатное. Всех раскольников присоединено им до 700 душ. В отправлении своих благочиннических обязанностей (которые он нёс более 15-ти лет) покойный отец протоиерей отличался неподражаемой аккуратностью, а в совершении богослужения – торжественностью и истовостью. За свои труды и отличное усердие по епархиальной службе о. Иоанн имел награды до Владимира 4-й степени включительно. Его свыше тридцатипятилетнее миссионерское служение среди раскольников Сувалкской губернии, благотворно отразилось на религиозно-нравственном состоянии местного, раскола. И имя о. Иоанна надолго останется в памяти населения нашего края. Все, кто знал покойного пастыря и миссионера, вознесут свои горячие молитвы об упокоении его души в царстве небесном. Вечная ему память и царство небесное!
27 сентября 1902 г. Витебск.
Свящ. Е. Зубарев
* * *
За столом причащаются. (Современное беспоповское учение о причащении). Старообрядцы, обыкновенно поражающие своей щепетильностью в обрядах, едва уловимыми мелочами при исполнении обрядов, нередко являются необузданными в мысли, в понимании самых основных христианских учений. Нагляднейшим примером этого может служить псковский купец-миллионер Василий Хмелинский, умерший лет десять назад. Он додумался до положительно невероятного учения о причащении. Его излюбленным чтением были старинные повести о том, как вкушают пищу богоугодные люди: они принимают пищу с молитвой, в благоговейных размышлениях, со страхом Божиим и трепетом; ангелы Божии присутствуют среди них и невидимо предлагают им небесные плоды. Начитавшись подобных повестей, Хмелинский совсем утратил само понятие о причащении. „Нас церковные (т. е. православные) укоряют, что мы не причащаемся, говорил он, но мы можем причащаться даже каждый день. Садясь за стол – обедать или ужинать, помолись, как это положено, во время еды молись, размышляй о Боге, и твоя пища будет со страхом и трепетом Божиим. Ангелы Божии снизойдут к тебе на стол, будут окружать тебя, простой твой хлеб превратится в божественный, простая чаша сделается небесной чашей; Сам Господь будет взирать на тебя с любовью; Он Сам сойдёт к тебе на стол. Так простой хлеб заменит тебе причастие“. С такой проповедью Хмелинский обращался ко всем и постоянно. Обыкновенно беспоповец с волнением, внутренним трепетом говорит о причащении и сокрушается неимением этого таинства. Хмелинский же был совершенно спокоен, на его лице как будто написано было: поел, насытился и вместе причастился.
Не могу определить происхождение этого учения; самолично ли Хмелинский измыслил его под тревожным давлением мысли о необходимости причащения и невозможности для беспоповца исполнить это, – или же это нелепое учение он заимствовал от какого-нибудь бродячего беспоповского проповедника. Несомненно, однако, что это учение получило некоторое распространение среди беспоповцев, – есть даже признаки, что оно начинает входить в общее беспоповское миросозерцание. Современные беспоповцы формируются в два ясно определённых лагеря: одни, дорожащие священством, склоняются к православию или же к австрийщине; другие, вырабатывая протестантский склад мысли, совсем перестают думать о священстве и причащении. Первые, не чувствуя себя самостоятельными, утратили любовь к письменности, и новых писаний в этом направлении не появляется; другие усердно пропагандируют свои учения, и литература у них процветает. Замечательно, что в этих писаниях уже не встречается, как прежде, жалоб на лишение священства и не слышно в них плача о неимении причащения, каким (плачем) наполнены беспоповские произведения ХVIII и первой половины XIX ст. Изложенное учение Хмелинского служит одним из переходных звеньев между беспоповцами прежними и беспоповцами современными, протестантскими. Прежние беспоповцы, как бы ни яростно нападали на православную Церковь, всё же имели здравые понятия о таинствах и, не имея оных, не дерзали успокаивать себя теми или иными самоизмышлёнными учениями, В учении Хмелинского с одной стороны чувствуется некоторое вспоминание о таинстве, а с другой – окончательно разрушается само понятие о причащении: оно превращается в простую еду. Передаём это учение, как образчик необузданности, какой-то стихийности беспоповской мысли и решительного уклонения её в сторону ясно выражающегося протестантства.
В. О. (Μ. Ц. В.).
* * *
Наставление саровсного подвижника о. Серафима о троеперстном сложении для крестного знамения. Саровский подвижник о. Серафим не был миссионером в том смысле, чтобы ходить или ездить по местам, заражённым расколом, и выискивать случаев для прений о вере; но его дух и сила, его слава подвижническая были так велики, что в Саров, православную обитель, к нему приходили сами многие старообрядцы или склонные к расколу за много вёрст из соседних губерний и искали получить от него несомненное решение их недоумений. „Однажды (рассказывает „Житие старца Серафима“, Елагина, дополненное и исправленное, 5-е издание, стр. 145 и далее) пришли к нему четыре человека из ревнителей старообрядчества, жители села Павлова, Горбатовского уезда, спросить о двуперстном сложении, с удостоверением истинности старческого ответа каким-нибудь чудом или знамением. Только что переступили они порог кельи, не успели ещё сказать своих помыслов, как старец подошёл к ним, взял первого из них за правую руку, сложил персты в трёхперстное сложение по чину православной Церкви и, таким образом крестя его, держал следующую речь: „Вот христианское сложение креста! Так молитесь и прочим скажите. Сие сложение предано от св. апостолов, а сложение двуперстное противно святым уставам. Прошу и молю вас, ходите в церковь греко-российскую, она во всей славе и силе Божией! Как корабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кормило, она управляется Св. Духом. Добрые кормчие – её учители; они преемники апостольские. А ваша часовня подобна маленькой лодке, не имеющей кормила и вёсел: она причалена вервием к кораблю нашей Церкви, плывёт за ней, заливаемая волнами, и непременно потонула бы, если бы не была привязана к кораблю“. – В другое время пришёл к нему один старообрядец и спросил: „Скажи, старец Божий, какая вера лучше – нынешняя церковная, или – старая?“ – „Оставь свои бредни, – отвечал о. Серафим, – жизнь наша есть море; св. православная Церковь – есть корабль, а кормчий – Сам Спаситель. Если с таким кормчим люди, по своей греховной слабости, с трудом переплывают море житейское и не все спасаются от потопления, то куда же стремишься ты со своим ботиком и на чём утверждаешь свою надежду – спастись без кормчего?“ Однажды зимой привезли на санях больную женщину к монастырской кельи о. Серафима и о сём доложили ему. Несмотря на множество народа, толпившегося в сенях, о. Серафим просил принести её к себе. Больная вся была скорчена, коленки сведены к груди. Её внесли в жилище старца и положили на пол. О. Серафим запер дверь и спросил её:
– Какая причина твоей болезни?
– Я была прежде, батюшка, православной веры, но меня отдали замуж за старообрядца. Я долго не склонялась к ихней вере и была здорова. Наконец, они меня уговорили: я переменила крест на двуперстие и не стала ходить в церковь. После того пошла я раз вечером по домашним делам во двор. Там одно животное показалось мне огненным и даже опалило меня; я в испуге упала; меня начало ломать и корчить. Прошло немалое время с тех пор, а я всё хвораю.
– Понимаю... – отвечал старец. – А веруешь ли ты опять в св. православную Церковь?
– Верую теперь опять, батюшка! – отвечала больная.
Тогда о. Серафим сложил по православному персты, положил на себе крест и сказал:
– Перекрестись вот так во имя св. Троицы.
– Батюшка, рада бы, – отвечала больная, – да руками не владею.
О. Серафим взял из лампады у Божией Матери Умиления елея и помазал грудь и руки больной. Вдруг её стало расправлять, даже суставы затрещали, и тут же она получила совершенное исцеление. После этого старец много беседовал о силе правильного троеперстного сложения и увещевал присутствующих молить его именем всех своих родных и знакомых, во имя любви к нему, убогому Серафиму, складывать персты по обряду православной Церкви, а над могилами умерших двоеперстников творить молитвы и служить панихиды о разрешении их от уз вечности.“
(„Тамбовск.. Епарх. Вед.“ 1902 г. № 34).
* * *
Из Егорьевска, Рязан. еп. (Письмо в редакцию) 22 сентября здесь в здании двухклассной церковно-приходской школы состоялось торжественное открытие вновь учреждённого миссионерского братства св. великомученика и победоносца Георгия.
Это братство представляет собой отделение епархиального братства св. Василия, епископа Рязанского, и будет действовать под его наблюдением и руководством, согласно своему уставу, утверждённому преосвященным Полиевктом, еп. Ряз. и Зарайским, ещё 1½ года тому назад.
Цель учреждения братства – «противодействие пропаганде местного расколо-сектантства и религиозное просвещение чад православной Церкви» (§ 2 устава). Для осуществления этой цели братство принимает на себя обязанность вести как частные, так и публичные собеседования с православными и раскольниками и обучать лиц, желающих вести подобные беседы. При этом братство обязывается иметь 1., свою церковно-приходскую школу, в курс которой должны, между прочим, входить: краткая история и обличение раскола, в особенности же обличение ложного австрийского священства, 2., свой книжный склад для продажи и бесплатной раздачи книг и брошюр миссионерского характера, и 3., свою бесплатную народную библиотеку с воскресной читальней. Ближайшее заведывание делами возлагается на совет братства, председателем которого единогласно избран местный соборный протоиерей о. А.П. Светлов. В число почётных членов избраны: о. Иоанн Сергиев Кронштадтский, обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев, его Товарищ В.К. Саблер, чиновник особых поручений при обер-прокуроре – редактор „Миссионерского Обозрения“ В.Μ. Скворцов, Учреждение миссионерского братства св. великомученика и победоносца Георгия является делом прямой миссионерской необходимости в г. Егорьевске, как центре местного раскола (австрийского согласия), сильного здесь своими связями с Москвой и соседними Гуслицами. Всех раскольников в уезде насчитывается около 7000 человек.
За последнее время здесь наблюдается особенно сильное оживление в жизни раскольников, их приподнятое настроение поддерживается частыми приездами сюда известных апологетов раскола: Усова, Лежнева, Бриллиантова и Мельникова, по мысли последнего недавно старообрядцы даже подали местной власти ходатайство об учреждении в Егорьевске особой школы для их детей исключительно с раскольническим учительским персоналом. Деятельно ведётся здесь и пропаганда раскола, иногда даже довольно оригинальным способом. Так, например, один фотограф-старообрядец, ярый враг Церкви, в первых числах сентября (ярмарочное время) выставил в витрине копию с картины художника Сурикова с такой демонстративной подписью, сделанной чернилами:
„Молитесь так, православные, вот сицевым знамением!“ А на картине изображена скованная цепями боярыня Морозова с поднятым двуперстием. Приезжие на ярмарку мужики-старообрядцы толпой стояли около витрины и громко выражали своё одобрение...
„Миссионерский кружок“, бывший доселе здесь, не сумел сплотиться для деятельной борьбы с расколом
В виду всего этого можно только порадоваться открытию братства и горячо пожелать успеха такому благому начинанию.
К. Рос-в
Скворцов В. Со скрижалей сердца // Миссионерское обозрение. 1902 г. № 9–12. С. 723–736
Ещё и ещё о духоборах. – Кто и насколько виновен в бывших и нынешних духоборческих безумствах? – Закавказский поход духобор „на встречу Христу“ и действия кн. Шервашидзе. – Отклики печати о духоборческой трагедий в Канаде. – Недомолвки «Нов. Вр.» и откровенность «Моск. Вед.». – На именинах у о. Иоанна Кронштадтского.
Драмы и трагедии, глубоко потрясающие сердца людей и народов, в наше время стали так заурядны и так поразительно страшны, что верующая мысль невольно останавливается на предречённом в св. Писании „последнем времени“... На самом деле, разве мартиникская катастрофа, в один миг упразднившая кипучую жизнь цветущего города с десятками тысяч людей не способна жечь сердца людей, и уже не словом, а самым фактом и примером напоминая о том, что должно быть по непреложному слову св. Писания „при последней трубе“!
Но осуетившееся, обтерпевшееся, притупившее своё духовное осязание и впечатлительность человечество уже и забыло об этой величайшей из всех мировых катастроф, о ней замолкли, увлечены новой сменой новых поражающих событий, новых драм и трагедий, с их захватывающими интересами, жгучими болями...
Мы не ошибёмся, если скажем, что после мартиникской катастрофы, едва ли что другое из совершившегося за последнее время способно вызывать такой жгучий, болезненный для сердца интерес, как духоборческая драма, разыгравшаяся в последние 3 месяца в Новом Свете, в Канадской Манитобе... Трудно вообразить себе это море всяческих лишений и ненужных, бессмысленных страданий – физических и нравственных, медленных, продолжающихся годы!!. Представьте только, какая это каторга, пытка для здравомыслящих среди духобор! Нужно знать, что безумствуют-то ведь только десятки, диктуют свою волю и насильствуют над массой единицы, а страдает ничего не понимающая из происходящего вокруг себя, многотысячная масса забитых, покорных людей, – страдают безгласные женщины, невинные дети, слабые немощные старики!.. Страдают бессмысленно, фатально, умирают, как упрямые стоики. Драма длится годы, катастрофа нынешняя подготовлялась почти 10 лет. Что же сделано для предотвращения её со стороны нас единокровных, старших братьев, ходящих и живущих в свете истины? Прямо больно и стыдно становится при мысли, что среди православных ревнителей веры и миссии не нашлось таких героев духа и веры, которые бы самоотверженно ринулись в это взбаламученное море на миссионерскую борьбу с толстовско-духоборческим мракобесием, для спасения духовно и физически погибающих!
Ведь вот сектанты, а здесь толстовцы, нелегально, воровски действуют, а успевают сеять свои плевелы, умеют организовать свою дружину (интеллигентных просветителей в Закавказье в 1894–96 годах действовало до 40 человек) и провели же в потемнённое религиозное сознание духоборческого мира бродило новой, во всех отношениях противоестественной, несвойственной массе жизни! Невежественные духоборы, как мотыльки в тёмную ночь, полетели на огонь толстовства, обожглись и вот ныне погибают в мучительной агонии полного, массового умопомрачения... А мы-то, православные люди, в идейный противовес пропаганде религиозного маньячества не сделали ничего особенного, не казённого!.. А сделать можно было: и в Закавказье, и в Канаде были протестующие против насилия интеллигентов-развивателей, и против своих смутителей трезвые голоса из среды самих духобор, но здравомыслящие оставались без поддержки. Мы близко наблюдали духоборческое движение и уверены, что можно было найти среду и почву, которая была бы удобна для проповеди здравого учения. И в Канаду потянулись и действовали там толстовские делегаты, а из православных мы знаем одного добровольца, который ревновал духом и рвался в Америку помериться силами с толстовскими учителями, это не безызвестный Μ. С-ко, раскаявшийся толстовец, исповедь которого печаталась у нас (который, заметим à propos, недавно изобличал в бесовщине фокусника Ленца на страницах „Тул. Е. Вед.“).
Но можно ли винить русских ревнителей православия в равнодушии к судьбе духобор и к делу миссии среди них, когда наша печать, руководительница общественного мнения, всегда замалчивала правду о волнениях среди духобор? Правда и то, что среди русских православных людей нет сознательного отношения к исповеданию своей веры, не развит дух миссионерства и прозелитизма... Слаб свободный почин, нет инициаторов для такого боевого дела, как миссия среди сектантов, которые считаются нашими передовыми людьми и печатью чуть ли не солью земли русской. Так или иначе, а вина Церкви и русского общества всё-таки есть в допущении нынешней трагедии у духоборов.
Есть вина здесь и местного правительства, а если хотите, то и законов, в том отношении, что за духоборами по переселении их в Закавказье, когда их бытовой и общинный строй был при императоре Николае I исследован и понят, не наблюли надлежащим образом, не руководили ими, как следовало бы, не ограничивали их сепаратистских повадок. Снова дали развиться самоуправству и самодурству и тем диким началам внутренней жизни, которые обособляли, замыкали многотысячное духоборье в тесное, узко эгоистическое, отрешённое от всего общегосударственного, кагальное кольцо, с деспотическим господством над тысячами одного ума и одной воли обожаемых главарей, людей жестоких и безнравственных. И не меньшая вина местной власти в том, что пропустили в тёмное духоборческое царство и просмотрели толстовскую пропаганду...
Затем, соображая теперь все обстоятельства дела, приходится считать ошибкой расправу местной власти с Петрушей Веригиным по чисто формальным поводам, в угоду духоборческой олигархии, и в противность обще-духоборческому настроению. Последний в 1886 году, после смерти „правительницы Луши“, как её фаворит, всемерно старался „воссесть на духоборческий престол“. Петруша несомненно нахальный, высокомерный, хвастливый узурпатор, но в тоже время он человек умный, ловкий, сравнительно развитой, а главное он обожаемый любимец огромной партии, а потому был силой и, в руках местной власти, этот человек мог быть полезным орудием и сыграть огромную роль в истории духоборья. Стань власть во время междоусобья духоборческого на сторону его партии и не высылай Петрушу в Шенкурск, где его обратили толстовцы „в свою веру“, кто знает, может быть, духоборье было бы и в наших руках и во всяком случае не дошло бы дело до подобной катастрофы.
К походу на восток, на встречу „Христу“, т.е. Петруше Веригину, духоборы собирались ещё в Закавказье, в первый период острого брожения в июле в 1895 г. когда тифлис. губернатор, кн. Шервашидзе, в видах пресечения этого безумства и ради спасения здоровой части духобор от волнений, решился выбросить волнующуюся (до 4-х тысяч) часть в горы Кахетии и Карталинии. С точки зрения нынешних безумных событий в Канадском духоборье решительные действия кн. Шервашидзе получают другую окраску. Он несомненно спас 8 т. духобор, живущих ныне мирно в Закавказье.
Не подлежит сомнению, что и теперь мистическим объектом религиозного помешательства канадских духобор и этого безумного похода на восток, навстречу „Христу“, был всё тот же Петруша, представляющийся доселе обезумевшей, совершенно, свихнувшейся толпе единственным её спасителем. Разуверившись в интеллигентных спасателях, разочаровавшись в своих поисках „царствия Божия“ в Канадской земле, духоборческие пророки шли отыскивать своего природного спасителя. И туже военную силу выслали просвещённые американцы против духобор, за что ранее у нас травили либералы закавказское начальство...
Вот какие надрывающие сердце новые подробности сообщает заграничная пресса об этом последнем походе.
Из Виннипега Агентству Рейтера телеграфируют, что духоборы, вышедшие из Йорктауна, были вечером 21 окт. (ст. стиля) застигнуты у Фоксваррена страшной снежной бурей. Они должны были провести всю ночь среди ужасных лишений в ольховых кустарниках, где их ничто не прикрывало от бури, и их тонкие льняные рубахи не могли их согреть. Люди похудели так, что похожи на скелеты. Некоторые страдают воспалением лёгких, и положение всех ужасно. Несмотря на всё это, коноводы настаивают на продолжении путешествия в Виннипег, где они встретят Иисуса Христа. Единственной пищей служат им дикие ягоды, пшеница и другие сырые припасы, которыми награждает их население. 4 ноября утром паломники продолжили свой путь к востоку.
Духоборов, по тем же сведениям, сопровождает конная полиция, которая, по приходе их в Виннипег, намерена всех неспособных к работе поселить в бараках, предназначенных для переселенцев.
Мы должны взять назад высказанный нами выше, в статье о духоборах, упрёк нашей русской прессе в том, что она молчит о Канадской духоборческой драме. Когда уже была в печати наша статья, газеты заговорили, но с тенденциозными недомолвками на счёт настоящей правды этой истории, – тщательно скрывая или обходя виновность толстовства и самого гр. Толстого, в трагических событиях, разыгравшихся в Канадском духоборье. Вследствие такого умышленного укрывательства ближайших виновников, получается какое-то вилянье, фальшь в освящении светской печатью причин Канадской драмы.
Не чужда такого греха и статья „Нов. Вр.“, где г. Энгельгарт (№ 9576) высказывает глубоко верную мысль, что духоборы, (а мы утверждаем, что таково духовное свойство всех наших сектантов) самые чёрствые, неумолимые эгоисты и прямо самодуры, которые „довели нравственность до такой крайности, что она стала безнравственной“. С этим, кто знает духобор и сектантов, всякий согласится, что же касается других утверждений почтенного публициста, то, извините, с ними согласиться трудно, так они своеобразны. Позвольте, где и когда „абсолютная нравственность становится абсолютным эгоизмом“? По разуму православного учения, во Христе лишь абсолютная нравственность, но Он в тоже время и воплощённая добро и бесконечная любовь... Откуда автор взял что личная жизнь духобор „абсолютно чиста“, что духоборы „охвачены будто бы святым порывом, да ещё и чистой (?) религиозности“, что эти люди „может быть, действительно, святые“... Так говорить, значит, совсем не знать ни истории, ни психологии духобор, ни нравов их и лесом туманных фраз затемнять спутанное дело.
Доселе аксиомой считалось, что люди, „охваченные чистой религиозностью, со святыми порывами“, обладающие „действительною святостью“ не могут быть по самой природе своей души и сердца „на практике“, т. е. в жизни безнравственными, чёрствыми эгоистами, какими совершенно справедливо г. Энгельгарт сам признаёт духобор... В том-то и дело, что у духобор не святые, а безумные порывы, не чистая религиозность, а до крайности извращённая живёт и движет духоборами. А затем любопытно, когда и как это нравственность может быть доведена до крайностей и сделаться безнравственной? По православному пониманию христианской нравственности она никогда и ни у кого не может быть доведена до крайностей, ибо пределы её безграничны; „будьте совершенны, якоже Отец ваш небесный совершен есть“...
Не правильно освещает г. Энгельгарт дело, говоря, что духобор охватил болезненный экстаз из-за того, что им не удалось „переупрямить“ американцев. Наоборот, духоборы переупрямили, и американцы уступали и пошли было на компромисс, относительно своих, предъявленных к духоборам законных требований, но и это их не спасло от новых волнений. Нет, гораздо более глубокая психология лежит в основе этой трагедии, а корень её в вековом своеобразном укладе жизни, приведшем „духоборческую нацию“ к психозу и вырождению, наркоз толстовского учения ускорил процесс разложения своеобразной общины, не имевшей в духовном содержании своём довлеющего живого духа.
Однако, читатель, лучше сами познакомьтесь с тем, как пишется история о духоборах в светских органах печати. Вот эта статья „Нов. Вр.“:
„Переселившиеся из России в Канаду духоборы, пишет г. Энгельгард в «Нов. Вр.» конечно, менее всего могли рассчитывать здесь найти те условия, при которых возможно устроиться по их учению. В России, с её общинным строем, всё же взгляды духоборов не так чужды и непонятны, как в Америке и во всей Западной Европе, где царят начала римского права властно и нераздельно. Хоть какое-либо снисхождение духоборы могли найти среди своих. Но на чужбине от них требуют выполнения местных законов, и при отказе они становятся в положение „нелегальных“ бродяг и непомнящих родства.
Духоборы обратились с посланием ко всем государствам мира и даже к султану. Они просят отвести им земли, но на том условии, что подданными они не будут, никаких человеческих законов исполнять не намерены, не станут платить никаких налогов, не будут регистрировать браков, рождений и смертей (от этого они отказываются и в Канаде), поставлять рекрут, защищать свою собственность, отстаивать свои права. Они будут питаться плодами и овощами и работать своими руками. Понятно, что никто духоборов к себе на этих условиях не пустит. Пусть личная жизнь их абсолютно чиста и безвредна для окружающих, пусть они охвачены самым святым порывом чистой религиозности, всё же на практике они являются эгоистами, которые не хотят знать ничего и никого, жить вне общения с внешним миром, не нести никаких к другим людям обязательств и не признавать за ними ни каких прав.
Крайности сходятся. Абсолютная нравственность (?) становится абсолютным эгоизмом. В самом деле представьте себе, что рядом с вами живет ни мало, ни много свыше тысячи человек, которые намерены размножаться и через несколько поколений удвоятся и утроятся в числе. Эти люди ничего никому не дают, по той простой причине, что не торгуют, не платят налогов, не поставляют рекрут, на. исполняют никаких законов. Напали на вас враги, они не по могут- Скрылся среди них вор, убийца – они его не свяжут и не выдадут. Ни чем, что с вами происходит, они не интересуются. Они питаются овощами и плодами и живут только по Божьему закону. Но вы должны им верить на-слово, что они и впредь всегда будут жить по-божьи. Понятно, что такие люди, может быть действительно святые, если святость есть питание овощами, кроткие, не противящиеся злу, смирные и тихие, должны возбуждать в не принадлежащих к их секте, т.-е. во всём пока человечестве, чувство инстинктивной досады и даже возмущения, как самые чёрствые, неумолимые эгоисты. Человечество может сказать этим людям: «На каком основании вы хотите занять особое, привилегированное положение, когда все остальные несут различные тяжести? Почему обязательное для всех, для вас не обязательно? То сравнительное благоустройство и безопасность, которыми люди пользуются на земле, создано путём долгого исторического процесса. Почему вы полагаете, что история вас обойдёт? На тех условиях, которые вы ставите, вам никто и нигде земли не даст, так как никто, никогда и нигде не признает за вами права уклоняться от исполнения законов, установленных теми, кто отвоевал для культуры у скупой природы, века защищал и поливал потом и кровью ту или иную часть земного шара» При личной святости (?) даже наших духоборов (предполагая, что они действительно в личной жизни высоко нравственны), они в глазах всего человечества являются эгоистами и прямо самодурами. Они довели нравственность (?) до такой крайности, что она стала безнравственной.
И вот эти несчастные люди, объявившие себя умнее, чище и правее всего человечества, очутились в полном одиночестве и без приюта, без угла, на положении нелегальных бродяг, «не помнящих родства», и, отказавшись исполнять человеческие законы, логически поставили себя вне закона. Им конечно не переупрямить американцев или западных людей, для которых собственность и право – краеугольные камни жизни. Тогда их охватил религиозный экстаз, явно принявший болезненные формы. С жёнами и детьми выпустив предварительно скот, раздав имущество, они пошли, подобно средневековым паломникам, «на встречу Христу», проповедовать миру свою правду, «Божий закон». Жуткое чувство холодом обвевает сердце, когда читаешь в американских газетах подробности этого нового крестового похода, предпринятого горстью русских крестьян в XX веке, в стране долларов, миллиардов, трестов, Эдиссона и Пирпона Моргана. Духоборы идут. Женщины падают от истощения с умирающими детьми на руках. Их подбирают. Но как поступить с идущими? Они никому не вредят, не буйствуют, идут, распевая гимны... на встречу Христу! За что их арестовать? И как вообще с ними поступить? Увы, в этом затруднительном случае на совет и помощь американские власти несомненно призовут докторов-психиатров, ибо тут, видимое дело, на лицо массовое помешательство на религиозной подкладке – mania religiosa, да и не без примеси mania grandiosa. Но мы, русские люди, соотечественники этих несчастных мужиков, заброшенных на чужбине, неужели отнесёмся равнодушно к их участи?
Вникая в миросозерцание духоборов, «С.-Пет. Вед.» основательно отмечают его социально-политическую несостоятельность:
„Их идеал – прийти в состояние первобытного человека, то есть, – как говорят другие, – одичать. Но к этому идеалу они идут помаленьку, в виду трудности раздеться до нага и питаться травой, живя под открытым небом. Современную цивилизацию, – добытую, якобы, вопреки воле большинства людей, при помощи насилия, – они считают незаконной и противной Богу.
Секта эта начинает явно распадаться на несколько толков: каждый толк, или каждая партия что-нибудь да делает, и всё более и более двигается вперёд по пути, начертанному для них их основным догматом. Трудно придумать и приискать совокупность всех необходимых для их существования условий. Не может быть, конечно, такого государства, которое признало бы желательным или даже удобным присутствие не признающих никаких законов жителей.
И в климате, отвечающем их вкусам, то есть таком, где они могли бы жить по образу первобытного человека в раю, им грозит верная погибель от животных, не могущих или не желающих вернуться к кротости своих допотопных прародителей. В конце концов, всё-таки приходится прийти к заключению, что, если даже и смотреть на них просто как на пламенных идеалистов, то всё-таки присутствие семи с лишним тысяч человек без надзора не только представляет для всякой страны неудобство, но даже заключает в себе общественную опасность, не говоря уже о той опасности, которой они подвергают себя сами“.
Из этих оценок своего сотрудника «С.-Петербургские Ведомости» могли бы усмотреть, как вредна пропаганда «толстовцев», приводящая к таким общественным опасностям, но газета не решилась договорить истины до конца.
Особенное внимание останавливает на себе следующая неподкупно правдивая статья „Моск. Вед.“ по поводу духоборческих событий в Канаде.
«Сектанты, к обработке умов которых прилагали свои усилия наши „толстовствующие“ интеллигенты, снова дают печальное предостережение русскому обществу, столь легкомысленно равнодушному к развивающемуся на его глазах злу. Павловские разгромы в России и Винипегский поход в Америке по истине соперничают в безумии, доходящем до прямого умопомешательства. Как видим, пресловутые „русские условия“, которыми либеральные защитники всяких нелепых идей любят оправдывать явно вредные последствия их, – все эти „условия“ тут ни причём. При русских и при американских условиях выученики нашей сектантствующей интеллигенции не только оказываются „никому не нужны“, как выражаются теперь американцы о духоборах, но острыми вспышками своего фанатизма приводят в недоумение все правительства, вынуждают к высылке войск и т. п.
Дело оказывается не во внешних условиях, а в тех условиях мышления, которые заложены в головы несчастных их учителями.
С прямолинейностью, которой благоразумно избегают их учители, духоборы не только перестали есть животную пищу, но и решили „освободить“ скотину.
Во имя освобождения своих лошадей и скота, соединённых в „свободное стадо“, духоборы решились даже просить Канадское правительство о „правах“ для этих созданий Божиих и об отводе для них особых земель, на которых лошади и скот могли бы свободно жить...
Отказываешься решить, чему тут более удивляться: непроходимой нелепости, или героической искренности мысли?.. Но это Русские люди, русские натуры, в которых, по их необычайной искренности, всякая ложь доходит до верха безумия, как доходит до величия всякая истина. Это люди, которых ум и совесть должны быть воспитываемы непременно истиной, ибо в противном случае они делаются не просто плохими людьми, а совершенно невозможными безумцами. Так было в Павловках, так вышло в Манитобе и в Винипегском походе, в который слепо двинулась воспламенённая толпа при первом слухе о будто бы имеющем произойти в Винипеге явлении Христа...
Никакие бури и непогоды, ни голод, ни болезни, – ничто не способно остановить эту толпу, полную героизма из сумасшедшего дома...
Тяжело и больно читать все эти описания, возбуждающие жгучее негодование против тех сытых и тепло одетых интеллигентов, которые своими пустыми словами возбудили эти бедные, честные умы людей, которые всем сердцем отдаются тому, что для их учителей составляет простое развлечение праздного ума и раздражение холодеющей совести.
Но ещё большее негодование, если возможно, возбуждают те десятки тысяч людей нашего общества, печати, нередко даже государственной службы, которые, будучи в своих делах столь „благоразумными“ и даже высоко искусными, – создают в России атмосферу культа учений и имён, служащих исходным пунктом и опорой для всех мелких смутителей несчастного народа.
Что движет совестью этих людей общества? Это уже совершенно непостижимо.
А между тем они – эти создатели культа „великого учителя земли Русской“ и ему подобных – главнейшие виновники широчайшего зла, развращающего наш народ.
Не много находится людей, доходящих до Павловских разгромов или до Манитобской колонии умалишённых. Не много людей, которые рискуют отказаться от всех интересов, которые связаны с соблюдением законов и повиновением властям. Но отравляющая проповедь графа Л. Толстого, отрицающего эти законы, призывающего к отказу от военной службы, от обязанностей в отношении суда и т. д. – всё это отрицание основ общественной и политической жизни – производит не меньшее зло, когда усваивается в несколько-разжиженной степени, не доводящей человека до фанатического явного безумия.
А таких средних отрицателей распложается, под покровительством культа „великого учителя“, множество. Они не покидают отечества, но распространяют повсюду вокруг себя атмосферу презрения к нему. Они не отказываются от военной службы, но служат так, что своим примером, а отчасти и словом, деморализуют товарищей по оружию. Такой средний отрицатель не откажется от повинности присяжного заседателя, но будет деморализовать присяжных, будет выносить оправдание всем разбойникам и мошенникам.
Эти рои носителей общественного разложения хуже всяких сумасшедших Павловцев или Винипегцев. Те – отшумели и погибли. Но эти мелкие развратители распложаются тем шире, чем менее заметны, ибо не доходят до деяний, караемых законом, или приводящих к водворению в домах умалишённых. Они свободно размножаются и разъедают страну, и нет этому предела, пока не воспрянет против них общественная совесть.
А между тем люди, которых прямая обязанность осведомлять общество о фактах, освещающих последствия этих антиобщественных учений, упорно хранят молчание, или прямо искажают истину, когда дело касается фактов обличающих нелепость идей и действий разного рода „толстовствующих“ интеллигентов. В деле павловских разгромов – все усилия упорных потатчиков сводились к тому, чтоб отстранить мысль читателя от князя Хилкова, первоначального насадителя сектантства этого злополучного села, и как-нибудь, в чём-нибудь набросить тень на „батюшек“, якобы виновных в деяниях фанатиков. Не много имел успеха в нашей печати и г. Тверской, думавший спасти несчастных духоборов, предупредив русское общество о действительном положении дел. Молчит печать и теперь о связи манитобских событий с пропагандой гр. Л. Толстого. Как, действительно, набросить тень на „великого учителя“! И вот – напрасно гибнут эти несчастные жертвы. Даже гибелью своей они не могут предостеречь других от своей участи. Всё будет замолчано, скрыто, переврано, – и под этим прикрытием молчания и лжи пропаганда будет продолжать своё разлагающее дело, подготовляя новые Павловки, новые Манитобы...
Можно подумать, что Россия не имеет более злых себе врагов, как эти её сыны и граждане. Но почему? Чем она их так обидела и ожесточила? Или это состояние умов составляет тоже некоторую mania antisocialis chronica, подлежащую заботам психиатров»?
Мы к этому лишь добавим стереотипное sapienti sat!..
В. Скворцов
* * *
19 октября – день ангела о. Иоанна Ильича Сергиева. Кронштадтские, столичные и иногородние ближайшие почитатели „великого пастыря“ величайшей православно-русской паствы ежегодно празднуют именины „дорогого батюшки„ многочисленным съездом, участием в богослужении, всяческими подношениями, задушевными словами любви и привета и обильным, чисто купеческим обедом на несколько сот человек. Наши постоянные читатели помнят мои наблюдения и впечатления от именин о. Иоанна в позапрошлом году. В нынешнем году – картина одна и таже, как тот-же и сам о. Иоанн, – бодрый, живой, радостно восторженный, нимало не стареющийся подвижник. Прилив богомольцев ныне как будто даже больше, много было новых лиц и среди „избранных“, т. е. попавших на „именинный пирог“, а попасть сюда нелегче, думаем, чем в Царствие Божие. За трапезой читались стихи простецами – поэтами и говорились речи духовными и светскими ораторами. И всё это с терпением, с радостной улыбкой старец выслушивал. В нынешнем году пальма первенства в ораторстве бесспорно принадлежала духовной академии. Очень понравились всем юношески–горячие, искренние и умные речи двух студентов; выраженные ими чувства свидетельствовали, как глубоко и благодетельно обаяние Кронштадтского пастыря на духовную молодёжь. С глубоким интересом прослушана была речь молодого нового доцента академии о. Михаила. Надеемся, что с не меньшим интересом она и прочтётся. Вот она!
„Да будет позволено сказать слово и мне меньшему в здешней священнической братии.
Бывает, что и из уст „внешних“, даже чуждых и враждебных Церкви приносится хвала Богу. Бывает, что и лжепророки служат Богу словом своим, благословляют тогда, когда, может быть, желали бы проклинать. И вот недавно один из этих чуждых Церкви, а, может быть, враждебных ей, (по крайней мере, из тех, которых часто обвиняют в враждебности к Церкви) сказал светлое и доброе слово о силе молитвы, о инстинктивном тяготении даже неверующих к христианской молитве.
В одном притоне для нищих и всяких отбросов мира и жизни живёт актёр, потерявший и веру в Бога и надежду на Бога. Он совсем на краю гибели. И вот в последнюю минуту, когда он чувствует, что уже совсем кончена его жизнь, что ему надеяться не на что и идти некуда, он идёт к одному, своему сожителю, иноверцу-татарину, попросить его молитвы. Иноверец отвечает, „каждый за себя молиться должен“. И тогда рухнула последняя надежда у несчастного, обломилась последняя соломинка, за которую он держался, и он погиб.
Таким образом, даже потерявший веру инстинктивно цепляется за молитву, как якорь спасения, инстинктивно чувствует силу и необходимость молитвы; необходимо ищет и видит в молитве, даже не веруя, последнее средство в жизненных невзгодах. Каждому человеку нужно иметь другого человека сильного, который бы помолился о нём, и я знаю, что и для многих по всему лицу русской земли единственный просвет, единая надежда в чужой молитве, молитве мёртвых и живых и работников Божиих. Знаю и утверждаю, что со всех концов Руси и неверующие, и иноверцы, и даже язычники почерпают силы для жизни в мысли, что есть живая душа, любящая душа, которая помолится о них. Со всех сторон взоры погибающих направляются сюда, к северу, к алтарю Кронштадтского пастыря. И многих, очень многих от отчаяния и гибели спасла надежда на молитву, а ещё более, конечно, спасла сама молитва, вознесённая здесь пред престолом Божиим.
И поэтому-то нам нужно молить Бога, чтобы на долгие годы продлилась жизнь молитвенника.
И ещё есть причина, почему нужно желать многих лет здешнему молитвеннику. В последнее время часто раздаются голоса, что погибает корабль церковный, потому что корчемники деют куплю, но не ту, ради которой послал их в мир Христос, а обыкновенную, житейскую куплю. Что мы можем сказать на это? Указать на подвиги отцов и братий наших в прошлом, на гробницы святых Божиих, рассеянных по всему лицу русской земли, на прошлые дела их? Но это, скажут, старое и бывшее. Мы можем указать на молитву народа, который в дни покаяния, или в дни светлой радости слезами обливает пол убогих своих церквей. Но нам скажут, что это далеко. А эти люди говорят: „мы хотим вложить персты свои в язвы, а иначе не поверим“. И вот мы можем сказать им: „Идите в Кронштадт и имеющие очи пусть увидят. Здесь вы увидите пастыря, какого воспитала и родила Церковь, пастыря, горящего духом перед престолом Вышнего. И в его взоре в ту минуту, когда он видит небеса отверстыми и Агнца, сходяща датися в снедь верным, когда он видит то, что желали видеть цари и пророки, вы прочтёте ответ: жива ли Церковь наша. Здесь вы увидите народ наш, молящийся с своим пастырем с такой силой покаяния и веры, что вера эта может, сжечь всякого, кто нечистыми руками касается ковчега Господня. Здесь живое доказательство жизненности веры: нашей. Идите и увидите, потому что не видеть здесь могут только слепорождённые“.
И посему, да живёт служитель Христов, и мы будем молиться, чтобы жило это живое доказательство святости? Церкви нашей.
А в заключение позволю сказать от себя о себе маленькое слово, которое нужно было бы сказать ещё десять лет тому назад. Давно, очень давно и я просил Бога да поможет Он моему неверию. И вот там далеко на Волге пришёл пастырь с севера. И он положил свою благословенную руку на голову мою и изгнал духа сомнения. И я вложил персты свои в рёбра Распятого к прославил Воскресшего...
И вот мой земной поклон врачу душ“.
* * *
Примечания
См. „Мир Искусства“ за 1902 г., № 4, статья г. Н. Минского, „Философские разговоры“, стр. 258.
В. В. Розанов, г. Н. Минский, Д. С. Мережковский и проч.
Цитов. статья г. Н. Минского, стр. 259.
Мы разумеем здесь особенно цитированную нами глубоко-разумную и прекрасную во многих отношениях статью г. Н. Минского. Это „вещания сердца“. Неверные и „жёсткие слова“, „безгласные вещания“, а также мысли и мечты, напоминающие „шумный плеск моря“, мы отметим в своём месте.
Цитов. статья г. Н. Минского, стр. 265.
Н. Минский, стр. 263.
Н. Минский, цитов. соч., стр. 260.
Московский Сборник, изд. К. П. Победоносцева, стр. 131.
„Новое Время“ № 9432, статья г. Сигмы (г. Сыромятникова), «Пророки нашего поколения».
Н. Минский, стр. 260.
Сравн. у Н. Минского, стр. 259–260.
Ср. мнение Н. Минского, стр. 258.
Прот. Устинский в «Русск. Труде» 1899 г.
Такая цель действительно указывается апостолом Павлом, но только как одна из целей и именно низших. Указана она по особому случаю и надобности для „косных“ коринфян. Теперь её хотят сделать единственной вопреки ясному и яркому учению апостола о мистически-нравственном значении брака и делают из него невозможные выводы.
Пример взят о. арх. Андреем у В. Соловьева: «Оправдание добра», стр. 554. Кн. о. Андрея (Владимирова) о таинствах св. Церкви. Казань, 1902.
Мне указывали, что, по апостолу, рождение человека всегда от „похоти мужеска“, т. е., от страсти. Не говоря о том, что славянское слово похоть не совпадает по смыслу с русским словом похоть, и означает просто желание, я полагаю, что по церковному учению в христианском браке дети ради таинства брака родятся и „от духа“.
Но, конечно, такой брак станет браком только тогда, когда цели и задачи сожития изменятся в самом корне. И Церковь освятит сожитие при условии, что его вперёд сделают по существу чище и свежее. До этих пор, т. е., до церковного освящения и нравственного оздоровления связи, продолжение брачных сношений не только будет не меньшим, а даже большим падением, чем первое падение. Об этом мы. скажем немного после.
Андрей Владимиров. О святых таинствах церковных против новой о них лжи. Казань. 1902.
См. „Мисс. Обозр“, сентябрь, стр. 86–96.
См. „Мисс. Обозр.“ 1902 г., октябрь, стр. 429.
См. Мисс. Обозр. 1902 г. октябрь.
Письмо это печатается с надлежащего разрешения и с сохранением орфографии подлинника.
См. „Мисс. Обозр“., 1902 г., февраль, стр. 309–313.
Несколько слов разобрать невозможно. Свящ. Μ. Тифлов.
Увар Ермоленко поехал по своим последователям. В Елизаветполе он с хлыстами попал под дело и скрылся. По этому-то делу и хочет Даниленко выступить третейским судьёй.
Небольшой образчик „покорных и вежливых“ объяснений сектантов с начальством. Полиция действовала в порядке закона, конфисковав бумаги и книги самозванного бога Ермоленко, а это хлыст в глаза приставу назвал грабежом.
Одно слово разобрать невозможно.
Кажется, с невинной просьбой обратилась Дуня, и голова с женой исполнили эту просьбу. Достаточно было этого, чтобы Дуня на весь город кричала, что голова единомышленник хлыстов, верит в живого бога – Увара.
Хлысты законный брак признают блудом и вместо законных жён имеют „жён по духу“, „сестёр“, „жён разума“. Однако Мотю не могли оттолкнуть от её „братца Миши“. Гони природу в дверь, она войдёт в окно.
Эти поступки толкуются как сумасшествие. Думаем, что Дуня Шевченко действует в полном рассудке, насколько это возможно для хлыстовской изуверки. Почему её, если она сумасшедшая, не запрут в сумасшедший дом, а дозволяют скандалить по церквам? Ярая хлыстовка, она лишь громко исповедует то, что другие хлысты таят.
См. Мисс. Обозр. 1902 г. октябрь.
Раньше Усов обвинял патр. Никона, конечно, несправедливо за то, что будто бы он «возвёл обряды церковные в догматы веры», что будто бы и служит причиной их отделения от нашей св. Церкви, а теперь сам проповедует, что «обряд и догмат всё равно одно и тоже». Такова последовательность и искренность Усова и подобных ему защитников раскола. Авт.
Но по этой рубрике в отчёте значится за 1901 год:
1) Кружечного сбора 30½ т. р.
2) Сбор в неделю Православия 74 т. р.
3) Прочих доходов 270 т. р.
Всего 374,679 р.
В Европейской России 290 чел.
В Сибири 3,577 чел.
В Японии 983 чел.
В Америке 85 чел.
Итого 4,934 чел.
Мы называем только лиц, занимавших высшую иерархическую степень.
