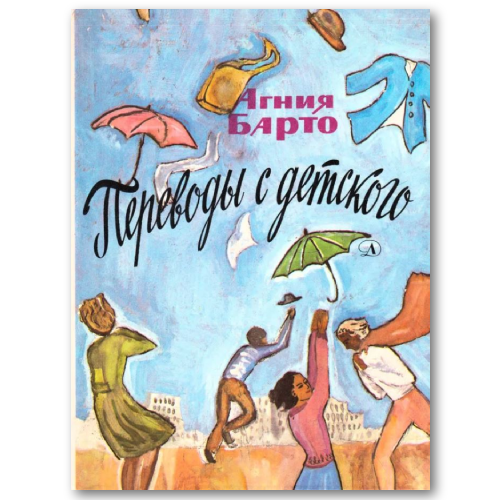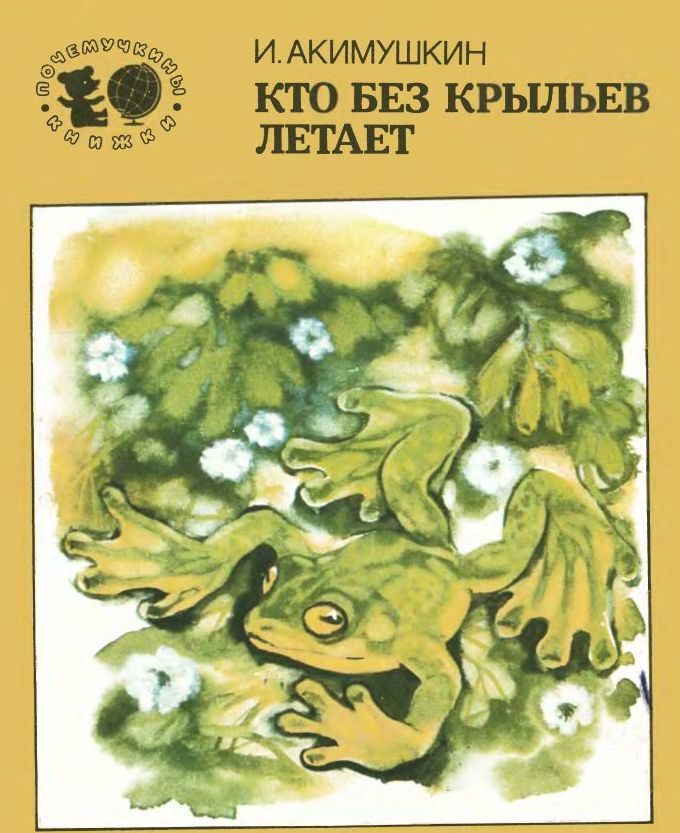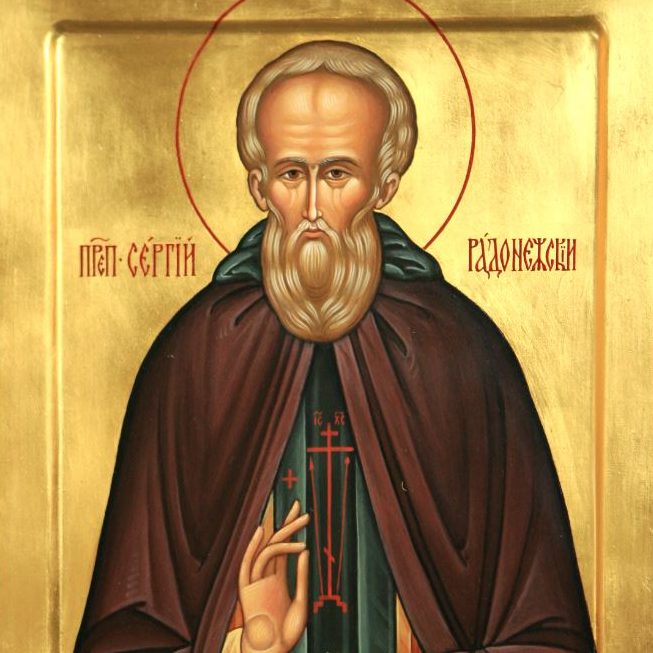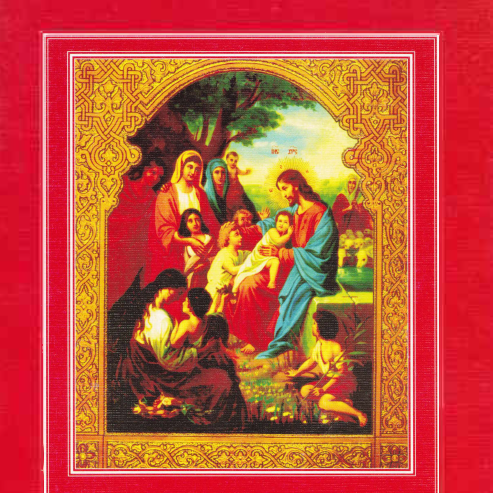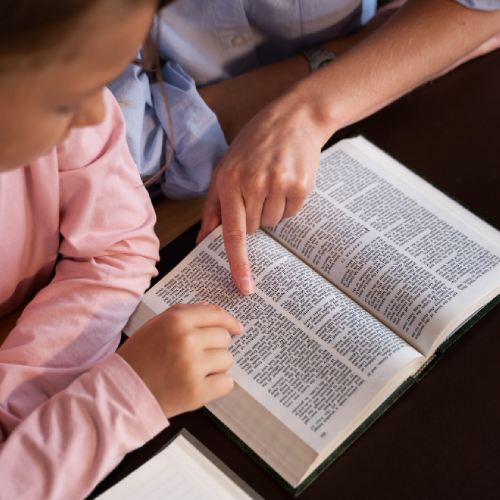4 декабря Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы. Праздник, который дает повод поговорить с детьми не только о событии Священной истории, но и о значении храма в жизни каждого человека. Храм – дом души Начать урок, посвященный этой теме, хорошо с вопроса: что такое храм? Обычно среди ответов звучит слово «дом». Тогда нужно уточнить:...
Готовясь к празднику Рождества, мы стоим перед серьезным выбором: пойти по пути внешнему – елка, подарки, песни, пляски. Но так можно потерять самую суть праздника, его сердцевину, Того, ради Которого мы и идем путем поста.
26 ноября Церковь празднует память святого, который жил в IV веке, но поучения его современны и сегодня. Поэтому основная цель интерактивного урока – показать, что и сегодня нам близко наследие святителя Иоанна Златоуста.
Книга адресуется ребятам. Непринужденно, с юмором автор ведет беседу о правилах поведения, о том, как вести себя в школе, дома, на улице, в гостях, в театре ведет разговор о взаимоотношениях с товарищами и взрослыми. Издание рассчитано на детей среднего школьного возраста.
Такой урок можно провести в общеобразовательной или воскресной школе, а можно сделать содержанием внеклассной встречи. Можно провести в ноябре, в преддверии дня рождения Владимира Ивановича Даля, или на Масленицу, или в любое время учебного года.
Эта занимательная книжка поможет вашим малышам закрепить и уточнить представления о последовательности и названиях дней недели, научит правильно использовать в речи слова сегодня, вчера, завтра.
"Главное — сперва дать детям сами слова, сами молитвы для усвоения и произнесения (даже еще до формирования внятной беглой речи), а уже потом объяснять их, причем не опережая потребностей и запросов самого ребенка". В этом поможет настоящая статья.
Среди этих людей известные ученые, писатели и поэты, государственные деятели, проповедники, юристы, художники, музыканты, но все они в детстве были трудолюбивы и достигали успехов благодаря своей усидчивости, усердию и твердому характеру. Такая книга, несомненно, должна была воспитывать в юном читателе лучшие качества.
На протяжении года Церковь предлагает нам несколько раз особо помолиться о тех, кого уже нет с нами. Один из этих дней – Димитриевская родительская суббота – связан с историческим событием. Ему можно посвятить урок как в воскресной, так и в общеобразовательной школе. В память о великой победе Именно так – первой по-настоящему великой победой –...
Хотите, чтобы Ваш малыш, которому только исполнилось 3, 4 или 5 лет, познакомился с Азбукой в форме увлекательной игры? Хотите, чтобы Ваш будущий ученик 6-ти или 7-ми лет потренировался со знанием букв?
Евангельские смыслы, образы, идеи можно обсуждать на уроках культурологических, искусствоведческих дисциплин. И поводом для беседы могут стать мировые шедевры.
В книге раскрываются вопросы, связанные с возникновением сюжетных игр малышей, подчеркивается значение общения, обучающих игр, создания игровой среды. Книга поможет воспитателю детского сада в организации игровой деятельности.
Покров Пресвятой Богородицы – один из любимых в нашем народе праздников. Но, к сожалению, во множестве примет и поговорок, в ожидании первого снега и в воспоминаниях о народных посиделках после сбора урожая тонет порой церковная суть праздника. Наша задача – напомнить именно о ней.
Переводы их стихов? Нет, стихи детей, а написаны они мной. Как же так? Сейчас вы поймёте. Конечно, я не знаю многих языков. Но знаю язык детский. И потому в подстрочном переводе стараюсь уловить чувства детей, понять, что они думают о дружбе, о мире, о людях.
Я загадаю вам, ребята, загадки. Загадки не простые. Кто любит и знает животных — быстрее всех их отгадает. Потому что загадки эти зоологические: про птиц и зверей, про рыб и насекомых.
Дважды в год Церковь празднует память удивительного в своей простоте, скромности и вместе с тем масштабу личности человека – преподобного Сергия Радонежского, покровителя учащих и учащихся, о котором обязательно нужно рассказать детям.
Данное пособие представляет собой тематическое планирование и методически грамотные разработки занятий по изобразительной деятельности с детьми 2-5 лет.
В наше время мало издается православных стихов для детей. В стихах Н. Бережной выражена главная мысль – с малых лет человеку необходимо жить с Богом, следовать во всех своих делах и поступках Заповедям Божиим.
Праздник Воздвижения Креста Господня, который Церковь отмечает 27 сентября, в основе своей содержит, с одной стороны, глубокие смыслы, которые нужно постараться объяснить детям через образы и примеры; а с другой – интересную историю поиска святыни...
Рассказ о Боге — это непростая задача и для невоцерковленных, и для части очень глубоко верующих и церковных родителей.Да, у некоторых это сразу получается органично и глубоко. Но большинство из нас не таковы.